Жизнь побеждает [Александр Шаров Шер Израилевич Нюренберг] (epub) читать онлайн
Книга в формате epub! Изображения и текст могут не отображаться!
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
Для средней школы
Ответственный редактор М. Зубков. Художественный редактор Н. Комарова. Технический редактор М. Кутузова.
Корректоры
Р. Мишелевич и Б. Третьяченко. Сдано в набор 28/Ь 1953 г. Подписано к печати 28/IV 1953 г. Формат 60 X 921/1й — 6 бум. = 12 печ. л. (11,41 уч.-изд. л.). Тиране 50 000 экз. А01270. Заказ № 210. Цена 4 р. 45 к.
Фабрика детской книги Детгиза. Москва, Сущевский вал, 49.
Scan, DJVU: Tiger, 2013
Оглавление
- НАЧАЛО ПУТИ
- ДАНИЛО САМОЙЛОВИЧ
- В ВЕТЛЯНКЕ
- ПЕРВОЕ ОРУЖИЕ
- НЕВИДИМЫЕ ТЕЧЕНИЯ
- ДОМА
- В ПОИСКАХ „ТОГО, ЧЕГО НЕТ"
- ЧУМНОЙ ФОРТ
- ДВЕ ПОБЕДЫ
- В МАНЬЧЖУРИИ
- МОСКОВСКИЙ ПУНКТ
- РАЗГАДКА МАНЬЧЖУРСКОЙ ЧУМЫ
- В ПРИКАСПИИ
- НА ПРОМЫСЛАХ
- ВТОРАЯ ПОБЕДА
- ВОЗМОЖНОСТЬ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
- ЗАВОЕВАНИЕ КОНТИНЕНТА
- СУДЬБА ДОКТОРА КЕЛЛОГА
- РАЗГОВОР В СМОЛЬНОМ
- ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИДЕИ
- НАЧАЛО НАСТУПЛЕНИЯ
- „А М П“
- „ЕВ"
- ПРОТИВ СМЕРТИ
- ОПЫТЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ
- ТРЕТЬЯ ЗАДАЧА
- СТРАНИЦЫ ИЗ ДНЕВНИКА
- Эпилог
Пометки
- Обложка
Unknown
Начало


Рисунки. В. Ермолова
Государственное Издательство Детской Литературы Министерства Просвещения РСФСР Москва 1953 Ленинград
Посвящается светлой памяти Даниила Заболотного, Николая Гамалеи, Ипполита Деминского, Марии Лебедевой и других замечательных русских ученых, отдавших свою жизнь великому делу уничтожения болезней на Земле.

НАЧАЛО ПУТИ
ДАНИЛО САМОЙЛОВИЧ
Летом 1945 года в Вене, на Грабенштрассе, разобрали кирпичную кладку вокруг памятника, посвященного избавлению города от чумы. Каменщики работали быстро, разбирая стену, которой в годы войны закрывали старый мрамор, защищая его от бомб. Постепенно обнажалась колонна: бесформенное нагромождение серых облаков, а среди них — коленопреклоненные фигуры.
Высеченные из мрамора облака больше похожи на лаву: точно накатывается раскаленный поток, валы разбиваются друг о друга в мгновенном ударе; беспомощный человек с мольбой поднимает руки перед разбушевавшейся стихией.
Это памятник не жизни и мужеству живых, а силе смерти. Непонятно, почему его задумали и воздвигли таким. Ведь история борьбы с чумой — одно из ярчайших свидетельств человеческого могущества. История эта показывает, что человек сильнее даже самых грозных сил природы.
При императоре Юстиниане от чумы погибла половина населения Восточно-Римской империи. С 1347 по 1350 год эпидемия чумы уничтожила шестьдесят миллионов человек. Целые города и целые страны превращались в кладбища. «Я пишу в ожидании смерти среди мертвых», — писал очевидец этих событий, францисканский монах Джон Клайн. С тех пор болезнь появлялась вновь и вновь. Общее количество жертв, которое человечество понесло от чумы, невозможно подсчитать — быть может, четверть миллиарда, а может быть, полмиллиарда.
И против такого врага вышел небольшой отряд русских исследователей. Они и героями себя не считали, просто работали, защищая мир от грозной опасности. С середины восемнадцатого века и до наших дней русские ученые отвоевывали у чумы одну позицию за другой.
В 1770 году отдельные случаи заболевания чумой были отмечены в наших войсках, воевавших в Молдавии с турецкой армией. Врачи попытались пресечь эпидемию карантинами, но она быстро распространилась на территории Украины, Польши, а через несколько месяцев, осенью того же семидесятого года, проникла в Москву.
Еще на Балканах, готовясь к отъезду из Оренбургского полка Дунайской армии, в котором служил лекарем всю вторую половину русско-турецкой войны, Данило Самойлович Самойлович знал, что в Москве — эпидемия мировой язвы. Очевидцы говорили, что на улицах валяются мертвые, врачей не хватает, а те, что есть, бегут из города, потому что «кому хочется умирать».
Выслушав такое сообщение, с неприязнью вглядываясь в расширившиеся глаза рассказчика (о трусах полковой лекарь говорил: «Не люблю, не жалею и сострадания к ним не понимаю»), Данило Самойлович перебивал очевидца:
— Солдаты тоже умирать не любят, однако идут в баталию и умирают.
— То со славой, а тут...
— Завоевать ли славу или растерять ее — это от самого человека зависит.
Во время последней кампании Самойловича мучила жестокая лихорадка. После болезни он был худ больше обычного. Серые глаза глубоко запали в глазницы, но блестели, как раньше, смело и вызывающе. Подниматься с постели ему было трудно, голова кружилась, когда выходил на воздух, но, получив отпуск из армии Румянцева, он решил ехать, нигде не останавливаясь по дороге, прямо в Москву. С моровой язвой — чумой — он уже встречался во время войны и хорошо понимал, чем грозит эта болезнь отечеству. Он был военным суворовской школы, а это означало руководствоваться правилом: в жизни ищи самое трудное дело, в бою — самое опасное место, потому что только там решается судьба боя.
Впрочем, больше, чем военным, был он исследователем. Чума, уничтожавшая тысячи людей, самым именем своим обращавшая в бегство, занимала его с того момента, когда он впервые во время войны наблюдал ее в Хотине, Браилове, Бухаресте. Имелись у Данилы Самойловича свои соображения о причинах мора, а их можно было проверить, только тщательно изучая ход эпидемии, наблюдая больных.
Ему лишь недавно исполнилось двадцать пять лет, но взгляды на науку, которую он любил больше жизни, сложились твердо. Он верил лишь тому, что можно увидеть своими глазами. И тогда и после следовал твердому правилу: «Иметь в виду только бытобытия (факты), на самых опытах утверждающиеся, и избегать всяких умозрительных умоначертаний вымышленных». Ехал в Москву потому, что всем сердцем любил этот город, считал себя обязанным быть там в опасные дни, и еще потому, что знал: как ученый, он не вправе пропустить ни одной возможности встретиться с чумой.
Ехал быстро. Когда на почтовых станциях сердобольные смотрители, поглядев на желтое лицо проезжающего, советовали отдохнуть и набраться сил, он отвечал:
— Кто как, а я дорогой лечусь: солнцем, звездами, встречным ветром.
Раньше он думал отдохнуть в Москве несколько дней, но, пройдя по пустым улицам города, мимо домов с закрытыми, а чаще забитыми ставнями, увидев первый труп, лежащий ничком на Красной площади, у самой паперти храма Василия Блаженного, решил, что отдыхать сейчас не время.
Наутро он явился к начальству и получил назначение в больницу, расположенную в Симоновом монастыре. Писарь, вручая Самойловичу бумаги, с жалостью посмотрел на молодого врача, не удержался и посочувствовал.
— Как это вас туда, в самое гиблое место... Оттуда одна дорога, — сказал писарь, показывая желтым, обкуренным пальцем вверх.
Самойлович стоял перед ним в парадном форменном кафтане. Высокий покатый лоб уходил под напудренный, в мелких завитках, парик. Лицо худое и желтое, со скулами, сильно выступающими под тонкой кожей. На резко очерченных губах вежливая улыбка, а ноздри, как всегда, когда он волнуется, расширяются, придавая лицу воинственное, несмотря на улыбку, выражение. Ответил негромко, тщательно выбирая слова:
— Знаете, кто первый распространитель мора? Трус! Тот, кто поддался страху.
На работу Самойлович явился в той же парадной форме. Переодевшись в больничное платье, медленно прошел по полутемным, с низкими потолками кельям, забитым теперь тяжело больными и умирающими. Ему было ясно одно: ужас перед чумой господствует в России и во всем мире. Пока не уничтожен этот ужас, остановить эпидемию — безнадежное дело.
Иные лекари или совсем не являлись в палаты, или, при редких обходах, подходили к больным не ближе, чем на сажень, разговаривали, закрывая лицо платком, пропитанным уксусом. Но были и настоящие врачи. Такие, как Петр Иванович Погорецкий. Отставленный от службы в Госпитальной школе, где безраздельно господствовала рутинерская «немецкая партия», он по доброй воле остался в Москве для. борьбы с эпидемией и тут, работая в Симоновом монастыре, сразу и на всю жизнь подружился с Данилой Самойловичем. Или молодой, но тяжело больной чахоткой Касьян Осипович Ягельский. Этот худой, с горящими глазами и ярким нездоровым румянцем на щеках человек был полон широких, казавшихся многим несбыточными, научных замыслов и все время, свободное от ухода за больными, отдавал лабораторным опытам.
Так вокруг Самойловича образовался небольшой, но очень сплоченный кружок врачей.
Самойлович и его друзья подолгу останавливались перед каждым больным, подробно расспрашивали, точно записывая ответы, всегда внимательно осматривали и выслушивали заболевших, следили, чтобы санитары соблюдали строгий порядок.
'После первых недель такой работы, когда нет времени даже вздохнуть свободно, работы, как в бою: лекарь один, а раненых подвозят и подвозят, уйти отдыхать — значит обречь людей на смерть, — Самойлович выбрал час, «чтобы оглядеться», как он называл это. Сидел в тепло натопленной комнате, скинув кафтан и парик, в одной рубашке, и в строгом порядке раскладывал истории болезни.
Дверь Самойлович запер на ключ, чтобы никто не помешал.
Накануне, когда он шел из монастыря, в переулке, около питейного дома, на него напала толпа пьяных. Может быть, случайность — в то время в Москве шли волнения, — а всего вероятнее, что все это подстроили недруги. Многие говорили ему: «Если хочешь лезть в петлю, лезь сам, вольному — воля, а зачем других заставлять мучиться с чумными? Ведь все равно они перемрут, ходи к ним или не ходи».
Самойлович спасся от нападающих чудом. Сейчас улыбался, вспоминая ночное сражение и неведомо откуда появившегося знакомого еще по войне солдата Оренбургского полка, человека без малого трех аршин роста. Этот нежданный спаситель врезался в толпу, одних отбрасывая своими железными руками, а других приводя в сознание уговорами:
— Вы что, ополоумели?! Да ведь это нашего полка лекарь! Такого другого человека на всем свете поискать!
Но тогда было невесело. Впрочем, злобы против нападавших он не чувствовал. Страх можно победить только знанием. Когда людям говорят, что чуму неведомо откуда приносит гнилой воздух и что спасения от нее нет, можно поверить и в нечистую силу.
Записи перечитал еще раз. Хотя зрение имел отличное, подносил листки к самым глазам, будто только на близком расстоянии можно увидеть между строк еще нечто, может быть самое важное, до сих пор ускользавшее от внимания. Перечитывая записи, пытался найти общие, объединяющие все эти случаи заражения причины, характерные черты, определяющие. распространение и ход болезни. Пока отметил для себя только одно: некоторые выздоравливают от чумы, но среди больных почти нет таких, кто, переболев раз, вновь заразился бы этой болезнью. Наблюдение точное и очень важное.
Мысль зажглась, как огонек, не очень яркий пока, но и сейчас уже по-новому все освещавший. Тяжесть, которая чувствовалась в голове, неожиданно прошла. Было ощущение, как при игре в жмурки, когда тебя закружили, затолкали, так что не знаешь, где стены, где пол, где потолок, потом вдруг сняли повязку и оказалось, что все стоит на привычных местах.
Если, выздоровев первый раз от чумы, человек защищен от вторичного заболевания, то, может быть, есть в этом сходство с тем, что происходит при прививке оспы? В то время Вольно-экономическое общество в Петербурге отстаивало противооспенные прививки. Факты говорили, что после прививки оспой не заболевают. Может быть, то же самое происходит и при чуме? Санитары и врачи, сталкиваясь с больными, невольно прививают себе чуму, как бы болеют легко и незаметно, и от этого в дальнейшем болезнь становится для них не страшной.
Через несколько дней, еще и еще раз проверив мысль о прививках, Самойлович сообщил о своей идее другим врачам, работающим на эпидемии. С обычной спокойной улыбкой и резко очерченными, как бы от сильного вздоха поднявшимися крыльями ноздрей, которые придавали лицу твердое, даже беспощадное выражение, не сулящее собеседнику ничего доброго, проговорил:
— С этой нашей точки зрения, господин Штюрмер, каковой за всю эпидемию иначе чем в подзорную трубу на больных не смотрел, теперь больше подвержен заболеванию чумой, а заразившись, больше имеет вероятий погибнуть от чумы, чем господин Погорецкий, который дни и ночи проводит с больными и, осматривая их, прикасаясь к ним, невольно вводит в свое тело гной от бубонов и тем прививает себе чуму.
Все так же вежливо улыбаясь, несколько секунд смотрел прямо в глаза Штюрмеру, точно приглашая его присоединиться к этому выводу и вместе со всеми порадоваться тому, что справедливость иной раз находит себе место и в этом мире.
Штюрмер сидел, тяжело дыша, отирал пот, крупными каплями выступивший на лбу.
Уже не улыбаясь, Самойлович добавил:
— Думаю, что скоро мы сможем всему свету показать, что чума есть только болезнь прилипчивая, но удобно обуздываемая.
Прошло не- так уж много времени, и мысль о прививках против чумы, о том, что чума есть или, вернее, станет когда-либо болезнью «удобно обуздываемой», о том, что, вводя в кровь «ослабленный яд», ослабленного возбудителя болезни, можно обезопасить человека от заражения, распространилась по всему миру. Автора этой великой идеи Данилу Самойловича избрала в свой состав Академия наук, художеств и литературы в городе Дижоне, а за ней — академии Парижа, Тулузы, Падуи, Нанси, Нима, Марселя, Маннгейма, Лиона, Майнца, Турина.
Один из крупных французских научных журналов того времени писал о Самойловиче: «Сей врач издал и другое сочинение о прививании чумы и первый открыл и доказал, что сия операция может быть принята и производима в действо с великим успехом для сохранения рода человеческого».
Из России в страны, в которых не так давно властвовала черная смерть, пришла первая весть о возможности решительной борьбы с чумой, и зарубежные академии, избравшие одна за другой Данилу Самойловича в свой состав, выразили этим свое преклонение перед человеческим мужеством и человеческим гением.
Впрочем, о славе Данило Самойлович мало думал и раньше, когда служил в Копорском и Оренбургском полках, участвовал в десятках сражений, и теперь, когда он всеми своими мыслями и всеми силами ушел в изучение чумы.
Спать приходилось урывками, отдыхать — считанные минуты: многие врачи умирали, а новые на смену не приходили.
Ночью сообщили, что заболел Петр Иванович Погорецкий, один из самых лучших врачей и верных товарищей.
Всегда Самойлович ходил медленно, с высоко поднятой головой, очень редко терял спокойствие, но, узнав о том, что случилось с Погорецким, забыл обо всем и, даже не накинув шубу, бросился из квартиры в больницу, где теперь лежал его Друг.
Выслушав и осмотрев больного, Самойлович подтвердил диагноз и, найдя, что болезнь развивается легче, чем обычно, немного успокоился. У больного оставался всю ночь, сам подавал ему воду, менял компрессы со льдом, отмеривал лекарства. Потом поднимался, ходил по комнате и, забыв обо всем окружающем, рассуждал вслух.
— Болею я, а бредишь ты, — тихо сказал Погорецкий.
— Твоя правда, — согласился Самойлович, но через секунду забылся и зашагал по комнате, вслух развивая свои мысли. — А потому, — говорил он, — надо предположить, что болезнь передается язвенным ядом, состоящим из мелких, человеку невидимых существ. Однако будут у нас когда-нибудь микроскопы, подобные тем, что имели Мальпиги и Левенгук �[Мальпиги Марчелло (1628—1694) — итальянский медик, анатом и натуралист, изучавший с помощью микроскопа строение тканей организма животных. Левенгук Антоний (1632—1723) — голландский биолог. С помощью сконструированного им микроскопа одним из первых наблюдал и изучал невидимые простым глазом живые существа. ], или много лучше таковых, и тогда не мы, таи другой кто-либо разгадает природу язвенного яда и увидит переносчиков моровой язвы. Но и не видя их, должно найти средства, чтобы не давать яду передаваться от больного к здоровому. Прививки могут стать одним из подобных средств, однако надо искать и другие. Ягельский предложил порошки для окуривания зараженного имущества. Говорят, что порошки эти для человека вредны. Каи же говорить, не испытав? А если порошки уничтожают язвенный яд? Тогда не придется сжигать домов, где были заболевшие, и всего имущества больных и люди перестанут скрывать заболевания. Страх перед болезнью уменьшится, а это — главное. Тем самым уменьшится и сила моровой язвы...
Погорецкий спал, изредка стонал во сне. Самойлович держал его руку и, занятый своими мыслями, весь уйдя в них, бессознательно отсчитывал пульс. Чем бы и как ни увлекался он, что бы его ни волновало, врач оставался врачом, это было в нем главное. Сердце у больного билось ровно, и эти слабые, но ритмичные толчки успокаивали Самойловича.
Через три недели Погорецкий поправился и первый раз поднялся с постели. Помогая ему идти по комнате к окошку— в Москве уже начиналась весна, давно растаял снег, лопались почки на деревьях во дворе Симонова монастыря, — Самойлович повторял:
— Я ведь сказал, что ты поправишься. Если человек столько времени так близко к больным находился, как ты, лечил их, не щадя жизни, — а кто же меньше о ней думал, чем ты? — должен он после такой прививки легче перенести болезнь, когда заразится ею.
— Чему ты радуешься? — спросил Погорецкий, останавливаясь у окна и тяжело дыша от усталости. — Тому ли, что я живой, или тому, что твоя мысль получила подтверждение?
Самойлович ответил горячо и убежденно:
— Ты и сам знаешь... Я о тебе не меньше, чем о себе, думал! Но разве человек после боя радуется только тому, что жив? Счастлив он оттого, что победа одержана. Ты вспомни Ломоносову мозаику Полтавского боя, вспомни, какое сияние в глазах у Петра и у всех, кто кругом его. А разве это не Полтава наша?
Секунду подумав, сам себя торопливо поправил:
— Нет, до Полтавы еще далеко. Кто знает, доживем ли до нее. Но будет и Полтава.
Обняв Погорецкого за плечи, понизив голос, заговорил:
— Радуюсь всем сердцем тому, что ты жив и что наша мысль о прививках жива, а главное — тому, что мысль эта поможет сохранить жизнь тысячам людей.
Теперь, после выздоровления Погорецкого, Самойлович принялся за давно задуманный опыт с порошками Ягельского. Одежду взял у умерших от чумы. Комната, где производилось окуривание, наполнялась горячим, удушливым дымом. Зайдешь — даже грудь сожмет. Ягельский, похожий на кузнеца, с потемневшим от ядовитого дыма лицом, колдовал над порошками, прибавляя то один, то другой состав. Каждую секунду он заходил в комнату, где ядовитым зеленым и красноватым пламенем, дымя и разбрасывая искры, горели порошки.
Самойлович прохаживался по монастырскому двору вместе с Погорецким, ждал конца приготовлений к опыту. В десятый раз Погорецкий, который волновался гораздо больше своего друга, предлагал:

Данило Самойлович Самойлович.
— Может, позволишь мне раньше испытать?
Он был старше Самойловича, но так повелось, что другие врачи признавали Самойловича своим начальником, подчинялись ему. Была в этом человеке удивительная сила; она проявлялась в трудные минуты и только по отношению к тем, кого Самойлович любил и уважал: горячая, светлая сила требовательной любви к товарищам по труду.
И на это, в десятый раз повторенное предложение Погорецкого Самойлович в десятый раз ответил теми же тщательно взвешенными словами:
— Надо для опыта взять человека, который может заразиться чумой, иначе как же мы узнаем, оказали порошки действие или нет, способны ли они сберечь от чумы? А ты болел, значит к опыту негоден. И никого другого для опыта взять нельзя, потому что надобен человек, который в порошки эти верит, а таковых «верующих» на Руси только трое: ты, я да Ягельский. Он — чахоточный, значит не в счет. Так что и говорить больше не следует.
Ягельский приоткрыл дверь и сказал, что окуривание закончено, можно брать одежду. Лицо у него было строгое, постороннему показалось бы даже — рассерженное, брови нахмурены; все оттого, что очень волновался и пытался скрыть свое волнение. Для других это были только порошки с ядовитым запахом, горевшие странным зеленым и красным, как говорили санитары — адским, пламенем, а для него — самое большое в жизни, результат бесчисленных опытов, итог огромного труда, надежда на спасение десятков тысяч сограждан.
Ягельский жил трудно. Человек тяжело и безнадежно больной, он обладал характером подозрительным и недоверчивым, но Данилу Самойловича, первого, кто поддержал и поверил в него, он считал лучшим человеком на земле. И пока шло окуривание, Ягельский непрерывно думал: «А что, если порошки не помогут и болезнь через одежду перейдет на Самойловича?»
Чувствуя волнение своего товарища и угадывая причины волнения, Самойлович сказал:
— Простить нельзя тому человеку, кто, не веря в свое дело, рискует другими для собственной славы, из пустого бахвальства. А вы свою жизнь уже раз и навсегда отдали России, это знают и друзья и недруги. В баталиях, которыми командовал Суворов, многие погибли и многих Суворов посылал на смерть, но ни одной без пользы загубленной души нет на его совести. Можно и должно рисковать своей жизнью и жизнями других, если это необходимо для победы, для народа, для отечества. А что касается нынешнего опыта, то не вы его задумали и не в вашей власти меня остановить.
У себя в комнате Самойлович разделся и на голое тело натянул чужое белье и одежду, только что прошедшие окуривание. Материя обжигала тело.
Самойлович проснулся перед рассветом. Спать было невозможно, оттого что нестерпимо жгло кожу. Посмотрел и увидел, что на теле образовались глубокие раны.
Погорецкий, ознакомившись с состоянием Самойловича, предложил немедленно прекратить опыт:
— От ран умрешь, если не от чумы.
Не слушая его, Самойлович продолжал думать вслух:
— Если чума происходит не от миазмов, не от нечистой силы, проклятья божьего, гнилого воздуха, как до сей поры всем светом признано, а от живого язвенного яда, он, этот яд, должен при окуривании погибать. Способность умирать есть самое общее свойство всего живого.
Помолчав, он добавил:
— А опыт прерывать нельзя. Это ты не хуже меня понимаешь.
Погорецкий не стал спорить, чувствуя, что пытаться переубедить Самойловича совершенно бесполезно. Он только спросил:
— Одного не могу понять: как ты переносишь такую пытку?
— Что ж, от боли не спится, это верно, — ответил Самойлович. — Поднимешься, засветишь свечу, начнешь работать. А когда работаешь, боль забывается.
Опыт был доведен до конца. Наука получила одно из первых, хотя и очень несовершенных, средств борьбы с распространением чумы, замечательное доказательство возможности убить чуму и тем самым первое, пусть пока косвенное, свидетельство живой природы возбудителя самой тяжелой из всех поражавших человечество болезней. Основанной на этой же общей мысли о живой природе чумы гениальной идеей противочумных прививок Данило Самойлович на столетие опередил науку своего времени.
Через много месяцев после опыта с порошками Ягельского, когда только глубокие следы на теле, «рытвины», оставшиеся на всю жизнь, напоминали о страданиях, перенесенных во имя науки, Самойлович, в свою очередь, ухаживая за чумными больными, заболел этой болезнью. Погорецкому, который бессменно дежурил у его постели, Данило Самойлович говорил:
— Счастлив оттого, что на мою долю выпала великая радость еще раз проверить силу невольно совершаемых прививок против моровой язвы. Ведь без наших опытов мысль о прививках осталась бы просто умоначертанием вымышленным, каковые не оставляют следа в истории науки и пользу людям приносят не больше, чем зарница в засуху: засверкала, а дождя все равно не жди.
Вздохнув всей грудью, с трудом приподнимаясь на постели, он договорил:
— А еще счастлив оттого, что уверен: выздоровею, не умру нынешним летом, ничего не совершив. Мне еще много лет жизни надобно.
После окончания эпидемии в Москве Данило Самойлович был командирован во Францию и Германию. В картинной галерее Марселя, которую ученый, задержавшись на несколько дней в этом городе, осматривал вместе с молодым русским художником Васильевым, посетители остановились перед большим полотном, изображавшим чумную эпидемию. В Европе еще были живы воспоминания о бедствиях, причиненных так недавно этой болезнью, и картина дышала ужасом перед непонятным и неотвратимым злом. На узких улочках средневекового города были изображены умершие и умирающие; зловещее, черное облако висело низко, над самыми крышами зданий; даже птицы, попадая в зачумленную атмосферу, мертвые, камнем падали вниз.
— Вам по душе картина? — спросил Самойлович Васильева.
— Не знаю, — медленно проговорил художник, — написана она хорошо, рука у мастера верная, но...
— Сердце в этом деле главное, а не рука, — перебил Самойлович. — Ужас и страх перед необъяснимым водили кистью живописца, а не ненависть к бедствию, не мужество. Когда же ужас и страх создавали что-либо действительно высокое? Россия, поражая многих врагов, поразила также и то страшилище, которое было пагубнее всех бранноносных народов... Не только в Марселе, но и в Лондоне, Лейдене, Париже и многих других городах чума изображена в картинах как самое страшное и необозримое разумом бедствие. Но разве не показала Москва, что и с этим бедствием бороться можно? Теперь другую картину надо начертать. Изобразить небо над городом, полями и всеми окрестностями сапфировидное — для означения, что мрачность неба не зависит от чумы и что воздух чист среди самого свирепства оной. Надо начертать картину такую, чтобы, глядя на нее, каждый понял, что не с неба, не отовсюду грозит бедствие, а болезнь переходит от человека к человеку и можно бороться с нею, преграждать ей путь.
Девять раз Данило Самойлович встречался с чумой во время войны с Турцией, в Москве, на юге России. И с каждым разом чувствовал себя сильнее и увереннее. Мучило только одно: не с кем было даже поделиться мыслями и надеждами. Ягельский и Погорецкий умерли, а молодых врачей, верящих в его дело, не было рядом.
Самойлович понимал, что стоит у самых истоков, у самого начала работы, и не знал, кто окончит его опыты, прочтет его книги, завершив все задуманное им, приведет медицинскую науку к победе над чумой, «к Полтаве», как он говорил. Старел, силы слабели и по многим признакам чувствовал, что Штюрмер и генерал штаб-доктор Гофман, ненавидевшие его еще со времен чумы в Москве, и близкие к Гофману люди о нем не забыли, а они сейчас в большой силе в Петербурге — при дворе и у князя Потемкина. Когда получил бумагу с приказом об отставке, не поверил сразу. Неожиданное и унизительное увольнение. И это после стольких лет труда! Отложив незаконченную книгу, ровным, прямым почерком написал на листе бумаги:
«Отрешен от места... Полагаю себя аки умершего, а со мною погребенными безвременно все труды мои, всю дражайшую науку мою, все стяжания знаний моих».
Сейчас он, никогда не боявшийся ни болезней, ни неприятеля в бою, ни смерти, почувствовал такой страх, такой ужас перед происшедшим, что сжалось и на мгновение перестало биться сердце. Пересилив себя и поднявшись от стола, несколько раз прошел по комнате. От ходьбы успокоился, и почему-то в голову пришла неведомо как родившаяся мысль: «Сюда бы этого солдата славного Оренбургского полка, который тогда, в темном переулке у Симонова монастыря, спас от выучеников Штюрмера».
От случайного этого воспоминания о помощи, так неожиданно пришедшей во время давнего «московского сражения», на душе стало спокойней. Представилось, что он не одинок, то, что совершено, — совершено, этого не похоронить. Книги написаны, народ наш велик, и из тысяч врачей найдется человек с ясной головой и горячим сердцем, который прочтет эти книги и пойдет по тому же пути. Может быть, это случится сейчас, даже завтра, может быть при его жизни появятся такие люди, а может быть, через двадцать, сто лет. Но они будут.
Можно отставить от должности, убить и заживо похоронить человека, но не труды его. Не его светлую «дражайшую науку».
В ВЕТЛЯНКЕ
В первой половине девятнадцатого века в России о чуме не было слышно. Но затишье оказалось временным. Кончился турецкий поход, и казаки начали возвращаться домой. Первым приехал в астраханские степи Павел Заволокин, житель станицы Ветлянской. Вернулся он осенью 1878 года.
Агап Хритонов позвал Заволокина к себе, потому что был отцом ближайшего его друга и однополчанина. Пили с полудня до ранних осенних сумерек, а потом на радостях ходили из куреня в курень с гармошкой, с песнями. Ничто не предвещало приближающейся беды.
Через несколько дней Агап Хритонов тяжело заболел. Вначале решили, что это обычная простуда. Но болезнь переходила из дома в дом, от человека к человеку, и почти все заболевшие погибали.
В последующих донесениях болезнь, поразившую станицу, именовали пятнистым тифом либо эпидемической пневмонией [Пневмония — острое или хроническое воспаление легких, развивающееся под влиянием различных бактерий (пневмококков, диплобацилл и т. д.).]. Пожалуй, первым сказал правду фельдшер Трубилов. Он осматривал дом, где вымерли все. «Милосердые» — пьяные, чтобы было не так страшно, — в халатах, пропитанных дегтем, выносили трупы. Трубилов прошел двором. В хлеву мычали недоенные коровы, ветер хлопал ставнями по стенам дома, пахло дегтем, карболкой, и слабо чувствовался сладковатый трупный запах. Сразу после осмотра Трубилов зашел к священнику Гусакову. Священник — человек образованный; в семинарии он подвергался гонениям за свое увлечение естественными науками, все мечтал уйти в университет, наконец смирился и получил дальний приход.
Сидели молча, изредка перебрасываясь одним-двумя словами. Когда жена Гусакова вышла из комнаты, Трубилов сказал:
— Это чума! Все погибнем!
Священник не ответил. Он и сам понимал, что на станицу обрушилось огромное, неотвратимое бедствие.
Фельдшер Васильев, приехавший из соседней станицы, зашел в дом Глебовых — коренных жителей Ветлянки. Тут все приготовились к смерти. Васильеву так захотелось вернуть отчаявшимся хоть частичку надежды, что в эти минуты он совсем забыл о себе. Фельдшер наклонился и поцеловал в губы больного Константина Глебова, сына хозяина дома. Нахмурившись, Васильев строго сказал:
— Беречь надо себя, а бояться нельзя. Страха в душу не пускайте!
Евдоким Астахов ухаживал за внучкой Любой. Через три дня старику стало плохо. Горела голова, подмышкой вздулись железы. От родных Евдоким Астахов перебрался в летнюю горницу. Наутро сын подошел к окошку узнать о здоровье отца. Из горницы послышался внятный голос:
— Запри дверь снаружи!
— Зачем?
— Плохо мне. Может статься, ум помешается и я в беспамятстве приду к вам. Запри тотчас! А когда умру, сено, на котором я лежу, руками не трогайте, выгребите граблями и сожгите иа дворе. Когда милосердые будут меня выносить, закройте ставни и на крыльцо не выходите...
В станице жил доктор Кох, старый войсковой врач. Он проделал с казаками весь турецкий поход и сейчас, в беде, оставался с ними. Кох ходил от больного к больному, внимательно осматривал каждого.
— Тоны сердца глухие, пульс прерывистый, — говорил он себе. От привычных слов становилось легче.
Пальцы врача лежали на запястье, едва прощупывая слабое, иногда совсем замирающее трепетание артерии. Многие больные кашляли кровью. Все чаще в голову приходила мысль: «Может быть, действительно это чума?»
Вспоминались средневековые гравюры: безлюдные города, могильщики — мортусы — в странных масках, похожих на клюв птицы, с крючьями, чтобы таскать трупы...
«Нет, не может этого быть!» — убеждал себя Кох.
Доктор не в силах был помочь, но он ходил от больного к больному, как делал это всю жизнь. Выслушивал, давал лекарства. Вылечить больных он был не в состоянии, даже если бы знал, с какой болезнью имеет дело, — наука в те годы не создала еще средств против чумы; работы по противочумным прививкам, начатые Данилой Самойловичем, прекратились вместе с его смертью и были забыты. Кох помогал станичникам чем мог — спокойствием и человеческой теплотой.
Здесь, в приволжских степях России, чума попыталась начать новый европейский поход. Но ей преградили дорогу. С первых дней болезнь встретили таким высоким самопожертвованием, которое одно могло поставить предел ее распространению.
При первых признаках заболевания человек старался уйти от близких. Никто не заставлял поступать так, но люди сами понимали, что в этом — единственная возможность спасения остальных.
Как-то утром доктор Кох попробовал подняться и не смог. По привычке он сказал себе: «Депрессивное состояние... Сильная усталость...» Не хватало воздуха, пересыхали губы, даже голос стал другим. Подумав несколько секунд, доктор добавил: «Видимо, началось». Напряжением воли Кох собрал остатки сил, встал, оделся и неторопливо пошел по пустынным станичным улицам к больнице, наскоро организованной в самый разгар эпидемии. В палатах не топлено; через разбитые окна намело снегу; на койках лежали трупы, их некому было убирать. Доктор нашел у окна свободную койку и лег.
Пока сознание оставалось ясным, он думал все о том же: «Неужели мы ошиблись и это чума? Как же остановить ее?»
С этой неотступной мыслью умирали одни врачи, на смену приходили новые добровольцы.
Теперь станицу оцепили. Казачьи кибитки стояли широким кольцом в двухстах саженях друг от друга, образуя линию кордона.
На третий месяц эпидемии к кордону подъехал Чичикад-зе — правитель канцелярии астраханского губернатора графа Лорис-Меликова. К линии оцепления из станицы срочно вызвали доктора Морозова.
Сильный ветер дул в лицо, и бежать было трудно. Но Морозов не останавливался: ведь сейчас он увидит человека из Астрахани, из города, который про себя называл теперь «миром живых».
Чичикадзе стоял далеко, саженях в двадцати за кордоном. Он был человеком осторожным и очень ценил свою жизнь. Ветер доносил до Морозова раздраженный голос правителя канцелярии:
— Губернатор весьма недоволен. Извольте остановить эпидемию! Извольте действовать!
У Морозова дрожало все тело, он не мог взять себя в руки. Пожалуй, хорошо, что Чичикадзе далеко и не видит его лица.
Слышно было, как там, за кордоном, застучали по замерзшей земле копыта. Рядом, в сторожевой будке, часовой негромко затянул:
Эх ты, горе-горькое, кручинушка моя,
Дальняя сторонушка, турецкая земля...
Морозов стоял на ветру и ждал. Возбуждение и гнев вскоре сменились усталостью. Морозову все казалось, что Чи-чикадзе вернется и скажет что-нибудь еще, передаст привет и письма от близких. Не может он так уехать! От волнения стало жарко, и Морозов расстегнул пальто. Песня оборвалась. Казак вылез из будки, недовольно окликнул:
— Чего стоите, ваше благородие? Тут стоять не приказано!
Морозов не ответил, посмотрел на степь, потонувшую в белой снежной пыли, повернулся и пошел в станицу, спотыкаясь о холмики земли, нарытой сусликами. На берегу он остановился передохнуть. «Волга! — подумал Морозов. — Течет река через все кордоны к Астрахани».
На секунду явственно представился родной город, о котором все это время он старался не вспоминать: заснувший порт, заваленные снегом рыбачьи лодки, запах моря и рыбы. Огни кораблей отражаются в тяжелой, маслянистой воде. Люди стоят на пристани, смотрят вдаль, или ужинают в своих квартирах, или просто глядят в окна на звезды, на огни, ни о чем не тревожась. Сколько жизни еще впереди у них!
Морозов шел, еле переставляя ноги. Мысли то текли ясно и легко, то путались, как в бреду. Вспоминают ли «там» о нем? Вероятно, вспоминают: «Уехал на эпидемию». Что значили эти слова для тех, кто не был в Ветлянке!
Они не видели, как маленькая, измученная, на последнем месяце беременности жена священника Гусакова рыла могилу своему мужу. Женщина тяжело, с хрипом дышала, но не останавливалась, все работала и работала, с трудом разбивая заступом мерзлую землю. Он помог бы, но нельзя, надо торопиться к больным. Потом и она умерла; ее уже некому было похоронить.
Они не видели, как постепенно, изба за избой, улица за улицей, пустела еще недавно шумная и людная казачья станица.
Понимал ли Морозов, безвестный провинциальный врач, которому астраханское начальство только что сообщило о полнейшем своем неудовольствии, что, выполняя свой долг, не давая отчаянию и панике овладеть станицей, безоружным встречая смертельную опасность, — понимал ли, какое огромное дело творил он для народа?! Своим мужеством он и его товарищи поставили предел распространению эпидемии, спасая этим сотни тысяч жизней. В Ветлянке Морозов и другие врачи России последний раз на своей территории обороной встречали такой сильный и неожиданный натиск чумы.
Дальше русская наука уже сама наступала — в Китае, Индии, Аравии, в степях Маньчжурии и Монголии. Наступала, принимая бой с болезнью чаще всего за границами нашей страны, не допуская чуму на территорию России.
Серебристая полоска прорезала горизонт. Все было сковано морозом. Кордон отделял станицу Ветлянскую от остального мира. Морозов шагал все быстрее, стараясь отогнать тяжелые мысли, возникшие после встречи с Чичикадзе. Он торопился: десятки больных ждали помощи врача. Уже невдалеке темнели опустевшие избы. Идти было трудно, ноги как бы примерзали к земле. Это начиналась болезнь.
Через несколько дней Морозов погиб.
Но все это были не напрасные жертвы. Русские врачи оставляли драгоценные наблюдения, постепенно высвобождая науку из тумана средневековых легенд о чуме.
Работая в Ветлянке, киевлянин Григорий Николаевич Минх, прервав в связи с чумной эпидемией свои многолетние работы по изучению проказы, прослеживал пути распространения чумы. Эпидемия к этому времени захватила станицу целиком, не пощадив ни одной избы.
Минх искал истоки болезни. В его записях возникала вся история эпидемии. Вот первое, точно установленное заражение; вот болезнь, поразив всю семью, окрепнув, пустила отростки в ближние дома, превратилась наконец в тот все на своем пути сметающий поток, где кажется немыслимым отыскать конец или начало. Эпидемия была для Минха чем-то живым, ясно видимым, почти осязаемым.
Еще не был описан чумной микроб, а ученый по заболеваниям — следам жизнедеятельности микроба — устанавливал законы, управляющие его существованием.
Минх обходил больных по точному, заранее продуманному маршруту и, оказав врачебную помощь, расспрашивал о всех обстоятельствах, сопутствовавших заражению. В опустевшей избе Хритонова, которую исследователь превратил в свой штаб, он приводил записи в порядок: сличал помногу раз даты, факты и фамилии, отыскивал закономерности в длинном ряду заболеваний. До глубокой ночи в окне виднелась освещенная светом лампы крупная, четко очерченная седая голова, высокий лоб с двумя продольными морщинами, резко выступавшими над переносицей, и напряженно сведенными густыми бровями. Иногда Минх выпрямлялся и, сняв очки, закрывая усталые глаза, отдыхал. Это он называл «устроить себе праздник». Он разрешал себе такой праздник, только окончив какую-то главу работы.
Потом снова принимался за записи. Иногда писал до самого рассвета, засыпая тут же, за дощатым рабочим столом, положив на руки отяжелевшую голову.

Григорий Николаевич Минх.
За морем собранных фактов раскрывались вещи неожиданные и крайне важные для практической медицины. Это вознаграждало за все труды. Описанная Гиршем индийская, или легочная, чума по всем своим внешним признакам отличалась от чумы бубонной. Гирш и счел легочную чуму особой болезнью, имеющей, очевидно, своего специфического возбудителя. А тут с бесспорной ясностью обнаружилось, что от больных бубонной чумой может последовать заражение чумой легочной, что, следовательно, это не разные болезни с разными возбудителями, а разновидности одного и того же тяжелого заболевания, две формы, в которых протекает борьба одного и того же микроба с человеческим организмом. Это было новым серьезным шагом в познании природы чумы, а значит, к победе над ней.
Собрав множество неопровержимых фактов, выясняющих законы распространения эпидемий, Григорий Николаевич Минх подготовил к печати капитальный труд о чуме — научно точное и по-человечески страстное напутствие тем, кто будет продолжать его дело. Однако он не смог при жизни издать свою книгу: не хватило денег на типографские расходы.
После смерти Минха его семья долгие годы голодала, отказывала себе во всем, чтобы оплатить бумагу и труд наборщиков. В конце концов цель была достигнута — книга замечательного ученого вышла в свет и сослужила большую службу.
Много лет спустя Даниил Заболотный внимательно перечитывал труд своего земляка Григория Минха о ветлянской эпидемии.
Среди глав, посвященных тщательному анализу точных фактов, была записана и одна легенда.
«Говорили, — сообщал Минх, — что Агап Хритонов, первым среди жителей Ветлянки заболевший чумой, незадолго до начала эпидемии проходил по селу Никольскому. У крайнего двора сидел старик. Когда Хритонов поравнялся с ним, старик спросил:
— Хочешь ли ты золота и серебра? Только неправедное это богатство.
Агап сказал, что от золота никто не отказывается.
Тогда старик показал рукой:
— Иди во двор, отроешь клад.
Уходя с мешком, полным золота, Хритонов обратился к старику:
— Чем могу я отплатить за подарок?
— Ты поздно спрашиваешь. За клад заплатишь ты и твои, и твои от твоих. Как в семи дворах топор один, столько останется народу в Ветлянке».
Странная легенда! Но одно задерживало в ней внимание — догадка о том, что, может быть, чуму не привезли возвратившиеся из похода казаки, а человек как бы вырыл болезнь вместе с золотом из земли, о том, что, кроме видимого пути болезни — от больного к больному, — инфекция распространяется и другой дорогой.
Легенда надолго задержала внимание Заболотного. Листая страницы книги, ученый вновь и вновь возвращался к этой главе, так не похожей на весь остальной, очень сдержанный и точный текст. Заболотный вспомнил важное наблюдение, сделанное когда-то во время чумной эпидемии в Кременчуге ДанилойСамойловичем. Среди многих других в этом городе заболела и умерла от чумы жена отставного солдата. Муж ее и двое ребят были взяты в карантин. Когда после истечения срока карантина солдат вернулся домой, он достал зарытую перед уходом из дому на чердаке тряпочку с десятью серебряными рублями. Через несколько дней солдат заболел. «Солдату нанес сей рублевик удар смертельный», — писал Самойлович.
Книга Минха раскрывала болезнь в действии. Она подробно говорила о последствиях проникновения возбудителя чумы в человеческую среду. Но два вопроса оставались в тени: что представляет собой возбудитель чумы и как проникает этот неизвестный возбудитель в кровь человека, какая сила пускает в ход механизм инфекции [Инфекция (от латинского infectio — порча, заражение) — проникновение в организм заразного начала — болезнетворного микроба или вируса. Вирусы (от латинского virus — яд) — возбудители некоторых инфекционных болезней, более мелкие, чем большая часть известных в настоящее время микробов. Вирусы открыты русскими учеными Н. Ф. Гамалея (1859—1949) и Д. И. Ивановским (1864—1920).], точно и достоверно описанный Минхом.
Чтобы победить чуму, надо было прежде всего решить эти вопросы.
Существование возбудителя чумы еще в годы московской эпидемии семидесятых годов восемнадцатого века предсказал Данило Самойлович. Всю свою жизнь он мечтал увидеть это живое начало болезни. В 1784 году на рабочем столе исследователя очутился микроскоп Деллебара — один из самых точных и совершенных оптических инструментов того времени. Самойлович смотрел на микроскоп с великой надеждой, но надежда эта не оправдалась. Микроскоп увеличивал в 1170 раз, однако при увеличении выше ста объекты исследования сильно искажались. Самойлович наблюдал неутомимо, сам приготовлял препараты, но линзы Деллебара оказались гораздо менее совершенными, чем мысль ученого. В восемнадцатом веке чумной микроб был предсказан, а видимым он стал только через столетие. В годы ветлянской эпидемии профессор Петербургской военно-хирургической академии Эйхвальд увидел микроб чумы.
Через несколько лет после русских ученых, в 1894 году, работая на эпидемии в Гонконге, японский исследователь Катазато и почти одновременно с ним французский ученый Александр Иерсен описали микроб, вызывающий чуму.
Но и после открытия возбудителя болезни оставалось неизвестным самое важное: где продолжают существовать микробы чумы в течение десятилетий, зачастую отделяющих одну эпидемию от другой, куда они исчезают и при каких условиях снова проникают в человеческую среду.
Минх считал, что в Ветлянку чуму привез из турецкого похода Павел Заволокин. Почему же вспышки чумоподобных заболеваний время от времени возникали и в других глубинных районах Среднего и Нижнего Поволжья, никак не связанных с Малой Азией?
Все это требовало тщательного и глубокого изучения. Только еще начиналась работа, которая заняла десятки лет и была оплачена дорогой ценой — жизнью многих исследователей.
«Наша наука, — думал Заболотный, —не может и не должна ждать, пока эпидемия начнется в России. Слишком грозная опасность угрожает стране. Надо выследить тайники чумного микроба и уничтожить его там, где он прячется. Это возможно, и это необходимо!»
ПЕРВОЕ ОРУЖИЕ
В 1896 году болезнь вспыхнула в Индии. Она началась на окраине Бомбея, в нищих кварталах, прилегающих к торговым складам. Жители в ужасе бежали из пораженных районов. С угрожающей быстротой чума распространилась по Бомбею, вырвалась далеко за пределы городской черты и двигалась вдоль лесистых склонов Западных Гхат.
Чтобы помочь соседней стране, русские врачи решили послать для работы на эпидемии отряд специалистов.
Даниила Заболотного обрадовало неожиданное предложение принять участие в экспедиции. Ему хотелось испытать свои силы в борьбе с этой самой опасной и, может быть, самой неизученной болезнью в мире.
В библиотеке Заболотный перечитал все, что имелось об Индии. Делал подробные выписки о быте, о древних караванных путях, о статистике смертности и о количестве осадков. В тетради в кажущемся беспорядке одна за другой следовали записи:
«Отряд грызунов представлен чрезвычайно обильно, особенно богато родами и видами семейство мышей (Muridae), широко распространена здесь крыса, т. н. «бандикот».
«Из порта Бомбей пароходы совершают регулярные рейсы в Коломбо (Цейлон), Занзибар (Танганьика), Аден, Карачи».
«Вдоль побережья проходит полоса наиболее обильных осадков — 2500 миллиметров в год».
«Голод — самое страшное бедствие, поражающее огромную страну. Англичане наводнили Индию своими хлопчатобумажными тканями, и в Декке, старинном центре индийского ткачества, из ста пятидесяти тысяч жителей осталось только двадцать тысяч; остальные погибли от голода или разбежались. В 1741 году в одной из индийских провинций — Бенгалии — от голода погибло пять миллионов человек — треть населения. В 1874 году голодали Бомбей, Мадрас, Гайдерабад. С 1874 года до середины девяностых годов от голода умерло свыше двадцати миллионов индусов».
Заболотный еще не знал, зачем все это может понадобиться. Но знал, что понадобится непременно. Он знал, что эпидемия точно узлом связывает все, чем живет страна. Побороть эпидемию можно, только распутав этот узел.
Перед самым отъездом в Индию Даниил Кириллович сообщил родным и близким друзьям о своих планах. Решительно сказал:
— Такой случай врач не имеет права упустить!
Кто-то из товарищей спросил:
— Почему вас тянет в чужие страны? У нас ведь огромная нужда во врачебных силах дома, в России.
Заболотный подошел к карте мира, висевшей на стене, и провел длинную линию от Бомбея, мимо Адена, через узкую горловину Красного моря в Средиземное и Черное — к нашим берегам.
— Наш долг встретить чуму в начале этого пути, чтобы не увидеть ее в России.
Отправление русской врачебной экспедиции в Индию было назначено на начало февраля. Вечером перед отъездом Даниил Заболотный пошел попрощаться с городом. Накануне началось неожиданное потепление. С утра, то прекращаясь, то снова начинаясь, шел весенний дождь. На Владимирской горке Заболотный отломил веточку тополя, растер между ладонями крупную, набухающую почку. Хлынул такой сильный тополиный запах, будто в почке была заключена сама весна; вот она вырвалась и сразу заполнила все кругом. Днепр еще не тронулся, в темноте рано наступившего вечера он светился под горой неподвижной белесо-серебристой полосой льда, но дождевые ручьи с таким шумом срывались по обрыву, образовывали водопады, гремели галькой, что казалось, будто начался ледоход. Домой, в маленькую комнату на Бессарабском базаре, Заболотный вернулся поздней ночью. Еще несколько минут стоял на крыльце, всей грудью вдыхая теплый и влажный воздух, как будто решил увезти с собой в трудное путешествие частицу ранней киевской весны. Уснуть в эту ночь так и не удалось: укладывали вещи, потом он почти до света говорил с женой, — ведь это первая такая длительная разлука: неизвестно, сколько продлится работа на эпидемии. Когда Людмила задремала, попробовал тоже уснуть, но не смог, поднялся и сел к столу.
На стене рядом с окном висела картина работы художника Сашенко, старинного друга семьи, — единственное семейное богатство, с которым Заболотный не расставался в самые трудные, голодные студенческие годы: рассвет, и по темному, едва начинающему синеть небу летит стая журавлей. Вот и он отправляется в далекую дорогу...
В последнее время, после того как решено было его участие в экспедиции, Заболотный очень много думал о будущем, строго проверял себя. Теперь он твердо знал, что бомбейская экспедиция — это не случайный эпизод в его жизни, а начало труда на всю жизнь. Знал, что направление полета избрано окончательно, на долгие годы.
На вокзале провожать членов экспедиции — профессора Высоковича, доктора Реднова и Заболотного — собрались сотни киевлян: преподаватели университета, врачи и особенно много студентов. Оркестр 132-го Бендерского полка, где Заболотный служил младшим врачом, без устали исполнял марши. Трубач, пожилой солдат сверхсрочной службы, до боли душевной скучавший по семье и обычно всю свою безысходную тоску вкладывавший в музыку, на этот раз играл заразительно весело; барабанщик, четырнадцатилетний хлопец, земляк Заболотного, мечтавший уйти из солдатчины и поступить учиться «на лекаря», с такой силой отбивал ритм, что моментами заглушал все остальные инструменты. Заболотный знал каждого оркестранта и каждого солдата 132-го Бендерского полка. От этого в оркестровом медном громе, заполнившем перрон, ему чудились близкие и дорогие для него человеческие голоса однополчан, нуждающихся в нем, спрашивающих совета, желающих счастливого пути. Кто знает, принесет ли трубачу счастье свидание с семьей в разоренной за долгую солдатчину хате и сумеет ли барабанщик, очень даровитый, но слабогрудый, с первыми признаками начинающегося процесса в легких мальчик, вырваться из полка, попасть в школу, да и вообще сколько лет осталось ему жить?

Даниил Кириллович Заболотный.
Подходили, чтобы попрощаться, пожать руку, сказать несколько напутственных слов, всё новые и новые люди, иные — полузнакомые или даже совсем незнакомые. Когда начались речи и толпа отхлынула от Заболотного, к нему приблизился высокий худой человек в сером, с побелевшими швами пальто. Густые русые волосы, шапкой покрывавшие голову, и серые глаза, в которых проглядывала противоречивая смесь чувств — настороженной недоверчивости и требовательного, какого-то влюбленного ожидания, — показались Заболотному знакомыми.
— Узнаёте? — спросил подошедший.
Услышав тихий, запинающийся голос, Даниил Кириллович сразу вспомнил одесские железнодорожные мастерские, кружок, который он, студент Одесского университета, вел среди ремонтников, и слесаря мастерских Сергея Груздева, посещавшего кружок с первого занятия до провала кружка и слушавшего каждое слово руководителя с такой же смесью настороженной недоверчивости и нетерпеливого ожидания в глазах. За эти годы Сергей Груздев сильно изменился, не возмужал — тогда ему было лет восемнадцать, не больше, — а как-то постарел. Лицо болезненно исхудало, на скулах выступил нездоровый румянец.
— Что же, сейчас работаете или учитесь? — спросил Даниил Кириллович, крепко пожимая руку старому своему ученику.
— Окончил «академию», — слегка запинаясь, ответил Груздев: — Киевскую пересыльную, Московскую пересыльную, Петербургские кресты... — Закашлялся и, приложив руку к груди, договорил: — Окончил с отличием.
— А сейчас?
Вместо ответа, понизив голос до шопота, так что слова были почти не слышны и лишь угадывались, Груздев повторил то, что было сказано Желябовым на процессе первомартовцев:
— «Служу я делу освобождения народа». Этого я и вам, Даниил Кириллович, больше всего желаю — служить народу. Другого счастья нет на земле.
Подошли провожающие, и Груздев исчез, замешавшись в толпе. Уже пробило три звонка, и, расцеловавшись с близкими, участники экспедиции сели в вагон. Замелькали пригородные станции, поля, с которых почти сошел снег. Потянулись долгие дни путешествия, сперва по родной стране, потом морем.
28 февраля 1896 года русская противочумная экспедиция прибыла в Бомбей.
Город казался вымершим: из восьмисоттысячного населения больше половины бежало. На улицах ни души. На дверях домов мелом начерчены кружки: есть заболевшие; если кружок перечеркнут крестом — значит, человек умер.
На окраинах, где живут индусы беднейшей касты — шудра, — пустые хижины: здесь болезнь уже истребила всех, кого могла. Крыши сняты. Это для того, чтобы солнце проникло в самые сырые уголки и изгнало заразу. Но и солнце не помогало. Казалось, чума заключила союз с богатыми, она уничтожала почти исключительно жителей рабочих окраин города. Младший врач 17-го флотского экипажа Н. И. Вестен-рик записал в дни бомбейской эпидемии, что «четвертая часть всех заболевших — слуги, затем идут чернорабочие и носильщики, далее пр.ачки, портные и цырюльники». Каждый месяц в Бомбее умирало две-три тысячи человек.
Самым тягостным было ощущение бессилия. Микроб чумы — неподвижная палочка с двумя светлыми, полюсами — лежал под микроскопом, он стал видимым. Но сделался ли от этого человек сильнее в борьбе с ним?
Культуру чумных микробов разводили в лабораториях на специальных питательных средах. Колонии микробов под микроскопом были похожи на темный цветок с правильными овальными лепестками, напоминающий флоксы. Иногда в том или ином месте культуры возникали еще более темные островки — тут микроб по каким-то причинам размножался быстрее; эти образования ученые называли «каннибальскими колониями». И верно, под микроскопом лежали организмы, которые имели полное и неоспоримое право называться людоедами.
Теперь ученые знали «привычки» и жизненные свойства чумного микроба. Они могли по своему произволу убить его нагреванием и другими способами или, наоборот, ускорить рост колонии — культуры микробов. Могли ослабить или усилить вирулентность — болезнетворную силу возбудителя чумы. Но только в пробирке, а не в крови, не в организме больного.
За стенами лабораторий болезнь переходила от человека к человеку, и перед нею отступали белые кровяные шарики — лейкоциты, эти защитники человеческой жизни. Микроб убивал людей так же легко и уверенно, как столетия назад.
Увидеть врага еще не значило победить. По-прежнему на дверях домов мелом рисовались кружки по числу больных и перечеркивались через несколько дней крестами, подводя итог смертям.
Город по-прежнему умирал, но только постороннему наблюдателю могло казаться, что ничто не изменилось. С приездом русской экспедиции силы человека в борьбе с эпидемией возрастали с каждым днем. Каждый врач работал в две смены: днем — в больнице, вечером или ночью — в лаборатории.
Пройдешь ночью — душные испарения недвижно висят над домами, окутывают весь город; темно, светятся только окна лабораторий. Иногда промелькнет за стеклом человеческая фигура, откроются рамы, послышатся негромкие голоса. Потом все затихает: люди из лаборатории ушли — одни спать, другие в госпиталь, на ночное дежурство.
Говорят, люди ищут, где лучше. Что привело их сюда — профессора Высоковича, военного врача Даниила Заболотного, питомца Новороссийского университета Владимира Хавкина и многих других ученых? Какая властная сила собрала их в зачумленном городе, откуда старался убежать каждый живой?
Ненависть к болезням, великое чувство превосходства жизни над смертью руководили ими и заставляли бросаться в самые опасные места битвы за человека.
...Работая на эпидемии и делая все возможное для того, чтобы спасти жителей города от страшного бедствия, Заболотный ставил перед собой и значительно более широкие задачи. Для него Бомбей был прежде всего местом проникновения инфекции, распространившейся по Индии и угрожавшей России и остальному миру. Он чувствовал глубокое сострадание к городу, чувствовал вину науки и, значит, свою личную вину перед каждым умирающим. Но бой для него шел не за одного больного, даже не за одну страну. Поле сражения было неизмеримо шире. Бомбей — лишь стычка в войне, продолжавшейся столетия на огромных территориях Азии, Африки и Европы.
Чума скрывалась, но Заболотный знал, что встретится с, пей лицом к лицу здесь или за тысячу километров, сейчас или через десять — двадцать лет. Ему исполнилось тридцать лет, и он верил, что у него хватит времени для того, чтобы завязать генеральное сражение с силой, уничтожившей уже сотни миллионов жизней.
Как для врача припухшие лимфатические узлы раскрывают пути инфекции в организме больного, так Бомбей и Ветлянка, Аравия и Монголия были для Заболотного как бы припухшими лимфатическими узлами, следами движения микробов в организме всего человечества. И надо было проследить это движение, излечить не одного человека, не один город, даже не одну страну, — излечить весь мир и прежде всего страны, откуда опасность может угрожать России. Даниила Заболотного занимала не частная, а общая задача, и он верил в возможность ее полного решения.
Владимир Хавкин был человеком совсем другого склада. Ученый-практик, он все силы души сосредоточивал на ясных и видимых целях, он искал оружие для практической деятельности врача. Пусть оно не решит полностью исхода битвы, а будет лишь шагом к цели, но главное — чтобы его можно было применить в помощь людям сейчас же, не откладывая.
Утром 10 января 1897 года Владимир Хавкин приступил к опыту. Идея была подсказана борьбой с другими эпидемиями. Было доказано, что если ввести в кровь человека тела убитых микробов, то, побеждая яд, организм повышает свою сопротивляемость заболеванию, то-есть в той или иной степени приобретает невосприимчивость, иммунитет.
Это было проверено на многих инфекциях, но не на такой опасной и мало исследованной, как чума.
Кто мог в первом опыте предсказать, убьет ли человека яд мертвых микробов чумы или яд этот сам будет побежден? «Научатся» ли белые кровяные шарики, расправившись с мертвыми микробами, уничтожать потом и живых или они даже в этом пробном сражении не смогут защитить человека?
— Очень большой риск, — сказал доктор Сюрвайер, помощник и один из ближайших друзей Владимира Хавкина, вместе с ним работавший на бомбейской эпидемии. — Больше, чем просто риск, — повторил он. — Ведь, по существу, мы почти ничего не знаем о биологии чумного микроба.
— А я убежден, что опыт задуман верно, — возразил Хавкин. — И главное, вы согласитесь, что нет времени ждать. Ведь гибнут тысячи людей, а мы абсолютно бессильны и не можем оказать никакой реальной помощи.
Началась подготовка к опыту. Чтобы культура микробов лучше росла, в питательный бульон были прибавлены капельки масла. Микробы делились, размножались с удивительной быстротой. Они охватили кольцом стенки сосуда, дно его, тонкой пленкой покрыли поверхность питательной среды и, как бы цепляясь за капельки масла, многочисленными отростками свешивались от поверхности вглубь помутневшей жидкости.
В распоряжении исследователя было теперь достаточное количество микробов. Прежде чем ввести чуму себе в кровь, надо было убить ее. Чумной микроб легко переносит замораживание — при температуре минус двадцать градусов он может существовать больше месяца, но тепло для него гибельно. Достаточно повысить температуру жидкой среды, где обитает микроб, до пятидесяти градусов, чтобы обезвредить его в течение сорока минут; температура в шестьдесят градусов обезвреживает микробы чумы за две-три минуты, а в семьдесят градусов — почти мгновенно.
Владимир Хавкин внимательно следил за тем, как медленно поднималась ртуть в термометре.
Сорок... пятьдесят... шестьдесят... наконец шестьдесят пять градусов!
Высокая температура обезвредила чумных микробов, но она не уничтожила до конца яд, заключающийся в них. Мертвый, но все еще опасный враг находился в руках исследователя.
Ничто больше не задерживало опыт. Доктор Сюрвайер согласился быть помощником; кроме него, никто не должен был знать о предстоящем эксперименте. Иначе могли бы помешать, потребовать новых длительных опытов на разных видах животных, более тщательной подготовки, а Хавкин считал непростительным терять драгоценное время.
Есть чудесное преимущество у опыта на себе: каким иным способом можно не только увидеть, измерить, но и изнутри почувствовать все развитие болезни — от самого начала и до конца? Не воспользоваться этим преимуществом было бы непростительно.
Вакцина [Вакцина (от латинского vacca — корова) — коровья оспа. В настоящее время вакциной называют всякий материал (ослабленные или убитые возбудители заразных болезней), служащий для предохранительных прививок и лечения.] была введена Владимиру Хавкину в правый, потом в левый бок.
Очень скоро ученый почувствовал, что его начинает лихорадить. Через восемь часов температура поднялась до тридцати восьми и девяти десятых градуса. Лихорадочное состояние резко усилилось.
Хавкин продолжал работать, иногда отрываясь, чтобы занести в тетрадь описание симптомов борьбы организма с чумным ядом. Разве не говорил он своим сотрудникам, что опыт ценен только в том случае, если сохранится точный и подробный протокол! Нет причин и сейчас отступать от старого правила.
Аккуратными столбиками час за часом заносились на бумагу температура, пульс, частота дыхания. Доктор Сюрвайер все время находился рядом. Время от времени он склонялся над столом и внимательно всматривался в тетрадь с записями.
— Очень хорошо, — сказал Хавкин, перехватив встревоженный взгляд Сюрвайера.
Потом пояснил:
— Реакция сильная. Тем больше оснований рассчитывать на образование стойкого иммунитета. Организм борется.
Через минуту, отвечая на безмолвный вопрос своего помощника, ученый добавил:
— И победит!
Температура продолжала подниматься.
Вечером состоялось совещание, посвященное борьбе с эпидемией. Хавкин присутствовал на нем. Он явился, как всегда, чисто выбритый, в безукоризненно белом халате. Черные, в последнее время сильно поседевшие волосы, разделенные аккуратным пробором, открывали выпуклый лоб. Глаза, под густыми бровями, выражали сосредоточенное внимание. Никто, кроме доктора Сюрвайера, не знал, что в то время, когда Хавкин спокойно, может быть лишь чуть медленнее, чем обычно, говорил о мерах, необходимых для быстрейшей организации госпиталей, каждое слово давалось ему с мучительным трудом. Опыт проходил самую острую стадию, когда нельзя было предугадать его исход.
В течение следующих дней стало ясно, что эксперимент удался и жизнь отважного исследователя вне опасности.
Это была одна из первых и самых замечательных побед в борьбе человека с чумой. Так в 1897 году русская наука осуществила гениальный замысел Данилы Самойловича, более столетия назад предсказавшего возможность противочумных прививок.
Впервые за всю историю человечества врачи получили возможность спасать людей от чумы, предупреждая распространение болезни.
Эта большая победа была сразу же омрачена. В декабре 1897 года вспыхнула эпидемия в бомбейской тюрьме. На тюремном дворе были построены все заключенные. Начальник тюрьмы произвел расчет. Тем, на кого выпали четные номера, были сделаны прививки, остальных оставили без врачебной помощи. Из привитых заболело три человека, и все они выздоровели, а в группе непривитых заболело десять человек, и все десять погибли.
В январе эпидемия охватила «исправительное заведение» Бисилла. Несмотря на то что действенность вакцины была к тому времени неопровержимо доказана, английская колониальная администрация продолжала бессмысленный опыт на людях. Заключенные в Бисилле знали, что те, кому прививки не будут произведены, обречены на смерть. Возникла опасность бунта. Администрация усилила охрану. Одним заключенным делались прививки вакциной Хавкина, других отдали в жертву болезни. Из непривитых заболело двенадцать и шесть погибло; в группе привитых было двое заболевших и ни одного смертного случая.
На самой заре битвы с чумой резко обозначились два направления в бактериологической науке. Одно стремилось к полной победе над микробами, другое настойчиво искало пути для использования микробов чумы в подлых, враждебных человечеству целях.
Гитлеровцы в Познани, японские фашисты в лагере на станции Пинфань и американцы, совершенствующие средства массового уничтожения людей при помощи бактерий, продолжали и продолжают то, что английские колонизаторы начали в Индии.
Прививки вакциной Хавкина — убитыми чумными микробами — получили широкое распространение. Заболеваемость при этом снижалась в два раза, а смертность примерно в четыре раза.
Но в госпитали попадали десятки тысяч людей, не успевших своевременно получить прививку. На таких больных вакцина Хавкина не оказывала положительного действия. Наоборот, введенная в кровь заболевшему, она зачастую даже снижала сопротивляемость его организма.
Тогда врачи попробовали применить другой метод лечения. Есть животные, для которых чума не смертельна. Чумные микробы, введенные, например, в кровь лошади, бывают вынуждены отступить, натолкнувшись на стойкое сопротивление. Защитные силы организма лошади сразу приходят в действие и вырабатывают особые иммунные вещества, обеспечивающие победу над болезнетворными микробами. Чумные микробы убиты, но вещества эти еще долго остаются в кровяном потоке. Что, если попытаться использовать их вторично, призвав на помощь больному человеку? Такая простая идея легла в основу нового метода лечения чумы.
Из крови животного, победившего болезнь, врачи приготовили сыворотку, чтобы ввести ее в организм заболевшего человека.
Прежде чем применить в больницах этот метод лечения чумы, его изучили в лабораториях на обезьянах — животных, по своим биологическим свойствам наиболее близких к человеку. Первые же опыты введения зараженным чумой длиннохвостым макакам противочумной сыворотки дали обнадеживающие результаты: болезнь протекала легче и смертность снижалась.

Владимир Ааронович Хавкин.
Работая в лаборатории, Заболотный не думал, что через несколько лет «счастливый случай», как он потом говорил, позволит на самом себе проверить и подтвердить лечебное действие сыворотки.
Так в Бомбее наука, и прежде всего наука русская, на удар ответила ударом. Город снова оживал, узкие улицы заполнялись народом. Болезнь скрылась, отступила, но в любой момент она могла снова возникнуть. Надо было выяснить, где можно ожидать появления чумы в следующий раз, через сколько лет, на каком материке, в какой стране.
Ответить на все эти вопросы можно было, только проследив все пути эпидемии.
НЕВИДИМЫЕ ТЕЧЕНИЯ
Районы, где болезнь появляется из года в год, Заболотный наносил на карту.
Издавна она обитает в Месопотамии. Эта древняя страна лежит на пути движения паломников-мусульман Ирана и Малой Азии, совершающих путешествие к «священным» городам Аравии — Мекке и Медине. Иногда вместе с людским потоком чума захлестывает соседние страны, чтобы затем вернуться в старое логово.
В Южных Гималаях, в десяти днях пути от Бомбея, жители гибли от заболевания, которое называли махамари.
В глубинах Африки, недалеко от Уганды, есть мало изученная область Кизиба. Тут целые племена уничтожала болезнь, получившая название лобунга.
Многое говорило, что за этими местными названиями — махамари, лобунга — скрывается та же чума.
Из Вейгана в Ургу идут паломники, чтобы поклониться Хутухте — высшему буддийскому святителю Монголии. По пути они встречаются с единоверцами — кочующими монголами. Иногда паломник, возвращаясь домой, заносит в свой улус смертельное заболевание. Когда он умирает, его тело, по буддийскому обычаю, кладут среди степи на землю. Хищные птицы — орлы, соколы, коршуны, луни — слетаются, чтобы полакомиться трупом; земля пропитывается кровью, насыщенной микробами.
В круговороте болезни недоставало одного звена: объяснения того, как хранит земля живого возбудителя болезни, каким образом передает его обратно человеку. Ведь оставаясь долгое время вне живого организма, чумной микроб должен погибнуть.
Химики открыли, что такие внешне непохожие вещества, как алмаз и уголь, являются разными формами существования одного и того же элемента — углерода. Бактериологам предстояло доказать, что одна причина — чумной микроб—лежит в основе чумы, лобунги, махамари и многих других болезней.
Гидрологи проследили подземные реки, которые, протекая посреди Голодной степи, под песками, питают огромное озеро Балхаш. Бактериологи должны были найти невидимые течения возбудителей болезни, помогающие чуме проникнуть в человеческую среду.
Есть три города на Ближнем Востоке, где вечно кипит людской водоворот. Это Мекка (ее называют «святой», «городом без воды», «пределом стремлений»), Медина («город, распространяющий свет») и древняя Джедда.
Сюда, на берега Красного моря, в каменистую, раскаленную солнцем Аравию, стекались люди из стран, где распространены холера, проказа, чума. Возможно, что у мест поклонения в «городе, распространяющем свет», и в том, который получил название «предел стремлений», паломники обмениваются инфекциями. Где еще можно так точно проследить законы распространения эпидемий!
Так было задумано и начато путешествие Даниила Заболотного, путешествие по путям распространения опасных болезней.
Исследователь вмешался в бесконечный людской поток. Разноязычная толпа заполняла дороги. Шли магребианцы — жители Африки. Недоверчиво оглядываясь по сторонам, они прятали оружие в складках одежды. Шли бронзовые индусы, сирийцы. Шли, потом плыли, теснясь на палубе, нетерпеливо вглядываясь в даль.
Ночью яркие тропические звезды загорались над головой, и море превращалось в бесконечное пространство мерцающего, колеблемого волнами живого огня: это светились мириады микроскопических морских растений. Казалось, корабль плывет по волнам пламени. Свечение то усиливалось, то меркло. За кормой в белом пенистом следе сверкали изумрудные, янтарные, рубиновые искры. От этого щедрого тропического блеска трудно было отвести глаза.
А на палубе шла своя жизнь: молился гаджа, обратившись лицом к Мекке; неподвижно стояли у борта, точно выточенные из блестящего черного дерева, ловцы жемчуга.
Иногда горе врывалось в корабельный быт: умирал пилигрим-мусульманин, совершавший паломничество к «святым местам», — умирал, так и не достигнув «предела стремлений», о котором мечтал всю жизнь. Единоверцы совершали погребальный обряд. Тело закутывали в белые простыни и с чугунным грузилом сбрасывали в море. Всплеск. На мгновение потревожена светящаяся морская поверхность, и снова мерно колеблется холодный огонь.
Заболотный работал. Он расспрашивал пилигримов, а поздним вечером в каюте записывал названия местностей, откуда паломники начинали свой путь, порты, куда они заходили, и цель странствований. Из отдельных черточек все явственнее вырисовывались главные людские потоки.
Рядом с точными записями ученый заносил в тетрадь беглые заметки об увиденном: о прибрежных городах, незнакомых обычаях, светящемся море.
Заболотный всегда ненавидел смерть. Сейчас это чувство оттеснило все остальные. Он готовился к решительной схватке со смертью, и враг казался ему вовсе не таким могучим и непобедимым.
Заболотный знал, что, по подсчетам статистиков, в Китае, Индии, Британской Гамбии и во многих других странах средняя продолжительность человеческой жизни не превышает двадцати — двадцати пяти лет. Миллионы людей умирают в первые месяцы жизни, гибнут от эпидемий, от голода. Но ведь ранняя смерть от болезней — это не вечный закон природы.
Человечество мечтало о бессмертии. Пусть древняя мечта никогда не осуществится, но разве наука не в силах сократить детскую смертность, уничтожить очаги самых опасных болезней и тем самым, оздоровив нашу планету, удвоить или даже утроить продолжительность человеческой жизни? Это было бы все равно что вдвое или втрое увеличить население земного шара.
Сверкание моря и звезд врывалось через люк, заполняло каюту. Казалось, все предметы начинают еле заметно фосфоресцировать, льют слабый, почти невидимый свет.
К Джедде корабль подходил днем. Белизна сгрудившихся на берегу строений слепила глаза. Высокие минареты четко вырисовывались на фоне голубого неба, дремали на солнце плоскокрышие дома с решетчатыми балконами.
Стоило сойти с корабля на берег, и сразу исчезало белоснежное видение. Грязь и нищета гнездились в кривых улочках. Женщины черпали из дождевых цистерн зацветшую воду. Повсюду встречались десятки нищих, молча протягивавших руки за подаянием. Больницы были переполнены. То и дело в городе обнаруживались вспышки опасных заболеваний.
Заболотный внимательно анализировал все увиденное, много раз перечитывал записи, и ему становилось ясно, какое громадное, вернее сказать — роковое, эпидемиологическое значение имеет для мира Аравия. Вероятно, правильнее было бы «город, распространяющий свет» назвать «городом, распространяющим смерть».
Весь мусульманский мир посылал паломников в Аравию. Из Басры в Дамаск двигались торговые караваны. Через Турцию на равнины Кербели и Неджаба везли покойников, пожелавших перед смертью найти вечное успокоение в благословенной земле. В Берейн, к берегам Персидского залива, ежегодно приезжали десятки тысяч ловцов жемчуга.
Заболотный прочерчивал на карте пути людских потоков. Они перекрещивались, образовывали клубки и водовороты у берегов Красного моря. Вопрос о распространении инфекции приходилось решать как геометрическую задачу, отыскивая закономерности в чрезвычайно сложных и запутанных переплетениях линий.
Карта становилась все полнее. Заболотный первым из ученых мира начертил фронт чумы от гор Гималайского хребта до Африки, от Индии до Монголии. Не отдельные участки, не вспышки эпидемий, а всю меру опасности охватывал он. Ученый исследовал пути распространения чумы, районы, откуда болезнь грозит миру.
Маршруты экспедиций Заболотного покрывают всю Азию. Они пролегают с севера на юг, с юга на восток, с запада на северо-восток. Когда южный фронт инфекций, угрожающий нашей стране со стороны Прикаспия, был вчерне изучен, Заболотный добился организации экспедиции в районы Забайкалья.
Из Монголии, Маньчжурии, Китая доходят лишь отрывочные и неполные сведения об эпидемиологическом состоянии этих стран. Надо точно знать, какие микробы могут проникнуть через стену Саянов, Яблонового и Станового хребтов перевалами, караванными дорогами, звериными тропами.
В экспедиции всего два человека: начальник, Даниил Заболотный, и студент Таранухин. Работа наваливается сразу такая, столько материалов сложных и часто противоречивых накоплено местными врачами, такая масса спорных вопросов, что все время приходится думать об одном: как бы не потонуть в море фактов и не потерять из виду главное.
В июне 1898 года, в самый разгар работы, почта привозит свежие номера «Врачебной газеты» из Петербурга. Бросается в глаза маленькая заметка: сообщение о том, что, по сведениям, собранным врачом французского консульства в Пекине, в горах Хингана издавна существует очаг неизвестной болезни, крайне заразительной и завершающейся обычно смертельным исходом.
До сих пор бактериологически изучен только один мировой очаг чумы: он расположен в центре Африки, близ озера Уганда, в болотистых низменностях, кишащих крысами. Если болезнь, о которой так туманно рассказал французский врач, только записавший сообщения очевидцев, но не побывавший на месте, вызывается чумным микробом, надо выяснить, как проникает он на эти высокие плоскогория, в зоны альпийских лугов, как чума укрепляется там.
Таранухин спит на соломе, покрытой холстиной, подложив под голову по-солдатски скатанную шинель. Его открытое, разрумянившееся во сне лицо выражает безмятежное спокойствие. Кажется, что если вглядеться повнимательнее в сумрак, наполняющий избу, можно увидеть сны, проплывающие над изголовьем спящего. Да и что может сниться в экспедиции после многосуточной работы без отдыха, по шестнадцать, а иной раз и по двадцать часов в день: возвращение, Петербург и Москва, встреча с близкими, любимыми и дорогими людьми, Большой театр, Воробьевы горы, черемуха, Москва-река.
«Что ж, спи, пока спится, хлопчик, — думает Заболотный.— Долго же нам с тобой ждать: много дней, а может быть, и месяцев пройдет, пока сны станут явью».
На столе раскрыта карта Сибири, Внешней и Внутренней Монголии. Карандаш Заболотного пересекает Яблоновый хребет, между Байкалом и синей извилиной Шилки прочерчивает путь к Кяхте, Урге, через пустыню Гоби и по маршрутам Пржевальского, на юго-восток — к Пекину, и севернее — в горы.
Две тысячи километров пешком и на верблюдах...
Телеграмма в Петербург с просьбой разрешить новую экспедицию составляется сразу же после прочтения «Врачебной газеты». «Документ психологический», — как потом шутя говорит Заболотный. О научной целесообразности и необходимости экспедиции — всего несколько слов, но зато достаточно пространно о том, что дело это недорогое, нового оборудования не потребуется, штат тот же, если не считать переводчика; коней и верблюдов можно приобрести дешево. А в заключение — упоминание, что дело несомненно заслужит одобрительный отзыв широкой общественности.
Спит Таранухин. За окном светает, и Заболотный укладывается рядом, с краешка, чтобы не потревожить спящего.
Телеграмма уже на пути в Петербург. Там «психологический документ» оказывает свое действие. В Санкт-Петербурге нужны кредиты, и получению кредитов в какой-то мере может способствовать и эта научная экспедиция. Если верблюд, необходимый для экспедиции Заболотного, привезет хоть немножко доброй славы и верблюд стоит недорого, почему не разрешить экспедицию?
Утром Заболотный будит Таранухина.
— Я к вам очень привык, — говорит Заболотный, — но если вы устали, голубчик, я постараюсь найти другого спутника.
Таранухин решительно возражает:
— С вами я пойду, Даниил Кириллович, куда угодно, куда скажете.
— Даже на луну?
— Если там чума, даже на луну.
Подготовка начинается сейчас же. Монгол Бимбаев — он будет переводчиком экспедиции — советует на несколько недель отложить отправление в путь: сейчас в Гоби такая жара, что идти почти немыслимо — все выгорело. Когда тихо, еще ничего, но скоро задуют ветры, начнутся песчаные бури.
Заболотный внимательно слушает, кивает головой, как бы соглашаясь с доводами Бимбаева и одобряя их. Неожиданно он спрашивает:
— Послушайте, Бимбаев, а если вашему лучшему другу угрожает смертельная опасность и, чтобы спасти его, нужно сейчас же отправиться в дорогу, как вы поступите?
Бимбаев молчалив, говорит он только тогда, когда это кажется ему абсолютно необходимым и только после долгого размышления.
И сейчас, после долгой паузы, он спрашивает:
— У начальника там друг? — Бимбаев поворачивается к окну и еле заметным движением руки показывает на восток, туда, где виднеются светлозеленые, зеленые, синие, а вдали совсем темные, почти черные лесистые предгорья.
— У начальника везде друзья. Верно, Даниил Кириллович?— улыбается Таранухин.
С этого часа начинается подготовка к путешествию. В день, когда приходит из Петербурга телеграмма с разрешением, маленькая экспедиция отправляется в путь. Двигаются без отдыха, несмотря на изнурительный зной, по сорок — пятьдесят километров в день. В Урге походная лаборатория перегружается на верблюдов. Экспедиция медленно и торжественно проезжает по безлюдным улицам города. Заболотный, который обычно всех торопит, сейчас словно не хочет расстаться с городом. Он часто останавливается и, ни слова не сказав Таранухину, убегает в боковые переулки. После одной из подобных отлучек он возвращается сияющий, с охапкой гвоздики и чайных роз — это все, что удалось найти в единственном цветочном магазине города. Верблюды лениво оглядываются, недоуменно и равнодушно втягивают сладкий, крепкий аромат.
Пустыня встречает сильным ветром, поднимающим тучи песка. Воздух такой плотный, что надо пробиваться сквозь него.
Экспедиция движется прямо на восток. Останавливаются, только чтобы изучить прилегающие районы и оказать помощь окрестному населению. На остановках, чтобы охватить более широкую территорию, разделяются на два «отряда»: головной— в составе Таранухина и Бимбаева — и разведывательный, включающий весь остальной состав экспедиции, то-есть одного Заболотного.
Иногда подвижной «разведывательный отряд» уезжает в сторону за сотни километров на три-четыре дня, захватив с собой походную лабораторию. Спутанные рыжеватые волосы Заболотного выгорели почти до цвета соломы, лицо похудело и почернело, только синие глаза светятся, как всегда, смело и весело. Куртка 132-го Бендерского полка застегнута небрежно, на одну или две пуговицы. Материя куртки окончательно выцвела под индийским, аравийским, монгольским солнцем, только на лопатках она темнеет от пота. «Разведывательный отряд» продвигается от стойбища к стойбищу в поисках больных, стараясь проникнуть внутрь «крепости чумы», понять «конструкцию» хранилищ чумной смерти.
Если бы возбудители болезни переходили только от человека к человеку, то, убив последнего, кто стоит в этой местности на их пути, микробы и сами прекратили бы свое существование. Но за миллионы лет бактерии приспособились к изменяющимся условиям среды. Возбудители многих опаснейших болезней совершают сложный путь не в пространстве, не из страны в страну, а на той же ограниченной территории, переходя от одного вида животных к другому. Этот путь инфекции, когда вирус не выходит за пределы дикой природы, можно назвать ее «малым кругом».
Люди, пробиравшиеся в глубины дальневосточной тайги, заболевали таежным энцефалитом — опасным для жизни воспалением головного мозга. Прошли годы героического труда, пока Евгений Никанорович Павловский и другие советские исследователи расшифровали малый круг движения таежного энцефалита, нашли его естественные гнездовья в природе и доказали, что обитающий в тайге клещ, укусив человека, вводит в кровь вирус этой болезни. Инфекция существовала и раньше, но теперь она станет видимой, пойдет по «большому кругу», включающему человека.
Когда в годы первых пятилеток в Средней Азии, на пустынных берегах Вахша, начались строительные работы, врачи заметили появление тяжелого заболевания — особой разновидности лейшманиоза [Лейшманиоз — заболевание, распространенное в жарких странах; поражает человека и некоторых животных. Болезнь вызывается особым паразитом.]. Советской науке удалось выяснить, что шакал — одно из звеньев движения возбудителя лейшманиоза в природе.
Так ученые исследуют границы распространения того или иного опасного микроба. В тайге, лесах, степях, пустынях, горах, болотах — везде, где живет или будет жить человек, проходит эта работа. Исследователи открывают невидимые, хорошо укрытые гнездовья врага. Они обнаруживают хранилища, резервуары болезнетворного вируса, чтобы оградить от него человечество.
Врач в больнице лечит человека, уже заболевшего. Вооруженный лекарственными веществами, он помогает организму больного уничтожить микробов, когда они попали вкровь и начали свое разрушительное дело. Советская наука преследует и более далекую цель: она стремится к тому, чтобы полностью и навсегда преградить микробам доступ в человеческую среду, истребить их до соприкосновения с человеком, уничтожить самую возможность заболевания.
Осушая болота, опрыскивая с самолетов малярийные местности химическими средствами, от которых гибнут комары, врачи вытесняют малярию. Эта тяжелая, изнуряющая болезнь, поражавшая миллионы людей, почти полностью уничтожена на всей территории нашей страны, во всех основных малярийных очагах.
Осваивая глухую тайгу, ученые разрушают гнездовья клеща — носителя вируса таежного энцефалита. Они находят и уничтожают базы, тайники микробов в природе, источники инфекций.
В будущем, после победы коммунизма во всем мире, ученые добьются того, что сейчас кажется мечтой: они изучат и ликвидируют все очаги болезнетворных микробов на нашей планете. Это произойдет не сразу. Постепенно одна болезнь за другой вместе с естественными носителями инфекций навсегда исчезнут даже из памяти человеческой.
Даниил Заболотный был одним из зачинателей этого замечательного направления в науке. Что было известно о путях распространения чумы до исследований Заболотного? Почти ничего.
В портах Англии на причальных канатах можно увидеть большие металлические круги. Иногда ночью крыса серой тенью соскользнет с палубы на канат, подбежит к кругу и вернется обратно, не в силах обойти преграду.
Круги стали применять с тех пор, когда было доказано, что крысы болеют чумой и переносят ее из порта в порт.
Тут, в Монголии, куда приехал Заболотный, нет портовых крыс. Бесконечная пустынная степь; холмы пологими волнами тянутся до горизонта; покажется и скроется одинокий всадник; промелькнет красновато-песчаным пятном дзерен — степная антилопа; черный журавль, стоя на одной ноге, недоверчиво поглядит на темнеющий вдалеке силуэт всадника; заяц-толай настороженно поднимет уши; коршун прошумит крыльями над головой; проползет странный, ушастый еж...
Какое из этих животных скрывает в себе чуму?
Помните рассказ о «неправедном золоте», с которым будто бы связано возникновение чумы в Ветлянке? Теперь Заболотный услышал историю, удивительно похожую на эту записанную Минхом легенду.
Недалеко от Урги, в урочище Хушун-Михар, китайцы и монголы раскопали клад. Через несколько дней умерли двадцать человек из тех, кто вырыл золото и серебро. Лама из местности Тырса выпросил для своего монастыря несколько драгоценных слитков. Он тоже погиб.
Трудно поверить в заклятый клад и злых духов, охраняющих его. Но люди гибли наяву, а не в сказке.
Мысль, возникшая у Заболотного много лет назад, теперь поглотила его целиком: распространение чумы связано с землей, со степью, вернее — с живыми существами, обитающими в степи.
Человек, который искал клад, случайно прикоснулся к больному животному, устроившему себе нору близ клада. Он даже не заметил мгновенного соприкосновения, но секунды оказалось достаточно, чтобы носитель инфекции передал ее человеку. Чума вышла из своего малого круга.
Опасность скрывалась в земле. Быть может, не только крысы, но и дальние родичи их — степные грызуны — передавали болезнь человеку?
Один вид грызунов внушал Заболотному особо серьезные подозрения: монгольский сурок — тарабаган. Он водится на огромных пространствах — от Хингана до Урала. Грызун роет норы и в степи и в горах, на высоте до четырех с половиной тысяч метров над уровнем моря; великий русский географ, исследователь Центральной Азии Н. М. Пржевальский во время своих путешествий находил тарабаганов в районе хребта Марко-Поло и в горах Куку-Шим Северного Тибетского плато.
Владения грызунов легко узнать: на склонах сопок виднеются «бутаны» — холмики земли, нарытой зверьком при сооружении норы. Сильный, ловкий и неутомимый, он пробивает ходы через каменистую почву, выбрасывая обломки гранита иногда в несколько килограммов весом. Перед норой — площадка из земли и песка: здесь тарабаган отдыхает, высматривает, не появится ли опасность.
При виде человека зверек поднимается на задние лапки и становится похож на разгневанного охотника. Крепко и уверенно опирается тарабаган на продолговатые ступни; длинные загнутые когти вонзаются в землю; воинственно смотрит он на приближающегося врага; темножелтая, иногда рыжеватая шерсть закрывает круглые уши; хищные резцы виднеются из-под усатой верхней губы. Он издает резкий, лающий звук — знак недовольства, — этот старый охотник, которого потревожили в его владениях.
«Старый охотник» — так и называют тарабагана обитатели степи.
Существует легенда, что жил некогда на земле очень меткий стрелок. Он ходил по степи из края в край и хвастал, что никого не боится, потому что нет в мире другого охотника, умеющего стрелять так же метко, как он.
Раз в высокой траве он повстречал хмурого всадника и расхвастался, по своему обычаю, не зная, что перед ним — бог. Чтобы показать свое мастерство, охотник выстрелил в ласточку на лету и выбил среднее перо из ее хвоста.
Бог разгневался на человека, который никого не хочет почитать, и повелел ему быть сурком-тарабаганом, охотиться только летом, а зимой спать и не пить воды. А ласточке повелел всегда быть с раздвоенным хвостом, похожим на вилку, за то, что она не сумела увернуться от стрелы охотника.
В легенде говорилось еще, что, уходя в землю, охотник-тарабаган сказал:
— Я беру стрелу с собой. Горе людям, посмеющим тревожить мой сон, — стрела будет убивать!
«Может быть, — думал ученый, — эти предания, переходившие из поколения в поколение, отражали горький народный опыт, подсказывавший монголам, что соприкосновение с тарабаганом часто приводит к тяжелому, даже смертельному заболеванию».
Смелый и хитрый грызун окружен в степи боязливым людским почтением. Хорошие охотники рискуют убивать зверька только издали, выстрелом, убедившись, что он поднялся на задние лапки, готовый встретить опасность, и, значит, здоров.
Но есть и другой способ охоты на тарабагана. Перед ходом в нору вбивается палка с прочной проволочной петлей. Если тарабагану не удается миновать западню, он вертится в петле, стремясь перекрутить тонкую проволоку. Сотни тысяч зверьков попадаются в эту ловушку. Снимая шкурку с убитого зверька, человек тесно соприкасается с ним.
Если действительно тарабаганы болеют чумой, легко представить себе, что микроб может перейти от них к человеку.
Заболотный наблюдал жизнь тарабаганов в природе и тщательно записывал все рассказы местных жителей об этих грызунах.
В сентябре или середине октября зверьки собираются группками и на время зимней спячки прячутся в глубокие норы. Вход они наглухо заделывают. Обычно тарабаганы выходят из нор только в марте. Но иногда среди бесснежной монгольской зимы можно услышать характерный шорох, увидеть, как вдруг зашевелится земля, покажется усатая голова и зверек выползет наружу. Это болезнь поразила легкие грызуна, разбудила его, начала душить, заставила из последних сил пробиваться к воздуху.
Однако чаще всего мор тарабаганов начинается летом. Голодные птицы жадно набрасываются на тушку погибшего зверька, и через несколько минут от него ничего не остается.
Это очень затрудняло работу исследователя. Невозможно было в степи отыскать очаги эпизоотии [Эпизоотия — массовое инфекционное (заразное) заболевание животных.], чтобы тщательно изучить в лаборатории заболевших тарабаганов. Коршуны и орлы парили в неярком степном небе — они сторожили добычу.
Почти безнадежным казалось опередить птиц, найти даже небольшое количество погибших от болезни зверьков, чтобы подвергнуть их точному бактериологическому исследованию. Трудно, но необходимо!
Заболотный пересекал степь вдоль и поперек. Кочевые монголы привыкли к неутомимому всаднику. Он возвращался к базе экспедиции полумертвый от усталости. И во сне мерещились ему однообразные сопки, холмы, похожие на застывшие волны, зверьки, стерегущие свои подземные города.
Шел ли он правильным путем? Ведь вовсе не так однообразен животный мир в степях Монголии: тут обитают десятки видов птиц, насекомых, хищников, грызунов.
Что ж, даже если он гонялся за тенью, долг его был — догнать тень и, только окончательно убедившись в ошибке, переменить направление поисков. Впрочем, он знал, верил и чувствовал, что идет по правильному следу. И нельзя было медлить: каждый потерянный день мог обойтись очень дорого.
В записную книжку заносились новые факты. В степных кочевьях время от времени вспыхивала болезнь. Кочевники считали, что вспышки этой болезни среди людей связаны с эпизоотиями тарабаганов; ее так и называли — тарабаганьей. Но догадка, даже самая вероятная, — это еще не знание.
Врачи Решетников и Белявский дали точное описание тарабаганьей болезни. Она выражалась в сильной лихорадке, припухании желез, кровохарканье и почти всегда оканчивалась смертью. Симптомы, разительно сходные с признаками чумы.
Но разве мало болезней, очень похожих по своим проявлениям, вызывается совершенно различными возбудителями!
По пламени нельзя судить о причинах пожара.
Решетников, который за долгие годы своей работы наблюдал десятки вспышек тарабаганьей болезни и тщательно изучал ее распространение, был убежден, что гибельное заболевание возникает самопроизвольно в сухое лето или осень, в пору, когда трава выгорает, а высохшая земля покрывается трещинами.
«Не особая «самопроизвольная эпидемия», а чума, которой человек заражается от тарабагана», — думал Заболотный.
Но и сейчас это было лишь догадкой. А можно ли на основе недоказанной гипотезы пытаться строить фронт борьбы с одной из самых суровых опасностей, угрожающих человеку?
Надо было выделить из заболевшего или погибшего тарабагана жизнеспособную культуру чумного микроба и своими глазами увидеть ее. Только это позволило бы поставить знак равенства между чумой и тарабаганьей болезнью, доказать, что это не какое-то новое, неисследованное заболевание, а чума, способная передаваться от грызуна к человеку.
Вечером после поездки по степи Даниил Заболотный возвращался в свою походную лабораторию. От усталости дрожали руки. Лучше бы подождать до утра, но жаль потерять даже минуту. Он работал, тщательно препарируя и исследуя дневную добычу. Он стоял у самых хранилищ возбудителя чумы, но разгадка не давалась. Объектив микроскопа обшаривал пустыню препарата: десятая, сотая, а может быть, тысячная неудача.
Утром, с рассветом, Заболотный снова отправлялся за материалом. Он десятки раз пересекал бесконечную пустынную степь, осматривал каждую тарабаганью нору в поисках павших или заболевших грызунов. Как-то в маленьком кочевье Заболотный обнаружил заболевание, по всем признакам напоминавшее чуму. Ввел больному сыворотку и, убедившись, что состояние его улучшилось, взял мазки для микроскопического исследования. Во время работы над содержимым чумного бубона Заболотный сильно укололся иглой шприца. Капля крови выступила на коже.
Игла прошла глубоко; возможно, поток крови уже подхватил проникших микробов. Начинался непредусмотренный опыт самозаражения чумой.
«Опыт» — это слово промелькнуло в голове и, пожалуй, успокоило. Несколько раз повторил его вполголоса. Какую великую силу имеют привычные слова и привычные представления! Растерянность, овладевшая в первые мгновения, не исчезла, но отступила в подсознание.
Заболотный ввел себе шестьдесят кубических сантиметров противочумной сыворотки. Теперь оставалось ждать и наблюдать.
Ночью он заставил себя заснуть. Проснулся через час. Стояли на своих местах микроскоп, пробирки с питательными средами. Неужели он видит все это в последний раз?
Заболотный подошел к столу, чтобы написать прощальное письмо. С минуту он неподвижно сидел, наклонившись над листом бумаги, несколько раз перечитал первое слово, машинально выведенное карандашом. Было физически приятно разорвать листок — преждевременную капитуляцию перед смертью.
Хорошо, что в этот час никого не было рядом с ним.
Привычная, успокаивающая тишина господствовала в походной лаборатории. Заболотный поднялся и аккуратно собрал бумажные лоскутки.
Был ли он спокоен? Конечно, страшно даже подумать, что он может умереть именно сейчас, в самый разгар работы. И все-таки он не боялся, он просто не верил в роковой исход невольного эксперимента. Ему всегда казалось, что если болезнь побеждает жизнь, то это слабый побеждает сильного. Так бывает, но так не должно быть.
Опыт был случайный, он не был предварительно задуман, однако завершал большой и важный этап работы. Исследователь получил возможность проследить все течение болезни от момента заражения и тем самым предельно точно оценить надежность существующих методов лечения бубонной чумы.
К рассвету Заболотный уснул. Проснулся он от сильной головной боли. Лихорадило, во всем теле чувствовалась слабость, но сознание все время оставалось ясным. На пальце правой руки, в месте укола, появился небольшой гнойничок — пустула; рука болела. Измерил температуру — тридцать восемь и пять; пульс — сто.
По симптомам все очень походило на опыт Хавкина, но содержание эксперимента было совсем иным: не мертвые, а живые микробы действовали в крови. Заболотный подумал: несколько лет назад после такого случайного укола оставалось бы только ждать смерти. Это был бы действительно последний день осужденного на казнь. А теперь железы не прощупывались, не припухали, — обнадеживающий признак: ведь лимфатическая система — извечный путь чумы. Впрочем, окончательные выводы делать было еще рано; возможно, сыворотка задерживала развитие болезни, замедляла, а не пресекала ее.
Когда-то в Бомбее впервые был проведен опыт заражения чумой с последующим лечением сывороткой. Конечно, объектом служила обезьяна, а не человек.
Заболотный хорошо помнил, как волновался тогда Высоко-вич, руководитель русской медицинской экспедиции. Марианна, подопытная обезьяна, забилась в самый темный угол лаборатории и отказывалась от пищи.
Высокович почти не покидал лаборатории. Казалось, за немногие часы опыта он похудел и постарел, будто прошли долгие годы.
Один из лаборантов, понизив голос, сказал товарищу:
— Я не понимаю, как можно так нервничать!
Высокович расслышал, повернулся и резко ответил:
— А я не понимаю, как можно оставаться спокойным, когда идет опыт, от которого, в конце концов, зависят и ваши жизни, если уж вам безразличны судьбы множества неизвестных нам людей! У вас не спокойствие, а равнодушие!
Постепенно, очень медленно, Марианна выздоравливала. Было интересно наблюдать, как мутные, затянутые тусклой пленкой глаза зверька снова оживали и начинали блестеть.
Теперь, через много лет, Даниилу Заболотному вспоминался этот опыт, оказавшийся так тесно связанным с его собственной судьбой. Вспоминались каждая деталь, каждая минута, все мысли и чувства, пережитые тогда.
По существу, опыт продолжался. То, что было проверено и подтверждено на обезьянах, теперь испытывалось на человеке. В этом — основной смысл, значение происходящего. На карту была поставлена не только жизнь исследователя, но и судьба идеи, которой эта жизнь подчинена.
К вечеру стало ясно, что сыворотка действует отлично.
Сразу после выздоровления Заболотного «разведывательный отряд» соединился с головным, и экспедиция продолжала свое движение на восток.
От Пекина повернули на север. Через двенадцать дней караванного пути открылся Вейганский лес. Тут, спадая каменными волнами гор, оканчивается Монгольское плато. Среди лиственниц, елей и зарослей кустарников в Вейгане водятся лоси, дикие козы, фазаны. Весной и летом луга покрываются щедрой, почти альпийской растительностью. Вейган был любимым местом охоты императоров Китая.
Но местным жителям нелегко в этих краях. Ранней осенью из ущелий начинают дуть пронизывающие ветры. Они губят урожай, не дают вызревать фруктам. В глиняных хижинах с окнами, заклеенными бумагой, ютятся по десять — пятнадцать человек. И время от времени появляется болезнь. Ее называют по-разному: вэнь-и, вэнь-ци, вэнь-цзай, хэй-вэнь, но это одна и та же болезнь, вызываемая одним возбудителем.
Вернувшись на родину из экспедиции в Монголию и Китай, Заболотный подвел итоги первому этапу работы. Теперь было бактериологически доказано, что десятки чумоподобных болезней — вэнь-и, вэнь-цзай, хэй-вэнь, махамари, лобунга — вызываются чумным микробом; значит, вместо десятков различных направлений перед наукой было одно, и на нем она могла сосредоточить свои силы. Человек создал себе первое, пусть еще не вполне совершенное, оружие против чумного микроба — вакцину Хавкина, уменьшающую возможность заболевания, и противочумную сыворотку. Это еще не означало полного решения вопроса, но избавляло от прежнего ощущения бессилия. Фронт чумы был раскрыт на всем его огромном протяжении.
Кроме этой географии болезни, существовала еще догадка о том, как хранит земля микробы чумы, чумную инфекцию, через какие каналы передает ее человеку. Но пока еще только догадка. Она определяла главное направление исследований.
Догадку необходимо было обратить в точное знание.
ДОМА
Теперь, когда все это осталось в прошлом, можно мысленно представить себе весь ход работ — от Ветлянки и Бомбея до того момента, когда Даниил Заболотный, а за ним и другие ученые высказали предположение, что степные грызуны несут в себе чуму от одной эпидемии до другой. Если бы тогда к словам замечательного русского исследователя прислушались чиновники в правительственных канцеляриях Российской империи и других стран — возможно, удалось бы предотвратить последующие эпидемии и сохранить множество жизней.
Но работать приходилось почти в одиночку.
Иногда, раз в несколько лет, Заболотный позволял себе отложить дела и уехать в свою Подолыцину. Увидев наконец мазанки, утопающие в цветении садов, ощутив теплый ветер, так не похожий на резкое и жаркое дыхание степей Монголии или гор Хингана, Заболотный чувствовал, как он соскучился по родным местам. Мелькала мысль: хорошо бы сюда совсем, на всю жизнь! И такая тоска, такая нежность к родному дому наполняла грудь, что со станции Крыжополь он почти бежал, не останавливаясь, до самой Чеботаревки, до знакомой хаты с вишнями и яблонями вокруг.
Хата с каждым годом кажется меньше, она точно врастает в землю, но стены попрежнему такие белые, без единого пятнышка, с таким ясным голубоватым отливом, как будто в самое полнолунье месяц облил их серебряным светом. Вблизи хаты — пруд, и от берега к дому по невысокому склону поднимается сад; тут яблони, вишни и между старыми деревьями растут «Даниловы подарки», как называет их мать: приземистый монгольский вяз, — росток его, вырванный ветром, Заболотный нашел в пустыне Гоби во время песчаной бури, когда в жарком, наполненном песком воздухе задыхалось все живое и только вязы, склоняясь потемневшей листвой к земле, не сдавались раскаленному ветру; астрагал с желтыми соцветиями в перистой листве; крошечная пихта из Забайкалья.
В хате прохладно, сквозь закрытые ставни пробиваются полосы света. Вначале от этих ярких полос темнота кажется еще плотнее, но глаза привыкают: лежанка, печь, стол, сундук, прикрытый цветным рядном, выступают из темноты, вызывая целую толпу воспоминаний.
На столе в строгом порядке, точно он прикасался к ним только вчера, лежат листы гербария, коллекция птичьих яиц, собранная с таким трудом в степи и в камышах, книги. Заболотный вспоминает, как он прощался с этими своими богатствами двенадцатилетним мальчиком, когда после смерти отца Макар Сауляк, брат матери, приехал за ним, чтобы увезти в город и отдать учиться.
Первое путешествие и первое расставание с домом. Макар Сауляк показался тогда мальчику человеком строгим и неласковым. Позже, в годы учебы в Ришельевской гимназии в Одессе, Заболотный близко узнал и полюбил этого человека, выходца из народа, сумевшего ценой огромного труда получить высшее образование, стать агрономом и учителем, подчиняя всю свою жизнь завету Чернышевского: «служить не чистой науке, а только отечеству».
С Сауляком Даниил Заболотный в гимназические годы встречался не часто, а при встречах Макар Миронович обычно больше расспрашивал, приглядывался к племяннику, внимательно слушая его, пока однажды после долгого молчания не сказал:
— Да ты взрослый хлопец, Данила, можно с тобой и о настоящих людях поговорить.
Слова «настоящий человек» значили для Макара Сауляка очень многое. Это были Тарас Шевченко, которого Сауляк горячо любил и за стихи и за непримиримо прожитую жизнь; Чернышевский — «то самый большой человек на земле», — говорил Макар Миронович; Желябов — с ним Сауляк когда-то учился.
Заболотный стал получать от Сауляка толстые тома «Современника» за 1856 и другие годы, книги Белинского и Писарева, исследования Дарвина и Чернышевского. Вначале мысли, вычитанные из этих книг, воспринимались совсем отдельно от гимназической премудрости, потом все чаще стали вступать с ней в столкновение. Заболотный почувствовал себя совершенно так, как человек, долгие годы не выходивший из душной, маленькой комнаты и вдруг очутившийся на берегу моря или в степи, где синева неба сперва почти ослепляет, от ветра и чистого воздуха кружится голова и вокруг такое пространство, столько дорог открывается перед тобой, что ты долго стоишь притихший, придавленный окружающим простором.
По воскресеньям, спрятав книгу под гимназический мундир, юноша выбирался за город к лиманам, где можно было читать в полной тишине, не опасаясь помехи. Как-то раз он выписал из «Реалистов» Писарева слова, показавшиеся ему наиболее точным выражением продуманного за последние месяцы. «Вся его работа клонится только к одной цели, — писал о Рахметове Писарев, — уменьшить массу человеческих страданий и увеличить массу человеческих наслаждений».
Когда Заболотный прочел эти слова Макару Мироновичу, тот помолчал, покачал головой и, как обычно, неторопливо проговорил:
— А мне думается — не это самое главное в Рахметове и создателе его. Уменьшить массу человеческих страданий — дело долгое, надо прежде перераспределить горе и счастье. Твой батька всю жизнь был крепостным помещика Березовского, да и умер, не увидев радости. Моего брата в тюрьме замучили, и погиб он от чахотки — даже чистого воздуха не досталось ему вдоволь, а его вон сколько!
Однажды, лежа с книжкой на траве возле лимана, Заболотный почувствовал, что на страницы упала плотная тень, затем кто-то наклонился и положил на книгу узкую руку с подагрическими узлами на суставах. Юноша поднял голову и увидел инспектора гимназии, Карла Фридриховича Габбе.
На следующий день после уроков Даниила Заболотного вызвали к директору гимназии. Остановившись у дверей, Заболотный услышал металлически резкий голос инспектора:
— Если выходцу из крепостного сословия дозволяется сидеть рядом с потомственным дворянином, что из этого должно произойти?
Короткая пауза, и металлический голос убежденно заключает:
— Бунт, бунт, бунт! Больше ничего-с!
Когда Заболотный вошел в кабинет, инспектор взял со стола книгу «Современника», отобранную там, у лимана, и прочитал подчеркнутые Заболотным строки:
— «Никогда общественная нравственность не достигала такого высокого уровня, как в наше благородное время, — благородное и прекрасное, несмотря на все остатки ветхой грязи, потому что все силы свои напрягает оно, чтобы омыться и очиститься от наследных грехов».
Инспектор швырнул книгу на стол и, не передохнув, продолжал, с каждым словом повышая голос:
— Вы подчеркивали-с? Вы-с, не отрицайте, запирательство ни к чему не приведет-с. Как же прикажете понимать выражение: «наследные грехи» или «ветхая грязь»? Извольте отвечать!
Директор неподвижно сидел за столом и кивал головой в знак полного согласия со всеми словами инспектора.
Больше всего Заболотный в эти секунды заботился о том, чтобы не волноваться, во всяком случае не показать этому маленькому злому человечку, что он волнуется. «Выгонят из гимназии, ну и что ж, пусть выгонят». Он стоял, вытянувшись во весь рост, в гимназической куртке, аккуратно застегнутой до подбородка; рыжеватые волосы спускались на лоб, большие синие глаза, освещавшие все лицо, глядели поверх головы инспектора, куда-то на отлично начищенные ботфорты Александра Второго, изображенного на большом, во весь рост, портрете.
Чтобы взять себя в руки, Заболотный старался и говорить, как Макар Сауляк, медленно, сперва продумывая про себя, а потом уже произнося вслух, точно процеживая, отобранные слова:
— А разве наше время не благородное и прекрасное и разве общественная нравственность не достигла высокого уровня, как написано это в статье?
Маленький Карл Фридрихович Габбе стоял совершенно в такой же позе, как Александр Второй на портрете, с рукой, заложенной за борт мундира; ботинки его были начищены совершенно с той же тщательностью, как императорские ботфорты, и казалось, что «государь-освободитель» на погруженном в темноту портрете представляет собой просто тень потомственного дворянина из прибалтийских немцев, инспектора Ришельевской гимназии, до сих пор 19 февраля надевающего траур в память о 1861 годе.
— А вам известно, кто сию статью написал? — допрашивал инспектор.
— Известно. Николай Гаврилович Чернышевский.
— А вам известно, что поименованный вами государственный преступник Чернышевский суть бунтовщик? Что он подвергнут гражданской казни на Мытнинской площади в Петербурге и осужден на каторжные работы и вечное поселение в Сибири за злоумышление к ниспровержению существующего порядка? Известно?
Заболотный молчал.
— А читать злоумышленника не есть ли также посягательство на ниспровержение существующего строя?..
Заболотный шагнул вперед, взял брошенный инспектором том «Современника», развернул на последней странице, там, где стоит подпись цензора, и протянул книгу инспектору.
— «Печатать позволяется», — вполголоса прочитал инспектор.
— Я думал, что раз дозволено цензором... — внятно сказал Заболотный.
Но окончить фразу ему не удалось.
— Молчать! — крикнул Габбе. — Вон из кабинета, в следующий раз это вам так не пройдет!
К мысли Чернышевского о благородном и прекрасном времени Даниил Заболотный много раз возвращался в разговорах с Макаром Сауляком и в гимназические годы и после, когда, окончив гимназию, стал студентом-естественником, «лягушатником», как тогда их называли.
— Этого нельзя объяснить, а надо самому почувствовать, — говорил Макар Сауляк юноше. — Время благородное и прекрасное, несмотря на весь мрак, окружающий нас, потому что с тех лет, когда начали свою деятельность Белинский и особенно Чернышевский, формируется, пусть пока только в самых честных и сильных головах, сама будущая Россия: непримиримая мораль ее, наука, глядящая далеко вперед, идеи справедливого общественного строя. Все пересматривается, видится в новом свете, а очень многое просто впервые видится.
Заболотный внимательно выслушал эти слова, но понял их далеко не сразу. По складу мышления, по всем своим интересам он был исследователем природы, ученым, и из многого, очень важного, что совершалось в эти годы в стране, в общественном мышлении, первыми в его сознание вошли изменения в науках, особенно в естествознании.
— Возникает наука, умеющая глядеть далеко вперед, — говорил Сауляк.
Заболотный всем сердцем воспринял справедливость этих слов.
Старая наука разделяла мир природы на сотни малых мирков, наглухо отделяя их друг от друга. Дарвин сумел увидеть картину природы в целом, увидеть и исследовать все те переплетающиеся связи, без которых нет живой природы, нет жизни. В грандиозном здании дарвиновского эволюционного учения Заболотного привлекали прежде всего метод исследования, умение, не препарируя живое на сотни мертвых частей, обнажать законы существования природы. Он залпом, не отрываясь, прочитал «Происхождение видов» и, отложив книгу в сторону, сам себе задал вопрос: какая глава в этом гениальном труде произвела на него наибольшее впечатление? И, не задумываясь, ответил: конечно, та, что озаглавлена «Сложные соотношения между всеми животными и растениями в борьбе за существование». Он помнил ее почти наизусть.
Среди многого другого в этой главе Дарвин писал, что когда на вересковых полях Сэррея в Шотландии, близ Фармана, владельцы начали огораживать большие участки равнины, скот перестал вытаптывать самосевную сосну и огороженные пространства за несколько лет полностью изменили свой облик: вереск был побежден и вытеснен молодым лесом, появилось двенадцать видов новых растений, множество не обитавших раньше в этих местах насекомых и вслед за этим — новые виды насекомоядных птиц.
В Шотландию Заболотный попал только через много лет: в Глазго вспыхнула чума, и русского ученого позвали на помощь. Тогда не было времени выезжать в Сэррей и наблюдать борьбу вереска с лесом. Но и без того простой дарвиновский пример цепных связей, существующих в живой природе, запомнился на всю жизнь. Он говорил о том, что природа меняется, что каждое явление природы бесчисленными связями соединено со всем окружающим нас живым миром.
Впрочем, Чернышевский, пусть даже еще пока не до конца понятый (это приходило и пришло постепенно), и Писарев научили видеть в дарвинизме нечто отличное и большее, чем то, что заключалось в самых книгах Дарвина. Закон эволюции животного и растительного мира отзывался в душе Заболотного мыслью о том, что можно не только наблюдать естественную эволюцию, но и менять природу. Заболотный и служил этому великому делу изменения природы, всю жизнь преследуя холеру, дифтерию, сифилис, выслеживая, преследуя и уничтожая чуму.
Новороссийский университет в Одессе, где Заболотный учился, переживал в то время эпоху расцвета. Еще недавно тут преподавали Сеченов и Мечников. Университет бережно хранил традиции великих русских естествоиспытателей. Тут читали лекции физик Николай Умов, знаменитый естествоиспытатель Александр Ковалевский. Эти профессора воспитывали студентов на ясных материалистических идеях, учили во внешнем мире искать причины внутренних изменений, как делал это Сеченов, доказывавший, что внешний мир определяет характер высшей нервной деятельности животных и человека, как Мечников и Пастер, которые выяснили роль внешнего мира в возникновении и распространении болезней.
Студенты старших курсов рассказывали, что одну из своих лекций Мечников начал словами:
— Существует болезнь, при которой у человека происходит сужение поля зрения. Сперва он видит все окружающее, потом вокруг глаз как бы возникают шоры. И, наконец, он различает впереди только одну светящуюся точку.
Помолчав и зорко оглядев аудиторию, Мечников закончил:
— Если некоторые исследователи добровольно обрекают себя такой болезни, интересуясь только своей узкой специальностью, только одним своим объектом наблюдений, то можно твердо предсказать, что ничего действительно великого и действительно важного для человечества они не создадут.
Став врачом микробиологом и эпидемиологом, Заболотный никогда не забывал предупреждающих слов великого ученого.
Теперь Заболотный не только слушал лекции и проходил учебные практикумы в лабораториях, но начинал пробовать свои силы и в самостоятельных научных исследованиях. Еще гимназистом, на берегу одесских лиманов, он наблюдал своеобразное свечение воды. Над спокойной поверхностью лиманов разливалось слабое сияние; прозрачная пленка света ложилась на воду, как бывает перед самым рассветом или в полнолуние, когда свет месяца просеивается сквозь завесу облаков. Выяснение причин свечения лиманов явилось темой первой научной работы Заболотного.
Он проводил в мечниковской лаборатории весь день с утра до поздней ночи, отрываясь от окуляра микроскопа, только когда зрение отказывало и перед глазами, заслоняя препарат, возникали бесчисленные цветные круги.
Одноклеточные растения и простейшие животные наблюдались в капле воды, затем фиксировались, окрашивались, и вот наконец в сотнях препаратов раскрылась жизнь микроскопического населения лиманов и было доказано, что свечение вызывается особой инфузорией, еще не описанной в науке.
Заболотный тщательно зарисовал эту «свою» инфузорию, смотрел на нее с нежностью, долго разглядывая под микроскопом реснички, ядро и ядрышко. От работы по изучению светящейся инфузории из одесских лиманов, этого первого самостоятельного исследования, у Заболотного надолго остались хорошие воспоминания.
В 1889 году за участие в студенческих беспорядках Заболотного исключили из университета и арестовали. В одиночной камере одесской тюрьмы, еще не зная, что впереди — ссылка в Сибирь или освобождение, Заболотный продумывал свой жизненный план. В то время эпидемии холеры ежегодно поражали Азию и Европу. Кох, Вассерман, Клемперер пытались, получив от больного холерой человека культуру микробов, заразить ею лабораторных животных и создать как бы действующую модель болезни. Сделать это не удавалось. А только умея вызывать экспериментальную холеру, можно сознательно, по плану, а не вслепую разрабатывать методы борьбы с этой опасной болезнью.
Конечно, было бы интересно продолжить изучение светящихся инфузорий, выяснить причины, вызывающие периодическое увеличение и уменьшение в воде лиманов массы микроорганизмов, своеобразные световые приливы и отливы. От этой темы открывался прямой путь к целой цепи исследований, выявляющих роль неисчислимых масс бактерий и одноклеточных простейших в круговороте веществ. Но это, во всяком случае, сейчас не «самое важное», а Заболотный был убежден, что человек имеет право отдавать свои силы только тому, что жизненно необходимо народу.
В камере номер 35 было сыро. Узкое окошко пропускало совсем немного света. Только иногда, даже не на минуту, а на доли минуты, солнце останавливалось прямо напротив окошка. Но вскоре свет гас. Серый полумрак заполнял камеру. В подполье начинали возиться крысы. Иногда самая смелая бесшумно выбиралась на середину камеры и внимательно оглядывала сотоварища по заключению. Заболотный ласково звал ее: «моя сусидка», и крыса делала несколько шажков вперед. От сырого воздуха камеры у заключенного начинался мучительный кашель. Крыса пугалась и сразу исчезала.
Кашель все усиливался. По ночам Заболотный метался в жару, просыпался мокрый от пота, совсем обессилевший. Тюремный врач, человек спокойный и ко всему на свете равнодушный, сообщил начальству, что студент (он называл Заболотного не по имени, а только так) в тюрьме умрет наверняка, да и на воле вряд ли ему суждена долгая жизнь. Только после этого предупреждения дело заключенного из камеры номер 35 вытащили из-под спуда.
Обыск ничего не дал, улик не было, если не считать пожелтевшего листка с доносом, написанным еще инспектором гимназии Карлом Габбе. Известно было только, что Даниил Заболотный участвовал в студенческих беспорядках; по агентурным сведениям, этого студента очень любят товарищи и на сходках он позволяет себе «смелые и возмутительные речи»; в чем именно заключается «смелость и возмутительность» речей, агенты сообщали крайне невнятно. Словом, сколько-нибудь доказательного материала для процесса не находилось; а тут еще опасная болезнь и возможность смерти в тюрьме. В городе и так неспокойно, — легко представить себе, какой поднимется шум, если заключенный умрет.
Прежде чем окончательно решить вопрос о судьбе заключенного, в жандармское управление вызвали тюремного врача.
— Так вы говорите, что у Заболотного со здоровьем... так сказать, не совсем... — Начальник управления был известен в городе как человек в некотором роде мягкий, не терпящий словесной грубости и, по возможности, избегающий выражений резких и определенных. — Не совсем... благополучно, — договорил начальник, улыбаясь тому, что нужное слово найдено.
— Хуже нельзя, — решительно ответил врач. — Болезнь развивается остро, да тут еще крайнее истощение. Словом, в таких случаях остается надеяться на бога.
— А если Заболотного освободят? — спросил начальник.
— Освобождение — прекрасное лекарство, но по отношению к студенту его надо было применить гораздо раньше.
Через несколько дней после этого разговора Заболотный был выпущен из тюрьмы. В университете ему сообщили, что на восстановление в ближайшие месяцы надежды нет. Зато в мечниковской лаборатории друзья Мечникова Бардах и Гамалея приняли Заболотного по-настоящему дружески.
Заболотный подробно рассказал руководителям лаборатории о своих замыслах, окончательно определившихся во время болезни. Прежде всего, говорил он, надо найти животное, восприимчивое к экспериментальной холере. Почему не поработать с Spermophilus guttatus — сусликом? Суслика легко заразить куриной холерой и туберкулезом; можно предполагать, что он окажется достаточно восприимчивым и к холерному вибриону [Вибрион — бактерия, имеющая форму спирально изогнутой палочки, запятой. Холерный вибрион — возбудитель холеры.].
Слушая, Гамалея внимательно смотрел на похудевшее лицо юноши. Большие глаза провалились и светились из глубины, как огни в тоннеле.
— Мне кажется, — сказал Гамалея, — что вы сами сейчас нечто вроде «действующей модели болезни». Вам не работать надо, а...
Заболотный ждал такого возражения и боялся его. В глубине души ему казалось, что достаточно слечь, один раз признать власть болезни над собой, и кто знает, когда удастся вернуться к настоящей, активной жизни и удастся ли вообще.
— Поехали бы в Чеботаревку, — договорил Гамалея.— Даю вам слово, что Spermophilus guttatus подождет вас.
— Нет, — перебил Заболотный. — Если даже думать только о моем здоровье, то для меня сейчас самое важное — забыть обо всем, что случилось в последнее время.
— Даже о болезни?
— В первую очередь о болезни. Я должен убедиться, что у меня еще есть силы.
Подумав, Гамалея разрешил начать опыты. Попробовав разные способы заражения подопытных животных, Заболотный остановился на том, который больше всего напоминал естественный путь микроба из внешней среды в организм. Овес смачивали живой культурой холерных вибрионов и зараженный корм давали сусликам. Через несколько часов появлялись первые признаки заболевания, после чего развертывалась классически ясная картина холеры. До сих пор холерные эпидемии можно было наблюдать только в перенаселенных городах, причем причины, вызывающие эпидемию, не были точно известны.
Теперь экспериментатор заставил холеру бушевать в клетках с лабораторными животными.
Исследователь мог воссоздавать болезнь; надо было научиться так же уверенно останавливать ее.
Заболотный работал много, но как-то почти не уставал, чувствовал себя гораздо лучше, да и всем окружающим было заметно, что больной окреп и находится на верном пути к выздоровлению.
После долгих колебаний университетское начальство решилось наконец позволить Заболотному окончить курс обучения. Опыты в мечниковской лаборатории были перенесены на более поздние часы, но не замедлились и не прекращались ни на один день. В поисках путей к иммунизации подопытных животных Заболотный исходил из идеи своего великого земляка Данилы Самойловича: введение ослабленного яда вооружает организм для сопротивления против действия сильного яда. Ослабленный яд исследователь получал, убивая культуру холерных вибрионов.
И тут возникла новая мысль. Холерные вибрионы проникают через рот, вместе с пищей. Путь инфекции совершенно ясен. Прежде всего надо попробовать заградить эту дорогу, создать местный иммунитет, сделать так, чтобы уже в самом начале пути холерный вибрион встретил подготовленное сопротивление и был уничтожен.
У Заболотного родилась идея проводить иммунизацию через рот, рег оз, как потом по-латыни стали называть этот родившийся на Украине замечательный метод предупреждения болезней.
Вначале иммунизировались те же суслики, животные, наиболее восприимчивые к холере. По сияющим глазам Заболотного Гамалея понял, что планы молодого ученого идут гораздо дальше спасения нескольких сусликов; обеспокоенный, он сам начал серьезный разговор:
— То, что вами задумано, надо отложить. Вы только что обманули смерть, да и неизвестно, окончательно ли обманули, и собираетесь снова заигрывать с этой дамой. Помните, что она не так уж неприступна, Даниил Кириллович.
— Я ничего не задумал, — упрямо покачал головой Заболотный.
— Такие глаза бывают у человека, только когда он влюблен или когда готовится к очень большому шагу в науке... А вернее, когда обе эти причины совпадают.
Заболотный молчал, самим молчанием подтверждая правильность диагноза.
— Что ж, могу только пожелать вам и Людмиле настоящего, долгого счастья. А что касается второго вопроса... Я думаю, что вы имеете право провести опыт на себе, но к такому делу надо подойти, продумав все до конца. Начните опыт, когда будете убеждены сами и сможете достаточно убедительно доказать окружающим, что здоровье ваше до опыта находилось «в норме», что вы не были заражены опасными для жизни массами других микробов. Подождите, пока наступит такое время. Иначе опыт просто ничего не даст.
— Хорошо, я подумаю, — ответил Заболотный прощаясь.
— Подождите немного, — остановил его Гамалея, — недавно мне прислали интересный документ из Америки. Я перевел одну страничку. Мне кажется, она должна вас заинтересовать.
Гамалея протянул Заболотному листок линованной почтовой бумаги.
Страничка была озаглавлена: «Переписка генерала Амгерста, губернатора штата Новая Шотландия, и полковника Букета».
Из письма генерала Амгерста: «Нельзя ли попытаться распространить оспу между индейскими мятежными племенами? Нужно использовать все способы, чтобы их покорить».
Из письма полковника Букета: «Я попробую распространить оспу посредством одеял, которые мы найдем способ им передать».
Из письма генерала Амгерста: «Вы хорошо сделаете. Нужно распространить таким способом оспу и воспользоваться всеми иными средствами, чтобы уничтожить эту отвратительную расу».
Дважды перечитав текст, Заболотный поднял глаза, выражавшие растерянность и удивление.
— Что это... это правда? — спросил он.
— Как видите, — сказал Гамалея, — характер нашей науки меняется. Существование генералов Амгерстов и полковников Букетов обязывает быстрее создавать средства обороны. Если сегодня генералу понравилась оспа, завтра он может потребоватьприменения холеры или чумы. К сожалению, такие вещи кажутся немыслимыми только до ознакомления с этой любопытной перепиской. И уничтожив одну, как он пишет, «отвратительную расу», завтра генерал может задуматься о целесообразности расширения опыта. Способ борьбы против Амгерста и Букета один — человек должен стать сильнее смерти. Если для этого необходим опыт на себе — что ж, в таких случаях совершить его не только позволительно, но просто обязательно для исследователя. Повторяю, при одном только обязательном условии: опыт должен утвердить идею, а не скомпрометировать ее...
Заболотный продолжал эксперименты на животных, терпеливо ожидая момента, когда можно будет на себе проверить действенность нового метода иммунизации, утвердить свою идею. Теперь, после окончания естественного факультета в Одессе, он переехал в Киев, чтобы получить медицинское образование. Подопытные животные вместе с ним перебрались из мечниковской лаборатории в киевскую лабораторию профессора Подвысоцкого.
Здоровье за эти месяцы значительно улучшилось; организм не был заражен массами других микробов, значит опыт можно было больше не откладывать. Савченко, товарищ по Киевскому университету, решил тоже участвовать в эксперименте.
— Если опыт будет проведен на одном человеке, он никого не убедит, — говорил Савченко.
Заболотный согласился с доводами товарища.
Сделав прививку убитыми вибрионами и выждав необходимое время, Заболотный и Савченко выпили разводку живых микробов холеры, убивающую силу которых предварительно проверили в десятках опытов на кроликах и морских свинках.
Выпили, чокнувшись пробирками, как бокалами с вином.
— За жизнь! Так, что ли, хлопчик? — не улыбаясь, сказал Заболотный.
Вечером они сидели у окна лабораторного изолятора.
— Тебе страшно? — спросил Савченко.
Заболотный некоторое время помолчал, тщательно обдумывая ответ.
— Все окончится благополучно, — сказал он через несколько секунд. — Ты знаешь, мне вообще кажется, что неправильно, даже унизительно для науки думать, будто исследователи, которые ведут опыт на себе, сознательно идут на смерть, готовятся к смерти. Я уверен, что каждый врач, начиная экспериментировать, глубоко верит в свою гипотезу, в действенность иммунитета. Верит всей душой. Может, конечно, быть ошибка, но ее не должно быть. Я знаю, что все окончится благополучно.
Кролики, зараженные той же культурой холерного вибриона, погибли через восемнадцать часов, а у Заболотного и Савченко даже не повысилась температура: иммунитет, вызванный прививкой убитых вибрионов, действовал!
...Начало пути. В памяти возникают трудные и радостные годы. Лабораторные опыты, а вслед за этим проверка полученных результатов, использование их в экспедициях, на эпидемиях, в практической врачебной работе. Эпидемия холеры в Одессе, возвращение на свою родную Подольщину, где дифтерия гуляла по селам, местечкам и городам, кося тысячи детских жизней. И прежде чем применить единственное средство защиты — новую, только недавно появившуюся противодифтерийную сыворотку, — надо проверить ее, а для этого заразить себя (тут уже нет времени для долгих размышлений и опытов на животных). Потом экспедиция в Индию, когда рождается мысль о возможности полной победы над чумой, и осуществление этой мысли становится главной целью всей жизни.
...В хате уже темно. Голос Макара Сауляка — он тоже гостит в Чеботаревке — отрывает от воспоминаний..
— Что ж ты, хлопчик, — говорит Макар Миронович (для Сауляка Даниил Кириллович, верно, навсегда останется хлопчиком),— хоть бы пошел на сад поглядеть.
Вооружившись лопатами, они отправляются в сад. Жаль, что приходится вскоре отрываться от работы, — мать зовет ужинать.
Вечером мать спросит осторожно, будто это и не очень интересно, а говорится так, к слову:
— Надолго ли?
Даниил Кириллович ответит, что на месяц, может быть на два, и, словно убеждая себя, добавит:
— Надо отдохнуть. По-настоящему отдохнуть!
Но проходит неделя или две. Ночью он лежит без сна. В воображении перед ним возникают кочевья, палатки, переполненные больницы... Такая непреодолимая тревога охватывает сознание, что сейчас бы собраться и уехать. Ведь на учете каждый человек и каждый день! Может быть, пока он здесь, где-либо близ границ России — в Тибете или Индии, в Аравии или Китае — снова вспыхнула эпидемия.
И вот опять поезд везет его на север, из Подолыцины в Петербург. И время: приближаются события, которые потребуют участия всех лучших Сил русской науки.
В ПОИСКАХ „ТОГО, ЧЕГО НЕТ"
В начале двадцатого века чума появилась в Одессе. Отрядом врачей, защищавших город, руководил друг и учитель Заболотного Николай Федорович Гамалея. Имя Гамалеи уже в ту пору было связано с замечательными достижениями науки. Он был участником победоносной борьбы с одной из самых опасных болезней и с ее союзниками — реакционными учеными Америки, Франции, Австрии, Португалии и других стран.
Хочется напомнить, как это произошло.
Луи Пастер разрабатывал свой метод предохранительных прививок против бешенства. Он торопился как никогда прежде. Ведь в те времена человек, которого укусила бешеная собака или волк, был обречен, никакие силы уже не могли спасти его. А тут открывалась такая чудесная возможность вытеснить смерть из этого ее гнездовья!
Опыт сменялся опытом. Все подтверждало правоту исследователя. Казалось, от многочисленных, превосходно удавшихся экспериментов на животных можно переходить к спасению обреченных людей.
— Не надо спешить, учитель, — как всегда спокойно, не повышая голоса, говорил суховатый и сдержанный доктор Ру.
— Но ведь задача решена! — отвечал Пастер.
— Даже если она решена на девяносто девять процентов, остается еще один процент. Что скажет он? Не вскроет ли он ошибки? Наука терпелива — разве не в этом главная ее сила?
— Терпеливы вы, а не наука. Подумайте о том, что людей, которые умрут сегодня, завтра не спасешь!
Вопреки советам своих учеников, Пастер начал производить прививки людям.
Успех сопутствовал новому методу лечения.
Но на десятки случаев полного излечения приходилось несколько таких, когда больной, несмотря на прививки, погибал. Враги Пастера ухватились за эти неудачи:
— Вы утверждаете, что больной погибает, несмотря на прививки. Докажите, что не благодаря им. Ваши прививки не мешают болезни, а помогают ей!
Теперь Пастер мог вспомнить спокойные, тщательно взвешенные слова доктора Ру: «Вы еще раскаетесь в своей торопливости».
Но он не хотел раскаиваться. Может быть, это были самые трудные, но и самые счастливые дни его жизни. Ведь он знал, что люди, которые каждый день приходили и приезжали со всех концов мира в Париж, в лабораторию на улице Ульм, без его лечения были обречены на гибель.
Он не желал отступать. А люди, ненавидевшие науку, готовились к бою. Как в засушливых степях из глубин земли по капиллярам поднимаются иногда горько-соленые воды, пробираются к корням деревьев, губят поля — и вот уже на черном, мертвом пространстве виднеются только тускло-серебряные пятна солончаков, — так и здесь из монастырских келий, из академических лабораторий, университетов Австрии, Франции и других стран, веками связанных с католической церковью, поднимались силы, враждебные передовой науке.
Профессор Петер был женат на сестре жены Пастера. Родственник Пастера и величайший враг его. Мог ли он простить природе, что она так несправедливо разделила между ними дарования, и мог ли упустить случай, чтобы не отомстить за эту «несправедливость»?!
То, что Петер — злейший враг Луи Пастера, было известно далеко не всем. А организаторы заговора против передового ученого отлично понимали, что для общества будет выглядеть куда убедительнее, если удар нанесет именно родственник.
Петер произносит свое обвинение. Он подтасовывает цифры, превращая белое в черное, — коллеги, товарищи по профессии, простят ему; печать тоже за него.
И, разумеется, он не одинок. Из-за границы к Пастеру приезжают гости. Среди них профессор Фриш, известный представитель венской медицинской школы.
Профессор Фриш ходит по лаборатории, наблюдает, расспрашивает, внимательно слушает.
О, конечно, у господина Фриша одно желание — перенять методику и повторить опыты Пастера у себя на родине. Он заранее убежден в успехе, но лучше проверить еще раз, убедиться собственными глазами. Не так ли?
А вслед за Фришем приезжают профессор Спичка из Америки, молчаливый португалец Абрео, де Ренци и Аморозо из Италии.
И через некоторое время в научной печати начинают появляться статьи, написанные гостями Пастера. Венская, американская, португальская и итальянские медицинские школы присоединяются к врагам Пастера. Весьма солидные ученые статьи оставляют только одно сомнение у читателей: что защищают эти люди — человечество от болезней или болезни от человечества?
Темный мир идет за Петером, враг Луи Пастера считает себя победителем.
Впрочем, не рано ли?
Среди гостей Пастера есть еще один иностранец. Его даже трудно считать гостем. Он приходит в лабораторию раньше всех, так что служитель, чувствующий к нему особенную симпатию, называет его «мосье ле Матэн», что значит «господин Утро». Он мало расспрашивает, но зато каждое слово проверяет, и проверяет опытами. Он уходит из лаборатории последним, а потом допоздна сидит в библиотеке. Выйдя из читального зала, он бродит по бульварам, по набережной Сены и возвращается каждый день лишь к ночи, так что привратник думает: «Этот молодой человек — гуляка, хотя, если судить по внешности, он совсем не похож на гуляку».
У него мужественное, волевое лицо, а за стеклами очков светятся очень внимательные глаза.
Это Николай Гамалея. Одесское общество врачей, по рекомендации Ильи Ильича Мечникова, послало его в Париж, поручив ему изучение и дальнейшую разработку метода прививок против бешенства.
Этим он и занят в Париже. В голове его, правда, теснятся десятки собственных замыслов, но он пока отказывается от них. Раньше надо выполнить поручение родины: изучить и дать русским людям этот замечательный способ борьбы с опасной болезнью.
А доведется ему не только изучить, но и усовершенствовать новый метод.
Он не только перенесет его в Россию, но и отстоит для всего мира, вопреки Петеру, Фришу, де Ренци, Абрео и Аморозо.
— Я утверждаю, что смерть при столь странных симптомах после прививок Пастера — прямой результат прививок! — настойчиво повторяет Петер. — Я утверждаю!
Он стоит на кафедре, гордо откинув голову, прислушиваясь к своему голосу и любуясь собой, маленький подлый человечек, уверенный, что победил Пастера, что Пастер никогда не оправится от раны, которую ему нанесли сегодня.
В этот день Николай Гамалея долго не возвращался домой. Он бродил вдоль Сены, по набережной Букинистов, и полицейский, охранявший порядок на этом участке, следовал за ним по пятам. Полицейский был взволнован: «Кажется, молчаливый гуляка решил покончить с собой. Пусть! Но почему именно в ночь моего дежурства и именно в моем районе?»
Он окликает прохожего и, когда тот оборачивается, прикладывает руку к форменной фуражке:
— Следует ли так долго смотреть на воду, мосье? От этого появляются дурные мысли.
Николай Гамалея вежливо отвечает:
— А вы не думаете, что могут появиться и хорошие мысли?
— О, разумеется! Значит, вы не собираетесь прыгать в воду? Я спрашиваю по долгу службы и потому, что каждый утопленник — служебная неприятность здесь, на земле, и грех, за который, как-никак, придется отвечать и там, на небе.
Думает ли он покончить с собой? Не заглянул ли в его мысли этот полицейский, чтобы так искаженно и нелепо перевести их на свой язык? Но то, что он задумал, можно назвать чем угодно, только не самоубийством. И если суждено ему принести маленькую неприятность, то уж никак не полицейскому.
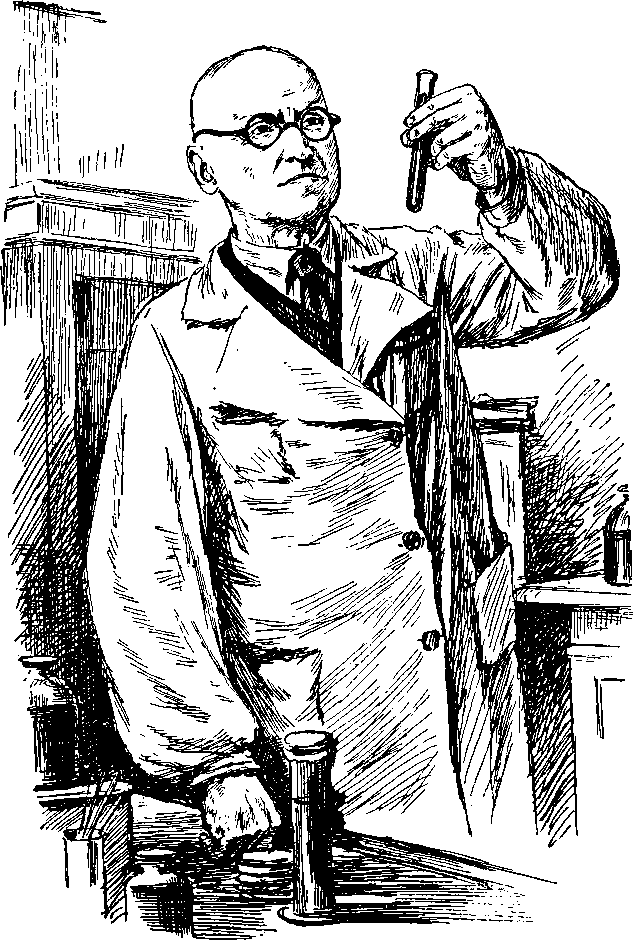
Николай Федорович Гамалея.
Николай Гамалея продолжал свою ночную прогулку.
Чужбина! Здесь он одинок. Он может посоветоваться только с самим собой. А все решить надо сегодня, не откладывая. Если его спросят, убежден ли он, что методика прививок, применяемая сейчас, полностью безопасна не только на девяносто девять, но и на тот сотый процент, о котором говорил доктор Ру и из-за которого Ру разошелся с учителем, то Гамалея без колебания ответит:
— Этого еще Нельзя сказать. Прививки — огромное и прекрасное благодеяние для человечества. Но методику, применяемую Пастером, надо и можно улучшить, чтобы сделать ее безопасной и действенной на сто процентов.
Значит ли это, что нужно последовать совету осторожных и отказаться от прививок?
Разумеется, нет! Поступить так — значило бы потерять право называться не только ученым, но и просто человеком. Пусть сейчас, спасая десятки больных, это средство одного не спасет или даже повредит одному. Что же, сотнями жизней пожертвовать из-за одной? Ждать?
— Вздор и чепуха!
Он произносит эти слова так громко, что полицейский оглядывается и беспокойно ждет: может быть, мосье передумал и все же бросится в Сену? Сейчас столько самоубийств, и почему-то все эти разочаровавшиеся в жизни люди избрали именно его участок — набережную Букинистов, где бродят тени несчастных влюбленных и голодных, о судьбах которых рассказано в старых книгах.
Прохожий шагнул в сторону от парапета, и полицейский успокоился.
А Николай Гамалея продолжает свои думы.
Пусть опасность есть, — тем важнее доказать, что она невелика.
Одесское общество врачей послало Гамалею, чтобы он изучил и перенес в Россию новое завоевание медицины. Задача его усложнилась: надо прежде отстоять это завоевание, закрепить его, довершить то, что начато Пастером. Значит, и поступить он обязан так, как подсказывают изменившиеся условия. Прежде всего необходимо проверить «смертельный», по словам Петера, интенсивный метод прививок против бешенства. Испытать на себе. Ведь именно так в трудных для науки случаях поступают русские ученые.
Наутро Николай Гамалея, как всегда, раньше всех появляется в лаборатории. Он приступает к опыту, задуманному и решенному накануне ночью. Первым из ученых мира он проверяет действие на организм здорового человека пастеровских прививок, относительно которых столько ученейших профессоров в стольких научных столицах пришли к почти единодушному выводу, что они, эти прививки, ядовиты и опасны, даже смертельно ядовиты и опасны.
Опыт оканчивается успешно. Прививки не причиняют вреда Николаю Гамалее, и он выходит победителем в борьбе с вирусом бешенства и ученейшими коллегами, нанеся первый удар врагам передовой науки.
Но этого мало. Он изучает все материалы и убеждается, что ученейшие коллеги просто не владеют основами науки, судьбы которой пытаются определять. Оказывается, у синьоров Аморозо и де Ренци в прививочный материал «по недосмотру» попали посторонние микробы; не они ли вызывали смерть подопытных животных? А молчаливый португалец столь нечисто, без соблюдения самых простейших правил стерильности, проводил операции, что хотя животные умирали, когда в кровь им вносился прививочный материал, но столь же часто они гибли и без всяких прививок, только от прикосновения ланцета португальца.
Так Николай Гамалея терпеливо разбирает, одно опровержение за другим и наносит второй удар реакционной науке Запада, друзьям Петера и самому Петеру.
Гамалея переносит новый метод в Россию, видоизменяет и совершенствует его, вследствие чего смертность после прививок снижается с семи процентов до шестидесяти одной сотой процента, то-есть в одиннадцать раз.
Тогда с кафедры Французской академии оглашается очень любопытная статистическая таблица:
Париж — 50 прививок, 7 смертных случаев
Москва —16 » 0 » »
Самара—14 » 0 » »
Одесса — 39 » 1 смертный случай
И француз, профессор Бруадель, с горечью за свою страну говорит:
— Посмотрите на Одесскую лабораторию! Русские ученые, более уверенные, не знают неуспеха. Может быть, потому, что они свободны в своих действиях и мирно работают, не заботясь о самозащите против ежедневных ожесточенных нападений.
Конечно, странно звучат в 1887 году эти слова о свободе в России. Но ведь речь идет не о царской России, а о той молодой, прогрессивной России, которой принадлежало будущее, которая и тогда, в годы царизма, являла миру подвиги высокой чести и доблести. Молодая Россия и тогда пробивалась, собиралась с силами, чтобы сказать свое решающее слово во всех науках.
Вот что было в прошлом у Николая Гамалеи, когда в 1901 году чума появилась в Одессе и ему поручили возглавить борьбу с надвигающейся эпидемией.
Казалось, на этот раз опасность не очень велика. Только два случая чумы. Во-время изолировав больных и тщательно наблюдая за окружающим населением, Гамалея вместе с другими врачами пресекает распространение болезни.
По правде сказать, в канцелярии одесского градоначальника были даже обрадованы неожиданным происшествием. В мирное время одержана блистательная победа, да еще над таким опаснейшим противником! Об этом можно донести в Петербург, а там подвиг не должен остаться незамеченным.
В ожидании награды деньги, отпущенные на научные изыскания по чуме, расходовались на издание роскошного тома. В нем были помещены портреты правителей города: графа Воронцова, генерал-адъютанта Сипягина и цветные изображения крыс — разносчиков заразы.
Градоначальника несколько беспокоило это сочетание: граф, генерал-адъютант в полной парадной форме, при всех орденах — и вдруг крысы. Но ему доложили, что тут заключена аллегория: победители и поверженные. Выражение «победители и поверженные» понравилось градоначальнику. Он ходил по просторному кабинету, заложив руки за спину, и повторял эти многозначительные слова.
О том, чтобы дать портреты Гамалеи и его помощников, действительных победителей одесской чумы, разумеется, никто и не думал.
Деньги израсходованы, а они нужны были сейчас больше чем когда бы то ни было. Когда Гамалее передали слова градоначальника, он сердито возразил:
— Если есть в этой истории поверженные, так это те, кто погиб от чумы. И они еще будут, будут, как бы ни хотели забыть об этом «победители» в переплете из свиной кожи!
В канцелярии градоначальника о Николае Гамалее отзывались теперь неодобрительно. Чума ликвидирована, в городе все спокойно и нечего искать несуществующую инфекцию. Кто-то из канцеляристов придумал хлесткую фразу: «Человек, который ищет то, чего нет».
Потом эту фразу много раз повторяли и в Одессе — о Гамалее, и в Петербурге — о Заболотном, и в Астрахани — о Деминском: «Люди, которые ищут то, чего нет».
Исследования пришлось бы приостановить, но, к счастью, у Гамалеи были помощники-добровольцы; они согласились работать за гроши, а если понадобится, то и бесплатно.
В Одесском порту Гамалея изучал историю всех кораблей, побывавших в наших водах перед началом эпидемии. Корабль «Мария-Терезия», принадлежавший пароходному обществу «Австрийский Ллойд», совершил рейс Александрия — Константинополь—Одесса. На борту его были отмечены тяжелые заболевания, и один из погибших, матрос Антонио Лоренцетто, похоронен на одесском кладбище.
Помните путь, который много лет назад прочертил на карте Даниил Заболотный: из Аравийского моря через узкую горловину осажденного заразными болезнями Красного моря в наши воды. Морская дорога чумы. Тогда она была предсказана. Теперь предсказание оправдывалось.
Порт — ворота для чумы. Но как болезнь распространяется дальше?
Гамалея исследовал водостоки, подвалы, подземные «крысоносные» сосуды города. В лаборатории изучались сотни павших в Одессе грызунов. «То, чего нет» становилось видимым. То там, то здесь вспыхивали предостерегающие сигналы — следы чумных эпизоотий. Тогда у Высоковича и Гамалеи родилась идея поголовного уничтожения крыс. Эволюция стирала с лица земли целые виды и отряды животных. Почему нельзя сделать это сознательно — волей человека, силами науки? И если крысы — разносчики чумных бактерий, то ведь можно найти другой тип микробов, болезнь, опасную только для крыс, искусственно вызвать крысиный мор.
Начинались интереснейшие работы.
Но в канцелярии градоначальника истощились запасы терпения — чума преодолена, и нечего говорить о ней. Следует грозный приказ о роспуске комиссии, ведавшей борьбой с крысами, и прекращении ассигнований. Приказ устанавливал, что чумная эпидемия ликвидирована.
А через несколько месяцев болезнь появилась снова. Ее удалось смирить, но она существовала.
ЧУМНОЙ ФОРТ
В 1836 году на крошечном клочке земли у западного конца острова Котлин, близ Кронштадта, был заложен форт «Император Александр I». Строили его долго, бросали и снова начинали работы.
Быть может, форт с честью встретил бы атаку парусного флота врага, массивные стены выдержали бы удары каленых ядер. Но военная техника выросла за прошедшие десятилетия; вместо парусников появились мощные корабли, вооруженные орудиями дальнего боя, и стало ясно, что форт совершенно непригоден для защиты Петербурга. Морское ведомство отказалось от устаревшей крепости, и ее предполагалось взорвать. Но тут чумологи попросили передать им форт для научной работы и производства противочумной сыворотки. Оно, пожалуй, и дешевле передать врачам, чем возиться со взрывом.
Так, у берегов Кронштадта, в балтийских водах, появился чумной форт. Русские чумологи получили наконец постоянную базу для исследовательской работы.
Над морем поднимаются построенные из четырехугольных гранитных глыб башни форта с квадратными амбразурами. Под распростертыми крыльями двуглавого орла в глубокой нише темнеют массивные, обитые медью двери, украшенные львиными головами. Рядом с входом — полосатая будка и гриб для часового. У мола стоит небольшой буксирный ледокол для сообщения с Кронштадтом и Петербургом.
Из форта вывезли пушки и помещавшийся в специальной надстройке аппарат де-Шарьера для сосредоточенной стрельбы из всех орудий. В опустевшее громадное здание, чем-то напоминающее римский Колизей, вселился прежде всего «око недреманное» — жандарм, грудь которого была увешана медалями за верную службу престолу.
Перед отъездом из столицы «око недреманное» получил последние наставления.
— Какая твоя главная задача? — строго спрашивал чиновник из Третьего отделения.
— За заразой следить, ваше благородие!
Поскольку в чумном форту слово «зараза» могло пониматься и в другом смысле, его благородие строго переспрашивал:
— За какой заразой, Сизяков?
— За студентами, значит, и за мнениями, кто о чем думает, и вообще...
Жандарм расположился в комнатке около ворот. Выходить из своего логова он не решается и только следит неподвижными белесыми глазами через маленькое окошко за посетителями. В форту ему жутковато. Где-то за стеной до позднего вечера воют кремационные печи; там сжигают павших во время опытов животных. Осенью буксирный пароходик отплывает на зимнюю стоянку к острову Котлин, залив затягивается неверным, тонким льдом, тогда до берега не доберешься. Иной раз в штормовую погоду, взломав лед, волны идут на приступ. Вода перекатывается через мол, врывается в амбразуры первого этажа. Тогда врачи и служители бросаются спасать драгоценных лабораторных животных, а «око недреманное» бочком, стараясь, чтобы его не задели бегущие («а то наберешься заразы»), пробирается по чугунной, узорчатого литья лестнице на пустынную плоскую крышу. «Невеселое место, — безнадежно думает он, — проклятое место, того и гляди голову сложишь».
Форт постепенно обживается. Под квартиру заведующего отводится помещение бывшего порохового погреба. Тут сыро, сумрачно и холодно, потому что солнце никогда не заглядывает в небольшие оконца, выходящие на внутренний, каменный дворик. Зимой саженные гранитные стены промерзают насквозь, и тогда даже в комнатах приходится кутаться в шубу. Впрочем, заведующий чумным фортом Владислав Иванович Турчинович-Выжникевич во всем старается видеть лучшую сторону.
— Зато летом — приволье, прохладно... — извиняющимся голосом говорит он редким гостям.
Огромный, позеленевший от времени ключ форта — длина ключа около четверти метра — хранится у заведующего. В семь часов раздается свисток, начинается рабочий день, и ворота медленно открываются. Строгая тишина окутывает каждого входящего. Немного похоже на монастырь: сводчатые потолки, бесшумно двигающиеся люди. Но еще больше форт с его бойницами, превращенными в иллюминаторы, напоминает старинный корабль: поглядишь в окно в штормовую погоду — волны бьются о стены, как будто ты в открытом море.
Внутри здание разделено на две части. В правой помещаются библиотека, жилые комнаты, рабочие кабинеты. Левая часть предназначена для опытов с микробами чумы и производства сыворотки. Сюда, в «заразную половину», как называют ее, входят только для работы в лабораториях, каждый раз по особому разрешению.
В специальных шкафах-термостатах, где поддерживается все время постоянная температура, выращиваются культуры микробов, привезенных русскими микробиологами со всех концов мира. Вот это «Бомбей» — культура, вывезенная из Индии и подаренная форту Высоковичем, а это «Глазго» — штамм [Штамм — термин, употребляемый в микробиологии для обозначения культур микробов одного вида, одного наименования, но отличающихся происхождением. Микробы различных штаммов часто отличаются своими свойствами и силой воздействия на организм. ], полученный Заболотным в 1900 году во время чумной эпидемии в Шотландии.
Культуры плодятся на питательном бульоне, или агар-агаре. Платиновой петлей, которая не окисляется и легко стерилизуется, микробы вместе с каплей жидкости осторожно переселяются в новый сосуд со свежим агар-агаром.
За состоянием культур — колоний микробов — работники форта следят, как за самочувствием тяжело больного: ведь убитый микроб — это вакцина, дающая возможность прекратить или, во всяком случае, ослабить эпидемию. А без живых микробов невозможно получить противочумную сыворотку.
Из форта на эпидемии отправляются экспедиции с походными лабораториями, где заботливо уложены микроскоп, платиновые петли, пробирки с питательными средами, цинковые запаянные ящики с противочумной сывороткой и вакциной. Через много дней где-либо за сотни километров от железной дороги, в походной палатке, взглянет врач на эти драгоценные запасы, от которых зависит жизнь тысяч окружающих его людей, и обязательно вспомнит Петербург, балтийские волны с набегающими белыми гребнями, форт, библиотеку, где на столе в строжайшем порядке лежат свежие номера журналов и газет. Книги... Пожалуй, по ним больше всего тоскуешь в пути.
Когда еще доведется увидеть все это? И доведется ли?
Впрочем, день возвращения наступает. В тумане угадываешь башни форта, полукружьями выступающие по обеим сторонам здания — издали они кажутся серыми, почти прозрачными, — полоску дамбы, бойницы в глубоких амбразурах.
Единственный в мире форт, «снаряды» которого долетают до других материков и несут не разрушение и смерть, а избавление от опасности!
Башни поднимаются все выше, вырастая из неспокойных волн залива. Какое замечательное чувство охватывает тебя, когда открывается тяжелая входная дверь и в первый раз после возвращения проходишь по чисто вымытому, пахнущему водой и краской дощатому полу форта! Сдав со всей необходимой осторожностью препараты и чумные культуры — «добычу», как говорит Владислав Иванович, — помывшись, отдохнув, ты можешь до глубокой ночи сидеть у стола, листая покрытые мелким, убористым шрифтом страницы «Русского врача», глянцевито-белые листы «Архива», или же спорить с товарищами, понизив голос почти до шопота, чтобы не мешать другим. Часто в таких случаях вдруг обнаруживается, что решительно все вовлечены в разговор, собрались за одним столом вокруг товарища, вернувшегося из экспедиции, расспрашивают его, рассказывают новости, но все это осторожно, приглушенными голосами, пока кто-нибудь, оглядевшись по сторонам, не заметит:
— Что это мы, коллеги, точно заговорщики?! Кому мы боимся помешать?..
— К вам как домой приезжаешь, — говорит Заболотный Турчиновичу-Выжникевичу, возвращаясь в форт. — Научный рай!
Владислав Иванович хмурится:
— Ну-с, до идеала весьма далеко. Вот, представьте себе, и нынешний год ассигнования сокращены почти наполовину. Хоть приостанавливай начатые опыты, а вы сами знаете...
По форту ходит шутка, что если бы бог поручил Выжникевичу оборудовать рай, Владислав Иванович, истратив все средства на противочумной институт, сооруженный им между звездами на облаках, попросил бы разрешения уехать в ад, на эпидемию.
— Да, до идеала еще весьма далеко!..
Они сидят в маленькой комнате, обшитой листами брони. Отсюда начальник артиллерии форта должен был управлять огнем. Узкие бойницы заложены кирпичом. Стены увешаны фотографиями в простых рамках. Рядом два снимка: юноша Мечников в студенческой фуражке и недавняя его фотография, присланная из Пастеровского института в Париже.
Несколько секунд Даниил Кириллович молча разглядывает портреты Мечникова. Странное дело: столько лет отделяют одну фотографию от другой — первая, студенческая, уже пожелтела от времени, а вторая снята совсем недавно, — но кажется, что лицо не изменилось. Что-то основное, в уголках глаз, складке губ, в общем пытливом и требовательном выражении лица, осталось неизменным.
Неожиданно для самого себя Заболотный говорит:
— Вот не стареют такие люди. Видимо, общая судьба всех влюбленных в свое дело — не стареть, а, значит, и в старости умирать молодыми!
Заболотный сам смущается этих случайно вырвавшихся слишком пышных слов.
— Что это вы, — удивляется Владислав Иванович, — к чему говорить о смерти? В нашем положении смерть — почти дезертирство, не так ли? Дело борьбы с чумными эпидемиями в самом начале, первая ступенька лестницы, а сколько этих ступенек, сейчас даже определить трудно!
Резко меняя тему разговора, Владислав Иванович добавляет:
— Вот начали интересные эксперименты, но результаты неопределенные. Может быть, взглянем?
Они идут по лестнице, затем длинным коридором. Перед левой, заразной половиной надевают специальную резиновую обувь, особые костюмы.
В левой половине форта на полах нет дорожек и ковров; шаги отдаются резче. Двери сами собой плотно закрываются. Голые стены выкрашены белой масляной краской. Чистота, как в операционной. В лаборатории, куда Владислав Иванович привел Заболотного, на металлическом, покрытом белой эмалью столе — стеклянная камера с двумя отверстиями. В первое отверстие введена изогнутая прозрачная трубка с утолщением посередине. В утолщении — вата. Трубка заканчивается резиновой грушей. Вторая трубка, выводная, имеет на конце маленькую маску. Из клетки в углу лаборатории экспериментатор осторожно берет морскую свинку:
— Ну, ну! Тише, маленькая!
Маска выводной трубки надевается на голову животного, плотно охватывая шею.
Теперь начинается опыт. Сжимается резиновая груша. Воздух проходит по первой трубке в стеклянную камеру. На дне ее — жизнеспособная высушенная чумная культура. В камере возникает вихрь. Не видно, но можно представить себе, как поднимаются в воздух миллионы микробов. Они заполняют все свободное пространство. Путь через первую трубку отрезан для них ватой, зато микробы свободно овладевают второй, выводной трубкой. Жадно дышит морская свинка. Спадает и снова поднимается ее грудная клетка. С воздухом, который втягивает подопытное животное, поток микробов скользит по слизистым оболочкам рта, через дыхательные пути в легкие морской свинки.
Пробьются ли микробы сквозь непрочную стенку слизистых оболочек в кровь?
На столе — тетради с протоколами прежних опытов. Заболотный нагибается, внимательно просматривает записи.
Невидимый чумной вихрь отделен от исследователей тонким слоем стекла. А если неосторожным движением будет сломана хрупкая камера, или окажется, что трубки пригнаны недостаточно плотно, или свинке, которая вертит головой, стараясь скинуть неудобную маску, хоть на мгновение удастся вырваться на волю?
Тогда микробы наполнят воздух комнаты и эксперимент примет совсем иной характер.
Заболотный перелистывает страницы протоколов.
— Результаты чрезвычайно неопределенные, — говорит Владислав Иванович. — Вот смотрите: номер один — заражения не последовало, а номер четыре... Впрочем, возможно, тут имело место незамеченное повреждение слизистых оболочек.
Он говорит очень тихо, чтобы не мешать врачу, проверяющему аппаратуру. Заболотный, не отвечая, кивает головой.
Это один из большой серии опытов, которые позволят установить способы заражения чумой, восприимчивость к болезни самых различных животных — от морской свинки, суслика, тушканчика до северного оленя и верблюда.
В коридоре разговор возобновляется.
— Нам нужна не одна, а десятки таких лабораторий, — говорит Заболотный: — в Сибири, в Астрахани. И экспедиции необходимо посылать не тогда, когда эпидемия уже началась, а сейчас, в годы затишья. Нет времени в запасе — это и Одесса подтвердила. Надо счет вести не на столетия, а на дни. Не знаю, как у вас, а у меня все время на душе тягостное чувство ожидания новой большой вспышки.
Через тамбур, изолирующий ту часть здания, где расположены лаборатории форта, Выжникевич и Заболотный проходят в правую, жилую половину. Служитель ставит на стол стаканы с горячим, крепким чаем.
— Это кстати, — говорит Заболотный, грея руки о стакан: — сегодня холодновато.
Петербургская зимняя непогодь проникает даже через крепостные стены, заполняет комнату.
На прощанье Заболотный крепко жмет руку Выжникевичу. Если бы не было таких товарищей, не позволяющих себе уставать, видящих цель и верящих в достижимость ее, если бы не было этого чумного форта, работать было бы в тысячу раз труднее.
На дворе сразу охватывает пронизывающий ветер.
Дорога долгая и утомительная: больше версты пешком до Кронштадта, потом девять верст на пролетке по льду до Ораниенбаума, а оттуда еще час езды по железной дороге.
Уже снова зима. В последнее время Заболотный особенно остро чувствует, как быстро идет время.
Петербург встречает его неприветливо. Расплывчатый, как бы отраженный в воде, свет фонарей; громада Исаакия, нависшая над площадью; Медный всадник — ноги коня скрыты морозным туманом. Потом налетает порыв ветра, туман исчезает, в темноте огни фонарей рисуют геометрически правильный чертеж улиц.
Петербург! Нет города в мире, где бы так же остро чувствовались и сила стихии и могущество воли человека, выбирающего направление против ветра, против течения, против враждебных сил природы. Город, где хорошо начинать большие, трудные дела.
По дороге домой Заболотный заходит в Институт экспериментальной медицины посмотреть, что делается в его лаборатории. На столе микроскоп в закрытом футляре. Лампа на низко опущенном шнуре отбрасывает правильный круг света. Лежит пачка непросмотренных журналов. Он садится на минутку, а поднимает голову и закрывает книгу уже глубокой ночью.
Так кончается год.
А новый, 1904 год начинается у Заболотного трудно и тревожно.
Четвертого января, после полудня, посыльный принес записку из форта. Всего несколько слов: «Просим немедленно приехать».
Может быть, закончили важный опыт, получили интересные результаты и хотят посоветоваться или просто поделиться радостью? К чему тогда слово «немедленно»? И почему записку подписал Шрайбер, а не Выжникевич? Ведь Владислав Иванович в форту — Заболотный знает точно.
День холодный. Ветер срывает со льда снег и наметает вокруг форта сугробы. Каждую секунду новые волны колючей снежной пыли несутся со стороны залива к дамбе и стенам форта. На дамбе расставлены дополнительные посты.
Форт расположен на территории Кронштадта и находится под военной охраной. Часовой знает Заболотного в лицо, однако на этот раз он вызывает разводящего, который внимательно просматривает документы. Доктор Шрайбер встречает у входных дверей. Вдвоем поднимаются в библиотеку.
— Владислав Иванович заболел, — встревоженно рассказывает Шрайбер. — Был в Петербурге, приехал усталый, совсем выбившийся из сил, а ночью...
Не договорив, он протягивает Заболотному лист истории болезни. Температура очень высокая — почти сорок.
Заболотный входит в комнату, где лежит Выжникевич. Из ледяного порохового погреба больного перенесли в лабораторию третьего этажа: тут теплее и хоть иногда заглядывает солнце. Владислав Иванович с трудом приподнимает отяжелевшие веки:
— Вот, простудился.
Как бы спрашивая, больной настойчиво повторяет:
— Видимо, простудился.
Заболотный внимательно выслушивает его. В правом легком ясно ограниченный воспалительный фокус.
Когда через несколько минут Даниил Кириллович и еще несколько работников форта собираются в соседней комнате на консилиум [Консилиум - совещание нескольких врачей, созываемое для определения болезни и лечения больного в трудных случаях.], Шрайбер рассказывает:

Владислав Иванович Турчинович-Выжникевич.
— С двадцать восьмого декабря по канун Нового года Владислав Иванович проводил опыты. Он заражал животное через легкие распыленными культурами и приготовлял новым методом чумной токсин [Токсин — ядовитое вещество, вырабатываемое микроорганизмами и вызывающее заболевание.], предварительно замораживая тела микробов жидким воздухом. Своим работам он придавал большое практическое значение и торопился завершить их возможно быстрее.
Еще никто не произносит слова «чума», но консилиум признает заболевание подозрительным.
Через два часа больного осматривают снова. У лопатки хорошо прослушиваются притупление звука и характерные хрипы.
В связи с тревожным положением из Петербурга приезжают новые люди: генерал-майор князь Орбелиани вместе с адъютантом. Генерал назначен в форт комендантом на время карантина. Приняв двух офицеров, форт полностью отгородился от внешнего мира.
Вечером Заболотный, задумавшись, шел по коридору и вдруг невольно остановился. Из-за стены внятно донеслось:
— Я бы, ваше сиятельство, если это чума, взорвал форт, лишь только окончится карантин. Как можно допустить существование подобной опасности, да еще у самого Петербурга!
Говорил, видимо, адъютант.
«Взорвать форт, если это чума...» Какое тупое безразличие! А если и за стенами форта, в большом мире, есть чума, что же — взорвать мир?.. Взорвать форт — единственную базу борьбы с чумой, единственное место, где для России и соседних стран приготовляются противочумные вакцины и сыворотка!
Генерал что-то отвечает, но Заболотный не прислушивается к продолжению беседы.
Ввиду подозрений на чуму Выжникевичу вводят под кожу сто кубических сантиметров сыворотки. И всем соприкасающимся с больным работникам форта делаются профилактические, предохранительные прививки.
Температура у больного падает. Если это чума, то сейчас в кровеносных сосудах, лимфатических железах и тканях легких идет решающая борьба защитных веществ, содержащихся в сыворотке, с микробами, — борьба, которую Заболотный в свое время испытал на себе. Тогда она окончилась полной и убедительной победой жизни.
Всей душой он верит, что так произойдет и сейчас, если не упущен срок.
Через час состояние больного снова обостряется. Он бредит, мечется в постели. Температура сорок, пульс восемьдесят — девяносто, дыхание двадцать — двадцать пять в минуту.
Даниил Кириллович внимательно осматривает лабораторию, где Выжникевич вел свои исследования. На столе лежит разбитая агатовая ступка, служившая обычно для растирания микробов и приготовления эмульсии из микробных тел.
Ночью никто в форту не спит. Когда за стенами ненадолго затихает ветер, отчетливо слышатся шаги часового.
Вечером 5 января у больного появляется характерная красноватая мокрота. Заболотный тщательно приготовляет препараты. Рука медленно поворачивает винт микроскопа. Препарат вырисовывается так неожиданно резко, что надо сделать усилие над собой, чтобы не зажмуриться, не отвести глаз: в поле зрения объектива неподвижно лежат массы ярко окрашенных на полюсах биполярных палочек.
Значит, легочная чума!
Утром больному вводят еще двести кубических сантиметров сыворотки: сто — под кожу и сто — непосредственно в правое плевральное пространство, к главному очагу болезни. Температурная кривая скользит вниз. Затем некоторое время она держится на одном уровне — равнодействующая сил болезни и сыворотки. Сознание больного проясняется.
В комнате — Заболотный и Поплавский, фельдшер, который все время ухаживает за больным, внимательный, опытный и спокойный работник. Владислав Иванович открывает глаза, медленно, с трудом оглядывается по сторонам. Говорит он очень тихо, сперва даже трудно разобрать отдельные слова:
— Всему персоналу необходимо произвести предохранительные прививки. Это сделано?
— Да! — отвечает Заболотный.
— Тело мое, когда все кончится, я прошу сжечь. И передайте товарищам: я уверен, что они продолжат и завершат начатое. Ведь мы сейчас только... — голос не слушается, и он не может окончить фразу.
Третье впрыскивание сыворотки не вызвало перелома в развитии болезни. 7 января в шесть часов вечера заведующий лабораторией чумного форта Владислав Иванович Турчинович-Выжникевич умер.
Сыворотка, которая оказалась бессильной спасти жизнь одному из главных своих создателей, с честью защитила всех остальных работников форта. Хотя в первые дни болезни, когда еще никто не подозревал характера заболевания, многие врачи и санитары форта разговаривали с Выжникевичем, заходили к нему без маски, никто не заболел. Только у фельдшера Поплавского повысилась температура, но через несколько дней и он выздоровел.
В ясный, по-весеннему солнечный день кончился карантин. Заболотный шел по улицам Петербурга с таким чувством, будто он отсутствовал не две недели, а долгие годы. Его охватила предельная, давящая усталость, точно он сам перенес тяжелое заболевание, да и сейчас находится между жизнью и смертью. Казалось, не хватит сил добраться до дому. Серая пелена заволакиваламозг, но сквозь эту пелену отстукивала, как пульс, упрямо напоминала о себе одна мысль: время идет; смерть Выжникевича — предупреждение.
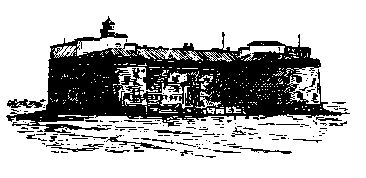
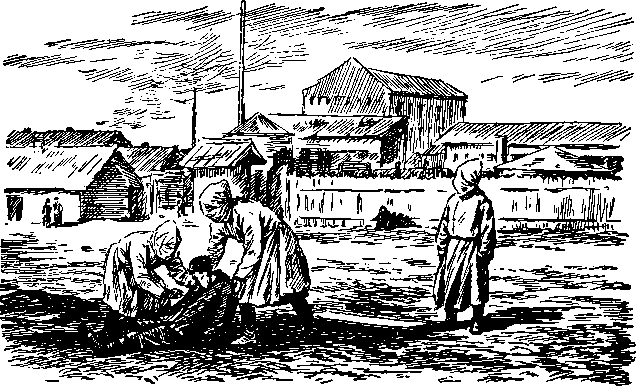
ДВЕ ПОБЕДЫ
В МАНЬЧЖУРИИ
Историю маньчжурской эпидемии 1910 года можно восстановить с такой же последовательностью, с какой метеорологи определяют причины образования облаков, движение их, столкновения, вызывающие грозу.
Год за годом приближалась катастрофа. В 1909—1910 годах крупнейшие меховые фирмы Германии и Франции применили на своих предприятиях новую технологию обработки шкурок тарабагана. Из дешевого сырья получался красивый и прочный мех; он сразу завоевал широкие рынки сбыта.
На Лейпцигской ярмарке цена шкурок пошла вверх. У маньчжурских охотников появились деньги. Немедленно английские торговцы наркотиками, воспользовавшись выгодными обстоятельствами, в шесть раз подняли цены. Дневная доза опиума в опиекурильнях Мукдена, Харбина и других городов Маньчжурии стоила теперь больше, чем может заработать за день квалифицированный рабочий. Спекулянты резко взвинтили цены и на рис. Доведенному до предельной нищеты, отравленному наркотиками рабочему говорили:
— Хочешь заработать на хлеб и опиум — иди в степь, попытай счастья, добывай тарабаганов!
Так началась «тарабаганья лихорадка». Из городов и сел Маньчжурии на промысел отправлялись новые и новые партии охотников. Голод гнал их в степь. В безлюдных пространствах, где раньше за целый день пути не встретишь человека, бродили тысячи охотников. Искра чумных заболеваний, периодически поражавших тарабаганов, обычно незаметно гасла в пустоте степи; теперь она вызвала настоящий пожар.
Возникновение болезни своевременно не заметили. Смерть от нищеты и голода была настолько частой в замученной, обездоленной стране, что никто не удивился некоторому увеличению количества ее жертв. Так чуме было предоставлено достаточное время, чтобы собраться с силами.
Охотник сдавал шкурки и спешил в опиекурильню, этот форпост английской «цивилизации» на Востоке.
Окна фанзы заклеены прокопченной бумагой, вдоль стен расположились низкие лежанки, покрытые цыновками. Тут темно даже днем. Свет лампы едва пробивается через тяжелый синеватый дым, наполняющий комнату. Человек получает трубку, которая только что выпала изо рта накурившегося, бессильно раскинувшегося на цыновках бедняка. Среди смешения спящих, грезящих наяву, лежащих вповалку с остекленевшими, неподвижными глазами людей никто не обратит внимания на агонирующего. Если наутро хозяин обнаруживал труп, он выбрасывал его в реку Сунгари.
Ночлежки и опиекурильни служили воротами, через которые родившаяся в степи болезнь проникла в города и поселки. С июня по октябрь 1910 года чума, никем не замеченная, укрепилась в скученных людских муравейниках — маньчжурских городах.
Только тогда, когда смертность приняла угрожающие размеры и на одной станции Маньчжурия с середины октября до начала ноября погибло триста девяносто человек, было доказано, что чума является причиной этой катастрофически высокой смертности, и сведения об эпидемии проникли за пределы страны.
Для Заболотного телеграмма о бедствии, поразившем соседнее с Россией государство, означала моральный приказ: не задерживаясь ни на минуту, отправиться в район эпидемии.
...Поезд мчался с запада на восток. В дороге достаточно времени подумать о предстоящем, да и было о чем подумать. Заболотный мысленно воссоздавал для себя то, что он называл «формулой эпидемии»: тарабаганий промысел, эпизоотии, за которыми никто не следит, города без врачей...
Безысходная нищета царила в мире. Чтобы пробиться сквозь нее, нужны силы позначительнее, чем маленькая группа врачей. Нищета населения, голод открывали дороги болезни, сводили на нет все усилия науки.
Когда думалось об этом, овладевало мучительное чувство. Казалось, что идешь через топкое болото без конца и края... Океан нищеты от Джедды, от Бомбея до Китая!
И почему только до Китая? Хоть самому себе надо сказать правду: до Москвы, до Петербурга.
Перед отъездом в Маньчжурию Заболотный случайно попал на доклад московского детского врача Игнатьева. Маленький сумрачный человек говорил ровным, как бы обесцвеченным голосом. Сперва Заболотный слушал невнимательно — вопрос чужой, почти неизвестный ему. Но длинный ряд цифр, оглашенных тем же ровным голосом, помимо воли привлекал внимание. Игнатьев привел данные о смертности детей до одного года по полицейским участкам Москвы с 1895 по 1904 год. В районе Лефортовского второго участка погибало пятьдесят пять процентов родившихся, в Рогожском втором — пятьдесят три процента.
Докладчик, называя участки, водил указкой по плану города. Указка описывала круги. Смертность, катастрофическая у Пресненской, Серпуховской, Рогожской застав, убывала, приближаясь к центру. В Тверских и Мясницком третьем участках смертность с пятидесяти пяти процентов падала до девяти.
На память пришли слова из Карманьолы — песни, казалось бы забытой за долгие годы, прошедшие со студенческих времен:
Чего хотим стране своей?
Чего хотим стране своей?
Хотим мы равенства людей!
Хотим мы равенства людей!
Получалось, что человек, родившийся в районе лефортовских или рогожских полицейских участков, с самого рождения располагает в шесть раз меньшим правом на жизнь, чем такой же человек, появившийся на свет в зажиточных районах Мясницкой и Тверской.
От заразных болезней гибло семь и четыре десятых процента детей, а от врожденной слабости, другими словами — от нищеты, двадцать шесть и девять десятых.
Указка медленно описывала круги на плане Москвы.
Разве нельзя такие же зоны смерти отметить и на карте мира? Разве Заболотный не наталкивался на них во всех своих странствованиях? Англия и ее заморские колониальные владения... Лондон и Бомбей... Окраины Лондона и его центр...
Поезд пересекал страну.
Ощущение пространства, которое Заболотный так любил, на этот раз не успокаивало. Дождь, начавшийся еще в Москве, туманил стекла. За Уралом дождь сменился снегопадом. Исчезли горы, и потянулась однообразная заснеженная равнина Сибири.
Чем ближе придвигался район работы, тем беспокойнее становилось на душе. Заболотным овладевало то настроение, тот тревожный ход мыслей, которым обычно он никогда не позволял подчинить себя. Он знал, вернее — подозревал, какова причина возникновения эпидемий. Но что давало такое знание? Неужели через несколько лет, так же как повторяется затмение солнца, эпидемия возникнет снова?
Сказать себе, что наука может только более или менее точно определять, узнавать, но не менять, значило признать неправильным, чуть ли не бесполезным, весь жизненный путь, которым он шел.
Уже около Омска неуловимая вначале, но все время сгущающаяся атмосфера неуверенности охватила пассажиров поезда. Сосед по купе, иркутский золотопромышленник, удивленно переспросил:
— Вы в Харбин? Ведь там чума!
Заболотный ответил:
— Я еду на эпидемию.
Сосед бессознательным движением отодвинулся, будто самое намерение Заболотного уже проводило грань между ним и другими, делало его опасным для окружающих.
И в прошлые поездки, и в форту, и сейчас — словом, всякий раз, как только надвигалось трудное, опасное дело, Заболотный чувствовал равнодушие обывателей и чиновников, почти враждебную пустоту, образующуюся вокруг маленького коллектива русских врачей, посвятивших свою жизнь борьбе с инфекциями.
Легко жить таким, как адъютант: «Если в форту чума — взорвать форт!»; «Если чума в Маньчжурии — бежать из Маньчжурии!» Весь мир делился на я и остальное. Когда остальное опасно, оно подлежит изоляции, а еще лучше — уничтожению. Вот и вся жизненная философия подобных людей.
Впрочем, эта тупая враждебность обывательско-чиновничьей среды не угнетала, а, напротив, чем-то успокаивала. Она как бы подтверждала истинность избранного направления. «Против течения, но зато с народом», — говорил когда-то Макар Сауляк. Колеса настойчиво отстукивали:
«Че-го хо-тим стра-не сво-ей?»
Заболотный думал: «Говорить «неизбежно», «закономерно» по отношению к эпидемиям было бы просто кощунством. «Неизбежное» подготовлялось нищетой. Социальное множилось на биологическое. Если социальное зло уничтожить пока не в наших силах, то можно ведь уменьшить биологическую составную; если нельзя преградить, то надо хоть сузить русла распространения болезней».
«Мы на первой ступеньке», — сказал незадолго до болезни Выжникевич. Многое ли изменилось с той поры? Пока Заболотный искал живых носителей чумы, появились исследователи, которые утверждают, что надо идти совсем другим путем.
— Тарабаганы? — спрашивают они. — Кто из врачей видел своими глазами больного тарабагана?
Никто!
И почему ареал распространения тарабаганов (географическая среда их обитания) огромен, а границы чумы не совпадают с ним, лишь отдельными пятнами покрывая эту территорию?
И почему, с другой стороны, болезнь появляется в тех районах степи, где тарабаганов совсем нет, например в Прикаспии?
Вы скажете, что там есть другие виды грызунов, что путь болезни в разных географических зонах различен. Но зачем искать ответы на сотни вопросов, когда напрашивается гипотеза проще и яснее. Человек — единственный носитель чумной инфекции: живой человек — в эпидемию, труп — между эпидемиями.
«Мертвый мост» — так Заболотный окрестил про себя новую гипотезу, основанную на предположении, что трупы умерших и вещи, которыми пользовались больные, являются главными хранилищами чумной инфекции. Заболотный знал, что этот «мертвый мост» завоевывает все новых и новых сторонников.
Специальная экспедиция Шурупова, отправившаяся в места недавних эпидемий, привезла в запаянных ящиках двести проб, взятых из могил людей, год назад умерших от чумы. Из двухсот проб семнадцать дали рост подозрительных, чумовидных культур.
Только семнадцать из двухсот, и только подозрительных!
На крайне зыбких основаниях строился этот «мертвый мост». Все же многие в него верили. Гипотеза подкупала ясностью и простотой.
Что мог противопоставить ей Даниил Заболотный? Долгие, неустанные и безуспешные поиски живых носителей болезни в природе? Глубокую убежденность в том, что, только настигнув и тщательно изучив этих живых носителей, можно перенести битву против чумы с тех рубежей, где она происходит сейчас — в больницах, на эпидемиях, — в природу, вне зоны человеческих жизней, человеческого общества?
Верить мало, надо доказать! Через много лет Павлов скажет: «Как ни совершенно крыло птицы, оно никогда не смогло бы поднять ее ввысь, не опираясь на воздух. Факты — это воздух ученого».
Воздуха фактов не хватало Заболотному, для того чтобы его идея стала оружием в руках человечества. Он искал все эти годы честно, не жалея сил и не щадя жизни, но не нашел. Значит, надо искать еще напряженнее.
В Маньчжурии предстояло встретиться не только с нынешней эпидемией, которая в эти дни и часы с быстротой урагана распространялась от своего центра на запад и северо-запад — к границам Сибири, на юг и юго-запад — к центральным областям Китая, на восток — к берегу океана, но и с самой историей чумы, со всем, что соединяет каждую новую вспышку этой болезни с ее прежними и будущими вспышками.
МОСКОВСКИЙ ПУНКТ
Успех всей работы в первую очередь зависел от того, хватит ли людей для борьбы с болезнью.
Оказалось, что слово «чума», заставлявшее тысячи и десятки тысяч людей в панике бежать, не только отталкивало, но и притягивало. В пустынном обычно чумном форту, где в спокойные годы работало не больше пяти врачей, десятки студентов-медиков и молодых эпидемиологов проходили подготовку, необходимую для борьбы с чумой. Навстречу бегущим, в Маньчжурию ехали добровольцы из Петербурга, Москвы, Томска.
Еще в гимназии Марию Александровну Лебедеву прозвали «Лебедем». Она не была красивой — худенькая, маленького роста, с большими серыми глазами, которые, задумавшись, закрывала, как бы пытаясь тонкой, просвечивающей стенкой век отгородиться от всего, с чем не могла или не хотела примириться. Прозвище «Лебедь» сохранилось за ней на всю жизнь — может быть, потому, что у окружающих всегда было ощущение, что вот сейчас она с ними, а через день, повинуясь законам своего особого мира, расправит крылья и улетит неизвестно куда.
Уйдя из семьи, отказывая себе в самом необходимом, она накопила денег и уехала в Женеву учиться. После окончания курса, хотя представилась возможность остаться при кафедре, девушка отправилась на окраину России, в глухой таежный район на восточном берегу Енисея.
В Красноярске Лебедеву предупредили:
— Работать будет очень трудно. Население кочевое, редкое — один человек на сто квадратных верст. Врачу приходится браться за все — от сложных операций до акушерства.
Она внимательно выслушала, но не отказалась. Участок пустовал уже два года, с тех пор как умер ссыльный врач Изоргин. Если бы она переменила решение, то и в эту зиму окружающее население осталось бы без медицинской помощи.
Больше всего она боялась хирургической работы. За плечами был только месяц стажирования в клинике под наблюдением профессора, а этого совсем недостаточно для самостоятельной врачебной деятельности.
Испытания начались сразу, едва она успела принять свое хозяйство — рубленую избу, почти до крыши заметенную снегом. Все тело болело после долгой дороги. Только что они вместе с каюром [Каюр — погонщик упряжки собак.] прорыли тропку к дому, растопили печь. Пламя лезвием скользнуло вдоль коры, окружило дрова желтым воротником, еще через секунду пробилось к середине дровяной кладки. Сильно запахло смолой, волны тепла распространились по комнате. Огонь заполнил печь. Стало так тепло, что Лебедева хотела уже снять малицу [Малица — у народов Крайнего Севера верхняя одежда из двух оленьих шкур: мехом внутрь и наружу, в виде рубахи с капюшоном и рукавицами.], когда вдруг послышались голоса, а затем появился каюр с незнакомым эвенком. Из немногих слов она поняла, что надо немедленно ехать.
Собралась за несколько минут и торопливо вышла из избы. Упряжка с места рванулась по еле заметному, занесенному снегом следу. Лебедева то бежала за нартами, то на бегу падала на них плашмя. Снег мелькал перед самыми глазами, создавая впечатление огромной скорости.
Лучше бы время тянулось медленнее, чтобы приготовиться к тому, что предстоит.
Неожиданно таежный лес расступился, тропа круто скользнула вниз к заметенной снегом речке. Лебедева успела расслышать треск, увидеть последних в упряжке собак, упирающихся, царапающих лапами лед, и, изо всех сил держась за нарты, погрузилась в ледяную воду. Только когда опять замелькал снег в черной штриховке теней, она поняла, что опасность миновала. Все на ней оледенело, и холод проникал до самого сердца. Пытаясь унять дрожь, она приказала себе: «Мне нужны будут все силы. Больше ни о чем я не имею права думать».
К счастью, стойбище было уже близко.
Войдя в чум, она с трудом стянула с себя малицу, превратившуюся в ледяной колокол. Достаточно было взглянуть на развороченную звериной лапой, рваную рану больного, чтобы понять — времени совсем нет, все сроки упущены.
Пока в походном стерилизаторе [Стерилизатор — приспособление для обеззараживания хирургических инструментов.] кипятились инструменты, она старалась представить себе по этапам весь ход предстоящей операции.
Потом незаметно (это бывало с ней много раз и раньше) сознание необходимости что-то совершить, спасти больного привело ее к чувству уверенности, что она справится, не может не справиться с предстоящим ей делом. Как в магнитном поле крупинки металла послушно располагаются между полюсами, так сейчас все ее внутренние силы собрались в строгом порядке, подчиняясь одному труду, который требовал от врача огромного напряжения и полного спокойствия.
Операция продолжалась два часа, но Лебедева заметила время только тогда, когда был положен последний шов и можно было, отложив в сторону хирургическую иглу, расслабить мышцы и опустить руки...
Так она три года разъезжала по своему участку, борясь с трахомой, туберкулезом и многими другими болезнями, захлестывавшими этот край. Она не могла бы сказать, что за годы ее работы смертность сколько-нибудь заметно уменьшилась, но без нее, без этого врачебного труда вымирание местного населения шло бы с каждым годом быстрее. Это она знала!
Сосед по участку, старый врач Леонид Максимович Туликов, — с ним удавалось встречаться не часто, раз в три месяца или даже раз в полгода, — послушав ее, устало говорил:
— Это, Лебедь вы мой, означает на десятилетия затягивать неизбежный процесс — вот и все. Сложные операции, всевозможные прививки — борьба за десятые доли процента смертности. Пытаться преодолеть всем этим разрушительные влияния злого российского капитализма, — а он еще самой звериной своей стороной проявляется в здешних забытых местах, — идти против спиртоносов и сифилисоносов — затягивать вымирание, вот и все.
Помедлив, Тулянов добавил:
— А вы, голубчик, осведомлены, отчего умер предшественник ваш, доктор Изоргин? В первые месяцы собирался писать книгу о целебных свойствах здешнего воздуха, а по истечении некоторого времени открылся туберкулез в острой, скоротечной форме. В наше время человек, мечтающий о всеобщей справедливости, гибнет в тюрьме или на каторге, а врачующий — от чахотки...
— Чего же вы хотите? — перебила его Лебедева. — Жить, «ничем не жертвуя ни злобе, ни любви»? Помните завещание Александра Ивановича Баранникова, осужденного царским судом на казнь?
Она повторила строки, которые прочла очень давно и с детства запомнила на всю жизнь:
— «Друзья! Один лишь шаг остается до края могилы. С глубокой верой в свое святое дело, с твердым убеждением в его близком торжестве, с полным сознанием, что по мере слабых сил служил ему, схожу со сцены... Живите и торжествуйте! Мы торжествуем и умираем!»
Тулянов подумал: «Прошло больше двадцати лет со дня, когда осужденный на казнь революционер написал эти слова. Когда же оно придет, близкое торжество?»
Произнесенное с горячей верой, звонким женским голосом завещание еще звучало в ушах: «Живите и торжествуйте!» Огонь в печи погас, в комнате холодно, снег до половины завалил окна. Почему она не замечает всего этого?
— Боже мой, неужели вы верите в то, что сказали о затягивании агонии? — сказала Лебедева. — Разве вы не чувствуете, не видите, что над Россией уже реет буревестник? Я живу, потому что скоро будет перемена и потому что мы должны сохранить силы народа до дня освобождения.
Он ответил спокойно:
— Это для песен и сказок, голубушка, — «день освобождения». Я раз поверил в скорое пришествие царства справедливости. Раз поверить и раз потерять веру — большее для человеческого сердца немыслимо.
Когда пришли вести о революционных событиях 1905 года, Лебедева оставила работу и вернулась в Россию. Ей казалось, что поезд везет ее навстречу весне.
Впрочем, «весна» оказалась недолгой, а дорога — слишком длинной.
Из Москвы она поехала на работу в Курскую губернию. Была арестована за революционную агитацию. После тюрьмы решила отдохнуть у родных во Владивостоке, но по дороге узнала о чуме в Маньчжурии и переменила направление.
Женева, тайга, революционная работа, тюрьма, участие в борьбе с эпидемией — это был совершенно прямой путь человека, живущего для того, чтобы приблизить будущее.
Добровольцы составили персонал Московского чумного пункта в Маньчжурии. Пункт расположен на окраине Харбина. Среди огромного пустыря угрюмо стоит деревянный дом с потемневшими от времени стенами. Высокое крыльцо с деревянной резьбой. В углу двора, у забора, под навесом — гора замерзших трупов. У ворот день и ночь дежурит карета «летучего отряда».
Трупов было так много, что их не успевали сжигать. Замерзшие, почерневшие, они лежали на льду Сунгари, выглядывали из прорубей, валялись в фанзах, в снежных сугробах...
Даже в обстановке серьезнейшей опасности не происходило объединения всех перед лицом общего врага. Напротив, опасность еще резче делила жителей города на два лагеря.
Это разделение почувствовали и Заболотный, и Лебедева, и Мамантов — студент Петербургской Военно-медицинской академии, доктор Паллон, сестра Снежкова и все остальные медицинские работники, боровшиеся с чумой. Пустырь вокруг Московского пункта стал незримой баррикадой, отделявшей тех, кто работал на эпидемии, от остального города и, может быть, глуше, прочнее всего от купеческой и чиновничьей русской колонии Харбина.
— Как вы думаете, — спросила однажды вечером Лебедева товарищей по работе: — если мы тут все погибнем, как отнесутся к этому там, в Харбине?
Товарищи молчали, и, подумав, она ответила себе сама:
— Мне кажется, что просто не заметят или заметят далеко не сразу.
Это были две России, тут, за рубежом. Одна боролась со смертью, другая мирно соседствовала с ней. Когда Заболотный потребовал увеличения ассигнований на борьбу с эпидемией, чиновник, ведавший городскими финансами, ответил ему:
— В конце концов, это касается главным образом китайцев.
Подумав, он добавил:
— Ну и немногих фанатиков-европейцев, работающих на эпидемии.
За пустырем, в то м Харбине, никогда еще не было такого повального пьянства, взяточничества, разврата, как в зимние месяцы 1911 года.

В самые глухие закоулки шла Лебедева.
Это было странное, правильнее сказать — страшное, равнодушие по отношению к смерти.
Впрочем, оно еще больше сплачивало маленькую группку сотрудников Московского пункта. Да и работать без такой предельной сплоченности было бы немыслимо.
С первых же дней выяснилось, что убивающая сила маньчжурских штаммов чумного микроба, его вирулентность, значительно выше той, которая наблюдалась во время всех предшествовавших эпидемий. В Маньчжурии свирепствовала легочная форма чумы, от которой погибали все заболевшие. Сыворотки и вакцины, приготовленные из культур обычной силы, не оказывали почти никакого действия.
Каждый раз, приходя на пункт, Заболотный предупреждал:
— Будьте сугубо осторожны!
Но выполнить совет оказывалось трудно.
Жители, боявшиеся, что в случае обнаружения чумы санитары сожгут их фанзы и имущество, не сообщали о заболевших. Надо было обшаривать узкие, темные переулки Фуцзядина и Харбина, одно жилище за другим, фанзу за фанзой. И в самые глухие закоулки шла Лебедева.
Если при приближении других врачей люди — больные и здоровые — разбегались из своих домов, из ночлежек и опиекурилен, то Лебедеву они совсем не боялись. Не зная языка, она как будто понимала каждого. Другие боролись с болезнью вообще, с безликой эпидемией, в черной тени которой теряется судьба отдельного человека. А Лебедевой общее огромное горе не мешало всей душой отзываться на бесконечное горе каждого человека. Встречаясь с Лебедевой, с первой секунды больной чувствовал, что дорог ей настолько, что, если понадобится, она отдаст за него — именно за него — свою жизнь.
Так же как на войне подвиг солдата заключается не только в том, что солдат в любой момент готов встретить смерть, но и в том, что он продолжает работать без устали день и ночь, так и на эпидемии подвиг, моральная сила человека определялись не мерой опасности, а прежде всего трудом, который в этой обстановке человек должен выполнять, вкладывая в него все свое сердце и все свои силы.
Не хватало охраны. Задержанные в карантинах разбегались, разнося по городу заразу, и работу приходилось начинать сначала.
Как-то во время ночного обхода окраин Харбина Заболотный услышал тонкий, прерывающийся детский плач. Полуразвалившаяся фанза, откуда доносился жалобный голосок, стояла, несмотря на сильный мороз, с настежь раскрытыми дверями. Заболотный зашел и осветил фонарем тесную каморку. Сквозь клубы морозного пара в углу на низкой лежанке он увидел труп китаянки, прижимающей к груди маленького, совсем обнаженного мальчика.
Рядом валялось рваное одеяло. Видимо, мать из последних сил инстинктивным движением потянулась к ребенку, чтобы закутать его и согреть, но умерла, не успев сделать этого. Ребенок плакал. Может быть, благодаря морозу смерть не изменила лица умершей; женщина как будто прислушивалась к голосу сына, успокаивала его, неслышно и незаметно для других шептала ему что-то ласковое.
Заболотный взял ребенка; скинув меховую куртку, завернул в нее мальчика и вышел из фанзы на улицу. Ночь была ясная и морозная. Ребенок успокоился; открыв глаза, он молча выглядывал из своей меховой берлоги. Потом мальчик опустил веки и заснул, иногда вздрагивая и вскрикивая во сне.
Заболотному вспомнился Киев, трудные студенческие годы, когда часто не хватало денег даже на хлеб, а если удавалось купить сахару и чаю, Людмила радостно говорила: «Ну, сегодня у нас пир!» Вспомнился первый и единственный ребенок, родившийся тогда, недолгая его жизнь и смерть...
Дойдя до карантина, Даниил Кириллович передал мальчика с рук на руки медицинской сестре Московского пункта Снежковой. По дороге домой Заболотный неожиданно подумал: а что, если усыновить ребенка? В конце концов, если оставить мальчика на произвол судьбы, он погибнет — пусть не в нынешнем году, так в следующем, не от чумы, так от голода.
Встретил Марию Лебедеву и тут же подробно рассказал о своем плане, казавшемся ему теперь уже не просто возможным, но и единственно возможным. Он даже успел придумать имя ребенку — Ян.
— Ян Даниилович Заболотный — по-моему, хорошо, — сказал он, обращаясь к Лебедевой.
— По-моему, тоже очень хорошо, — ответила Мария Александровна.
Неизвестно, относились ли эти слова к удачно придуманному имени или ко всему плану усыновления, рассказанному Заболотным.
Вместе с Марией Александровной вернулись в карантин. Заболотному хотелось, чтобы Лебедева сегодня же увидела ребенка. Ян Даниилович тихо спал, храня во сне строгое и удивленное выражение на осунувшемся личике. Заболотный знал, что грудные дети почти никогда не заболевают чумой, но все-таки он чувствовал непрекращающуюся тревогу.
Ушел он из карантина, только когда прибежал посыльный из больницы, чтобы позвать к тяжело больному. Дома, прежде чем лечь спать, Даниил Кириллович решил написать письмо жене. Письмо оканчивалось словами: «Я же говорил тебе, что тут вовсе не все страшно, темно и безрадостно. На эпидемии можно не только терять, но и находить».
Хотя врачебная деятельность, казалось, отнимала все время и все силы, научные исследования не прекращались ни на минуту. Заболотный твердо проводил свой план; практическая работа не мешала самым широким теоретическим исследованиям по выяснению истоков эпидемий. Бой шел на два фронта: с эпидемией, которая уже бушевала, и с теми эпидемиями, которые могли возникнуть в будущем.
Самые тщательные лабораторные изыскания показали, что среди крыс эпизоотий нет. Истоки эпидемии следовало искать не здесь.
В Мукдене была созвана противочумная конференция. Заболотный представлял на ней русскую науку, Катазато — Японию, Галеотти — Италию, Мартини — Германию, Петри — Англию, Стронг — Америку.
Международное ученое судилище присоединилось к противникам Заболотного. В мукденской резолюции говорится: «Не доказано, чтобы эпизоотии грызунов повлияли на первоначальное распространение болезни».
Заболотный и на этот раз не получил поддержки. Представители науки Западной Европы, Америки и Японии не захотели признать его правоту, пойти путем, который он пробивал почти в одиночку.
Конференция закончилась. Заболотному хотелось поскорее выйти из душного зала заседания, уехать из Мукдена, очутиться «дома», на Московском чумном пункте. В дверях его остановил невысокий человек со смугло-желтым от болезни или от маньчжурского солнца, морщинистым лицом:
— Я представляю ряд газет Америки, десять миллионов читателей, профессор, и мне бы хотелось задать вам несколько вопросов. Я не задержу вас, мы отлично сможем поговорить на ходу.
Заболотный не ответил. Маленький человек принял молчание за знак согласия.
— Один ваш коллега, — продолжал корреспондент, — говорит, что эпидемия не должна внушать особого беспокойства, так как, в конечном счете, смерть от чумы легче и быстрее, чем, например, от голода.
— «Коллега»? — переспросил Заболотный. — Нет, это говорил не мой коллега.
— Значит, вы не согласны? Однако Томас Роберт Мальтус, который, кажется, хорошо известен и у вас в России, еще сто лет назад доказывал необходимость ограничения народонаселения и называл две причины, способствующие этому. Вы их, конечно, помните: голод и развращенность нравов, приводящая к тому...
Заболотный шел быстро, и маленький человек задыхался.
— Томас Роберт Мальтус, священник из прихода Серри, — высоконравственный и ученейший человек, профессор. Вы знаете его прекрасные сочинения и согласитесь, что лучше голод или, в крайнем случае, эпидемия, чем...
Корреспондент не успел договорить. Заболотный остановился и, круто повернувшись, гневно сказал:
— Уходите сейчас же! Убирайтесь к чорту!
Может быть, представитель американской прессы понимал русский язык или выражение лица Заболотного делало перевод излишним, — во всяком случае, маленький человек попятился, на ходу почему-то снимая шляпу и кланяясь. Потом повернулся и скрылся за углом.
Казалось, стало светлее и город выглядел во много раз лучше, чем несколько секунд назад. Заболотный шагал по широким, прямым улицам. Ограда, покрытая желтыми фаянсовыми изразцами, окружала древний дворец маньчжурских императоров. Кое-где изразцы были выбиты пулями. Незаделанные проломы в стенах соседних зданий и следы пожарищ напоминали о войнах, прошумевших над этим городом. Теперь чума рвалась к городским воротам.
Заболотному хотелось забыть о корреспонденте, но встреча не выходила из головы. Были в истории науки люди, которых Заболотный горячо любил, и другие, ненавидимые и презираемые всем сердцем. «Высоконравственный священник» из аристократического прихода Серри, сытый ханжа, советующий беднякам умирать от голода и болезней, так как это нравственно и необходимо, стоял среди ненавидимых на первом месте.
— Томас Роберт Мальтус... — вполголоса бормотал Заболотный. — И ведь как имя-то это произнес, точно это господь бог или святая дева Мария...
Улицы становились уже. Ремесленники одного цеха селились рядом друг с другом. Улица медников переходила в улицу шорников. На улице красильщиков перед каждым домом виднелись длинные шесты. Сохнущие на них фиолетовые, черные, синие и серые полотнища развевались на ветру и казались флагами неизвестных государств. Пожалуй, самой короткой была улица ювелиров, а самой длинной и оживленной — гробовщиков.
Встреча с американским корреспондентом не прошла даром. Заболотный теперь заново, как бы набело, продумывал события и впечатления сегодняшнего дня.
Утром, на заседании конференции, кто-то из делегатов во время выступления Заболотного бросил реплику:
— Прежде всего — осторожность, разумная осторожность в выводах.
Была ли это только осторожность?..
Ближе к окраинам архитектура города становилась разнообразнее. Появились здания с плоскими крышами — такие строят в Монголии, где ураган может сорвать обычную, двускатную крышу. В ямах, откуда брали глину для построек, образовались пруды с густой темнобурой водой. Следы пожарищ и заколоченные лавки виднелись здесь чаще, чем в центре, — следы, которые настойчиво напоминали об истории города.
В 1840 году английские солдаты были посланы в далекую страну, чтобы заставить китайцев покупать опиум у Ост-Индской компании. В историю эта позорная экспедиция вошла под названием первой опиумной войны. В 1856 году, когда Китайцы задержали «Эрроу», английское судно с грузом контрабандного опиума, англичане послали новую карательную экспедицию в Китай. Так началась вторая опиумная война. Опиум для Китая — не менее страшное бедствие, чем чума. Раньше Заболотному никогда не приходило в голову, что можно чем-то, кроме соображений чистой наживы, попытаться оправдать эти грабительские войны. Люди не хотят отравляться опиумом — надо заставить их сделаться наркоманами, потому что это выгодно и приносит верный доход! Убийцы из Ост-Индской компании имели защитников — армию Британии: опиум сокращает продолжительность человеческой жизни, уродует людей, но зато он приносит доход, поэтому следует убивать во имя широкого распространения опиума!
До сих пор для Заболотного Англия Ост-Индской компании и английская наука отделялись друг от друга непроницаемой стеной. Теперь становилось ясным, что, кроме науки Гарвея [Гарвей Вильям (1578—1657) — выдающийся английский врач, один из основоположников научной физиологии. Гарвею принадлежит открытие кровообращения.] и Дженнера [Дженнер Эдуард (1749—1823)—английский врач, впервые в Англии применивший прививки коровьей оспой (противооспенную вакцину) для предохранения населения от смертельно опасного заболевания натуральной оспой.], существовала и другая — мальтусовская. Ее, эту мальтусовскую науку, распространяли сотни и тысячи проповедников, вроде маленького человечка, пишущего для десяти миллионов читателей Америки. Она пропитана отравой, и все чаще за старыми, благородными словами о борьбе за человеческие жизни можно увидеть почти неприкрытое равнодушие к человеческой жизни, нежелание бороться за нее.
Может быть, не только «разумная осторожность» скрывалась за половинчатыми, неопределенными решениями международной противочумной конференции?
Мысли были грустные. Впрочем, они сразу же сменились другими: там, на Московском чумном пункте, не было ни одного человека, который был бы заражен мальтузианством. Очень маленький коллектив, но зато каждому можно верить, как самому себе, а это в нынешних обстоятельствах самое главное.
...В Харбин, на Московский пункт, Заболотный приехал поздно вечером. Его, видимо, ожидали, потому что, несмотря на поздний час, никто не спал.
Селя за общий стол. Доктор Паллон скрылась на минутку и, возвратившись, с торжеством поставила на стол бутылку вина. Оно было темнокрасное и оставляло на дне бокалов почти черный осадок.
— За победу! — предложил тост Илья Мамантов.
Вино было терпкое и кислое, но все же оно напомнило каждому самое лучшее: одним — Петербург, студенческий дружеский стол, другим — южное солнце, лица близких. Оно согрело всех, кто со стаканом в руке стоял около стола, и сделало до предела ощутимыми нити, соединяющие маленький отряд русских людей с великим народом, пославшим его сюда на помощь другому великому народу.
— За победу? — переспросил Заболотный. — Ну, на победу это было не очень похоже, хлопчики. Совсем не похоже. А впрочем, военные люди говорят, что потерять плохих союзников— половина победы. Да и какие это союзники! Во всяком случае, и то хорошо, что теперь победа зависит только от нас, и я сейчас твердо, тверже, чем когда-либо, верю, что мы скоро ее увидим.
Побывав у Яна, посмотрев на спящего ребенка и подробно расспросив о его здоровье, Заболотный вернулся к себе в комнату. На столе он нашел целую пачку писем, накопившихся за эти дни. Узнал знакомый почерк Высоковича и быстро вскрыл жесткий синий конверт. Было очень тяжело читать строки, из которых явствовало, что старый товарищ по бомбейской эпидемии всецело поддержал скептиков.
«Ничем не доказано, что тарабаганы заболевают человеческой чумой», — писал Высокович своим решительным, крупным почерком.
Заболотный несколько раз перечитал эту фразу.
«Союзников, вроде тех, с мукденской конференции, терять не очень-то жалко, — думал Заболотный, — а вот друзей... таких самоотверженных и талантливых исследователей, как Высокович... Что ж, иной раз, видно, приходится и с другом разойтись на перекрестке, на крутом повороте».
Неожиданно в спор ученых вмешались китайские, немецкие и английские купцы. Признать роль тарабаганов в распространении эпидемии значило ограничить возможность торговли шкурками, добытыми в опасных районах. Люди, которых оставила равнодушными смерть сорока тысяч человек, забили тревогу, лишь только опасность коснулась их доходов.
— Не доказано! — повторяли купцы и промышленники от Мукдена до Лондона.
Им пришлись по душе решения мукденской международной конференции, позволявшие без всяких мер предосторожности продолжать прибыльный тарабаганий промысел.
Заболотный мог наблюдать не такое уж редкое зрелище, когда опасность потери нескольких миллионов прибыли вдруг превращала равнодушных во врагов. Нейтралитет к силам смерти сменился открытым союзом с ними. Казалось, если надо будет, эти люди пошлют солдат, чтобы отстоять священную неприкосновенность тарабаганов, разносящих чуму, как посылали они уже два раза наемные армии в защиту торговцев, распространяющих опиум.
«Не доказано!»
На это можно было ответить только одно: он и его товарищи не отступят, пока опыт, поставленный природой и обошедшийся в сорок тысяч человеческих жизней, не будет изучен до конца, до той грани, когда появится неоспоримое право сказать: вот причины эпидемии и вот условия, при которых она никогда больше не повторится.
Изучение эпидемии и напряженная борьба с чумой продолжались, хотя маленький коллектив Московского чумного пункта терял человека за человеком...
Одиннадцатого января студент Суворов увидел Лебедеву у одной из фанз на Базарной улице. Когда он подошел к ней, Мария Александровна сказала:
— Я уже исследовала одиннадцать тяжело больных и нашла три трупа, но тут еще много — фанза набита мертвыми и умирающими. Я никогда не видела такого скопления больных.
Суворов хотел войти в фанзу, но она преградила дорогу:
— Незачем, я там была.
— Но вы ведь не боитесь туда ходить?
Она ответила, махнув рукой:
— Мне уж все равно...
Рот ее был повязан марлей, левый рукав и полы халата запачканы кровью. Довольно долго она стояла молча, опустив руки, думая о чем-то. Потом, взглянув на Суворова, негромко проговорила:
— Просто я ужасно устала. — И уже совсем другим, по-обычному спокойным голосом: — Через фанзу на чердак не пройдешь. Надо будет разобрать крышу.
Подошли санитары дезинфекционного отряда и быстро выполнили приказание. По приставной лестнице через пролом Лебедева проникла на чердак. Когда глаза привыкли к темноте, она разглядела: прямо против отверстия лежал труп; влево, в углу, — другой; посреди бился в предсмертных судорогах больной; еще один, в самом дальнем углу, зачем-то обертывал ногу одеялом, потом снова развертывал, очевидно в бессознательном состоянии.
Вечером на совещании врачей Лебедева доложила о новом очаге, открытом на Базарной улице. Вернулась она с совещания в час ночи и сразу легла спать. Через четыре часа поднялась. Было еще совсем темно, но свет она не зажигала, чтобы не разбудить соседей по комнате. Доктор Паллон проснулась и окликнула ее:
— Куда ты, Маша? Ведь еще очень рано.
Лебедева ответила:
— Надо закончить обследование Базарной, там ужас что делается.
За обедом Паллон заметила, что Лебедева немного возбуждена — лицо красное, движения порывистые, и держится она как будто настороже.
Несколько раз Лебедева измеряла себе температуру. К вечеру появился легкий жар. Мокроту послали на анализ в лабораторию. В ожидании результата Лебедева заперлась у себя в комнате и принялась за работу. Она торопилась закончить отчет об итогах обследования своего участка. Работала, не отрываясь, до вечера.
Когда доктор Богуцкий постучался к ней, она отперла и быстро отошла к стенке. На столе лежали черновики и листы отчета, переписанного ровным, разборчивым почерком.
Не давая Богуцкому заговорить, Лебедева сказала:
— Вы пришли — значит, у меня найдена чума. Я этого ждала. — Показав на материалы, добавила: — Возьмите после дезинфекции. Я старалась написать все самое важное. Главный очаг — на Базарной. С ним нельзя медлить. И знаете что еще: надо обратить внимание на других врачей. Ведь каждый может заразиться и потом заразить другого, некому будет тогда и работать. Нельзя жить так, как мы сейчас, — скученно, словно в мышеловке.
РАЗГАДКА МАНЬЧЖУРСКОЙ ЧУМЫ
Ровно через месяц после Лебедевой заболел Илья Васильевич Мамантов. Питомец Александровского кадетского училища, а затем Пажеского корпуса, он нашел в себе силы порвать с привычным укладом и резко изменил весь свой жизненный путь. Еще студентом младших курсов Медицинской академии Илья Васильевич Мамантов работал в Обуховской больнице, потом участвовал в борьбе с эпидемией холеры в Тамбове и Екатеринославе и одним из первых поехал в Харбин, когда там началась чума.
Ожидая результатов анализа, Мамантов лежал в карантине. Часто вспоминался Петька Бесфамильный из одиннадцатого отделения Обуховской больницы, мальчик лет двенадцати с худым, иссиня-бледным лицом. Петька был очень болен, знал о своем состоянии и, когда Илья Васильевич осматривал его, все время повторял одну и ту же, от кого-то услышанную фразу:
— Нет, не жилец я, вот какое дело...
Мамантов тогда проводил целые сутки у постели больного и выходил его, буквально вырвал из рук смерти. Петька начал выздоравливать, но лежал с таким же странным, безнадежным и равнодушным выражением лица.
— Ты что же такой? Скоро выздоровеешь — домой поедешь, — как-то сказал Мамантов.
— А у меня дома нету, Илья Васильевич.
— Где ж ты жил?
— У сапожника, у Никандрова. Отец как отдал меня в ученье, так и помер.
— Ну, к сапожнику пойдешь...
— А зачем я ему такой?.. У него самовар огромный, два пуда, мне теперь ни в жизнь не поднять.
Мамантов взял мальчика к себе и теперь, лежа в карантине, постоянно возвращался к мысли, что будет с Петькой Бесфамильным, если он снова останется один?
Девять анализов дали отрицательный результат, на десятый раз чумной микроб былобнаружен. Уже зная о результатах исследования, Мамантов писал домой в Петербург:
«Дорогая мама, заболел какой-то ерундой, но так как на чуме ничем, кроме чумы, не заболевают, то это, стало быть, чума. Милая мамочка, мне страшно обидно, что это доставит тебе огорчение, но ничего не поделаешь, я не виноват в этом, так как все меры, обещанные дома, я исполнял.
Честное слово, что с моей стороны не было нисколько желания порисоваться или порисковать. Наоборот, мне казалось, что нет ничего лучше жизни, но из желания сохранить ее я не мог бежать от опасности, которой подвержены все, и, стало быть, смерть моя будет лишь обетом исполнения служебного долга. И как это тебе ни тяжело, нужно же признаться, что жизнь отдельного человека — ничто перед жизнью общественной, а для будущего счастия человечества ведь нужны же жертвы.
Я глубоко верю, что это счастье наступит, и если бы не заболел чумой, уверен, что мог бы жизнь свою прожить честно и сделать все, на что хватило бы сил, для общественной пользы. Мне жалко, может быть, что я так мало поработал, но я надеюсь и уверен, что теперь будет много работников, которые отдадут все, что имеют, для общего счастья и, если потребуется, не пожалеют личной жизни. Жалко только, если гибнут даром, без дела. Я надеюсь, что сестры будут такими работниками.

Илья Васильевич Мамантов.
Я представляю счастье, каким была бы для меня работа с ними, но раз не выходит, что поделаешь... Жизнь теперь — это борьба за будущее... Надо верить, что все это недаром и люди добьются, хотя бы и путем многих страданий, настоящего человеческого существования на земле, такого прекрасного, что за одно представление о нем можно отдать все, что есть личного, и самую жизнь.
Ну, мама, прощай... Позаботься о моем Петьке!
Целую всех. Хочу еще написать Саше и Маше, что еще, конечно, успею.
Твой Иля».
Врачи и студенты Лев Беляев, Владимир Михель, Мария Лебедева, Илья Мамантов, сестра Снежкова и многие другие похоронены на харбинском кладбище... Русские люди, освободившие Маньчжурию от чумы, лежат рядом с советскими солдатами, которые через тридцать с лишним лет изгнали из этой страны японских фашистов, и рядом с солдатами китайской Народной армии, умершими за то, чтобы построить на своей земле «настоящее человеческое существование, такое прекрасное, что за одно представление о нем можно отдать все, что есть личного, и самую жизнь».
К весне эпидемия в Маньчжурии героическим трудом русских и китайских врачей была задушена. Но Заболотный и группа его помощников не уехали из Маньчжурии. Теперь, когда чума снова перешла в незримую, скрытую форму, необходимы были все силы, чтобы отыскать ее затерявшиеся следы.
Вскоре около станции Шарасун была замечена эпизоотия среди тарабаганов.
Заболотный вместе со своими помощниками километр за километром обследовал этот район. Во время одного из выходов в поле он заметил тарабагана, который медленно, пьяной, шатающейся походкой шел вдоль железнодорожного полотна. Больное животное было поймано студентом Исаевым. Через день тарабаган умер в лаборатории. Вскрытие показало классическую картину чумы с характерными шейными бубонами.
Теперь должен был сказать свое решающее слово микроскоп. Были приготовлены препараты. Заболотный оказался первым человеком в мире, который увидел чумных микробов, добытых не из крови человека, не из крыс или животных, искусственно зараженных в лаборатории, — он увидел чуму в дикой природе, чуму в своей естественной крепости, созданной тысячелетиями.
Он увидел чуму, которая продолжала жить, хотя эпидемия кончилась, увидел микробов на марше, болезнь на полдороге от одной эпидемии к другой.
Заболотный чувствовал ту горячую, наполняющую все существо радость за силы своей науки, какую испытывает астроном, предсказавший существование неизвестной планеты и вот наконец через много лет увидевший ее, или химик, после тысячи опытов выделивший в своем тигле элемент, им предсказанный, а теперь найденный.
Впрочем, это было не просто замечательное открытие, радостное само по себе, как все, что увеличивает наши знания о природе, но и важнейшая победа жизни над смертью. Свежие могилы, разбросанные по всей Маньчжурии на тысячи верст, напоминали об этом.
Кончилась страшная зима 1911 года. Впервые за свою жизнь, за всю долгую историю науки исследователь имел право сказать, что надо делать, какие условия создать, чтобы такая зима никогда не повторилась.
Из трупа тарабагана были получены чистые разводки микробов. Зараженные этими культурами другие тарабаганы, кролики, морские свинки погибали при явных симптомах чумы. Открытие выдержало важнейшее лабораторное испытание.
Можно было сжечь трупы всех погибших от чумы людей, уничтожить до конца «мертвый мост», о котором столько говорилось, — чума от этого не исчезала. Она не ожидала удобного момента в могилах, а жила в живой природе.
Жила! Теперь никто не имел права отрицать это.
Не микробами, сохранявшимися в трупах, а эпизоотиями, заболеваниями животных, поддерживалась непрерывность существования чумной инфекции. Пауза между эпидемиями могла продолжаться год или затянуться на сто лет. Все равно, опасность существовала. Эпизоотии могли тлеть, вспыхивать и почти гаснуть, пока стечение обстоятельств приведет к тому, что болезнь проникнет в человеческую среду.
Как будто по степи протянулся невидимый бикфордов шнур. Он пересекает степь во всех направлениях — тлеющий, блуждающий огонь эпизоотии. Когда он совпадает с путем человека, может наступить заражение, которое местные жители назовут тарабаганьей болезнью. В дальнейшем, если врач не распознает природы заболевания и больной не будет изолирован, это единичное заболевание при известных условиях послужит причиной возникновения эпидемии...
К 20 июня лабораторные опыты были закончены, и Заболотный из Харбина телеграфировал о результатах в Петербург. Депеша кончалась словами:
«Таким образом, давнишнее предположение о том, что так называемая «тарабаганья болезнь» есть не что иное, как бубонная чума, подтверждается. Наблюдение это имеет большое значение для эпидемиологии чумы, так как объясняет очень просто происхождение чумных эпидемий в Маньчжурии».
Задача, поставленная осенью 1878 года в Ветлянке, была решена через тридцать три года за тысячи километров от Прикаспия. Тридцать три года поисков, опасного труда русских ученых!
Разгадав роль крыс в переносе болезни, карантинные врачи отгородили металлическими кругами на канатах корабельных причалов портовые города от незваных гостей. Чума постепенно была вытеснена из Европы. Вряд ли можно найти в истории науки более простое открытие, которое дало бы такие огромные результаты: от болезни был избавлен почти целый континент.
Крысы оказались первым резервуаром, первой крепостью чумы. Исследования Н. Ф. Гамалеи во время одесской вспышки чумы окончательно выяснили их роль. Заболотный открыл второй резервуар, вторую, тарабаганью крепость чумы. Это означало, что и на другом континенте — в Азии — тысячелетнее царствование чумы приближается к концу.
План борьбы теперь напрашивался сам собой: надо организовать сеть небольших лабораторий в степи. Такие лаборатории смогут заметить и взять под наблюдение каждую вспышку эпизоотии, а затем, оповестив население, простейшими санитарными мерами защитить людей от опасности заражения.
Эти наблюдательные пункты, расположенные по всей степи маленькие лаборатории, сыграют роль молниеотводов. Как молниеотвод ловит своим острием электрический заряд большой разрушительной силы и отводит энергию в землю, так лаборатории, не ставя пока перед собой задачи окончательного уничтожения чумы, уже сейчас могли «отвести» ее в землю, не допустить микробов чумы в человеческую среду, предотвратить эпидемии.
Это было окружение хранилищ чумного микроба. В наше время советская наука решает и другую задачу — задачу уничтожения природных очагов чумы.
Простая формула Заболотного: «эпизоотия среди тарабаганов — человек — эпидемия» — решала проблему маньчжурской чумы.
Но в Прикаспии тарабаганов нет. Наука должна была выяснить, какое животное здесь, в приволжской степи, выполняет роль хранилища чумы.
В ПРИКАСПИИ
В этой истории поколения ученых сменяют друг друга, прокладывая пути к цели, намеченной на десятилетия вперед.
Данило Самойлович и Погорецкий; Кох, Морозов и Минх; Выжникевич и Хавкин; Лебедева и Мамантов.
Каждый участник этого труда знал, что после него придут другие люди, которые продолжат борьбу, — иначе и быть не может.
Великому Павлову принадлежат слова: «Помните, что наука требует от человека всей его жизни. И если у вас было бы две жизни, то и их бы не хватило вам». Не две, а десятки, иногда сотни и тысячи жизней необходимы для того, чтобы идея осуществилась. Значит, все дело в том, есть ли у тебя преемники, продолжатели — вторая, десятая, сотая жизнь, есть ли в твоей идее, в твоей науке, в твоем народе сила бессмертия, подвига, не ограниченного одной, даже самой светлой и благородной, но одной жизнью.
На долю Даниила Заболотного выпало самое большое счастье ученого: видеть, что вокруг тебя собираются ученики, школа молодых исследователей, крепнущая и растущая в опасном труде. Этот отряд исследователей наступает, несмотря на неизбежные потери и то ледяное равнодушие, которым императорский Петербург окружает каждое начинание Заболотного. Чумологи ведут борьбу на широком фронте. И в самый разгар маньчжурской эпидемии Заболотный с напряженным вниманием следит за тем, как работают его товарищи на другом фланге битвы с чумой, в прикаспийских степях — самом старом и самом опасном для России очаге инфекции.
Окончив Казанский университет, молодой врач Ипполит Александрович Деминский вместе с семьей переезжает на работу в Астрахань. Жить трудно. Город поделен между старыми, опытными врачами, и надо отвоевывать у своих коллег практику. Деминский этого не умеет. Целый день он сидит в маленькой приемной, прислушиваясь, не позвонит ли колокольчик у дверей. Тишина. К вечеру, устав от бесполезного ожидания, он отправляется бродить по городу привычной дорогой — к порту, темными, изогнутыми переулками вокруг базара, мимо хибарок, задыхающихся от сырости, слепнущих в темноте. В кармане — новенький стетоскоп [Стетоскоп — трубка, применяемая врачами для выслушивания гонов сердца, легочных шумов и т. п.], еще ни разу не использованный по назначению; теперь кажется, что трубка передает ему, как хрипит этот приморский город, где холера распространяется от базара по переулкам, темнота рождает рахит, где от порта, рыбачьих пристаней вместе с болотной грязью текут ревматизм, чахотка, сердечные заболевания.
Деминский, задумавшись, идет широким, решительным шагом, не разбирая дороги, по лужам. Брызги грязи покрывают ботинки, полы пальто и не сохнут в сырой атмосфере рыбачьего города.
Если бы ему дали время и средства, чтобы изучить все переулки, всех детей, играющих на мостовой, каждого встречного, каждую хибарку с окнами, забитыми досками и тряпьем! Подлая и унизительная нелепость: такая вопиющая необходимость во врачебной работе, а он должен заниматься погоней за практикой...
Он возвращается домой, открывая входную дверь возможно тише, но жена угадывает шаги, встречает в передней, стараясь по глазам узнать, есть ли новости.
— Вызывали к больному? — спрашивает она.
— Нет!
Чтобы не продолжать разговора и еще на несколько минут остаться наедине со своими мыслями, он быстро проходит в комнату и садится за пианино.
— Хочешь есть?
— Нет.
Он играет самую любимую ее вещь. Странно, она никогда не спрашивала, как называется эта, столько раз слышанная ею, пьеса.
Споря между собой, басовые ноты наполняют комнату гневным, рокочущим смешением звуков, и вдруг, сперва почти незаметно, через темные, тяжелые волны, от которых хочется забиться в самый уголок дивана, проступает новое. Холодный стеклянный перезвон. Он повторяется все яснее — свет сквозь тьму. Каждый раз в прозрачный рисунок мелодии вплетаются новые звуки, точно огни, которые раньше угадывались, а теперь стали видимыми. Как будто это город на далеком берегу. Она в нем никогда не была, но знает каждую башню, каждый зубец стен, окаймленных огнями, каждое окно.
Раньше, когда она только познакомилась с Ипполитом Деминским, ей казалось, что эта музыка рассказывает о том, что предстоит им: приплывут же они когда-нибудь к светлому берегу! Но вот они перебрались из Казани в Астрахань, и с каждым днем становится все труднее. Надо платить за квартиру, сегодня хозяин снова напоминал о платеже, а денег нет. Видимо, придется выезжать и из этого дома. Куда?
О каких же огнях говорит знакомая мелодия?
Звуки приближаются. Они становятся ощутимыми, почти видимыми. О каком же светлом береге рассказывает он ей столько лет? Может быть, ей только кажется, что она знает каждую башню и каждое окно далекого города? Да и существует ли он на свете?
На другой день Деминский уходит из дому рано утром и, вернувшись, рассказывает, что он все-таки принял приглашение поступить санитарным врачом на промыслы. Конечно, трудно расставаться с семьей, но что делать — он не может больше сидеть и ждать больных, и он никогда не станет преуспевающим домашним врачом, ангелом-хранителем, спасающим от дамских мигреней.
— Я ведь пробовал... Я просто не могу! И мы как-нибудь проживем.
Она молча кивает головой.
Сняв очки, близоруко и тревожно вглядываясь ей в глаза, он повторяет:
— Я не могу иначе. Можно пожертвовать для любимого человека всем, разумеется и жизнью, но нельзя отдать самое святое, что есть в жизни, — цель ее. Как после этого жить? Точно в сказке — продать душу чорту? Ты ведь не требуешь этого от меня?
НА ПРОМЫСЛАХ
Ипполит Деминский выезжает из Астрахани на рассвете в старом крытом возке, пропахшем дегтем и рыбой. Улицы расползаются в переулки. За свалками, огородами, пригородными пустырями начинается степь. В лицо пахнуло горячим запахом подсушенных солнцем трав. Редкие холмы, как островки в море, выступают из глубокой утренней синевы, затопившей низины. На одной из невысоких конических вершин четко рисуется силуэт суслика, настороженно стоящего на задних лапках около норы.
Дорога успокаивает. Холмы приближаются, теряя очарование дали. Выбитые, покрытые выжженной травой вершины плывут мимо, скрываясь за кожаным верхом кибитки, как горбы огромных верблюдов.
Степь входит в сердце, тревожит, окружает со всех сторон. Думает ли Ипполит Деминский, что в этих открытых ветрам пространствах он проведет все оставшиеся годы, что здесь найдет цель, для которой стоит жить?..
Он приезжает на место работы к вечеру и, даже не оглядевшись в маленьком закутке старого барака, отведенном под врачебный пункт, идет осматривать промыслы.
Проводник ведет его по берегу протоки, заросшей кустарником и камышами. Неожиданно он резко останавливается. Под ногами крутой обрыв. В глубине возникает нечто более плотное, более черное, чем окружающая вода. Хищная усатая голова огромной рыбины на мгновение выглядывает и исчезает. Но через секунду тень мелькает снова. Как бы обеспокоенный присутствием человека, сом кружит, кружит, то уходя вглубь, к илистому дну, к холодным донным ключам, то с силой выбрасываясь из воды.
— Самку бережет! — поясняет проводник.
К ночи Деминский возвращается в свой барак. Устанавливает на шатком столике микроскоп, стойки с пробирками — несложное лабораторное оборудование, купленное перед отъездом на последние деньги.
В щели окон дует. За стеклом плывет иссиня-черная степь с пятнами солончаков, посеребренными, оледеневшими в беспокойном лунном свете.
С утра следующего дня начинается прием. Несколько недель подряд все время отнимает осмотр больных и посещение бараков.
Неожиданно приходится бросить работу на промыслах. В ста верстах, в киргизском кочевье, — эпидемическая вспышка. Подозрение на чуму. Впрочем, Деминский приезжает слишком поздно. Пока в Астрахань шло сообщение о болезни, пока там думали, кого из немногих работающих вблизи врачей послать в кочевье, пока, наконец, скакал к промыслам нарочный, останавливаясь передохнуть в редких придорожных трактирах, болезнь выкосила все население юрты — семь человек — и исчезла.
Вокруг — степная пустыня. В юрте, под простыней, обильно смоченной сулемой, лежат трупы. Из живых — только доктор Клодницкий с двумя санитарами; вернувшись накануне в Астрахань с другой чумной вспышки, Клодницкий был послан на помощь Деминскому.
В два часа ночи врачи кончают работу. Теперь здесь ничто не напоминает о человеческом жилье — все сожжено. Еще несколько порывов ночного ветра — и даже пепла не останется, даже запах гари исчезнет.
Спать не хочется. Пока санитары кипятят чай, Клодницкий думает вслух:
— Вот и еще одну «победу» одержали. Так, что ли? Бродит чума по здешним местам на привязи в тысячу верст, кружит от кочевья к кочевью, а мы по ее следам — похоронной командой... Когда же мы найдем истоки болезни? И найдем ли?
— А как вы относитесь к высказываниям Заболотного о значении диких грызунов в распространении чумы? — спрашивает Деминский.
Клодницкий не торопится с ответом.
— Что вам сказать? — говорит он наконец. — Ведь все это гипотезы, а подтверждения им мы в наших местах столько времени не можем найти, что невольно возникает сомнение — найдем ли когда-либо? Искать будем, это долг наш, но найдем ли?
Деминский прощается с доктором Клодницким — пора возвращаться на промыслы.
Лошадь идет шагом, он не торопит ее. Он вспоминает слова Клодницкого и недавно прочитанные статьи Заболотного, все значение и смелая, дерзкая сила которых стали ему по-настоящему ясны только сейчас. «Бродит чума на привязи». Что же это за «привязь»? Живой мир степи?
Из множества болезней, с которыми он встретился за последние недели, во время работы на промыслах, две самые опасные связаны корнями с этими местами, как бы вросли в них. Корни холеры тянутся к волжским протокам; чума, судя по литературным данным и рассказам Клодницкого, также имеет прочные корни в астраханской степи. Нужно отыскать и проследить эти корни, чтобы рассечь их.
Так он вступает на путь, которым пройдет до конца жизни.
...Я перечитываю обидно скупые и отрывочные документы о жизни Деминского, дошедшие до нас из недавнего прошлого, и в который раз за время работы над этой книгой думаю: что определило, что заставило Деминского, его предшественников и друзей по труду выбрать именно эту дорогу, самую опасную из всех, которые может избрать честный и смелый исследователь? Почему Минх от проказы переходит к чуме и, не думая об опасности, прививает себе возвратный тиф, даже не упомянув затем в работе, посвященной этому опыту, что эксперимент проводился на нем самом? Почему Заболотный, пройдя через такую нелегкую жизнь, через столько смертей, в годы гражданской войны, когда сыпной тиф угрожал Советской республике, отказывается от спокойной исследовательской работы, чтобы вместе с другими эпидемиологами принять на себя и эту опасность? Почему советский ученый Берлин в героическом опыте, пройдя по грани, отделяющей жизнь от смерти, приступает к другому, еще более опасному эксперименту, который оказался последним в его жизни?
Почему идут они этим грозным и трудным путем, отказываясь от личного счастья?
Впрочем, разве может быть большее и более личное счастье, чем чувство, что ты всегда там, где необходимо, где труднее и опаснее всего! Слишком большая и прекрасная цель стоит перед глазами, чтобы думать о собственной жизни!
...Конь идет медленно, иногда останавливается, чтобы пощипать сухую траву. Всадник не тревожит его поводом.
Там, в Астрахани, во время скитаний по базарным и пристанским трущобам за болезнями, которые Деминский взглядом врача угадывал почти в каждом встречном, ясно вырисовывалась и общая причина всех этих страданий: нищета, безысходная жизнь в непосильном труде, грязи и темноте.
Теперь, после ночи в киргизском кочевье, возникала гораздо более сложная картина. В Астрахани за постелью больного врач видел больной город. Здесь за больным городом вставала природа, где болезнь также имела свои обиталища.
На промыслах ждала обычная работа. Окончив прием, Деминский отправлялся в поход по ильменям и волжским протокам. Вернувшись, он тщательно изучал пробы, взятые во время этих странствований. Культуры давали типичную для холерного вибриона картину роста. В положенный срок питательный белковый раствор покрывался нежной, едва видимой пленкой. Стекло с мазком проводилось через генциан-виолет, раствор Люголя, спирт и фуксин. Под действием этих жидкостей — бактериальных красителей — одна группа бактерий окрашивается в синий цвет, другая, включающая в себя микробы холеры и чумы, сначала обесцвечивается, а затем воспринимает окраску фуксина.
Бактерии, как это свойственно культуре холерного вибриона, неизменно окрашивались в красные тона.
Очевидно, со сточными водами микробы во время эпидемий попадали из окрестных сел в русло Волги и по протокам реки пробирались к городу.
Походы становились все продолжительнее. Иногда следы холеры терялись: культура не вырастала на питательном растворе. Дорога инфекции пропадала. Новая черточка на карте, восстанавливающая путь болезни, стоила недельных скитаний, десятков и сотен проб.
Иной раз от усталости и убаюкивающего однообразия степи Деминский засыпал в седле. Потом просыпался. Степная даль терялась в знойном мареве. Казалось, только сейчас на этой вершине он расстался с Клодницким, после того как с такой пугающей легкостью были стерты все следы существования вымершего кочевья. Степь, широкая, просушенная и прогретая солнцем, открытая всем ветрам, — степь, запахами которой тогда, в день выезда из города, он дышал и не мог надышаться, теперь представлялась совсем другой.
Деминский соскакивал с коня и шел пешком против ветра. Было приятно чувствовать сопротивление воздуха и преодолевать его — точно воздух сгущался впереди и путь пролегал через невидимые стены.
Так и предстояло ему пройти через жизнь — против течения, дорогой Заболотного, встречая все большее сопротивление, но не теряя воли к движению, подобно птице, которая, опираясь крыльями на встречное воздушное течение, поднимается в воздух.
Осенью Деминский вернулся с промыслов в Астрахань. Он сильно похудел, лицо покрылось почти черным загаром. С промыслов он привез карту, где обозначены были водоемы, зараженные холерой, и записку о мерах, необходимых для предотвращения эпидемий. Поздно вечером после долгого разговора жена спросила его:
— Ты даже не видишь, что у нас переменилось?
Он внимательно оглядел комнату:
— Пианино? Ну, и правильно сделала, что продала.
Голос его прозвучал так равнодушно, что она даже вздрогнула. Все-таки музыка связывала их, приближала прошлое, те дорогие, общие или казавшиеся общими мечты, которые были у них.
Прежде чем нести записку городским властям, Ипполит Александрович прочел ее своему доброжелателю — старому астраханскому врачу Горбунову. Тот слушал молча, часто поднимался со стула и прохаживался по комнате. Надев пенсне, Горбунов очень долго рассматривал карту промыслов и вдруг, стоя спиной к Деминскому, с непонятным раздражением сказал:
— Однако не берусь судить. Это из горних областей наук, кои модны сейчас, а я — земной, в стародавних земных идеях воспитан, ближе к маленькому, простому человеку. Воспитан в идее, что ежели врач, врачеватель — от этого же слова титул наш происходит — никого не убил, не залечил по небрежности, или незнанию, или лени, а к тому же пятерым человекам, десятерым или — о чем мечтать можно — сотне, тысяче людей помог избавиться от досрочного путешествия через реку мертвых Стикс, то прожил он недаром и достоин если не памятника, то памяти народной. А тут — эксперименты, гипотезы, к судьбе маленького, простого человека и к врачеванию отношения не имеющие. С куриной своей точки зрения судить не берусь. Увольте! — Снимая с носа пенсне, зло добавил: — Да и, простите уж за резкость, в полет собирается человек, который своего гнезда не свил, семью не обеспечил, птенцов не вывел на путь жизни...
Несколько секунд Деминский сидел, не поднимая головы, перелистывая страницы записки, потом, запинаясь, с видимым трудом проговорил:
— Что вы, Николай Алексеевич, почему вы так? Ведь и не моя это вовсе идея. И разве все дело в том, чтобы помогать человеку, когда смерть уже навалилась на него и душит? А что, если встретить ее в поле, не допустить ее к этому самому маленькому человеку, для которого вы столько сделали в жизни? Что, если попытаться уничтожить хотя бы некоторые болезни в городе? И почему только в городе? В стране, на Земле вообще! Ведь возможно это, ведь мечтает и работает над этим Заболотный? Что же касается семьи...
Не давая ему договорить, Горбунов подошел быстрыми шагами и, крепко обняв Деминского, торопливо и совершенно неожиданно сказал:
— Вы уж не принимайте близко к сердцу и забудьте. Это я все с куриного своего насеста. Крылья у вас соколиные, это я очень чувствую и знаю, и всегда знал. Но только долетите ли? Долететь вам — и не упасть, не разбиться...
Не прощаясь, Горбунов накинул на плечи старомодную крылатку и зашагал к двери.
Лететь действительно было трудно.
Записка совершала свой медлительный путь от одного губернского чиновника к другому.
Наконец, через четыре месяца, Ипполит Александрович добился приема. У чиновника, которому поручили рассмотрение его дела, были красные от склеротических жилок глаза и дряблые щеки. Обтрепанные рукава форменного мундира, позеленевшего от времени, свидетельствовали о бедности и служебных неудачах.
Деминский говорил, все больше увлекаясь, выходя из рамок темы, о том, что фильтры для очистки воды и система санитарного надзора — это только начало, а дальше необходимо произвести широкое эпидемиологическое изучение всего района Астрахани.
— Да об этом и говорится в записке. Вы, разумеется, обратили внимание! На очереди изучение чумы. Разве не сжимается у вас, как и у каждого астраханского жителя, сердце тревогой, когда вы читаете известия о маленьких чумных вспышках, то и дело появляющихся в степи!
Чиновник слушал, полузакрыв красные, воспаленные глаза. Деминский продолжал:
— Сейчас нет возможности сделать такое заключение о холере, но чума свойственна этим районам, живет здесь. Быть может, только громадные пространства не позволяют отдельным искрам слиться в единое целое, но ведь завтра население степи может резко возрасти! Не правда ли? Открытие полезных ископаемых, — а к этому признаки есть, — освоение для земледелия поймы Волги и песчаных степей — все это должно вызвать приток колонистов, если не сейчас, так через десять — двадцать лет. Имеем ли мы право с чистым сердцем распахнуть двери перед ними? А что, если болезнь вырвется из здешнего степного заточения? В этом-то и заключается главная, всенародная опасность эндемических очагов, о которой предупреждает нас Даниил Кириллович Заболотный.
Деминский замолчал, неожиданно почувствовав усталость. Было ощущение, что слова, как камни, брошенные в бездонный колодец, летят, летят, человек прислушивается до звона в ушах и не может уловить даже всплеска — знака того, что камень достиг дна.
Черные злые губернские мухи, вспоенные горькими чернилами безнадежных просьб и неправедных решений, монотонно жужжа, бились о стекла. Даже мухам тут было тяжело и душно. Пыль черной каймой оттеняла изгибы низкого лепного потолка.
Чиновник молчал, терпеливо ожидая, не хочет ли проситель добавить еще что-то. Убедившись в бесполезности ожидания, сухим, деревянным голосом, с примерной четкостью произнес:
Нецелесообразно!
И протянул записку, на углу которой было изображено то же самое решительное слово.
Прождав минуту и понизив голос почти до шопота, чиновник добавил:
— Предполагали к месту определиться? Вижу! Вижу и сочувствую. Или подряд-с? Сейчас многие с прожектами являются. Однако сие так совершиться не может. Рука нужна или мзда-с... — Он широко открыл выцветшие глаза с желтоватыми белками, с красными жилками пораженных склерозом сосудов и, посмотрев в упор на Деминского, повторил: — Или мзда-с!
ВТОРАЯ ПОБЕДА
Только на улице дошел до Деминского весь оскорбительный смысл последних слов чиновника. Идея была похоронена, едва появившись на свет. Впрочем, и теперь Деминский всей душой знал, что эту идею об изгнании болезней не только за пределы города, но и за границы страны, а потом и со всего земного шара — пусть сейчас она кажется фантастичной — похоронить нельзя, что мир без болезней возможен, как возможен мир без нужды и голода.
...Из Астрахани Ипполит Деминский уезжает работать санитарным врачом на Баскунчакские соляные промыслы. Это самый северо-восток губернии. За озером тянутся пески, сменяющиеся на востоке такими же мертвыми солончаками; только гора Богдо — единственная вершина, виднеющаяся на горизонте, — оживляет однообразный и невеселый пейзаж. Иногда начинают дуть ветры, воздух наполняется мириадами колючих песчинок, становится горячим и упругим, волны песков оживают, накатываются на травы. На границах степи пески пытаются разорвать корни окутывающих их растений. Тогда видно, что природа здесь не просто невеселая, а опасная и трудная, вечно угрожающая человеку суховеями, пылевыми бурями, наступлением песков.
Опасная и трудная природа — это не значит, что она навсегда должна оставаться такой. К Деминскому в гости приезжает замечательный ботаник и лучший, еще гимназический товарищ — Сергей Коржинский. В свободные часы они обследуют окружающие территории. Семена и побеги кустарников, стелющихся трав, собранные на первой линии сражения между степью и пустыней, привозятся в Баскунчак и тщательно выращиваются на самых трудных почвах. На промыслах появляются заросли кияка, распластавшего по ветру свои узкие и длинные листья, джузгана, гребенщика.
В песках Деминский устраивает форпосты опытного сада. Он отдает этому делу все свободное от врачебной работы время. После особенно жестокой песчаной бури вместе с Сергеем Коржинским они идут проверить эти передовые посты, откапывают своих питомцев, убеждаются, что пожелтевшие от жары и измученные жаждой травы все-таки не сдались, сопротивляются ветру и разветвленными корнями крепко держат пески. Когда проверка окончена и товарищи возвращаются домой, на промыслы, Коржинский говорит:
— Рано или поздно ты изменишь своим микробам. Быть тебе ботаником, а не врачом — это у тебя в крови.
Подумав, Деминский отвечает:
— Конечно, я останусь врачом, это мое дело на всю жизнь, пусть бы я прожил хоть до ста лет. Но знаешь, мне действительно хочется как-то раздвинуть рамки профессии — лечить землю от чумы, холеры, суховеев, засолонения.
Сад на промыслах зеленеет, разрастается на закрепленных травами участках. Деминский пытается высаживать молодые дубки. Деревцам не хватает воды, но врач добивается того, что в районе промыслов начинают бурить первую в этих краях артезианскую скважину; теперь и рабочие промыслов и лесные посадки получат вдоволь воды.
Впрочем, на работы в саду, на «зеленые паузы», как называет их Деминский, времени почти не остается. В месяцы и годы после той памятной встречи с Клодницким жизнь Деминского определяется вспышками чумы. Приходит извещение — и через степь и месту тревоги мчится отряд врачей и санитаров. Как тогда на кургане, сжигаются все вещи, принадлежавшие больным, сжигаются трупы — словом, совершается все, что рекомендует наука. А болезнь проходит через огонь, появляется вновь за сто или двести километров.
После работы, измученный, но не опечаленный, а скорее разгневанный бесполезностью принятых мер, Деминский пишет друзьям в Астрахань:
«Кричите, что мы делаем совсем не то, что огнем чуму не истребить. Не стражник и санитар, а эпидемиолог должен разгадать загадку чумы».
Крик тонул в степных пространствах.
В Астрахани считали, что стражник, санитар и огонь — это все, чего достойна чума. Господин губернатор на совещании, несколько видоизменяя привычную формулу, произнес:
— Огнем и строгостью.
Погибал последний больной, и ассигнования прекращались.
Однажды молодой врач спросил Деминского:
— Как можно к этому привыкнуть, Ипполит Александрович, — быть все время под угрозой чумной смерти?
Деминский рассеянно потрогал начинавшую седеть бородку и, внимательно посмотрев на собеседника, сказал:
— Тут, коллега, нет времени думать о смерти — работы много! А вам я бы посоветовал, прежде чем окончательно избрать специальность, подумать о том, сможете ли вы вынести эти вечные скитания от одного чумного очага к другому и захочет ли семья ваша мириться с вечной нуждой? Работа наша интересная, завидная даже, но она требует от врача всей его жизни. Вот об этом подумайте, пока не поздно.
Всего естественнее было предположить, что роль главного переносчика инфекции, которую в Монголии играет тарабаган, в Прикаспии выпадает на родственный вид грызунов — сусликов. Но «так может быть», даже «так должно быть» еще не значит, что «так и есть».
В 1911 году экспедиция Ильи Ильича Мечникова прошла через приволжские степи. Великий русский ученый вместе со своими помощниками добыл и изучил в лабораториях по всем правилам микробиологической науки множество сусликов, пойманных в норах и погибших в степи от неизвестных причин. Были приготовлены сотни культур, рассмотрены под микроскопом тысячи препаратов.
Экспедиция Мечникова как бы вскрыла степь, как вскрывает патологоанатом тело, чтобы выяснить причины смерти. Но и вскрытая, «отпрепарированная» степь не выдала своего секрета. Никаких признаков чумного микроба не было найдено.
В месяцы самых тяжелых разочарований пришла весть из Маньчжурии о решающих результатах, полученных Заболотным на том далеком участке битвы с чумой. Заболотный возвращался в Москву настоящим победителем и вез с собой двадцать тарабаганов, чтобы передать их чумному форту для дальнейших опытов.
Деминский читал и перечитывал опубликованные во «Врачебной газете» короткие заметки, рассказывающие о работах Заболотного. Ведь это победила вся та школа микробиологов, которые, рассматривая чуму как частичку окружающей живой природы, здесь, в живой природе, ищут плацдарм, где болезнь может быть и будет побеждена.
Приближались решающие события и в Прикаспии.
На десятки километров раскинулись вдоль Волги слобода Рахинка и окружающие ее, разбросанные в степи хутора. В этот год беда обрушилась на Рахинку: сусликов развелось видимо-невидимо. Казалось, поле шевелится от разжиревших зверьков. Нашествие грызунов, пожиравших посевы хлебов, угрожало голодом.
На борьбу с сусликами вышли все свободные от полевых работ жители слободы, главным образом старики и дети.
Семилетняя Маша Морозова с хутора Романенко вернулась из степи вместе с другими ребятами, а наутро не встала: стонала, плакала, не могла оторвать от подушки пылающую голову. Это была первая жертва эпидемии.
На огромный уезд с населением в полмиллиона человек имелось только четырнадцать врачебных участков; пять из них — на замке, остальные — без медикаментов.
Эпидемия, начавшись в хуторе Романенко, беспрепятственно перекинулась на другие хутора. Только тогда губернское начальство обратило внимание на опасную вспышку чумы.

Ипполит Александрович Деминский.
Всю дорогу из Астрахани в Рахинку Деминский молча сидел в тряском возке рядом с доктором Забалуевым. Лицо у Деминского было напряженное; он часто наклонялся вперед, точно хотел этим ускорить движение, потом откидывался на мягкое сено, закрывал глаза, будто дремал.
Со степи тянуло холодом.
— Нетерпение у вас, точно на свидание торопитесь, — проговорил Забалуев.
Деминский помолчал, потом, всем корпусом повернувшись к Забалуеву, сказал:
— Простить себе не могу, что упущено столько времени! Вы помните те места? Ведь в пяти километрах хутор Перевоз-никова, где в тысяча девятьсот третьем году началась быковская эпидемия. Два пожара из одного очага! И в донесении сообщается: эпидемии предшествовала массовая эпизоотия. Тут уж нельзя не достичь цели.
Позади, в клетке, устланной сеном, покачивались лабораторные морские свинки — всегдашние спутники Деминского.
Приехали ночью. С трудом разыскали участкового врача. Тот вышел на крыльцо сонный, в накинутом на плечи пальто. Лицо у него было равнодушное, а может быть, просто усталое. Он постоял, прислушиваясь к лаю собак, и повел на участок. Шел впереди, сгорбившись, кутаясь в пальто, держась середины улицы: «А то собаки загрызут, тут злые».
На врачебном участке, в пустой бревенчатой комнате, участковый врач раскрыл шкаф и бросил на стол маленькую коробочку:
— Алямат. Так киргизы говорят в подобных случаях: «общая беда». А у меня два грамма хинина, стол и лампа без стекла — это для того, чтобы ярче освещать путь к прогрессу.
Не отвечая, с непонятной поспешностью, Деминский раскладывал хирургический инструментарий, приборы, химикалии и лабораторную посуду, привезенные с собой. В привычном порядке расположил бактериальные красители: генциан-виолет, раствор Люголя, спирт, фуксин.
Закончив работу, сел на лавку в углу. Оттуда, из темноты, сказал:
— Десятая моя походная лаборатория. Быть может, последняя? Тут природа раскрывает свои карты. Чувствуете: сама чума дышит вокруг нас... Знаете, я в Астрахани прочел донесение дьячка из хутора Романенко. Он пишет о сусликах: «ползали, как пьяные». Между прочим, Заболотный точно так же рассказывает о своем тарабагане: «шел, шатаясь, пьяной походкой». Какое странное совпадение формулировок!
Подумав, еще раз повторил:
— Знаменательное совпадение!
Под утро привезли труп умершего больного. Деминский вскрывал, а Забалуев светил ему керосиновой лампой.
Работали без масок, молча. Дышали через нос, по привычке, создавшейся за долгие годы, медленно и ровно втягивая воздух. Деминский вспомнил слова Клодницкого: «Чумологу нельзя волноваться: вздохнешь всей грудью — вдохнешь смерть».
Обернувшись, Ипполит Александрович показал на лампу. Забалуев понял: уже светло, можно гасить свет.
Кончив вскрытие и приготовив препараты, Деминский сел за микроскоп и почти сразу уступил место Забалуеву. Мазок, взятый из селезенки, был забит микробами.
Вот и опять он рядом с болезнью — рукой можно дотянуться. Который раз он рядом с чумой с того дня, когда впервые встретился с нею на памятном кургане!
Весь день Деминский занимался устройством лаборатории. Особенно тщательно следил, как оборудовали боксы — изоляторы для подопытных животных. Он то и дело торопил плотников.
Когда к вечеру вышли на улицу, Забалуев сказал:
— Вам здесь, видимо, надолго оставаться. Кто знает, на сколько затянется эта чумная вспышка. Надо больше осторожности соблюдать, Ипполит Александрович, а то в нашем деле...
Деминский перебил:
— Прикажете ждать, пока пришлют маски, стерильную одежду и все прочее? Сколько же ждать — сколько дней, недель? Королеву Чуму победить можно, и победим. А королеву Тупость... Нет уж, я предпочитаю сейчас же сцепиться с болезнью, как говорится, грудь с грудью. И так столько времени упущено — минуты жалко.
Вечером следующего дня распрощались с Забалуевым — тот уезжал в Саратов с докладом.
Деминский остался один.
Он добывал сусликов, полевых мышей и тушканчиков в самых различных районах окружающей Рахинку степи. Вскрывал сотни казавшихся больными грызунов, но ясных результатов не получалось. «Подозрительные культуры, полученные мною от сусликов, так и остаются подозрительными, — писал он Клодницкому. — Есть хорошие цепочки, ясная полюсность, но слаба вирулентность. Мыши падают только при заражении в брюшину. Сегодня-завтра должны пасть две свинки, очень больные. Не знаю, что-то выйдет...»
Свинки пали, однако и на этот раз нельзя было бактериологически определить чуму; картина, открывавшаяся в поле зрения микроскопа, допускала разные толкования.
Тогда он решительно изменил методику исследований и не убивал пойманных в степи подозрительных сусликов, а ждал, пока они сами погибнут: давал чумным микробам, если они есть в крови животных, возможность шире расселиться, полнее овладеть организмом, проникнуть в кровь, чтобы легче было их обнаружить. Только после естественной смерти грызуна, и сразу после смерти, когда бы ни наступала она — днем или ночью, производил вскрытие. Но и теперь, при этой новой методике, чумных микробов в трупах сусликов обнаружить не удавалось, а значит, нельзя было доказать, что животные погибают от чумы, а не от какого-либо другого заболевания. Деминский не отчаивался: ведь природа ведет свой опыт на миллиардах экземпляров, может быть поражая одного суслика на тысячу, на миллион. Тут надо надеяться не на случай, не на удачу, а только на всемогущество последовательного и неутомимого человеческого труда.
Этот труд и заполнил его жизнь в Рахинке.
В письме домой он писал: «Жалею об одном — нет у меня двадцати рук». Письмо ушло в Астрахань, унося в далекий город неясный запах, оставшийся после дезинфекции.
В тот же день приехала «вторая пара рук» — высокая сутулящаяся девушка с близорукими серыми глазами. Не давая ей представиться, Деминский недовольно проговорил:
— Не женское это дело, голубушка. Поезжайте-ка обратно, так лучше будет!
Словно не услышав его слов, она, сильно окая, отрекомендовалась:
— Елена Меркурьевна Красильникова. Верно, боитесь, что хлопот со мною много? А я-то привычная.
— К чуме?
— Вообще. К делу привычная!
Оглядевшись, спокойно села к столу и, видимо желая уничтожить последние сомнения, добавила:
— Прошлый год на шхуне ходила до Персии фельдшерицей. Холера у нас на корабле началась — ничего, справилась.
Елена Красильникова осталась в Рахинке. Сумел ли бы он выполнить всю ту работу, которая нахлынула, без этой второй пары неторопливых, очень умелых и сильных рук, без этой спокойной девушки с ясной головой и самоотверженным сердцем? Вскрытия, десятки животных под опытом. Выезды на хутора к больным. Наблюдение за течением эпизоотии в степи.
Домой возвращались обычно вместе. Переодевшись и тщательно продезинфицировав лицо и руки, Деминский садился за стол напротив Красильниковой, расспрашивал ее:
— Нашхуне плавали, теперь работаете на эпидемии. Разве нельзя найти дело поспокойнее?
Она немногословно рассказывала:
— Отец у меня прошлый год совсем ослеп. Зимой я учусь в Москве на Женских медицинских курсах, а летом надо на жизнь заработать ему и себе, хоть немного.
— Но разве трудно найти другую работу?
Девушка недоуменно пожимала плечами:
— Эта чем плоха? Эту тоже надо исполнять.
И сразу переводила разговор на другую тему.
К сентябрю эпидемия была пресечена. Сразу же, с обычной для астраханского начальства скоростью, последовало распоряжение свернуть лабораторию.
Деминский отказался выполнить приказ. Результатов еще не было — под опытом находилось сорок два суслика; были среди них животные с очень подозрительной клинической картиной. И главное, хотя целый месяц не отмечено новых заболеваний среди людей, эпизоотия в степи продолжается.
Он писал в Астрахань, что надо не сворачивать, а развернуть во всю ширь бактериологические исследования. Длинное и горячее письмо кончалось просьбой: «Пришлите опытного помощника. Работы приняли такой размах, что вдвоем справиться просто немыслимо».
Из Астрахани вновь подтвердили, что губерния объявлена по чуме благополучной и, следовательно, продолжать бактериологические изыскания нецелесообразно. Для убедительности сообщали, что отпуск средств уже прекращен.
Он отложил письмо. В окно видно было: стадо шло со степи, поднимая тучи пыли. Солнце еле выглядывало из-за крыш домов, багровое и тусклое.
— По домам! — сказал Деминский. — Вот и нам приказывают: «По домам!» Вы бы, Елена Меркурьевна, уложились — и в путь. А то сообщают, что денег на содержание лаборатории присылать не будут. Там ох какие решительные!
— И вы уезжаете? — спросила Красильникова.
Он быстро подошел к ней почти вплотную, сказал, непривычно повышая голос (только в этот момент Красильникова поняла, насколько он взволнован):
— Не уеду! Не дождутся! Уехать может преступник, хуже чем преступник, потому что равнодушие всегда хуже, чем зло. Вчера сами видели в степи: дохнут грызуны. Тридцать дней нет смертных случаев среди людей, а в губернии, объявленной по чуме благополучной, продолжается нерасшифрованная, неизученная, неразгаданная, а значит, в сто раз более опасная эпизоотия. Пусть они там не желают ее замечать. Надо быть преступником, чтобы уехать, ничего не найдя, не кончив дела!
Она ответила, сильно окая, больше чем обычно растягивая слова:
— А я-то что ж, по-вашему, преступница? Тоже останусь!
Он не стал спорить, в глубине души искренне обрадовавшись такому решению. Сказал, пожимая ей руку:
— Большое вам спасибо! Даже не знаю, как бы я без вас... Напряженная работа продолжалась круглосуточно.
Суслик номер семнадцать умер ночью. Деминский шел в лабораторию, чтобы вскрыть погибшее животное. Уже приближалось утро — в конце улицы светлела узкая полоска неба. Ипполит Александрович шел быстро, наклонив голову, не оглядываясь по сторонам. Номер семнадцатый занимал его очень: такое острое и бурное развитие болезни обещало интересные результаты.
Вскрывая, Деминский принуждал себя к обдуманным и медленным движениям.
Наклонился, изучая поверхность органов, изуродованных характерными бугорками. Признаки скопления микробов, наводнивших лимфатические узлы, прорвавшихся через все барьеры в кровь грызуна. Очень похоже на чуму!
Очень похоже!
Низко наклонился, близоруко рассматривая всю эту картину и запоминая каждую деталь. Сердце колотилось так сильно, что не удержался, сильно вздохнул. В ту же секунду резким движением выпрямился.
Похоже на чуму. Как будто он нашел наконец то, что искал.
Приготовил посевы на агар-агаре, стекла с мазками. За окном только еще светало. Сел к микроскопу и, уловив зеркальцем микроскопа неяркий луч, медленно двигая предметное стекло, стал наблюдать. Под большим увеличением проплывали скопления эритроцитов, разорванные мышечные волокна, лимфоциты. При новом движении из темноты выплыла группа окрашенных фуксином микробных тел со светлыми полюсами.
Смотрел, не отрываясь, так напряженно, что начали болеть глаза.
Разве это не сама чума выплыла из темноты? Чума или нечто неотличимо сходное с нею.
Тут же в лаборатории написал старшей дочери в Петербург:
«Могу сообщить тебе кое-что приятное. Мне удалось получить чумную культуру из суслика, доставленного нам для исследования из степи. Таким образом, вопрос о том, что степные грызуны, по крайней мере суслики, заражены чумой и, вероятно, являются носителями чумы, разрешен в положительном смысле. Такого же чумного суслика нашел Бердников в другой лаборатории, находящейся в степи, в восьмидесяти верстах отсюда».
С двух концов материка болезнь вечно угрожала России — из Маньчжурии и со стороны Каспийского моря. Отсюда она прорывалась то грозными эпидемиями, как в Ветлянке, то маленькими, но опасными вспышками.
Теперь шла подготовка к тому, чтобы уничтожить самую возможность появления чумных бурь.
То, что Заболотный доказал в Маньчжурии, подтверждалось в Прикаспии на другом виде животных.
Чума — болезнь не человека, смело провозглашала русская наука, чума — болезнь крыс, сусликов и тарабаганов. Только тут, в мире грызунов, этом самом многочисленном отряде млекопитающих, микроб имеет все необходимые условия для вечного существования. Возбудитель чумы лишь случайно попадает в человеческую среду. Эпидемии среди людей, как бы опасны они ни были, — это тупиковые линии, начало которых всегда лежит в земле, в подземных жилищах грызунов. Здесь коронные владения чумы. Здесь быть решающему бою, и только здесь может быть одержана действительная, а не мнимая, не временная победа.
Деминский шагал по лаборатории из угла в угол, по привычке согнув в локтях и держа осторожно на весу еще не продезинфицированные руки. На столе у окна, под объективом большого увеличения, лежали чумные микробы. Чума обнаружена в трупе суслика, павшего между хуторами Перевозникова и Романенко — в опасном очаге, который дважды вызывал эпидемические вспышки. Значит, было найдено то, что предсказывали и предчувствовали многие ученые, но не видел еще никто, то, о чем десятилетиями шли непрекращающиеся споры, то, от чего зависела судьба всей работы по искоренению чумы в астраханской степи.
Микроскоп тянул к себе невидимыми нитями. Прошло совсем немного времени, а уже хотелось открыть термостат, посмотреть, как растут посевы на агар-агаре. Через несколько дней из этих посевов будут приготовлены разводки культур. Введенные подопытным животным, культуры скажут, чума это или нет, победа истинная или только кажущаяся. Глаз может обмануть, опыты на животных не обманут.
Теперь наконец Деминский услышал, что кто-то стучит в дверь.
— Это вы, Елена Меркурьевна? Отчего в такую рань?
Посмотрел в окно и невольно улыбнулся: уже перевалило за полдень, солнце было высоко, невеселое, утопавшее в по-осеннему холодном небе.
— Завтракать? Сейчас, только переоденусь... Нет, отчего же странный голос? Ничего не случилось, голубушка Елена Меркурьевна... Все идет на лад.
Позавтракал и снова ушел в лабораторию. Работал до ночи.
Убрав микроскоп и препараты, вышел на улицу. По облакам, ныряя и появляясь вновь, быстрой лодкой мчалась луна в серебристом кольце, предвещающем перемену погоды. Улица замерла, темнели ряды домов. Даже собаки не лаяли. Как будто весь мир, кроме Рахинки, мчался в этот час вместе с луной к неведомой цели.
Воздух был свежий, приятно холодил грудь.
Оставались считанные часы до момента, когда культуры на агар-агаре вырастут, позволят поставить эксперименты, которые дадут окончательный ответ на вопрос о природе и судьбах астраханской чумы.
Опыт шел своим чередом, не нуждаясь во вмешательстве исследователя. Деминский постарался заставить себя думать совсем о другом. Он был несправедлив к своим — теперь надо все изменить. Может быть, попросить отпуск и поехать вместе с женой и детьми в Петербург, в чумной форт? Нет, зачем же в. чумной форт, просто отдохнуть, побродить по городу, послушать Чайковского, побывать на Стрелке...
К утру Деминский задремал. Проснувшись, почувствовал тяжелое недомогание. Подумал: «Это от волнений и бессонницы. Надо взять себя в руки, а то совсем выйдешь из строя». Тело было вялое, не хотелось ни есть, ни двигаться.
Около полудня ощутил боли в груди. Одновременно с физической болью мелькнула мысль: не заразился ли?
К вечеру Деминский уже не сомневался в том, что болен, и понимал, чем болен.
Красильникову не пустил в свою комнату. Через дверь сказал:
— Мне уж отсюда не уехать, Елена Меркурьевна. Не хочу и не имею права рисковать вами!
Утром 5 октября появилась красноватая мокрота. Преодолевая слабость, Деминский добрался до лаборатории. Приготовил препараты, посмотрел и в кровянистой пузырчатой пене увидел знакомую картину: легочная чума!
Из всего, что он подумал в эти секунды, когда отпали все сомнения, первым и последним было: надо использовать оставшиеся часы, ничего не забыть и, главное, не допустить, чтобы опыт прошел бесследно. Было страшно, что может наступить затемнение сознания, — тогда последние часы он не будет принадлежать себе. А кроме Красильниковой, никого рядом нет, как будто он в пустыне. Написал телеграмму в Заветное — Клодницкому.
«Я заразился от сусликов легочной чумой. Приезжайте. Возьмите добытые культуры. Записи все в порядке, остальное расскажет лаборатория. Труп мой вскройте, как случай экспериментального заражения человека от сусликов. Прощайте. Деминский».
А что, если Клодницкий уехал из Заветного и телеграмма опоздает?
Мокроту отправил на хутор Романенко, где находился Бердников.
Подумал: «Как будто я ничего не забыл».
Окончив работу, стал писать жене. Написал, что заболел, ввел себе сыворотку, но плохо верит, что она спасет: «Сыворотка пока не очень помогает при легочной чуме, лечение легочной чумы — это тоже дело будущего, верится — не очень далекого». Написал, что горько и обидно сейчас уходить из жизни, но ведь не напрасная это гибель, ведь «мне посчастливилось увидать наконец чуму среди сусликов». Слова «мне посчастливилось» звучали странно, но он не вычеркнул их. Разве не было это самым большим и последним счастьем в его жизни?
«Только бы во-время приехал Клодницкий, чтобы сохранить культуру, довести дело до конца, увидеть то, что мне уж не придется увидеть!»
Написал, что самое тяжелое — это мысли о семье: «Все время думалось, что впереди еще много лет, я сумею поставить на ноги дочерей, сделать твою жизнь радостной. Выходит иначе».
Дописал письмо, тщательно изнутри закрыл дверь и лег в постель. Очнулся от легкого звука шагов: по комнате неторопливо ходила Елена Красильникова. Значит, она сумела каким-то образом открыть дверь и войти, вопреки его просьбам и прямому запрещению.
Увидев, что он открыл глаза, Елена Меркурьевна по-обычному медленно и спокойно сказала:
— Вы не гоните меня, Ипполит Александрович, все равно не уйду! И не волнуйтесь. Видите! — Она показала на рот, защищенный самодельной маской — марлей, сложенной в несколько слоев. — Телеграмму и письмо я отправила. Продезинфицировала, как вы говорили, и отправила.
Деминский непрерывно наблюдал за течением болезни. Он точно смотрел на себя со стороны, строго по-врачебному взвешивая все признаки, позволяющие следить за состоянием организма. Когда на несколько минут наступило облегчение, закрыв рот марлей и отвернувшись к стенке, чтобы предотвратить возможность передачи инфекции, Ипполит Александрович сказал Красильниковой:
— Мне кажется, что болезнь развивается иначе... не совсем, как обычно.
Слабость была такая, что после каждого слова приходилось отдыхать, лежа с закрытыми глазами.
— Знаете, Елена Меркурьевна, я все это время думаю, что чумной микроб, пока он обитает в суслике, должен иметь одну силу, одни свойства, и, только изменив среду обитания, пройдя несколько раз через человеческий организм, он меняется и приобретает обычную, знакомую нам вирулентность.
Деминский лежал с открытыми глазами и говорил быстро, почти без пауз, спокойным и внятным голосом:
— Я это говорю потому, что думал об этом много лет, вероятно сам проверить не сумею, а мне бы очень хотелось, чтобы вы, или Клодницкий, или кто-либо еще занялся этим. Я, еще когда исследовал холерный вибрион в ильменях в разное время года, убедился, что вирулентность и даже форма микробов меняются в зависимости от условий жизни, а теперь...
Закашлялся и, поглядев на платок, окрасившийся от мокроты в алый цвет, сказал:
— Впрочем, может быть, микробы, переходящие от суслика к человеку, слабее обычного, но все-таки, видимо, они достаточно вирулентны.
Закрыл глаза и несколько минут лежал так тихо и неподвижно, что Красильниковой показалось, будто он уснул. Не открывая глаз, Ипполит Александрович проговорил:
— Мы с Сергеем Коржинским мечтали вылечить степь... от чумы, суховеев, песчаных бурь. Пока что Сергей умер от туберкулеза, а я... Все это гораздо труднее, чем кажется, но все это возможно, Елена Меркурьевна.
Передохнув несколько секунд, договорил:
— Будете на Баскунчаке когда-нибудь, посмотрите: мы там дубки высаживали — должно быть, они уже выросли... обязательно посмотрите.
Облегчение оказалось временным и скоро сменилось обострением. К вечеру больной потерял сознание.
Меньше чем через сутки после смерти Деминского посевы, приготовленные доктором Бердниковым из мокроты, которую прислал Ипполит Александрович, дали рост характерных чумных колоний. Вскрытие тела Деминского и последующие опыты с микробными культурами подтвердили выводы погибшего исследователя: суслики — основные носители чумы в астраханских степях, как тарабаганы — в Маньчжурии.
Открытием Деминского начинается новый этап в борьбе русской науки с чумой. Болезнь стала видимой и в Прикаспии, а это второй, важнейший для нашей страны ее очаг. Ученые западных стран на международном чумном судилище в Маньчжурии отрицали справедливость идей Заболотного, высмеивали их. Теперь поражение реакционеров от науки стало явным. Было обнаружено, что чуму на обширных территориях Азии сохраняют и разносят тарабаганы, в Прикаспии — суслики, в Египте и Восточной Африке — мыши, в портовых городах Индии и Европы — крысы. Фронт борьбы с чумными эпидемиями был не только намечен, но и вскрыт на всем его протяжении.
Если открытие Заболотного было первой победой нашей противочумной науки, то подвиг Деминского — вторая ее победа. Отныне открывалась возможность уничтожения чумы в природе.


ВОЗМОЖНОСТЬ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
ЗАВОЕВАНИЕ КОНТИНЕНТА
В самоотверженном труде сменяющихся поколений ученых побеждала школа Мечникова, Гамалеи, Заболотного, Павловского, созданное нашими исследователями новое направление в науке о борьбе с опасными инфекциями. Пожалуй, короче и точнее всего это направление можно определить двумя словами: «наступательная профилактика».
Современная медицина применяет два различных метода борьбы с болезнями: наступление и оборона, пишет академик Скрябин. Цель наступательной профилактики — «физическое уничтожение возбудителей заболевания на всех этапах жизненного цикла, всеми доступными способами механического, химического или биологического воздействия». Не случайно эти слова из научной статьи так напоминают приказ по войскам; цель — уничтожение противника — определяет стиль.
Очень просто убить микроб в пробирке — в миллион раз сложнее уничтожить его в живом организме. Насколько же необъятной кажется задача найти, а затем предотвратить распространение враждебного микроба не в пробирке, не в одном организме, а в том беспредельном сочетании всего живого и неживого, которое мы называем природой.
Этот путь, избранный нашей наукой, был не только сложным, но и опасным. Наблюдения, эксперименты переходили в «опыт на себе». Исследователь встречался с целой «фамилией наук». Бактериолог превращался в географа, ботаника, почвоведа.
Это был путь в самое сердце, в заветные тайники природы.
Подсчитано, что даже в засушливом Поволжье каждый грамм почвы населяют два миллиарда микроорганизмов. Выходит, что по населенности грамм почвы — это как бы микробный земной шар.
И, видимо, они гораздо старее не только человечества, но и всего живого, что видим мы на земле, — эти крошечные, просто организованные комочки живой материи, играющие такую колоссальную роль в природе. Вероятно, сперва они жили только в воздухе, воде и земле. Но мир усложнялся, в процессе эволюции возникали все более сложные, высокоорганизованные виды растений и животных. Из земли, из воды, из воздуха, толкаемые неиссякаемой силой размножения, повинуясь стремлению всего живого расширить свой ареал — среду обитания, микробы пробивались в кровь животных. Множество микроорганизмов погибало, но что может означать любая потеря для армии, которая бессчетна. Через легкие, поры кожи, с воздухом, пищей и водой проникали в кровь новые бактерии.
Защитным силам организма животного микроб противостоял изменчивостью и неисчислимой плодовитостью.
Миллиарды видов бактерий были уничтожены в борьбе за существование, пока появилась разновидность, которая уцелела в темном и горячем потоке крови.
Так, вероятно, появились расы болезнетворных микробов, живущих за счет организмов, на которых они паразитируют, отнимающих у них силы, а иногда и жизнь.
Некоторые виды животных вымирали, унося с собой и микробов, приспособившихся к обитанию в крови животных этого вида. Болезни появлялись и исчезали. Изменчивость видов, подвергавшихся атаке бактерий и постепенно совершенствовавших свои защитные силы, состязалась с изменчивостью атакующих микробов. Все более извилистые ходы прокладывали бактерии, обеспечивая себе победу в процессе приспособления к внешней среде.
Какое бесконечное множество лет должно было пройти, пока природа, действуя вслепую, пользуясь двумя рычагами — изменчивостью под влиянием внешней среды и отбором, — создала такое гибкое орудие уничтожения, каким стала чума!
Нацело уничтожая одни виды, чумные микробы находили дорогу к другим. И вот наконец, идеально приспособившись к грызунам, они расселились почти по всему миру.
Вместе с крысами микробы пересекали океаны, обосновываясь в портовых городах. Вместе с тарабаганами и сусликами они расселились по плоскогорьям и степям Азии и востока Европы. Вместе с мышами овладели обширными пространствами Африки.
По всем материкам. От грызунов к человеку.
Так продолжалось до тех пор, пока к старым защитным силам организма, которые микроб «научился» преодолевать, не прибавились новые: разум исследователя, мужество ученого.
Ученые выследили возбудителя чумы в центре гибких и сложных паутин его связей с природой, для того чтобы разорвать эти связи.
Но и у бактерий появились новые возможности распространения.
Первые косвенные свидетельства того, что эксплуататоры могут рассматривать болезни как союзника в борьбе с угнетенными, можно найти, вчитываясь в страницы истории республики Палмарис, переставшей существовать, когда на территории ее не уцелело ни одного живого человека. Эта республика возникла на восточном побережье Бразилии из «киламбос» (поселений негров-рабов, бежавших в глубину тропического леса от своих сеньоров). Она была образована в 1650 году, и в течение долгих лет войска республики отстаивали свободу маленького народа от наемных войск голландцев, во много раз более многочисленных, отлично вооруженных. Когда оказалось, что в открытом бою победить республику невозможно, потому что каждый солдат свободного народа сражается лучше, чем десять голландских наемников, губернатор де Суза решил прибегнуть к новому способу войны.
— Они бежали от голода и болезней, надо уничтожить их голодом и болезнями, — говорил он.
Республика принимала каждого раба, ищущего справедливость. Де Суза находил сотни оспенных больных, гнал их вглубь тропических зарослей, чтобы перенести инфекцию в поселки республики. Болезни охватывали жилища, и, чтобы спасти здоровых от смерти, вожди республики вынуждены были временно уводить население дальше в леса. Пользуясь этим, голландские отряды губернатора де Суза сжигали посевы и дома.
В середине семнадцатого века голод и болезни впервые были использованы как оружие наступательной войны. В восемнадцатом веке американцы применили оспу в борьбе с мятежными индейскими племенами. Еще через столетие англичанин Мальтус, для которого, как писал Маркс, «характерна глубокая низость мысли», в «Опыте о законе народонаселения» «обосновывал» необходимость распространения эпидемий и голода для благоденствия мира. Губернатор де Суза и американский генерал Амгерст первыми применили бактериологическое оружие, священник Мальтус первым благословил его.
После Амгерста и Мальтуса нельзя было говорить о едином фронте, объединяющем все человечество в борьбе с болезнями. В наступающем фронте образовался прорыв — перед бактериями открылись незащищенные пространства. Микробы воспользовались этим.
В эпоху, когда работы Заболотного и других русских ученых утвердили возможность уничтожения чумы, в действительности чумной микроб пересек океан, овладел Тихоокеанским побережьем Соединенных Штатов, рванулся с запада на восток, захватывая новые для него территории Североамериканского континента.
Вот как произошло это событие.
СУДЬБА ДОКТОРА КЕЛЛОГА
Еще в годы студенчества Келлогу предсказывали блестящую будущность. Он обладал замечательным талантом терапевта, позволяющим «почувствовать» характер заболевания в первые же дни, когда симптомы еще не определились.
Этот высокий широкоплечий человек со смуглым от загара лицом и внимательными, редко улыбающимися глазами имел все необходимое, для того чтобы вызвать доверие больного и, что бывает реже, не обмануть этого доверия.
Келлогу очень повезло, и, прекрасно сдав экзамены, он получил возможность выбрать одну из нескольких вакансий. Профессор бактериологии, которого Келлог уважал больше других, сказал ему, когда молодой врач пришел посоветоваться:
— В Штатах человек себя чувствует тушей на крюке в мясобойне. Не от него зависит, чем стать: окороком, сосисками или консервированным мясом с горохом. Но раз уж вам приходится выбирать... — Секунду помолчав, уже не улыбаясь, очень серьезно договорил: — Все зависит от того, что вы собираетесь делать в жизни: лечить толстых от ожирения — это доходно и сравнительно легко — или голодных от туберкулеза, что очень невыгодно и, в конце концов, почти безнадежно. От вашего решения зависит многое.
— Я хочу настоящей врачебной работы, — ответил Келлог.
Профессор стоял у письменного стола. Выслушав ответ, он снова внимательно взглянул на молодого врача, точно ожидая еще одного, пусть молчаливого, подтверждения, что решение у Келлога сложилось окончательное. Видимо, удовлетворенный спокойным и твердым выражением серых, не улыбающихся глаз, профессор взял протянутый ему листок с перечнем вакансий и задумался.
— Если так, — сказал он наконец, — то, пожалуй, лучше всего поехать городским врачом в Сан-Франциско. Оклад будет нищенский. Но там есть настоящая врачебная работа.
Профессор подошел к книжному шкафу. После долгих поисков обнаружил атлас, такой ветхий и потрепанный, что казалось — он хранился еще со школьных времен, развернул его и, тронув острием карандаша Сан-Франциско, спросил:
— Что вам напоминает этот город, коллега?
Сеть красных и черных линий, изображающих постоянные рейсы пассажирских и торговых пароходов, пересекала Тихий океан и сходилась у Сан-Францисской бухты. Линии тянулись к Сиднею, Лос-Анжелосу, Шанхаю, Бомбею, Марселю, Триесту, к портам обеих Америк, Африки, Австралии, Азии и Европы.
— Паук в паутине, — не задумываясь, ответил Келлог.
— Пожалуй, что и так, — согласился профессор. — Впрочем, мне бы хотелось употребить другое сравнение. Это похоже на струны, протянутые ко всем уголкам мира и, значит, ко всем очагам болезней, существующим на земном шаре. Своеобразная эолова арфа болезней — рано или поздно она отзовется на любую эпидемию. А это... — карандаш с синей поверхности океана перенесся на континент, тонкой линией окружив город, — это нечто вроде эпидемического резонатора, который при известных условиях может так усилить звук, что его услышит вся Америка.
Келлог хорошо запомнил напутственные слова; через несколько лет ему пришлось убедиться в справедливости сравнения, сделанного профессором.
В Сан-Франциско молодому врачу выделили самый трудный район, включающий почти весь китайский квартал. Здесь в подвалах, лачугах, полуразвалившихся домах теснились сотни тысяч бедняков. Не хватало времени даже для того, чтобы просто обойти больных.
Человек общительный и не терпящий одиночества, Келлог попытался создать хоть небольшой круг друзей среди товарищей по профессии. Но это оказалось невыполнимым: для одних китайский квартал находился как бы за пределами Соединенных Штатов, а врача, обслуживающего жителей этого квартала, нельзя было считать стопроцентным американцем; другие обладали более широким взглядом на вещи, но и с этими последними отношения не переходили границ официального знакомства.
— Я получаю слишком мало денег, чтобы говорить только о долларах, а другой темы эти люди не признают, — жаловался Келлог единственному своему другу, врачу морской больницы и карантинному инспектору на острове Энджел — доктору Кенью.
— Что ж, значит, надо зарабатывать больше долларов либо обходиться без друзей, — отвечал Кенью.
Впрочем, времени не хватало даже на то, чтобы почувствовать одиночество. Весна означала теперь для Келлога прежде всего резкий подъем числа легочных заболеваний, лето — безнадежную борьбу с катастрофическим наплывом больных холерой и дизентерией, осень — снова обострение процесса у туберкулезных больных: скачки температуры, кровохарканье.
Отдыхал Келлог, только когда удавалось на несколько часов вырваться на остров Энджел. У Кенью там были своя лаборатория, подопытные животные, микроскоп, хорошее бактериологическое оборудование, много книг и журналов. Тут охватывала атмосфера старых студенческих лет. Келлогу хотелось задать сотни вопросов, перелистать новые журналы, посмотреть бактериологические препараты, отлично окрашенные и зафиксированные, — всё сразу.
— Соскучился? — спрашивал Кенью.
— Очень, — отвечал Келлог, быстрым взглядом окидывая обстановку лаборатории. — Знаете, я обнаруживаю в своем образовании серьезные пробелы. Меня не учили лечить без лекарств, без вакцин, даже без воздуха. В этих каморках такая духота, что может задохнуться и здоровый.
— Еще не поздно поискать другое место... — говорил Кенью.
— Это настоящая врачебная работа, — решительно перебивал Келлог. — Я ни за что не откажусь от нее. О таком деле я и мечтал.
— Мечтал лечить без лекарств?
— Нет, — говорил Келлог, — мечтал лечить людей, которые без этого умерли бы, а не толстых от ожирения. Последнее просто не по мне.
В июне 1900 года, во время очередного обхода своего участка, в полутемной комнате деревянной хибарки Келлог обнаружил труп пожилого китайца, лежащий на груде тряпья. Больной, очевидно, умер всего несколько часов назад. При осмотре тела бросился в глаза бедренный бубон, заставивший сразу заподозрить чуму, хотя до этого времени на территории Соединенных Штатов не было чумных заболеваний. Приготовив посевы микробов и стекла с мазками, Келлог предупредил жителей соседних домов об опасности и уехал на остров Энджел.
Лицо у Кенью, обычно выражавшее своеобразную смесь насмешливости и равнодушия, после рассказа Келлога сразу стало сосредоточенным. Приготовляя и окрашивая препараты, Кенью работал быстро; можно было залюбоваться точными и экономными движениями его рук, проводящих стекла с мазками через красители и фиксаторы.
Положив только что приготовленный препарат под объектив микроскопа, Кенью наклонился к окуляру и, отрегулировав освещение, молча уступил место Келлогу. В поле зрения лежали скопления биполярных палочек — бактерии чумы.
— Я введу для контроля культуры морским свинкам, но, конечно, городу грозит серьезная опасность, и профилактические меры надо принимать сейчас же, — сказал Кенью.
Они сели к столу, и Келлог набросал «план обороны»: организация карантина, бактериологическое исследование крыс на зараженность их чумой, усиление врачебного наблюдения за состоянием здоровья населения.
Служащий городского совета здравоохранения доктор Джервис, когда Келлог сразу же по возвращении в город рассказал ему о случившемся, попятился от Келлога и в инстинктивном оборонительном движении выставил вперед руки, как будто ему грозила непосредственная опасность.
— Но вы не ошиблись, мистер Келлог? — спросил он, понизив голос до шопота. — Вы понимаете, что это означает — чума в Сан-Франциско?
— К сожалению, я не ошибся, — сухо ответил Келлог.
Положенный на стол листок с планом обороны Джервис в руки не взял, а, надев очки, слегка наклонился и прочитал строки, написанные Келлогом на острове Энджел.
Читая, он все время повторял:
— Чума во Фриско! Вы понимаете, что это означает?
Не меняя тона, тем же исполненным ужаса шопотом, Джервис договорил:
— Тут понадобится несколько тысяч долларов на вашу проклятую чуму. Откуда мы возьмем такие деньги?
— Я думаю, что обстоятельства оправдывают затраты не тысяч, а миллионов, если понадобилось бы на эту, как вы выразились, «мою» чуму. Вы врач и понимаете, что если мы не локализуем инфекцию в небольшом районе, где она появилась, и не уничтожим ее здесь, чума может распространиться по городу и за пределами его.
— Чума во Фриско... несколько тысяч долларов... — бормотал Джервис.
В тот же вечер, не дождавшись решения об отпуске средств на организацию карантина и усиление врачебного наблюдения, Келлог перебрался в китайский квартал, поближе к месту зарождавшейся эпидемии.
Ночью в каморке, которую он снял для жилья в огромном перенаселенном доме, Келлог просматривал литературу о чуме, подобранную для него Кенью: короткие журнальные сообщения об исследованиях Заболотного, Хавкина, Иерсена, Мин-ха, Катазато и других чумологов. Из работ Григория Минха явствовало, что вспышка бубонной чумы может перейти в эпидемию чумы легочной, дающей сто процентов смертности, — любой ценой необходимо предотвратить эту угрозу. Несколько лет назад Даниил Заболотный совершил двухтысячекилометровое путешествие из Забайкалья через отроги Яблонового хребта, пустыню Гоби и Внутреннюю Монголию к Пекину и оттуда в горы Хингана. Он исследовал многие очаги чумы и пришел к выводу, что возникновение и существование чумной инфекции связаны с дикими грызунами. Значит, следовало иметь в виду, что если чумная инфекция будет занесена в места, где обитают дикие грызуны, она может широко распространиться там и закрепиться на долгие годы.
Когда утром пришел посыльный от Джервиса, Келлог еще сидел за столом.
— Я уже отчаялся вас отыскать, доктор, — сказал посыльный. — Мистер Джервис просит немедленно прийти.
Как и в первый раз, при виде Келлога Джервис попятился в дальний угол и, только заняв безопасную позицию за огромным письменным столом, вступил в разговор.
— Надеюсь, об этом вы никому не говорили? — спросил он.
— Вы имеете в виду чумную вспышку в нашем городе?
— Вы, разумеется, понимаете, что об этом никто не должен знать.
Джервис явно избегал слова «чума», предпочитая безличное обозначение «это».
— О случае чумы я поставил в известность окружающее население и сообщил доктору Кенью.
— Очень жаль, что вы нарушили свой служебный долг и разгласили врачебную тайну, — перебил Джервис. — Ступайте к губернатору — он вас ждет, и выпутывайтесь сами.
В кабинете, кроме губернатора, сидели два незнакомых человека: один — худой, с мешками под глазами и отечным лицом сердечного или почечного больного, другой — с толстой, кирпичного цвета шеей и расплюснутым носом боксера.
— Рассказывайте! — сухо проговорил губернатор, даже не поздоровавшись с доктором.
Келлог подробно сообщил о случившемся, перечислив в конце важнейшие меры борьбы с инфекцией.
— Нужны, во-первых, средства для организации противочумных мероприятий и, во-вторых, надо широко оповестить население об опасности, грозящей городу, с тем чтобы каждый понял необходимость обращаться к врачу при малейших признаках подозрительного заболевания.
Худой человек с отечным лицом слушал, полузакрыв глаза и всем телом откинувшись в кресло; второй, с расплюснутым носом, старательно жевал резинку, целиком уйдя в это занятие.
— В бюджете нет ни цента для вас, доктор Келлог, — сказал губернатор, — но мистер Гарольд Чэз согласился передать в ваше распоряжение две тысячи долларов из своих личных средств.
— Полторы тысячи, — тихим голосом поправил человек с отечным лицом, не поднимая полуопущенных век.
— Этого не хватит даже на самое необходимое, — возразил Келлог.
— Должно хватить, — перебил губернатор. — И считаю своей обязанностью предупредить, что мистер Чэз передаст деньги в ваше распоряжение только при условии, что вы дадите слово молчать о смерти этого китайца. По городу пошли нехорошие слухи, надо сделать все, чтобы опровергнуть их.
— Вот именно, — подтвердил человек с приплюснутым носом. — Вчера у меня двадцать туристов неожиданно потребовали счета, снялись с якоря и взяли курс на Марсель. Я вам советую забыть даже слово «чума», мистер, мистер...
— Келлог! — подсказал губернатор.
— Забыть это слово, доктор Келлог, и никогда его не вспоминать. Мы все — мистер Чэз, и я, и все другие — не намерены терпеть убытки из-за вашей болтливости.
Келлог шагнул вперед и сжал кулаки, почти не владея собой. Впрочем, он тотчас взял себя в руки и спокойно ответил:
— Долг врача заключается в том, чтобы полно и честно сообщать населению о положении дел, и думаю, что у меня хватит сил выполнить свой долг. А деньги на предложенных условиях я не имею права брать.
Джентльмен с расплюснутым носом перестал жевать резинку; человек с отечным лицом слегка приподнялся в кресле и шире открыл глаза.
— Вы собираетесь бороться с нами? — спросил он.
— Я собираюсь бороться с чумой, мистер Чэз, — ответил Келлог.
— Мне нет дела до ваших планов, — перебил Чэз. — Советую только иметь в виду, что молчанию можно обучить всякого. Весь вопрос в методах обучения.
Выйдя из кабинета губернатора, Келлог быстрым шагом направился к своему врачебному участку. Теперь было ясно, что можно рассчитывать только на себя и на помощь окружающего населения, — тем более нельзя терять ни одной секунды.
Пройдя полдороги, он повернул и почти побежал обратно к центру города. Ему пришло в голову, что надо немедленно добиться, чтобы газеты поместили информацию о чуме в городе. Теперь же, пока Чэз не успел подействовать на редакторов.
Газетный мир Келлог знал плохо, почти не читал городских изданий, но, вспомнив оброненное как-то Кенью по адресу «Сан-Францисского обозревателя» небрежное замечание: «Этот грязный листок, пожалуй, чище всех остальных», решил зайти в редакцию «Обозревателя».
Редактор принял его и выслушал. Келлогу так хотелось найти союзников и восстановить доверие к людям, жестоко поколебленное недавним разговором в кабинете губернатора, что даже сдержанная вежливость редактора обрадовала его и показалась чем-то очень обнадеживающим.
Редактор вышел на минуту и вернулся с сильно напомаженным, розовощеким и круглолицым человеком.
— Мистер Самюэль Франклин, — представил редактор, — сотрудник нашей газеты.
Комната наполнилась сладковатым ароматом помады и шипра. Разложив на столе предметы ремесла — бумагу и остро отточенные карандаши, Самюэль Франклин поднял голову и выжидательно посмотрел на доктора.
— Поработаем? — полувопросительно сказал он.
С того момента, когда репортер зашел в комнату, на лице его установилась неопределенная, совершенно неподвижная улыбка.
— Нечто вроде короткого интервью, — после минутной паузы пояснил Самюэль Франклин.
Келлог ходил по комнате, стараясь отобрать только самое главное из всей массы сведений, которые, казалось бы, надо сообщить, и это «самое главное» высказать с предельной краткостью.
Самюэль Франклин старательно писал, тускло блестя напомаженной головой и изредка поднимая лицо, отягченное тяжелой, неподвижной улыбкой.
Закончив сообщение о чумной вспышке в китайском квартале, Келлог сказал, что опасность дальнейшего распространения эпидемии крайне велика. Если начнется эпизоотия среди крыс, они разнесут чуму по всему городу. После исследований Заболотного есть основание считать, что инфекция может распространиться и среди диких грызунов. А известно, что Америка, в частности западная ее часть, достаточно богата грызунами. В зоне прерий и пустынных плоскогорий водятся суслики, сурки, луговые собачки, мышевидные грызуны; в зоне западных горных лесов — белки-летяги, бобры, древесные дикобразы, прыгунчики.
Келлог диктовал медленно, часто останавливаясь, давая сотруднику «Обозревателя» время для того, чтобы все записать.
— Таким образом, — продолжал Келлог, — в китайском квартале Сан-Франциско решается судьба не только нескольких сотен или тысяч людей, находящихся под непосредственной угрозой заражения, но одновременно определяется вопрос, укоренится ли случайно завезенная на наш континент чумная инфекция, — и тогда борьба с ней потребует человеческих жертв, миллионных затрат, поистине огромных усилий, — или же мы не дадим инфекции образовать в стране постоянные очаги. Как сложится дело, зависит только от нас, жителей Сан-Франциско. Пожалуйста, так и напишите, что все зависит только от нас, — это самое главное.
Окончив работу, Самюэль Франклин неторопливо протянул Келлогу свои записи.
— Надо подписать, формальность, — сказал он.
Доктор взглянул на листок, покрытый ровными рядами строк. Он начал читать, сначала ничего не понимая, а потом изо всей силы сдерживаясь, чтобы не показать этому напомаженному человеку со штампованной улыбкой своего волнения.
Запись начиналась так: «По городу распространяются вздорные слухи о заболеваниях чумой. Какой-то китаец умер от белой горячки, а соседи его, находясь в состоянии, близком к тому, которое стоило умершему жизни, поставили нелепый диагноз...»
— Из подобного материала трудно выжать что-либо смешное, но вы должны признаться, что шутка с белой горячкой довольна мила, — говорил Франклин, с той же неподвижной улыбкой глядя на доктора. — А остальное... Вы понимаете, что всего остального печатать нельзя.
Келлог не слушал и не читал. Он держал листок перед глазами, чтобы немного успокоиться и дать себе время собраться с мыслями. Если это наименее грязный из всех грязных листков Сан-Франциско, как утверждал Кенью, то что же делается в других газетах? И это, видимо, самое начало борьбы, о которой предупреждал Чэз. Хватит ли сил выдержать все остальное?
Впрочем, сил должно хватить.
Между тем эпидемический резонатор большого города действовал так, как можно было предвидеть. Вобрав инфекцию, он усиливал и возвращал ее. Заболевания насчитывались уже не единицами, а десятками и сотнями. Чума поражала все более широкую территорию. Были обнаружены и исследованы в лаборатории первые грызуны, павшие от чумы. Келлог вместе с Кенью делали все, что было в их силах, чтобы локализовать инфекцию. Но они и сами прекрасно понимали, что чума уже вырвалась из их рук, поселилась в подвалах, ночлежках, расползлась по всему Сан-Франциско.
«Обозреватель» напечатал подлую заметку Франклина, и все остальные газеты города незамедлительно пересказали ее. О событиях того времени через сорок один год профессор Крилл вспоминал в статье «Положение с чумой в западных штатах Америки».
«Объявление о том, что в Сан-Франциско существует чума, явилось чрезвычайно плохим известием для коммерческих кругов Калифорнии, — писал Крилл, — оно должно было отпугнуть туристов и повредить делам; поэтому местная администрация, все газеты Сан-Франциско и все заинтересованные в торговле стали отрицать ее наличие. Официальные лица штата, пресса Сан-Франциско и многие влиятельные деятели Калифорнии... начали кампанию поношений и непристойностей».
В этом сдержанном свидетельстве американского ученого, хорошо знающего свою страну, выражено самое важное. Гибель сотен и тысяч людей не грозила убытками коммерческим кругам Калифорнии, а признание существования чумы в городе означало резкое снижение доходов И, как всегда в подобных случаях, торговые круги и подкупленные ими «официальные лица штата», не задумываясь, пожертвовали национальными и государственными интересами страны во имя сохранения высоких прибылей. Правители штата и правители Америки готовы были мирно уживаться с чумой (благо она, в основном, поражала бедные слои населения), но они объявили смертельную войну доктору Келлогу, сделали все, чтобы лишить его средств к жизни, чтобы смешать с грязью имя мужественного врача; только боязнь огласки помешала им физически уничтожить этого человека.
Келлог продолжал борьбу, но можно было заранее сказать, что чума, получив, по существу, государственную поддержку, выиграет битву.
Так и произошло в действительности.
Никогда раньше чумной микроб не обитал в Америке. Теперь инфекция, случайно завезенная кораблем, совершающим рейсы Бомбей — Сан-Франциско, укрепилась в этом порту, распространилась по Калифорнии, создала очаги в Пуэрто и Новом Орлеане, шагнула на север, в сторону штатов Айдахо и Вашингтон; двинулась с запада на восток, форсировав реку Колорадо, в неодолимом движении постепенно пробиваясь от Тихоокеанского к Атлантическому побережью.
Впрочем, слова «неодолимое движение» неприменимы к распространению чумной инфекции в Соединенных Штатах. Очень медленно и неуверенно делал чумной микроб свои первые шаги на новом для него континенте. Он точно давал людям время приготовиться и принять бой.
Но время было упущено. Чуме как будто сознательно открывали все ворота.
Чумному микробу был дан срок, и он хорошо использовал время, чтобы приспособиться к природе Америки. Постепенно чумная инфекция распространилась в штатах Калифорния, Вашингтон, Невада, Айдахо, Монтана, Юта, Аризона, Нью-Мексико иИоминг.
Официальная американская статистика тщательно скрывает данные о распространении чумы в Соединенных Штатах. Но сведения о чумных вспышках то и дело прорываются в печать.
Осенью 1946 года американский журнал «Лайф» в статье Джерарда Пима сообщал, что в Калифорнии «население часто болеет чумой». В Скалистых горах свирепствует особая «пятнистая лихорадка», за которой, судя по девяностопроцентной смертности, также скрывается чума.
Чумной микроб прочно утвердился на новом для него континенте.
РАЗГОВОР В СМОЛЬНОМ
Историю доктора Келлога Заболотный впервые услышал еще в Мукдене. Потом она вспоминалась вновь и вновь.
В Америке события развернулись в специфически американской, откровенной и бесстыдной, форме, но то, что так полно выразилось в борьбе Келлога с властями штата Калифорния, в той или иной мере вошло в жизнь каждого чумолога. Науке не мешали только до тех пор, пока ученый оставался в пределах лаборатории и действия его не затрагивали «деловых интересов». В начале работ по изучению роли тарабаганов в распространении чумы широкая печать молчала об. этих исследованиях, но как только у фабрикантов мехов возникло подозрение, что на тарабаганий промысел будут наложены хотя бы ничтожные ограничения, этим работам была объявлена война. Во всех газетах от Лейпцига до Мукдена появились издевательские карикатуры, и на русского ученого плеснуло с газетных полос волной мутной, беспощадной ненависти.
Слово «невыгодно» могло не произноситься вслух, заменяться другими, более красивыми словами, но именно оно определяло судьбы научного открытия. И после создания вакцины Хавкина в Индии ежегодно чума истребляла от трехсот до четырехсот тысяч человек, причем оказывалось, что в численно одинаковых группах европейцев, браминов и индусов низших каст количество заболевших распределялось в пропорции 1 : 23 : 67. Вакцина охраняла только тех, кто за нее мог заплатить.
Известно, что в Индии насчитываются миллионы слепых. Ученые доказали, что эти прежде необъяснимые эпидемии слепоты вызываются авитаминозами — недостатком в пище важных питательных веществ. В лаборатории на подопытных животных научились воспроизводить слепоту от авитаминозов и предотвращать ее. Но и теперь число слепых в Индии измерялось миллионными цифрами.
Между возможностями, открываемыми наукой, и практическим применением этих возможностей существовала непроходимая пропасть. Наука создавала совершенные способы борьбы со слепотой, излечивала сотни людей, а от голода слепли миллионы. Врач иногда имел в своем распоряжении вакцины и лекарственные препараты, но большинству человечества не хватало хлеба. В Бразилии во время периодически повторяющихся засух вымирало от одной трети до половины населения засушливых районов; голод захватывал огромные территории Индии и Америки, Азии и Африки, Европы и Австралии, а от голода вакцины не спасали. И в союзе с голодом микробы становились непобедимой силой.
Заболотному не нужно было, как некоторым другим ученым, «принимать революцию». Задолго до октября 1917 года весь опыт жизни подсказывал ему необходимость и неизбежность революционного переворота.
В Петрограде 1918 года жить было трудно, газеты приносили невеселые известия: надвигался голод, в Тамбове восстали правые эсеры, в Мурманске высадился английский десант, американские и англо-французские войска заняли Архангельск. Но, несмотря на все это, никогда раньше люди не думали столько о будущем и не были так в нем уверены.
Когда Заболотный явился в Смольный и, предложив организовать борьбу с холерой, изложил свой план, слово попросил депутат Выборгского района.
— В районе будет сосредоточена группа лучших врачей, — сказал он. — Необходимо, чтобы, кроме ликвидации холеры, дела временного, они бы всесторонне изучили состояние здоровья жителей окраин, возможности строительства новых больниц, санаториев, создания новых парков. Надо думать о завтрашнем дне, о будущем...
В комнате полутемно, вольфрамовые нити горят тусклым дымно-красным светом. Лицо говорившего разглядеть трудно, голос у него глухой, охрипший, часто прерывается сухим кашлем. Заболотный слушает, и ему вспоминается профессор Николаев. Прежде это был один из самых преуспевающих врачей столицы; теперь он весь как-то обмяк, отпустил черную с сединой щетину. В кабинете у Николаева каменная ступка для растирания зерен, огниво и кресало, железная печка-буржуйка. Когда Заболотный предложил ему принять участие в лечебной работе, Николаев сказал:
— Мы сейчас где-то между бронзовым и каменным веком, но движемся и каменному. Большой город без отопления, электричества и водопровода — вещь страшная. Нам бы надо заняться подысканием пепщр, научиться добывать пищу в лесу и огонь.
...Депутат Выборгского района говорил, по-учительски отчетливо произнося окончания слов.
— Врачам нужно иметь в виду, — продолжал он, — что пролетариат не захочет мириться с позорным явлением ранних смертей. Завоевав власть, одной из первоочередных задач мы должны поставить продление жизни до ее естественных границ.
Уже направляясь к своему месту, депутат остановился и закончил:
— То, что предложил профессор Заболотный, практически совершенно правильно и практически достаточно, но все мы знаем, как Владимир Ильич любит слова Писарева: человек должен уметь мечтать, хоть «изредка забегать вперед и созерцать воображением своим в цельной и законченной картине то самое творение, которое только что начинает складываться под его руками...» Без умения мечтать нельзя работать для революции и для революционного народа. Но тот, кто умеет верить в народ, как Ленин, умеет почувствовать и выразить народные мечты, увидит эти мечты осуществленными.

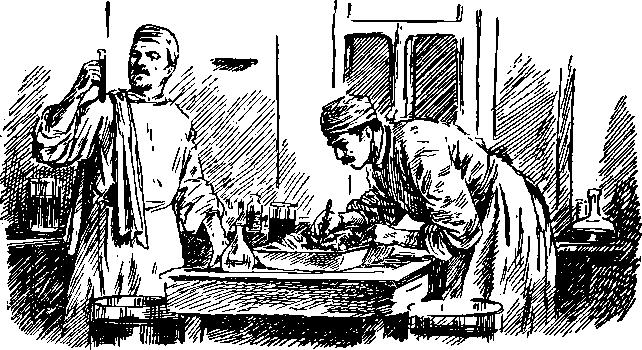
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИДЕИ
НАЧАЛО НАСТУПЛЕНИЯ
Эта история делится на два периода — подготовки и осуществления, — делится той же гранью октября 1917 года, как и все развитие нашего общества.
В годы гражданской войны Заболотный организует эпидемиологов для борьбы с сыпняком, дни и ночи проводит в госпиталях. Когда друзья спрашивают его, не тяжело ли ему, почти отказавшись от научной деятельности, все свои силы отдавать организации воинских госпиталей, он отвечает с полной убежденностью:
— Сейчас Красная Армия решает — быть науке или погибнуть.
Впрочем, в том, что науке предстоит быть, а не погибнуть, что только начинается настоящий ее расцвет, — в этом Заболотный не сомневался ни единого дня.
В Америке публикуется любопытное исследование профессора Маккея. Оно завершается коротким выводом: «Истребление грызунов желательно с точки зрения санитарной, но оно не желательно с точки зрения экономической». Точно два раз-ных и очень друг на друга не похожих Маккея спорят в статье: Маккей деловой человек — он настроен решительно и никогда не примирится с мыслью о возможности сокращения сырьевых запасов для промышленности мехов и Маккей врач — он робок, неуверен в себе, но ему хочется, чтобы подумали и об интересах людей, о здоровье народа.
Как бы для успокоения совести Маккея врача его соотечественник профессор Майер заявляет: «полное уничтожение очагов инфекции в природе невозможно».
В это время у нас в стране Даниил Заболотный создает первую кафедру эпидемиологии и в первой лекции совершенно по-новому определяет границы и цели молодой науки: эпидемиология — учение об уничтожении болезней. Речь идет уже не только о чуме, но и о десятках самых различных инфекций. Евгений Никанорович Павловский разрабатывает свою теорию естественной очаговости болезней; наступательная профилактика получает глубокое научное обоснование, и можно составить список инфекций, предназначенных к истреблению в ближайшие годы.
Список включает чуму, оспу, холеру, сыпной и возвратный тифы, малярию, проказу, таежный энцефалит, лейшманиозы, заражение гвинейским червем и ряд других очень опасных и распространенных заболеваний, вызываемых особыми червями — гельминтами.
Еще тогда, когда Фрунзе форсирует Перекоп, первые вернувшиеся с фронтов чумологи создают линию противочумной обороны. Она строится по широкому государственному плану. Система, институтов, лабораторий, наблюдательных пунктов рассчитана на то, чтобы оберегать от чумы нашу страну и народы соседних государств. Первые же годы показывают надежность противочумной линии. Очаги инфекции ограждены. Микроб заперт в последних своих владениях, и на территории нашей страны больше нет ни одного случая чумных заболеваний среди людей.
Чума вычеркнута из числа действующих болезней.
Но в природе микробы чумы еще существуют. И для того чтобы уничтожить чуму среди грызунов, чтобы в полном смысле этого слова стереть ее с лица земли, необходимо еще многое выяснить.
Районы, пораженные эпизоотиями, как бы окружены барьером. Исследователи работают за этой линией, там, где чума еще живет.
В разведке участвуют и зоологи. Калабухов и Раевский, студенты Московского университета, выходят в степь, имея одно поручение: наблюдать, наблюдать и наблюдать.
Выводы придут позже, сперва надо узнать и «почувствовать» степь в каждый час суток и каждый месяц года.
Разведчики устраивают себе укрытие. Птицы и звери — словом, все жители угрюмого степного уголка привыкают к маленькому бугорку и двум наблюдателям, скрывающимся за ним. Зоологи целыми часами так неподвижно лежат в укрытии, что даже коршун, хорошо чувствующий различие между живым и мертвым, в недоумении смотрит с высоты холодными круглыми глазами, пока не заметит легкого колебания травинок у лиц скрывающихся в засаде людей.
Разведчики ведут наблюдение. Дуют весенние ветры, тает снег, и хотя он еще сохранился кое-где в ложбинках, суслики, почувствовав тепло, выбираются из нор, собираются парами. Через три недели после брачного периода появляется потомство. Оно подрастает, и вот спустя пятьдесят — шестьдесят дней после окончания зимней спячки молодые суслики разбредаются по степи, находят старые норы, выбрасывают подстилку, ремонтируют подземные ходы, готовят себе жилье.
Калабухов наблюдает с рассвета и до заката. В сумерках он до предела напрягает зрение, стараясь различить, как суслики прячутся в норах, как ласки и хорьки крадутся за добычей. Он пытается увидеть даже то, что увидеть невозможно и удается обнаружить только по косвенным данным: как насекомые, воспользовавшись ночным похолоданием, выбираются из нор на поверхность земли, навстречу грызунам.
Раевский шутит, что его товарищ знает каждого суслика в зоне наблюдений по имени и отчеству.
Шутка очень походит на правду.
Зоологи проводят зрительную перепись своего участка степи. Число грызунов нарастает в период расселения молодого поколения; активность и подвижность сусликов достигают максимума, и тогда чума становится заметной. Суслики погибают от эпизоотии. Ласки, хорьки и хищные птицы довершают разреживание сусличьего населения. Грызунов становится все меньше, и когда населенность степи падает ниже определенной концентрации, эпизоотия исчезает.
Контакт замыкается при высокой концентрации грызунов и обрывается при низкой концентрации. Для чумы недостаточно, чтобы в степи обитали суслики, — ей нужно, чтобы на определенной территории находилось достаточное число зверьков.
Зоологи возвращаются из степи черные от загара, усталые, похудевшие, но счастливые. Профессор Майер считает невозможным полное уничтожение чумы в природе, так как невозможно истребить всех грызунов. Теперь ясно, что нет необходимости в поголовном истреблении. Надо только помочь хорькам, ласкам и хищным птицам срезать максимумы концентрации, уничтожить некоторую часть грызунов и, таким образом, не дать замкнуться цепи.

Даниил Кириллович Заболотный (в последние годы жизни).
Если Маккей будет честен с самим собой, он признает, что у него и его коллег нет оснований считать свою совесть чистой. Уничтожение всей массы чумных микробов невозможно только в нынешней Америке, только пока Америка остается такой, какая она есть.
Опыты в степи подтверждают наблюдения Калабухова. И оказывается, что если несколько лет подряд снижать численность сусликов в районе, где раньше из года в год повторялись эпизоотии, а затем прекратить вмешательство человека, то хотя населенность степи сусликами сразу возрастет и контакты будут восстановлены, однако эпизоотия не возобновится.
Цепь замкнута, но в ней нет энергии; микробы исчезли, и им неоткуда появиться вновь.
К стене прикреплен большой лист миллиметровки, на нем две волнообразные кривые. Это результат нескольких лет наблюдений в чумном очаге, работа чумы, выраженная в математически сжатой форме. Наблюдатель очертил для себя один квадратный километр. Теперь он день за днем станет регистрировать все изменения, происходящие среди грызунов.
Вот с наступлением весны первый суслик вышел из норы; за ним — еще два, пять, шесть зверьков. На свет появляется молодое поколение грызунов, и кривая, поднимаясь по миллиметровке, пересекает красную черту. В этот момент наблюдатели заметили появление чумы в очаге: гибель одного зверька, пораженного болезнью. Под первой кривой возникает вторая, регистрирующая опустошения, производимые чумой. Под влиянием начавшейся эпизоотии с каждым днем сусликов становится меньше, и кривая, показывающая численность грызунов, скользит вниз сперва полого, неуверенно, а затем круче и круче. А вторая кривая, показывающая число жертв эпизоотии, нарастает, достигает максимума, а затем опускается, исчезая у красной черты.
Эпизоотия сама собой гаснет. Чуме не хватает «пищи». Грызунов слишком мало, они реже между собой встречаются, и микроб не в состоянии перебраться от больного суслика к здоровому.
Прошли осенние и зимние месяцы. Степь оживает. Суслики просыпаются, появляются на поверхности, и если в прошлые годы борьба с грызунами не велась, то вновь, как только первая кривая поднимется и пересечет красную черту, возникнет эпизоотия.
Откуда она появляется? Где обитает микроб осенью и зимой?
Когда-то, задумав экспедицию в приволжские степи, Мечников говорил:
— Надо узнать, где чума проводит лето.
Летние «пастбища» чумного микроба изучены, остается узнать, как зимует микроб.
Вслед за летней разведкой началась зимняя.
Земля замерзла. Чума забралась под красную черту на чертеже. В степи она спряталась под землю. Почву приходится оттаивать. Горят костры, отбрасывая красные блики. Ледяную броню разбивают ломами. Чумологи забираются вглубь подземной крепости грызуна, угадывая каждое разветвление, каждый поворот темных и узких коридоров.
Гайский разрывает нору за норой на участке, где летом прошла сильная эпизоотия. Оказывается, что уже во время спячки погибло восемнадцать процентов залегших в норы сусликов. Быть может, это след зимней эпизоотии? Странно только, что в органах погибших зверьков не удается обнаружить никаких признаков чумного микроба. Тогда исследователь высказывает мысль: при низкой температуре микроб чумы меняет форму своего существования, превращается в невидимый под микроскопом фильтрующийся вирус.
Будущее покажет, правильно ли предположение Гайского. Во всяком случае, ясно одно: микроб, видимый или невидимый, существует зимой в очаге эпизоотии. Очевидно, он тоже, вместе со своими носителями, прячется под землю и там, в организме спящего грызуна, меняет свои свойства, существует не убивая. Иначе он так и остался бы под землей.
Но как меняет свойства микроб, где он прячется?
То, что начинает один исследователь, в одной лаборатории, продолжает и проверяет его товарищ, иногда за сотни и тысячи километров, совсем в иных условиях. Даниил Заболотный руководит коллективным трудом. Академия наук Украины избирает его своим президентом. Заболотный возвращается в родные места, где он учился, работал полковым лекарем, откуда в 1896 году уехал в Индию, в первое из своих бесконечных путешествий по следам чумы. Он руководит Академией наук Украины, но это не мешает ему следить за каждым шагом всех отрядов многочисленной и сильной армии советских чумологов, действующих в районах Поволжья, в Забайкалье и за пределами страны.
Зимняя разведка продолжается. Наблюдения в живой природе дополняются опытами. Гайский вместе с Чурилиной во время спячки грызуна вводят ему смертельную дозу чумных микробов. Животное не погибает. При низкой температуре болезнь затягивается на десятки и сотни дней, микроб теряет убивающую силу. Он может перед спячкой попасть в грызуна и вместе со своим хозяином весной выбраться из норы.
Но никто еще не увидел этого важного процесса, протекающего в дикой природе естественно, без вмешательства человека.
Грикуров начинает поиски в предвесенние дни. В степи лежит потемневший ноздреватый снег. Ости прошлогоднего ковыля проступают сквозь снег, наклоняют по ветру поседевшие головы. Степь выглядит еще пустыннее, чем обычно. Грызунов надо ловить именно сейчас, когда они только выбираются из нор. Иначе, даже обнаружив микроб чумы, нельзя доказать, что он прожил в суслике всю зиму.
Грикуров исследует четыреста сорок девять грызунов; при вскрытии четыреста пятидесятого он видит наконец долгожданную, прошлогоднюю чуму.
Путь чумы через зиму расшифрован.
Но у чумологов нет уверенности, что это — главный путь.
Микробы добыты при вскрытии из внутренних органов грызуна. Могли ли бы они сами выбраться из этой своеобразной тюрьмы, размножиться, попасть в кровь, чтобы при помощи кровососущих насекомых перейти к здоровым сусликам и вызвать вспышку эпизоотии?
Видимо, это возможно далеко не всегда. Десятки дней бездействия ослабили микроб и усилили защитные силы организма суслика. Вероятность массового прорыва микробов в кровь не очень велика.
Открыта обходная дорога чумы, предстоит найти главный путь.
Насосавшись крови чумного животного и вобрав в себя тысячи, миллионы микробных тел, блоха не гибнет от них. Попав на здоровое животное или на человека, она вводит ему чуму. Это было известно и раньше, но теперь возникло предположение, что насекомые играют в «хозяйстве» чумы гораздо более значительную роль. Не служит ли блоха зимним хранилищем живого, активного, вирулентного микроба в нежилых гнездах грызунов, погибших от чумных заболеваний в предыдущем сезоне?
Поиски шли на пространствах в тысячи километров, в безлюдных степях. Советские исследователи охотились за врагом, который в миллионы раз меньше больного чумой грызуна, но, может быть, в тысячи раз опаснее.
Шли поиски, которые требовали ювелирной точности методов исследования и неутомимости путешественника, но прежде и больше всего — самоотверженности, мужества, неотступной настойчивости в достижении цели.
Надо было узнать, способна ли блоха, насосавшаяся крови чумного грызуна, перезимовать и сохранить инфекцию. Иофф доказывает, что бактерия чумы может жить в брюшке блохи больше года — триста девяносто шесть дней. Лабораторные опыты переносятся непосредственно в природу. Блохи в маленьких бязевых мешочках опускаются на двухметровую глубину в нору грызуна. Через каждые тридцать — сорок дней гнезда раскапываются, несколько мешочков доставляют в лабораторию, и там из уцелевших насекомых приготовляют микробные культуры.
Микробы, попавшие в брюшко насекомого, сохранили полную силу до весны. Опыт многое выяснил, но он сразу же вызвал возражения.
В природе блоха не окружена броней из бязи. По мнению некоторых ученых, многочисленные жуки в течение зимы уничтожают почти всех спрятавшихся в нору насекомых. Эта черная стража обитает в каждой норе. Лишь ничтожное количество кровососущих насекомых прорывается сквозь строй жуков, и трудно поверить, что чумная блоха сможет просуществовать от осени до весны.
В степи, в обычных условиях живой природы, продолжаются поиски зараженных чумой насекомых. Гайский исследует 12 770 блох, добытых в течение зимы из 216 гнезд. Другая группа ученых изучает 80 000 насекомых.
Бактериологи производят десятки тысяч тончайших операций. И даже при круглосуточной работе человек не имеет права ни на секунду потерять спокойствие, в малейшей детали нарушить строгую последовательность движений.
Перед «операцией» насекомое моют в трех ванночках и помещают в физиологический раствор. Подготовка закончена. Игла проникает в брюшко блохи. Исследователь осторожно переносит капельку жидкости, повисшую на кончике платиновой иглы, на специальное стерильное стеклышко. Все, что остается от насекомого, отбрасывают в сторону, на дезинфекцию, — быть может, это очень опасный материал.
Через очки противочумной маски исследователь замечает, что жидкость имеет почти неразличимый желтый оттенок. Очевидно, следы крови. Значит, есть какая-то надежда, и внимание должно быть удесятерено. Мускулы невольно напрягаются, но движения остаются такими же неторопливыми.
Пастеровская пипетка втягивает слабо окрашенную жидкость и переносит ее на агар-агар в чашку Петри...
Остаток капли испытывают бензидином. Характерное посинение указывает на следы крови и притом крови несвежей.
Взгляд на чашку Петри, прежде чем поставить ее в термостат. Тридцатое гнездо, культура № 606.
И снова в том же порядке повторяется шестьсот седьмая, тысячная, десятитысячная операция.
Наступает время бактериологического изучения полученных результатов. На культуре № 606 сразу заметно большое количество чумных колоний. Руки привычным движением погружаются в сулему. Не только руки, но и все тело, мозг отдыхает в эту секунду. Идет двадцать четвертый час работы, но экспериментатор не чувствует усталости, точно сулема смывает ее вместе с инфекцией.
Культура № 606 — колония микробов, прожившая всю зиму в брюшке блохи, прорвавшаяся через все препятствия, сквозь цепи жуков, показывает, каким образом сохраняется чумная инфекция в зимние месяцы.
Так завершается еще один этап коллективного труда.
Советские исследователи Иофф и Тифлов тщательно изучили блох, паразитирующих на степных грызунах, и выяснили значение некоторых видов блох в распространении чумы.
Туманский и Поляк впервые доказали возможность длительного сохранения чумных микробов в организме блох в период, отделяющий одну эпизоотию от другой. Им удалось обнаружить чумных блох в нежилом гнезде суслика спустя пять месяцев после окончания эпизоотии.
Ступницкий, Тинкер и многие другие завершают цепь исследований. Оказалось, что микробы — а они вместе с кровью больного чумой суслика могли попасть в брюшко насекомого только в разгар летней эпизоотии, задолго до зимней спячки грызунов, — полностью сохраняют свою силу.
Все пути и переходы чумы в природе изучены до последнего звена. И тогда началось общее наступление. В Америке чумной микроб завоевывал новые пространства, в Азии, главным образом в Британской Индии, только за четыре года, с 1924 по 1928, он убил 1 026 779 человек. А у нас возбудитель чумы был уничтожен по всей стране.
Болезнь в нашей стране исчезла, и историю ее можно было бы считать законченной, если бы микроб существовал только в природе и не имел союзников по ту сторону океана, среди врагов свободных народов.
Чуму удалось истребить, но наука должна была найти средства для предупреждения этой болезни и лечения ее, для борьбы с теми, кто попытается воскресить и использовать в своих целях чуму.
„А М П“
Южные плодовые растения, измененные ботаниками в мичуринских садах, были перенесены на север, в другую климатическую зону. В Сальских степях миллионы деревьев, высаженные колхозами, гибли, спаленные суховеем. Но за первым рядом изогнутых, пожелтевших, полусгоревших деревьев вставал второй... десятый... сотый... И вот уже суховей сам запутывается в лесных тропках, между стволами дубов и кленов. На севере овощи и хлебные злаки прорвали линию Полярного круга. В Сибири люди «научили» плодовые деревья прижиматься к земле, защищаться зимой снежным одеялом, а в утренние заморозки — почвенным теплом.
Леса и травы останавливают пески. Вместе с каналами жизнь врывается в пустыни.
Это наступление затрагивает все отрасли знания — от физики до ботаники, от техники до микробиологии.
...Много лет назад в городе Тананариво, на Мадагаскаре, среди тысяч других погибла от чумы маленькая девочка. По инициалам ее штамм — культура бактерий, полученная из этой жертвы чумного микроба, — был назван двумя буквами: «ЕВ».
Рядом с «Глазго», «Бомбеем» и другими культурами год за годом сменялись бесчисленные поколения ничем не замечательного штамма «ЕВ».
Так продолжалось, пока не случилось нечто неожиданное. Исследователь заразил микробами «ЕВ» группу морских свинок. Прошло несколько суток — животные не заболевали. Штамм «ЕВ», начавший с убийства и множество раз доказавший свою силу в лабораториях, на этот раз не действовал. Свинки давно должны были погибнуть, а они бегали по клеткам, обнюхивая кормушки в ожидании пищи.
Быть может, эта группа лабораторных животных вследствие каких-то неизвестных причин обладала природным иммунитетом, невосприимчивостью к чуме?
Опыт был повторен на других животных при условиях, которые полностью обеспечивали заражение чумой. Результат оказался таким же: штамм «ЕВ» перестал убивать.
Безвредную чуму представить себе труднее, чем синильную кислоту, превратившуюся в сахар. Но она существовала. Штамм «ЕВ» разошелся по всем крупным лабораториям мира. Несомненно, это был микроб чумы, всеми свойствами (характером роста, формой, отношением к бактериальным красителям) похожий на обычную бактерию, но не ядовитый — авирулентный, как говорят микробиологи.
Много раз Магдалина Петровна Покровская возвращалась мыслью к этому опыту, проделанному природой без участия исследователя. Опыт будил большие надежды, поднимал массу острых вопросов.
Микробный мир казался некоторым ученым неизменным, постоянным, точно отлитым из металла. Оказывается, он подчиняется силе изменчивости, как и все живое.
«Что, если взять в свои руки эту силу?» — думала Покровская.
Много десятилетий прошло с той поры, когда люди загустили факт существования изменчивости у растений — появление новых свойств, которыми не обладали предыдущие поколения. Но только в наши годы человек научился вызывать эти изменения и управлять ими.
Тут надо было пройти долгую и трудную дорогу не в десятилетия, а в годы и месяцы.
«ЕВ» потерял свою вирулентность неожиданно, под воздействием еще не изученных причин. Вероятно, можно научиться сознательно, по своей воле создавать неядовитые разновидности микробов. А это имело бы огромные последствия для человечества.
Вакцина Хавкина, снижая смертность в четыре раза, все же уступила в Индии болезни двенадцать миллионов человеческих жизней. Она спасла сорок, быть может пятьдесят миллионов, но двенадцать миллионов не сумела уберечь. Наука не могла мириться с такими потерями!
Хавкин приготовлял свою вакцину из убитых микробов чумы. Живые вакцины обладали бы огромными преимуществами. Родившиеся от вирулентных бактерий, почти всеми своими свойствами похожие на предков, эти неядовитые или почти неядовитые разновидности «приучат» организм расправляться с настоящей чумой. Возникновение защитных сил начнется до появления чумных микробов в крови. Чума встретит подготовленную оборону, и человеку в борьбе за жизнь будут подарены лишние дни. Подбирая разные живые вакцины, ученые найдут наконец такую разновидность или такое сочетание рас, которое обеспечит полный, стопроцентный иммунитет.
Волк и собака произошли от общего предка, но собака хорошо охраняет стада от своего родича.
Однажды человеку впервые ввели коровью оспу, и оказалось, что, «переболев» этой «болезнью», организм потом надежнейшей броней защищен от натуральной оспы.
Наступит день, когда и прививки против чумы станут такими же простыми и действенными. Магдалина Петровна Покровская мечтала об одном — приблизить этот день.
Но как переделать микробный мир? Какими средствами может воспользоваться исследователь, чтобы определять направление изменчивости микробов и отбирать нужные ему разновидности?
Это было время, когда географы, физики и летчики раскрывали тайны полюса; когда астрономы, пользуясь методами спектрального анализа, настолько приближали другие миры, что человек как бы совершал путешествие по полям и горам Марса, устанавливая, какие растения обитают там, какого цвета у них листва, как они выглядят; когда создание электронного микроскопа позволило увидеть даже фильтрующиеся вирусы.
Человек всюду становился властным хозяином.
Расплавленный кварц особым способом превращался в иглы, ланцеты, крючки. С помощью невидимых инструментов, сложными передачами в тысячи раз замедляя движение руки, человек научился «оперировать» микроскопически малую живую клетку.
Но тут не могла помочь самая совершенная микрохирургия. Вырвать жало у чумы — значило неведомыми, одновременно и грубыми и тонкими биологическими методами перестроить все вещество микроба, не убив его при этом.
Задача трудная, но Покровская чувствовала, что она нашла правильный путь.
С давних пор микробы считались первой ступенькой в лестнице живой природы. Но несколько десятилетий назад наблюдателю открылось нечто новое.
Иногда здоровая, жизнеспособная колония бактерий начинает гибнуть. На поверхности ее появляются пятна и просветы; раз возникнув, они быстро распространяются во все стороны. Какая-то сила как бы плавит посев бактерий.
Тогда, до открытия электронного микроскопа, причина изменений была невидима. Даже при увеличении в две тысячи раз исследователь различал лишь результаты действий неожиданного союзника. Трупы бактерий, отдельные, уцелевшие в схватке, изуродованные островки некогда здоровой и мощной колонии.
Еще не зная, что это — неживое вещество или живые организмы — так быстро и безжалостно творит расправу в бактериальном мире, ученые назвали невидимого союзника бактериофагом — пожирателем бактерий.
Пропустите разводку переболевшей колонии через фильтр с мельчайшими порами. Фильтр задержит видимые частицы, и профильтрованная жидкость под обычным микроскопом представится глазу пустынной.
Это только кажущаяся пустота. Легко убедиться в том, что фильтрат полон могучего и грозного населения. Возьмите платиновой петлей капельку жидкости и опустите ее на здоровую колонию бактерий. Пройдет некоторое время, и там разыграется такое же сражение. Колония начнет светлеть, большинство бактерий погибнет, а уцелевшие окажутся ослабленными и изуродованными.
Не был ли бактериофаг той силой, позволяющей переделывать микробный мир, которую Покровская искала все последние годы? Не удастся ли из ослабевших и измененных после схватки с бактериофагом микробов вывести авирулент-ную, «ручную» чуму?
Начались опыты, продолжавшиеся пять лет. Тысячи чумных колоний гибли целиком, не давая ожидаемого результата. На поле сражения оставались лишь трупы микробов и умирающие уроды. Получить колонии живых, способных давать нормальный рост безвредных чумных микробов не удавалось.
Покровская и не надеялась на быстрый успех. Опыты многократно повторялись. Вероятно, впервые в истории советской и всей мировой науки исследователь пытался не просто уничтожить враждебный бактериальный мир, а научиться изменять его, как изменял до сих пор человек породы домашнего скота и виды культурных растений.
Тысячи и десятки тысяч раз исследователь, сталкивая бактериофаг и чумных микробов, наблюдал «поле боя». Наконец цель была достигнута.
В культурах, подвергшихся действию бактериофага, Покровская обнаружила своеобразные плотные колонии, пропитанные вязким веществом. Она переселила жителей необычных чумных колоний на свежий агар-агар. Когда колбы с микробными посевами вынули из термостата, на поверхности питательной среды видны были хорошо развившиеся колонии. «Прозрачные, как капли росы», — записала Покровская в протоколе опыта. Новую разновидность микробов, впервые сознательно, по плану выведенную исследователем, выхаживали и размножали, как выхаживал и размножал новые сорта растений Мичурин. Она получила название «АМП», и сотни колоний «АМП» росли теперь в лаборатории Покровской.
И вот наступило время, когда «АМП» — выведенная человеком порода чумного микроба — должна была показать свои свойства не на питательных средах, а в крови лабораторных животных.
Начались важнейшие опыты. В эти дни исследователь проверял свою власть над природой. Страх за судьбу эксперимента постепенно отступал, освобождая место гордому сознанию достигнутого успеха.

Магдалина Петровна Покровская.
Двести одиннадцать лабораторных животных были заражены микробами «АМП» — сто пятьдесят девять сусликов, тридцать одна морская свинка и двадцать одна белая крыса. Под микроскопом можно было наблюдать, как лимфоциты, которые могут только захватывать, но не уничтожать настоящих, вирулентных чумных микробов, встретившись с «АМП», начинают дружное наступление и выходят победителями из недолгой схватки.
Опыт провели на двухстах одиннадцати животных. Лишь один маленький суслик, весивший всего шестьдесят два грамма, пал во время опыта.
Покровская решительно увеличивала дозировку. В кровь морской свинки вводилась целая армия — семьдесят два миллиарда живых микробов. Даже такие огромные силы не могли пробиться к жизненно важным органам и погибали в крови подопытного животного.
А между тем микроб «АМП» несомненно являлся разновидностью возбудителя чумы. Почти всеми химическими и биологическими свойствами он походил на настоящую, убивающую чуму. И можно было ожидать, что, расправившись с «АМП», организм «научится» побеждать и вирулентных чумных микробов.
Опыты усложнялись.
Сорока одному суслику, успешно справившимся с «АМП», ввели заведомо смертельные дозы вирулентных микробов. Пали четыре суслика; тридцать семь животных, или девяносто процентов, остались живы. Из двадцати шести контрольных невакцинированных сусликов уцелело двадцать процентов, а восемьдесят процентов погибло.
«АМП» создавала иммунитет.
Оставалось последнее испытание. Наука знает, что микроб, безопасный, например, для курицы, легко убивает человека. Культура «АМП», безвредная или почти безвредная для морской свинки или кролика, совсем иначе могла вести себя в крови человека.
Ведь это новая разновидность, не существовавшая раньше. Все ее свойства изучались впервые.
Надо считаться с возможной вредоносностью новой культуры для человека, но гораздо вероятнее предположить, что культура «АМП» создаст иммунитет более прочный, чем тот, который достигается при помощи мертвой вакцины Хавкина. Этот второй результат настолько важен, что Покровская чувствовала себя не вправе откладывать опыт.
«Нужно повторить эксперимент на обезьянах, — решили в Москве. — Идти по эволюционной лестнице от низшего к высшему, постепенно подготавливая решающий опыт на человеке».
Покровская не могла согласиться с отсрочкой. У нее возникло чувство, какое было когда-то у Заболотного: «Время не ждет!»
Потом мы узнали, что в эти предвоенные годы микробиологическая наука фашистской Германии, Японии и Америки шла совершенно иным путем. Там из ядовитых разновидностей чумы пытались вывести сверхъядовитые и создавали специальные институты для этих целей. Силами нашей науки чума была раскрыта в главнейших ее крепостях и беспощадно вытеснялась из всех своих хранилищ. А там работали над созданием бактериологического оружия. Фашисты приходили на помощь отступающим бактериям.
Там готовились к тому, чтобы проверять силу микробов на людях, в лагерях для заключенных. И на штабных совещаниях деловито сравнивали убивающие свойства чумы со свойствами других средств уничтожения, сопоставляли дешевизну и удобство войны химической и бактериологической с войной обычной...
Покровская думала: государство не хочет рисковать жизнью ученого, но опасность, угрожающая родине, дает право идти на риск. Она думала: «Опыт на человеке сейчас очень нужен, и есть только одна жизнь, которой ученый в этих условиях имеет право рисковать, — это его собственная жизнь».
Исследовательница решила привить себе культуру «АМП». Опыт начался 8 марта. У Покровской болела голова: уже несколько дней тянулся грипп. «Еще лучше!—думала она.— Я узнаю, как действует «АМП» в присутствии вируса гриппа».
Покровская набрала в шприц жидкость, содержавшую пятьсот миллионов микробов, и ввела себе под кожу. К двенадцати часам ночи на месте укола появилось большое ярко-красное пятно.
«Любопытно, — подумала Покровская: — на этот раз организм сразу «заметил» проникновение инородных существ и ответил сильной воспалительной реакцией, пытаясь ограничить их распространение».
На другой день температура поднялась до тридцати восьми и семи десятых. Бой на уничтожение пятисот миллионов микробов «АМП» продолжался...
К вечеру температура упала. 17 марта Покровская сделала себе вторую прививку. И на этот раз все окончилось благополучно.
Когда в Москве Покровская рассказывала о своем опыте, она закончила сообщение горячими и искренними словами:
— Я хочу, чтобы вы поняли, что я ни на секунду не чувствовала себя самоубийцей. Честное слово, я не похожа на самоубийцу. Я всей душой люблю жизнь и проделала этот опыт потому, что верила и верю в культуру «АМП». Верила и верю, что коллектив нашего института создал новое средство борьбы против чумы, более действенное и совершенное, чем те, которыми мы располагали до сих пор.
После Покровской выступали другие чумологи.
Слушая товарищей, Покровская чувствовала глубже, чем когда-либо раньше, каким широким фронтом наступает советская наука.
Она думала о том, какие интересные пути открываются перед микробиологией. Бактериофаг поможет нам вывести не только «ручную» чуму. Почему не попытаться этим или другими способами создать авирулентные формы возбудителей тифа или дизентерии? Почему не переделать все обширное царство болезнетворных микробов?
„ЕВ"
«Покоренные микробы» — так назвал одну из своих последних статей Даниил Кириллович Заболотный. Микробы, покоренные и переделываемые советской наукой.
Авирулентные живые вакцины оказались ключами, помогающими завести пружины защитных сил организма. Конечно, это очень грубое, механическое сравнение, но оно в некоторой мере передает картину происходящего.
Надо завести не одну пружину и нужен не один, а, может быть, десятки ключей. Микробы «АМП» защитили от чумы девяносто лабораторных животных из ста. Но в десяти случаях из ста чума оказалась сильнее сил, противостоящих ей. Значит, это еще не окончательная победа. Путь избран правильный, но в распоряжении ученого нет еще непроницаемой брони.
И ведь не одну расу чумного микроба предстоит победить, а все разновидности, существующие на свете. Есть штаммы океанические и родившиеся на континенте, они отличаются друг от друга некоторыми свойствами. Среда, как предсказывал еще Деминский, должна была оставить и оставила на бактериях свой отпечаток. Есть микробы более и менее ядовитые.
Наша наука хотела создать вакцину, позволяющую заранее подготовить организм человека к встрече с любой разновидностью чумных микробов.
Опыты продолжались во многих лабораториях. Вслед за созданием и проверкой штамма «АМП» наступила очередь изучения другого авирулентного штамма — «ЕВ», о котором мы уже говорили.
Микробиологический институт помещался в двухэтажном особняке, совсем не похожем на угрюмый каменный чумной форт далекого прошлого нашей науки. Из-за ограды выглядывали, нависали над улицей и тянулись к окнам лаборатории ветви деревьев.
Мне подумалось, что даже в этом, в таком спокойном внешне, облике института сказалась новая уверенность, сила нашей науки в борьбе с болезнью.
Нас познакомили с участниками недавнего опыта: молчаливым и спокойным чумологом Туманским, Коробковой — пожилой женщиной с ласковым усталым лицом, Берлиным — человеком со строгими, внимательными глазами, одетым в гимнастерку, с монгольским орденом на левой стороне груди.
После первых вопросов Берлин сказал:
— Вы спрашиваете, думали ли мы об опасности, связанной с опытом? Прежде всего, мы были уверены в благополучном исходе. А потом... мне кажется, что офицер, командующий наступающей частью, редко задается вопросом, останется ли он живым. Он думает о главном: удастся ли наступление? А ведь это была тоже важная и необходимая боевая операция... Хирург, работающий в непосредственной близости от фронта, слышит все: частоту дыхания раненого, ответы сестры, шум крови в перерезанной артерии, — все, кроме грохота боя. К счастью человека, труд и чувства, им вызываемые, сильнее всего остального. Главное, что занимает исследователя, — это опасность, угрожающая опыту, но зато когда эта опасность исчезает...
Берлин повернулся спиной к окну. Он стоял, опершись руками о подоконник, и, задумавшись, еле заметно улыбался. Мне вспомнились слова Толстого о том, что красивым можно назвать лишь то лицо, которое хорошеет от улыбки.
— Ну, теперь расспрашивайте, — говорит Туманский.
В апреле 1939 года из Москвы прислали наконец разрешение на производство опыта. Было решено, что прежде всего культуру «ЕВ» введут трем научным работникам — Коробковой, Берлину и Туманскому: последние годы они больше всех занимались изучением этого штамма.
Доктор Ящук ввел трем врачам по двести пятьдесят миллионов микробов «ЕВ».
Исследователи отделены от мира. Они находятся в приземистом здании изолятора. В эти комнаты можно входить только в маске и специальной одежде. Если «ЕВ» вернется к своему прошлому, чума не должна выйти за пределы изолятора.
Сотни людей думают о судьбе экспериментаторов. А в изоляторе царит спокойствие. Коробкова правит гранки статьи для «Вестника микробиологии», Туманский что-то пишет, Берлин целиком погрузился в свое исследование о методах, применяемых тибетской медициной в борьбе с чумой. В 1930 году он был послан в Монголию и там, наряду с практической работой, начал этот труд. Сперва исследование двигалось очень медленно. Впрочем, с каждым днем ончувствовал все большую необходимость довести его до конца. Ламы разъезжали по стране во всеоружии заклинаний и лекарств со странными названиями, вроде «отвара семи драгоценностей». Они преграждали дорогу настоящей науке и мешали врачам. Это было не архивное исследование, а борьба с отжившим, которое господствовало еще над сотнями тысяч человеческих умов. Та же великая борьба за человеческие жизни.
Ламы не желали раскрывать своих методов лечения. Они торопливо уезжали, как только появлялся советский врач, или молча сидели в темном углу юрты, не отвечая на вопросы. Берлин почти отчаялся найти достоверную сводку положений тибетской медицины, когда во время одной из поездок познакомился со старым ученым — философом, имеющим высокую философскую степень — габчжу, и одновременно медиком со степенью манрамба. Габчжу-манрамба выслушал его и неожиданно согласился помочь. Почему? Может быть, он верил в силы своей древней, столетиями не менявшейся науки, а может быть, настолько любил свой народ, что готов был во имя его блага рискнуть тем, чему служили и он сам, и отец его, и дед, и прадед.
Старый ученый составил и передал «сводку сведений о чуме». С огромным волнением читал Берлин рукопись. Это было путешествие по векам. В ней упоминался «Бодичарьяватор» — философское сочинение, написанное в Индии тысячу двести лет назад, и множество других трудов философов и медиков. Но в сводке габчжу-манрамбы народный опыт и верные наблюдения врачей прошлого были похоронены и обеспложены вековыми наслоениями мистики. Рукопись представляла собрание некогда живых мыслей; задушенные ламами, они перестали развиваться и теперь, как все мертвое, мешали народу.
...Рабочий день идет согласно заранее установленному строгому распорядку. В определенные часы появляется институтский врач. Он следит за самочувствием Коробковой, Туманского и Берлина, измеряет температуру. В такие минуты яснее чувствуешь, что это не просто рабочая комната, а изолятор, и идет не обычный рабочий день, что именно сейчас сотни миллионов микробов «ЕВ» сталкиваются с защитными силами организма.
После ужина в изоляторе гаснет свет и наступает тишина. Тревожные часы начинаются утром следующего дня: у Туманского сильно болит рука и быстро поднимается температура. Доктор Митин сам вынимает термометр у больного.
— Все в порядке, Виктор Михайлович, — говорит Митин Туманскому: — тридцать семь и одна десятая.
В действительности температура — тридцать восемь. Туманский чувствует, как усиливается жар. Впрочем, и сейчас он уверен, что это не «ЕВ» изменила свои свойства, а, по всей вероятности, прививка вызвала приступ туляремии, которой он заразился давно, во время одной из экспедиций.
А за столом Берлин продолжает изучение рукописи габчжу-манрамбы. Сколько раз приходилось откладывать в сторону это исследование, чтобы отправиться на эпидемическую вспышку или выполнить другое неотложное дело. Все-таки работа подвигалась. Термины ламистской медицины были расшифрованы. Из ги-вана — железной глинистой охры, манче-на — корней Aconitum napellus, му-сы — серы, ли-ши — гвоздики составлялись «большое желтое лекарство» и другие снадобья, рекомендуемые сводкой габчжу-манрамбы. Действие этих лекарств советские бактериологи проверили на лабораторных животных, предварительно зараженных чумой. Снадобья не помогали. В лаборатории мистический туман рассеивался, и ясно обнаруживалось бессилие ламистских медиков.
Входит врач Обухова. Даже по ее голосу нельзя не почувствовать, что положение кажется ей очень серьезным. Туманский успокаивает ее:
— Должен вам сказать, что мне лучше, и нет решительно никаких оснований для беспокойства. Жаль только, если все это несколько затемнит результаты опыта.
И действительно, через несколько часов температурная кривая сперва медленно, но затем все решительнее скользит вниз...
«Теория тибетской медицины, — пишет Берлин, — прививает населению неправильные готовые взгляды и канонизированные, незыблемые истины, сбивая этим эмпирические искания с правильного пути и выступая благодаря этому как фактор, тормозящий прогресс науки».
Рукопись окончена, и Берлин откладывает ее в сторону.
У Туманского уже много часов нормальная температура и хорошее самочувствие; он спокойно читает книгу. Коробкова нетерпеливо поглядывает на часы; она соскучилась по микроскопу, дому, лаборатории, а последние минуты опыта тянутся нестерпимо медленно.
После окончания карантина врачей, испытавших на себе культуру «ЕВ», работники института встретили торжественно. Каждый старался пожать им руку, сказать что-нибудь приятное, проявить внимание.
Институт решил продолжать опыты. Вакцина «ЕВ» была введена еще пяти товарищам — лаборантам и научным сотрудникам, — они давно добивались права участвовать в эксперименте. В третьей группе было уже восемь добровольцев.
Так окончился опыт, который происходил в советском научно-исследовательском институте.
В декабре 1939 года, прежде чем опубликовать очерк об этом опыте, я решил показать рукопись одному из участников эксперимента.
День этот снежный, не по-зимнему теплый, запомнился надолго. Берлин прочитал очерк, сделал несколько замечаний, а потом, как обещал еще при первом знакомстве, стал рассказывать о своей жизни, о борьбе с сыпняком в гражданскую войну и о работе на чумных эпидемиях в Монголии. Совсем незаметно, будто его жизнь была неразрывной частицей другой, большой биографии, он перешел на рассказ о всей истории борьбы нашей науки против чумы.
— И ведь прошло очень немного лет, — говорил он. — Живы Исаев, который поймал первого чумного тарабагана, Суворов и другие участники маньчжурской эпопеи. Пройден большой путь, но осуществление идеи заняло, в конце концов, сроки одной человеческой жизни. — Помолчав, Берлин добавил: — Если бы об этой работе написать, можно было бы так и назвать книгу: «История одной идеи» или, лучше, «Осуществление идеи».
Мы условились встретиться и подробно поговорить в другой раз, но сделать этого не удалось, так как через несколько дней советский микробиолог Абрам Львович Берлин погиб в результате трудного и опасного лабораторного опыта.
ПРОТИВ СМЕРТИ
Эта книга была начата до войны. На фронте часто вспоминалась оставшаяся дома, в Москве, незаконченная работа.
Вспоминалась, так как в годы войны становилось особенно ясным, что опыты Покровской, Берлина и других советских ученых-чумологов — одно из сражений с фашизмом, и победы, одержанные в лабораториях, — военные победы.

Абрам Львович Берлин.
Да это и действительно так. В дни битвы на Курской дуге далеко в тылу трое добровольцев испытывали на себе новый метод противочумных прививок живыми вакцинами. Двоим из них было введено по миллиарду сто миллионов микробных тел, а одному — шестьсот миллионов.
Опыт являлся продолжением целой серии научных работ и одновременно битвой не с возможным, а реальным военным противником, не только с микробами чумы, но и с людьми, которые пытаются использовать микробов против человека.
Две науки боролись друг с другом. Пока в нашей стране создавались все более надежные средства против чумы, близ Харбина, в захваченной японцами Маньчжурии, назревала опасность более грозная, чем маньчжурская эпидемия 1911 года.
Здесь, где сама земля хранит память о том, как русская наука спасала и спасла огромную страну от опустошительной эпидемии, в стране, где Заболотный впервые доказал возможность полного искоренения чумы, готовился заговор против человечества.
Близ станции Пинфань японцы обнесли большую территорию земляным валом и проволочными заграждениями. Вооруженные караулы Квантунской армии и ток высокого напряжения, текущий по проволоке, охраняли подступы к этой территории. За оградой действовал отряд № 731 генерал-лейтенанта медицинской службы Исии Сиро. Посещение отряда командующим Квантунской армией генералом Умедзу, начальником штаба армии генералом Касахара и принцами Такеда и Мико-са свидетельствовало, какое большое значение придавала императорская ставка работам отряда.
Гости внимательно осматривали корпуса секретных отделов отряда № 731. Генерал-лейтенант Исии Сиро шел среди сановных гостей, почтительно наклонив седую голову.
— Мы исходим из того бесспорного положения, что наука пошла неверным путем со времен Пастера и Мечникова, — говорил он. — Еще не поздно исправить ошибку. Соображения так называемого «гуманизма» подменили правильное понимание главного — полезности. Бактерии осуществляли то, что с научной точки зрения нельзя назвать ни хорошим, ни плохим. Требуется другое слово: истребляя нищих, неполноценных, отбирая тех, кто имеет действительное биологическое и социальное право на существование, они делали необходимое. Эпидемии спасали землю от перенаселения и продолжали естественный отбор в человеческом обществе. Они избавляли тюрьмы от тысяч голодных, которые попали бы за решетку; больницы — от сотен тысяч больных; палачей — от непосильной работы. Если бы не природа, а человек создал эпидемии, ему следовало бы поставить памятник!..
Наука пошла неверным путем. Вместо того чтобы использовать болезни для очищения человечества, она попыталась уничтожить их. И она сделала многое, чтобы достигнуть неправильно поставленной цели. Надо, впрочем, признать, что другие причины способствовали вымиранию больших людских масс. Но это не благодаря науке, а вопреки ей... Существовала опасность, что болезни исчезнут как раз тогда, когда человечество научилось наконец понимать значение и разумность этой силы. Американцы воюют при помощи европейцев — они используют наемные армии. Мы можем поступить разумнее — воевать при помощи армий, численность которых не знает предела, армий, не нуждающихся ни в оплате, ни в боеприпасах...
Как бы заканчивая фразу, генерал-лейтенант коротким жестом обвел территорию отряда. На обширном пространстве в строгом казарменном порядке разместились одноэтажные и двухэтажные корпуса. Между дорожками и корпусами простирались зеленые лужайки. Изнутри проволочные заграждения были замаскированы диким виноградом и кустами роз.
— Не означает ли появление таких армий нового этапа в истории цивилизации? — спросил Исии Сиро.
Гости зашли в длинное одноэтажное здание. Служители подали посетителям маски, специальную обувь и одежду. В лабораториях сотрудники поднимались со своих мест, молча кланяясь серыми одинаковыми масками, — исполнительные сотрудники, очень похожие друг на друга и совсем не похожие на людей.
Окна были завешены плотными шторами, безжизненный белый свет ртутных ламп заливал помещения.
Посетители торопились выйти на улицу.
Шагая по желтой песчаной дорожке, протянувшейся между зелеными лужайками, генерал продолжал объяснения:
— Мы работаем с возбудителями чумы, холеры, сибирской язвы, брюшного тифа, паратифа, газовой гангрены. Преимущество нашей методики заключается в том, что исследования ведутся и на животных и на людях. В этом нет ничего принципиально нового. Многие ученые прививали опасные инфекции самим себе. Но поступать так, во-первых, неразумно, а во-вторых, медлительно: для каждого опыта нужен не один объект, а тысячи. Американцы испытывали эффективность бактериологического оружия на индейцах. Англичане вели опыты на заключенных в исправительных заведениях Индии, французы — в колониях для прокаженных. Тут объектами служили не единицы, а сотни людей. Но и англичане не довели дела до конца. Это сумели осуществить только мы и наши союзники.
Генерал помолчал, видимо давая гостям время продумать его слова и задать вопросы, если они пожелают. Но все было изложено ясно, и вопросов не последовало.
Указывая рукой на большое кирпичное здание с окнами, забранными решеткой, Исии Сиро продолжал:
— Тут содержатся одновременно сотни подопытных. Есть общие камеры, необходимые для экспериментов по передаче инфекции от человека к человеку, и изолированные, одиночные. Нам доставляются лица, осужденные японскими и маньчжурскими судами на смертную казнь, а также те, кого признано целесообразным уничтожить без суда. Материалом мы располагаем всегда. Опыты ведутся на мужчинах и женщинах, людях всех возрастов, так как мы ставим задачу полного уничтожения жизни в тех районах, где ведем или предполагаем вести военные действия. Такая постановка дела дает возможность проводить самые различные работы. На станции Аньда оборудован для отряда специальный полигон. Туда привозятся группы из десяти-двенадцати заключенных. Затем с самолетов сбрасываются бактериологические фарфоровые бомбы или подрываются бактериологические снаряды, заранее установленные на полигоне. Так мы изучаем эффективность отдельных видов бактерий, способы распространения их и убивающую силу...
Впрочем, и полигон не дает возможности производить эксперименты в достаточно широких масштабах и в сложных условиях, которые встречаются на реальном театре военных действий. Поэтому наши самолеты по мере необходимости вылетают с территории отряда. Пока мы имеем десять самолетов, но количество их будет увеличено. Летом наш отряд произвел заражение чумой местности в районе города Нимбо в Центральном Китае. Данные разведки позволили установить, что результат был достигнут: в городе вспыхнула чумная эпидемия.
На самолетах установлены специальные приборы для распыления бактерий в воздухе. Таким способом мы сможем вызывать сразу эпидемию не бубонной, а легочной чумы, действие которой, как известно, гораздо сильнее. Ведутся изыскания по заражению людей массами чумоносящих блох. Насекомые разводятся в филиалах отряда, расположенных в различных пунктах Маньчжурии. В одном из районов Китая после оставления местности нашими войсками с самолетов было проведено заражение территории бактериями сибирской язвы и других эпидемических заболеваний.
О силе, которой мы располагаем уже сейчас, можно судить хотя бы по тому, что оборудование одного лишь четвертого отдела отряда позволяет за несколько дней изготовить тридцать миллионов миллиардов микробов...
Так говорил генерал Исии Сиро, командующий отрядом № 731. Он готовился развернуть свой отряд в армии бактериологической войны и «опыты», которые были проведены в районе Нимбо и других городов Китая, повторить в масштабах целых стран. Но не успел.
Советская Армия наступала достаточно быстро. Она разгромила японских фашистов вместе с их отрядом № 731, как до этого разгромила гитлеровцев, также готовивших в Познанском институте бактериологическую войну.
Мы взяли штурмом, с оружием в руках и эту крепость чумы — одну из самых опасных для мира.
Две науки. Убийцы против русских, советских ученых, испытывающих на себе живые вакцины, идущих на огромный риск и умирающих, если нужно, мужественно и честно, как Лебедева, Деминский, Берлин, жизнью и смертью служа родине. Фронт против фронта.
Вот почему так важны эти победы, одержанные в лабораториях советскими учеными. Наша наука, наши методы научного творчества, живые вакцины, так надежно помогающие в борьбе с бактериями, люди, создавшие эти вакцины, оказались сильнее, чем «наука» врага, чем те сверхъядовитые штаммы, которые теперь нашли приют за океаном, в Соединенных Штатах Америки.
Силы жизни вновь оказались сильнее смерти.
ОПЫТЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ
Гитлеровцы дошли до степного южного города, где работала Магдалина Петровна Покровская, и были изгнаны оттуда. Началась и кончилась война. И после войны еще напряженнее стала не прерывающаяся ни на день битва советского человека с природой.
Вероятно, за все эти годы Покровская ни разу не задерживалась долго на мысли о физической опасности, с которой связаны ее опыты. Но трудно было не думать о другой опасности, угрожавшей не жизни исследователя, а его делу.
За последние годы Жуков-Вережников совместно с Хворо-стухиной создали новую живую вакцину «ЖВ», обладающую замечательной способностью вырабатывать иммунитет; другой штамм авирулентных микробов вывела Коробкова. Во многих лабораториях советские чумологи испытывали, проверяли и совершенствовали живые вакцины.
А в это время не только из-за границы, но и с кафедр некоторых наших институтов прозвучали голоса, утверждавшие, что таких авирулентных разновидностей не существует и не может существовать.
— Не в наших силах менять наследственные свойства, — говорили эти люди. — То, что разводите вы в своих лабораториях, не новые разновидности, а лишь преходящие изменения неизменных и устойчивых микробов. Не в первом, так в пятом, десятом, сотом поколении изменения исчезнут и на агар-агаре вырастут все те же старые породы микробов. Враг был и останется врагом, так же как сжатая пружина неизбежно примет прежнюю форму.
Конечно, не такими обнаженными словами выражалась эта мысль. Она появлялась в броне цитат из очень почтенных книг, в паутине витиеватых, гуттаперчевых формулировок. Но сущность дела от этого не менялась.
— В ваших руках не новые разновидности микробов, а лишь бактерии, испытавшие временные изменения, — говорили Покровской и ее друзьям. — Это не устойчивые свойства, вызванные к жизни человеком, а след, вроде того, какой оставляет повозка на песке: пройдет какое-то время — и след исчезнет.
В лаборатории было жарко. По улице ветер нес начинающие желтеть листья — они прилипали к плотно закрытым окнам. Специальная одежда сковывала движения, прорезиненная ткань не пропускала воздуха. Казалось, что ты попал в раскаленную атмосферу сталеплавильного цеха. Но работа захватывала целиком, и через несколько минут попросту забывалось о физических неудобствах.
Опыты продолжались.
«Неустойчивые изменения». Но ведь Покровская и многие другие советские ученые столько лет неустанно проверяли постоянство свойств новых разновидностей чумного микроба!
Исследователи вводили себе в кровь будто бы неустойчивые, «временные модификации» микробов чумы. И они готовы были, если понадобится, повторить эти опыты, потому что были убеждены в верности пути, избранного советской наукой.
Авирулентные разновидности микробов против вирулентных. Результат человеческого труда против того, что создано природой.
Все яснее и яснее вырисовывались возможности, открывающиеся на новом пути в борьбе с болезнью. Под микроскопом видно, как клетки тела, подготовленные к сопротивлению авирулентными культурами чумного микроба, переходят в атаку. Лейкоциты уничтожают чумных микробов. А ведь до прививки они были бессильны в борьбе с ними. Клетки, которые раньше пассивно встречали врага или слишком поздно вступали в борьбу, с первых минут принимают участие в сражении.
ТРЕТЬЯ ЗАДАЧА
Три главные задачи надо было решить.
Полностью уничтожить чуму в природе, предотвратить не только эпидемии, но и единичные случаи заболевания чумой.
Первая задача решена в нашей стране.
Найти живые вакцины, способные в странах, где болезнь существует или куда может быть занесена, сберечь человека от микробов.
Мы видели, как решалась вторая задача.
И, наконец, надо создать средства лечения легочной чумы и окончательно выбить из рук врага возможность использования чумного микроба в бактериологической войне.
Решить третью задачу не удавалось. В ста случаях из ста, заразившись чумой через легкие, больной погибал, даже если лечение начиналось своевременно, в первые минуты развития болезни.
Советская медицина заново, этап за этапом, пересматривала всю историю лечения легочной чумы. Длинная и, может быть, самая безнадежная история за все время сознательной борьбы человека с инфекционными болезнями. Ученые, пытавшиеся найти средства против легочной чумы, расплачивались жизнью за свой замысел; их могилы — в России, в Индии, в Китае, Австрии, Германии, Португалии. Столько жертв — а цель, кажется, не приблизилась ни на шаг.
Врачи испытывали одно средство за другим: сыворотки, вакцины, приготовленные из бактерий различной вирулентности, весь богатейший арсенал лекарственных веществ. И все приходилось отбрасывать. Больные легочной чумой погибали независимо от того, лечили их или нет.
Постепенно среди громадного большинства чумологов Западной Европы и Америки твердо установилось мнение, что излечение первичной легочной чумы и теоретически и практически немыслимо.
Но было в этой грустной эпопее побед болезни и поражений человека одно явление, заставившее задуматься советских исследователей. Хотя больные погибали, несмотря на лечение, и врачи были бессильны изменить исход болезни, значило ли это, что вакцины, сыворотки, химические лекарственные вещества безопасны для чумного микроба, что они не оказывают никакого влияния на течение чумы?
Материалы всех врачей, участвовавших в борьбе с чумными эпидемиями, давали ясный ответ на этот, как оказалось впоследствии, решающий вопрос. Если раннее введение противочумной сыворотки и не спасало больного, то оно заметно удлиняло его жизнь. Больные, которым сыворотка не вводилась, погибали в среднем за 16,9 часа, а при лечении этот срок, по некоторым данным, увеличивался в три раза — до 46,2 часа.
Значит, врач уже сейчас может затянуть болезнь, заставить чумных микробов на некоторое время отступить.
Теперь надо было узнать, с какими силами сталкивается чума в организме и почему в конечном счете она неизменно побеждает.
...Попадая в тело человека или грызуна, чумной микроб часто даже не вызывает сразу возникновения воспалительного очага. Возбудитель болезни как бы замаскирован под белки человеческого тела; эта «схожесть» — опасная и грозная маска — помогает ему продвигаться, не встречая сопротивления.
Лейкоциты захватывают прорвавшихся микробов, но не переваривают, не уничтожают их всех. Чума превращает лимфатические железы в свои питомники.
Еще не возникли в организме силы сопротивления инфекции, а микробы тем временем размножаются с огромной быстротой. В гонке жизни со смертью, в нарастании защитных сил организма и убивающей массы микробов последняя обгоняет.
Из первичного очага микробы прорываются в кровь. Здесь они встречаются со второй защитной линией — кровяным барьером. Фагоцитарные клетки [Фагоцитарная клетка (фагоцит) — органическая клетка, способная поглощать и переваривать твердые, плотные вещества и бактерии. В организме человека существуют подвижные фагоциты (клетки крови) и неподвижные (в кровеносных сосудах, костном мозгу, селезенке, лимфатических узлах и печени).] извлекают врага из кровяного русла, не давая ему распространиться по всему телу. Но и в этот момент сопротивление чаще всего еще недостаточно. Темпы создания иммунитета запаздывают на дни и часы. Эти дни и часы определяют исход болезни.

Николай Николаевич Жуков-Вережников.
Уже первые годы изучения поведения микроба в заболевшем организме показали Николаю Николаевичу Жукову-Вережникову и его сотрудникам, что чума побеждает не легко, не сразу, а только выиграв ожесточенное сражение.
И, что важнее всего, в ходе болезни сопротивление организма нарастает. Если от первой минуты заражения лабораторного животного периодически измерять силу иммунитета, то бросается в глаза важная и интересная закономерность: кривая иммунитета начинается с нуля, полого тянется вдоль горизонтальной оси координат, как самолет, только что оторвавшийся от взлетной дорожки, а затем круто устремляется вверх.
Преимущества чумы временные, преходящие, они уменьшаются не только с каждым днем, но и с каждым часом. Микроб нападает на неподготовленный организм неожиданно, — в этом главная его сила, это решает исход болезни. Впервые за всю историю борьбы с чумой советские ученые доказали, что время работает на человека и против чумного микроба. В начале болезни защитные силы организма слабы, но они стремительно растут.
Задача формулировалась вначале общим словом: «излечить», теперь она ставилась предельно конкретно: «затянуть» заболевание до времени, когда окрепнет естественный иммунитет и организм сможет сам излечить себя.
Такой момент неизбежно наступит — за это говорят не только цифры, показывающие увеличение естественного иммунитета, но и наблюдения за жизнью чумного микроба в природе. Зимой, во время спячки грызунов, температура внутренней среды организма суслика понижается, микроб иначе ведет себя в новых условиях, и болезнь не только затягивается — часто меняется конечный исход ее: животное не погибает. Даже когда с наступлением теплых дней микроб попадает в благоприятные условия, далеко не во всех случаях удается ему убить грызуна. Значит, затянуть болезнь на долгий срок, на дни, даже на недели, возможно.
И можно установить сроки, которые необходимо выиграть. Обычно от легочной чумы человек гибнет на первые сутки или на второй, третий день. Даниилу Заболотному удалось продлить жизнь больного до девяти дней. Известен случай, когда смерть наступила через одиннадцать суток после заражения.
Но и одиннадцать дней — срок недостаточный. Врач должен отвоевать еще от трех до десяти суток. Тогда больной будет спасен.
Ясно было не только направление пути, но и протяженность его. В уме исследователей существовал проект лечения, план преодоления легочной чумы — «самоизлечение через искусственное продление жизни», как говорил Жуков-Вережников. Ученые шли не ощупью в темноте, а прямо, к хорошо видимой цели.
«Если бы мы не были уверены, что на 14—21-й день в процессе инфекции разовьется иммунитет, притом эффективный, — писали победители легочной чумы через много лет, закончив свой замечательный труд, — то первые же неудачи лечения могли бы остановить искания, если бы они были лишены ориентировки, которую дает теория».
Микробы захлестывали больного тремя последовательными волнами. И каждый из этих этапов требовал особой системы обороны. Температура падала — казалось, микроб отступал. Но достаточно поверить внешнему благополучию и приостановить лечение, чтобы картина переменилась и микробы прорвались к жизненно важным центрам. Счет приходилось вести на минуты, а то и секунды.
Размножившись в своем первичном очаге, чумной микроб проникает в кровь. Во время этой первой волны, первой атаки микробов, исследователь не может рассчитывать на помощь со стороны защитных сил организма. Они, эти защитные силы, еще только возникают. Врач борется с болезнью один на один. Он вводит в кровь больного препараты, уничтожающие микробов, и при помощи микроскопа наблюдает за всем происходящим. Уже на вторые сутки в крови нельзя обнаружить микробов чумы.
Первая волна наступления чумы отбита. Но источник болезни существует, инфекция развивается в первичном очаге. Организм пытается фибрином [Фибрин — белок, образующийся при свертывании крови.] окружить, изолировать и обезвредить очаг, но то, что удается при некоторых других болезнях, в борьбе с чумой обречено на неудачу. Микробы выделяют массы особых фибринолизинов [Фибринолизины — вещества, растворяющие фибрин.]. Они плавят возникающую стенку фибринов, уничтожают, растворяют ее. А это значит, что каждую секунду микробы могут вновь появиться в крови и наступит общее заражение всего организма.
Сочетанием лекарственных препаратов врач отбивает вторую волну микробов, прорывающихся из первичного очага. Тщательно наблюдая за состоянием больного, он замечает новые явления. Уже не только лекарственные препараты участвуют в борьбе, — впервые становятся заметными силы, возникшие в самом организме. Фибринолизины сталкиваются с антителами. Вокруг очага чумной пневмонии образуется фибриновая стенка. Чума заперта, токсины, вырабатывающиеся чумными микробами, не могут свободно проникать в кровь.
И третья волна инфекции отбивается лечебными препаратами совместно с иммунными силами.
1934 год заслуживает быть отмеченным в истории медицины, так как в этом году впервые человек, заразившийся через легкие чумой, был спасен от смерти. Система лечения совершенствовалась в течение многих лет.
Когда японцы применили бактериологическое оружие и, как результат этого, после войны в ряде районов Маньчжурии вспыхнула чума, советские врачи выехали на помощь, имея в руках лекарственные препараты, позволяющие спасать от смерти людей, заразившихся легочной чумой.
СТРАНИЦЫ ИЗ ДНЕВНИКА
Вместе с другими чумологами молодой врач Нина Кузьминична Завьялова была послана на работу за пределы нашей страны, в районы, подверженные чумным заболеваниям.
...Автомобильная дорога круто поднималась в гору и, преодолев заснеженный перевал, пересекала плоскогорье. Потом снова начинался подъем: приближались горы, неуютные и однообразные, похожие на серые зубчатые стены древней, разрушенной крепости. Травы вдоль дороги теряли свои краски — оттого ли, что солнце спускалось ниже, или потому, что им нечем было дышать на этой высоте.
Остановились у группы строений, отгороженных высоким частоколом. Это и был врачебный участок.
Завьялова распаковала книги, лабораторное оборудование, препараты и долго рассматривала карту своего района. Он протянулся на семьсот километров: горы, степь, реки, сотни поселков и кочевий — целая страна, где она отвечала за жизнь каждого человека и за каждую вспышку эпизоотии среди грызунов.
Началось изучение района. Однажды Завьялова, возвратившись из очередного объезда, увидела телеграмму, извещавшую о том, что на соседнем участке человек заболел чумой. Собрала все необходимое и выехала. Вместе с Еленой Константиновной Демидовой, врачом этого участка, Завьялова зашла в помещение, где лежала больная. В полумраке слышалось прерывистое, тяжелое дыхание, лихорадочно блестели глаза женщины, разметавшейся на постели. Казалось, она ищет взгляда врача, чтобы узнать, есть ли надежда...
Дежурили по очереди, не отходя от больной ни на шаг. Надо было поддерживать сердце, которое боролось с чумным ядом. Встречной атакой препарата ослабляли наступление микробов.
После дежурства Завьялова объезжала степь и поселки своего участка, наблюдая за вспышками эпизоотий. Возвращаясь, прежде всего заходила в лабораторию. Морские свинки, зараженные чумным микробом, полученным из мокроты больной, гибли. Значит, микроб был высокой вирулентности. А больная жила. И теперь врачи знали, что самое опасное позади. Температура снижалась, глаза оживали. Наконец женщина выздоровела, и весть о больной легочной чумой, спасенной советскими врачами, разнеслась по всей стране.
У Завьяловой появилось ощущение силы, власти над болезнью — самое счастливое чувство, какое только может быть у врача. И когда, случайно заразившись во время работы, она сама заболела легочной чумой, эта уверенность в том, что человек сильнее чумы, не оставляла ее.
В больнице на участке, считая вместе с нею, было трое больных легочной чумой, и значит, пока не придет помощь, Завьялова отвечала за три жизни: больше врачей не было, и только она одна могла руководить лечением.
Завьялова достала чистые бланки истории болезни и особенно подробно заполнила их, стараясь, не упустив ни одной мелочи, записать все необходимые процедуры, чтобы, если она потеряет сознание, лечение ее и двух других больных могло продолжаться. Было очень трудно работать. Температура нарастала, Завьялова точно падала в холодные, серые провалы, но когда сознание возвращалось, она старалась использовать каждую секунду, чтобы продумать тактику лечения.
Помощь запаздывала. В городе за тысячу километров, откуда должен был прилететь самолет, шли непрерывные ливни, вода залила аэродром.
Кругом не было ни одного русского человека. Возникла такая острая, непреодолимая потребность рассказать кому-то о своем состоянии, с кем-то посоветоваться, что она начала писать дневник.
Вот. некоторые записи из дневника.
«30 августа
Изолировалась в своем доме.
Лечение провожу строго по схеме Н. Н. Жукова-Вережникова. К случившемуся стараюсь относиться спокойно. Я знаю, как важно для борьбы с болезнью сохранить больше душевных сил. Плохо то, что запасы препаратов подходят к концу, а погода нелетная.
31 августа
В двенадцать часов почувствовала сердцебиение, а через час температура поднялась до 37,4°.
Запретила своему лаборанту входить ко мне без полного противочумного костюма.
Войдя в этом костюме первый раз, он смутился и, стараясь скрыть смущение, долго поправлял очки, перчатки, покашливал.
Я сказала ему:
— Ничего, так нужно.
А он все волнуется, боясь, что вид противочумного костюма тяжело повлияет на меня.
Сколько раз мы с ним в этих нелепых костюмах входили к больным, а вот теперь он пришел ко мне.
Но ведь мы знаем и счастливые часы, знаем радость выздоровления наших больных.
Я твердо верю в метод лечения, созданный Жуковым-Вережниковым, и это дает силы для борьбы с болезнью.
А потом — разве я имею право хотя бы чуточку распустить себя, перестать бороться? Ведь я не только больная, я и сейчас прежде всего врач. В палате лежат больные, которые должны быть спасены.
Весь день чувствовала себя хорошо. К ночи стало хуже. Температура 38°.
Процесс развивается быстро. Наверно, сказались ежедневные ночные дежурства у больных.
Больше всего боюсь за больного Р. Он еще в очень тяжелом состоянии. Пятнадцать суток мы не отходили от него и все-таки вытянули. Теперь он должен выздороветь. Только скорей бы приехала Елена Константиновна Демидова — я уверена, она его вылечит.
И меня тоже.
Лежишь, и все время мысли мешают уснуть. Может быть, это потому, что я сейчас совсем рядом со смертью.
Больше всего я любила свою работу. Все удивлялись, как это можно столько времени жить в пустыне, где нет ни деревца, ни цветочка, где на расстоянии четырехсот—семисот километров нет ни единого русского человека.
А мне никогда не было ни скучно, ни одиноко. Работать в лаборатории очень интересно, а в периоды работы в госпитале мы вообще забывали обо всем. Часто сутками не ложились спать, обычно же спали урывками — один-два часа, то днем, то ночью.

Нина Кузьминична Завьялова.
О еде мы забывали. Санитарка ходила за нами следом с тарелками, а мы только отвечали: «Потом, сейчас некогда». Иногда машинально поешь из подставленной под руку тарелки, а санитарке говоришь: «После поем», — и вдруг замечаешь, что тарелка пуста.
Мы жили работой, состоянием наших больных. Когда я кончила во время войны медицинский институт в Москве, мне не хотелось становиться чумологом. А теперь мне кажется, что не променяю эту работу ни на какую другую. Даже сейчас я уверена, что это самая лучшая работа на свете. На чуме ты действительно «вытягиваешь» больного, вытягиваешь своими руками, силами наших чудесных препаратов. Смерть рядом, но ты не даешь ей прикоснуться к больному. В течение болезни ты сто раз чувствуешь, что еще несколько минут — и больной будет потерян, и сто раз вместе с больным выходишь из тупика. Вот он лежит, тяжело дыша от усталости, и ты тоже отдыхаешь, опускаешь руки, стараешься ни о чем не думать и все-таки видишь, как меняется цвет кожных покровов, исчезает тревожное синеватое окрашивание. И ты каждой клеточкой тела знаешь: еще раз победила, еще раз вытянула. А через час опять угадываешь, что токсины рвутся к сердцу или к мозгу, и напрягаешь все свои силы, всю волю, чтобы ничего не прозевать и опять победить смерть.
И знаешь, что обязательно, во что бы то ни стало победишь ее. Это ты знаешь все время, в этом главное счастье.
Это я знаю и сейчас.
1 сентября
Хочу жить!
Безумно хочу жить!
Состояние значительно ухудшилось.
Одышка, сердцебиение.
Но все равно я буду спокойной.
Строго слежу за проведением процедур себе и другим больным. В промежутках между процедурами пытаюсь читать. Передо мной лежат «Как закалялась сталь» и письма Николая Островского — это самые любимые мои книги. Как хорошо, что они сейчас рядом! Когда-то мой рабочий дневник открывался словами, очень большими для меня:
«Самое дорогое у человека — это жизнь. Она дается один раз... и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы».
Как хочется жить!
Чем сильнее развивается процесс болезни, тем больше и больше хочется жить.
Я испытываю странное чувство. Мне кажется, что от моего сопротивления смерти зависит исход болезни. Как будто не инфекционный процесс решает вопрос жизни, а мое духовное сопротивление. Как будто оттого, что я не хочу смерти, я не умру.
2 сентября
Жажда жизни так велика, что боль при бесконечных уколах почти не воспринимается. Боль и жизнь — разве их можно сравнить?! Жизнь — она представляется чем-то огромным и ослепительно прекрасным, и в ней заключено все.
Состояние стало тяжелым.
Хочется спать и спать. Но по-прежнему лаборант проводит все предписанные мной процедуры, и они каждый раз отгоняют сон.
Утром меня разбудил стук в окно. Лаборант сказал, что прилетел самолет. Спустя некоторое время я узнала, что прилетела Лена Демидова.
3 сентября
Я уверена в одном: все мы будем жить — я и мои больные. Лена Демидова прилетела, препараты есть — и мы не умрем.
Лена сказала, что установлена телеграфная связь с Москвой и Жуков-Вережников руководит лечением.
Но я и так знала, что мы не погибнем.
Сознание исчезает не сразу. Все вещи отступают, превращаются в силуэты. Это плохо работает сердце, не хватает крови, и мозг отказывает.
Постепенно все проясняется. Чувство такое, как самым ранним утром на рассвете: становится яснее, светлее. А будет еще светлее.
Это такое счастье — видеть ясно, видеть не темные силуэты, а все, что тебя окружает.
А сейчас опять плохо с сердцем. Лена набирает камфору. Я говорю ей:
— Быстрей набирай!
Считаю. Мне кажется, что пока я считаю и слежу за работой сердца, ничего страшного не произойдет.
Вот удар, вот перебой, перебой на седьмом ударе, на третьем, опять перебой. Я говорю и не знаю, слышит ли Лена:
— Остановилось сердце.
Ясно слышу, что Лена отвечает:
— Пульса нет.
Все остальное расплывается, но какой-то уголок мозга, врачебное сознание остается ясным, и я думаю: нужны грелка и массаж. Сейчас же слышу, что Лена говорит:
— Грелка и массаж.
Она меня не слышала, но мы думаем одинаково. Это очень хорошо — чувствовать, что и сейчас я остаюсь врачом. Это все равно, что сказать: я не умираю, я живу.
Становится лучше, но я знаю — это ненадолго, это на секундочку. Я говорю, я тороплюсь, чтобы успеть сказать все:
— Знаешь, Ленок, все возможное мы сделали. Больше ничего сделать нельзя — сердечко не справляется, второго не вставишь. Передай Жукову-Вережникову, что его метод лечения правилен, просто у нас не было всех препаратов. И запиши два адреса...
— Потом запишу.
— Нет, сейчас. Потом будет поздно.
Я вижу — Лена стоит и плачет. Думаю: у нее просто нет сил. Ведь она и спит в противочумном костюме. Дежурит у меня, а потом, не отдохнув, идет в госпиталь, а потом в объезд района.
Я говорю Лене:
— Ты не волнуйся и отдохни. Мне сейчас гораздо лучше».
— Когда я выздоровела, — рассказывает Завьялова, — меня перед самым рассветом вынесли на носилках и положили в машину, чтобы повезти в город. И я вдруг увидела, как мерцают, покачиваются над самой головой, точно вот-вот упадут на меня, удивительно светлые, голубые звезды. Я тогда сказала Елене Константиновне:
«Леночка, смотри, звезды!»
Она мне ответила:
«Знаешь, Нина, а в горах уже снег — так красиво!»
Я ехала, засыпала и просыпалась, и у меня было такое чувство, что я живу второй раз, что в этой второй жизни решительно все еще ярче и лучше, чем в первой. Я помню какую-то бесконечно широкую, золотисто-голубую реку, такую спокойную, точно она остановилась. Все покачивалось, тело отдыхало после смертельно трудной борьбы, но сквозь сон возникали первые мысли о будущем, о предстоящей работе и о том, что это случайное заражение не может пропасть даром для науки, как не пропало без пользы случайное заражение, убившее Деминского.
...В городе Завьялову уложили в постель. Она попросила у врача, чтобы он взял у нее четыреста кубиков крови для испытания иммунных свойств крови человека, переболевшего чумой.
— Вы понимаете, это чрезвычайно важно и страшно интересно, — убеждала Завьялова.
Врач выслушал ее и сказал:
— Пожалуйста, не рассуждайте. У вас сейчас нет не то что четырехсот, а даже одного лишнего грамма крови.
Но Завьялова не отменила, а только отложила выполнение своего замысла. Через некоторое время она добилась того, что у нее взяли, правда, не четыреста, а двести кубиков крови. Опыты дали очень интересные результаты, и Завьялова решила окончить работу — испытать на себе, заражается ли вторично человек, переболевший легочной чумой.
Выздоровев окончательно и вернувшись к себе на участок, Завьялова перестала принимать меры предосторожности и заходила без маски и без очков в помещение, где находились зараженные легочной чумой морские свинки. Несколько дней чумные микробы безуспешно штурмовали дыхательные пути врача. Но вот Завьялова почувствовала знакомые симптомы. Началось второе заболевание легочной чумой. На этот раз организм был уже подготовлен к встрече со старым врагом, болезнь развивалась менее бурно и гораздо скорее поддалась лечению.
Нина Кузьминична Завьялова сидит передо мной и рассказывает о прошедшем.
— Вы знаете, — говорит она, — дни моего выздоровления совпали с Хабаровским процессом. Мне хорошо известно, что такое чума. И было просто физически невозможно слушать показания этих убийц, но я заставляла себя слушать и думала: «Вы надеялись на чуму, а некоторые из вас и сейчас надеются на нее. Напрасно! Это оружие выбито у вас из рук окончательно и навечно. Мы сильнее смерти, и, значит, мы бесконечно сильнее вас».
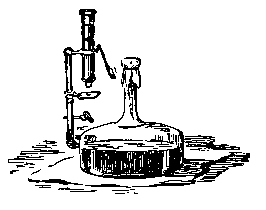
1.3em;">Эпилог
Невиданно широким фронтом идет наступление на болезни. Из Советского Союза учение об уничтожении очагов опасных инфекций переносится в страны народной демократии, в Китай, Монголию, Корею.
В Румынии, впереди строителей, прокладывающих через болота канал Дунай — Черное море, движутся отряды эпидемиологов, оздоравливающих землю. В Маньчжурии советские врачи помогают уничтожить древние очаги чумы, впервые открытые и изученные Даниилом Заболотным. В Китае сотням миллионов жителей прививается противооспенная вакцина, и оспа постепенно исчезает по всей стране, в одной провинции за другой. Великая работа планового оздоровления человечества ведется на огромных пространствах — от Германской Демократической Республики и Чехословакии на западе до Кореи на востоке, от Ледовитого океана до Тибета и южных границ Китая. Тысячи врачей идут победным путем Мечникова, Заболотного, Гамалеи, Деминского.
Дело многих опаснейших микробов было проиграно, сопротивление их сломлено, когда на помощь отступающим болезням пришли американские интервенты. Зимой 1952 года американцы начали бактериологическую войну против Кореи и Китая.
Заболотный, его ученики и последователи раскрыли все главные пути распространения чумной инфекции в природе; участники экспедиций академика Павловского на Дальнем Востоке обнаружили естественные хранилища вируса энцефалита; русские, советские врачи создали надежные преграды против тифов, холеры, детских инфекций. Империалисты же задумали возродить то, что уничтожала и уничтожила во многих странах передовая наука. По тщательно разработанному плану на территории Кореи и Северо-Восточного Китая с американских самолетов были сброшены миллиарды насекомых-бациллоносителей, чумные грызуны, игрушки и различные предметы, зараженные болезнетворными вирусами. Бактериологическое оружие распространялось с таким расчетом, чтобы отравить каждый метр земли в подвергнутых атаке районах, уничтожить там все живое.
В Корее и Китае создавались грозные очаги чумы, энцефалита, холеры, и, повинуясь законам природы, неизбежно должны были возникнуть эпидемии невиданной силы.
«Должны», — утверждали американские организаторы бактериологической войны и их японские советчики. Однако микробы нигде не сумели одержать победу. Очаги инфекций возникали, но их гасили, уничтожали, как уничтожали в свое время Даниил Заболотный и его ученики столетиями складывавшиеся чумные очаги. Навстречу микробам в районы бактериологических атак выходили многочисленные противоэпидемические отряды. Опасность встретили не паникой, а волной сопротивления народов.
В маньчжурских селах на специальных вышках дежурили дозорные, наблюдавшие за появлением американских самолетов. Насекомых уничтожали на льду, не давая им расползтись и разлететься, крыс настигали в норах. Везде шла героическая работа по предотвращению эпидемий. Низко летая над корейской землей, американские истребители обстреливали отряды врачей в масках и белых халатах. Воздушная армия Соединенных Штатов прикрывала полчища крыс и насекомых — эти передовые части американской армии. В бой вступали охотники за вражескими самолетами. Сражения шли в воздухе и на земле. В каждом районе создавались медицинские противоэпидемические пункты. Живые вакцины, сыворотки, лекарственные вещества — все, что создала советская, передовая наука, было мобилизовано для борьбы с врагом. Непроницаемая стена встала на пути распространения эпидемий. В историю человечества зима и весна 1952 года войдут подвигами народов, борющихся за свою жизнь, подвигами науки, созданной для счастья человечества.
Мы строим коммунизм, и с каждым днем нашего труда приближается окончательное решение великой задачи уничтожения болезней.
Пройдут годы, и вслед за чумой, тифом, холерой, малярией, оспой исчезнут рахит, туберкулез, корь и дифтерия. С каждым годом будет удлиняться продолжительность человеческой жизни. Не станет детских болезней, которые сейчас в некоторых странах капиталистического мира убивают свыше пятидесяти процентов всех родившихся детей. Дело уничтожения опорных пунктов болезней, запасов вредных микробов в природе, начатое Заболотным, Деминским, Павловским, осуществляемое всей могучей системой советского здравоохранения, всеми силами советской науки, будет доведено до конца.
Жизнь побеждает!

Последние комментарии
3 часов 59 минут назад
4 часов 1 минута назад
10 часов 43 минут назад
10 часов 51 минут назад
17 часов 4 минут назад
17 часов 7 минут назад