Живое море. В мире безмолвия [Жак-Ив Кусто] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
Жак-Ив Кусто
Живое море
Перевод с английского Л. Жданова
Рисунок на переплете С. Цылова
Иллюстрации Е. Шелкун
Жак-Ив Кусто
Фредерик Дюма
В мире безмолвия
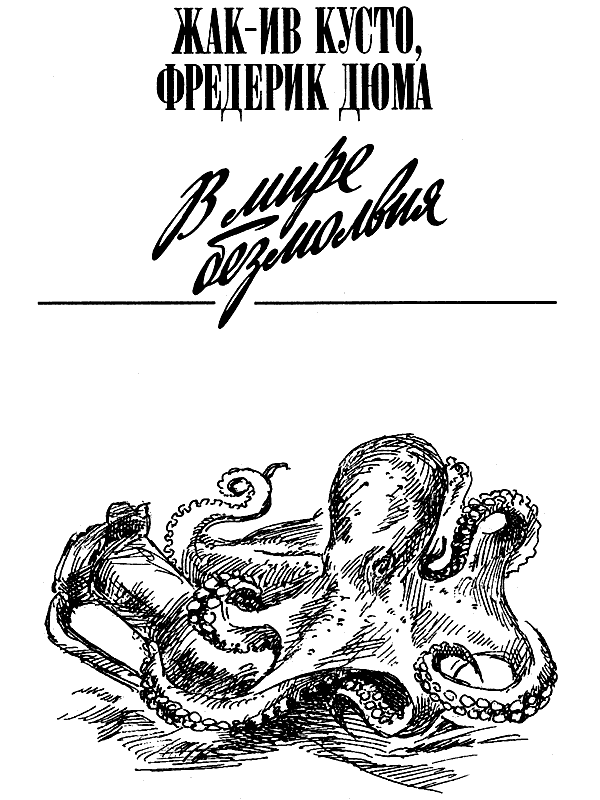
Jacques-Yves Cousteau with Frederic Dumas
THE SILENT WORLD
Hamish Hamilton, London, 1953
Глава первая
Человекорыбы

Однажды утром в июне 1943 года я пришел на железнодорожную станцию Бандоль на Французской Ривьере и получил деревянный ящик, присланный багажом из Парижа. Он содержал новое многообещающее изобретение, плод многолетних трудов и мечтаний — автоматический дыхательный аппарат для подводных исследований, работающий на сжатом воздухе. «Акваланг» — «подводные легкие», — как мы назвали аппарат, был создан мною в сотрудничестве с инженером Эмилем Ганьяном.
Я поспешил на виллу Барри, где меня ожидали мои товарищи, Филипп Тайе и Фредерик Дюма. Ни один мальчишка не испытывал такого волнения, разбирая рождественские подарки, какое переживали мы, когда распаковывали первый акваланг. Если аппарат действует, это будет означать подлинную революцию в подводных работах!
Мы увидели батарею из трех небольших баллонов, наполненных сжатым воздухом и соединенных с регулятором, напоминающим формой и величиной обычный будильник. От регулятора отходили две гибкие трубки; они были прикреплены другим концом к специальному мундштуку. Навесив на спину этот аппарат, защитив нос и глаза водонепроницаемой маской со стеклянным окошечком и надев на ноги резиновые ласты, мы сможем свободно парить в морских глубинах…
Мы тут же направились в укромный заливчик, где можно было не опасаться любопытных купальщиков и итальянских солдат из оккупационных войск. Я проверил давление воздуха в баллонах — сто пятьдесят атмосфер. Сдерживая свое возбуждение, я старался спокойно обсуждать план первого испытания. Дюма, один из лучших ныряльщиков Франции, останется на берегу, сохраняя силы и тепло, готовый, если понадобится, нырнуть мне на помощь. Моя жена, Симона, будет плавать с обычной маской на поверхности, дыша через трубку, и следить за мной. По первому же ее сигналу Дюма нырнет и сможет быть около меня буквально через несколько секунд. «Диди», как его звали на Ривьере, погружался без всякого снаряжения на глубину до шестидесяти футов[1].
Друзья навьючили мне на спину баллоны. Регулятор пришелся как раз против затылка, трубки изогнулись над головой. Я поплевал на внутреннюю сторону небьющегося стекла резиновой маски и сполоснул его в море, чтобы не запотевало при нырянии. Затем плотно натянул маску на лоб и скулы и заложил в рот мундштук. Небольшой клапан величиной с канцелярскую скрепку должен был обеспечить под водой приток свежего воздуха и вывод выдыхаемого. Шатаясь под пятидесятифунтовой тяжестью, я заковылял, словно Чарли Чаплин, в воду.
Предполагалось, что дыхательный аппарат будет обладать некоторой плавучестью. Я окунулся в прохладную воду, чтобы убедиться, в какой степени на меня повлияет известный закон Архимеда, согласно которому на всякое тело, погруженное в жидкость, действует подъемная сила, равная весу вытесненной жидкости. Дюма примирил меня с Архимедом, прицепив к моему поясу свинцовый груз весом в семь фунтов. Я медленно опустился на песчаное дно. Мои легкие без усилия вдыхали чистый, свежий воздух. При вдохе слышалось слабое сипение, при выдохе — негромкое журчанье пузырьков. Регулятор подавал ровно столько воздуха, сколько было необходимо.
Я глянул вниз, чувствуя себя посторонним, вторгающимся в чужие владения. Подо мной впереди тянулось нечто вроде оврага, склоны которого были покрыты темно-зеленой тиной, черными морскими ежами и мелкими, напоминающими цветы, белыми водорослями. Тут же паслась рыбья молодь. Песчаные откосы уходили вниз, теряясь в глубокой пучине. Солнце сияло так ярко, что мне приходилось щуриться.
Прижав руки к бокам, я слегка оттолкнулся ластами и двинулся с нарастающей скоростью вглубь. Затем перестал работать ногами: теперь мое тело двигалось по инерции, совершая удивительный полет. Наконец скольжение прекратилось. Я медленно выдохнул — объем моего тела уменьшился, соответственно уменьшилась подъемная сила воды, и я стал плавно опускаться вниз, словно в волшебном сне. Глубокий вдох — меня влечет обратно вверх.
Мои легкие приобрели совершенно новую функцию: теперь они играли еще и роль чувствительной балансирующей системы. Дыша спокойно и размеренно, я наклонил голову и погрузился до глубины тридцати футов. Я не ощущал давления, хотя оно на этой глубине вдвое больше обычного. Акваланг автоматически подавал более плотный воздух, уравновешивая рост наружного давления. Через тонкую ткань легкого это контрдавление передавалось в кровь и немедленно распределялось по всему организму. В мозг не поступало никаких сигналов, которые говорили бы о возросшей нагрузке. Я чувствовал себя превосходно, если не считать слабой боли в среднем ухе и улитке. Я несколько раз глотнул, как это делают в самолете, чтобы открыть евстахиевы трубы; боль исчезла. (Я никогда не ныряю с затычками в ушах — это очень опасно. Между ними и барабанной перепонкой остается воздушная подушка. Когда давление в евстахиевых трубах возрастает, воздух напирает изнутри на перепонки с такой силой, что может разорвать их.)
Мною овладело чувство особой приподнятости. Вот я достиг дна. Среди камней плыла стайка круглых и плоских, как тарелки, саргов. Я глянул вверх — там мутным зеркалом светилась поверхность моря. В центре моего стеклянного окошечка виднелся маленький — не больше куколки — четкий силуэт Симоны. Я помахал рукой — куколка замахала в ответ.
Потом мое внимание привлек выдыхаемый воздух. Сплющенные напором плотной среды, воздушные пузырьки постепенно росли в объеме, поднимаясь в слои с меньшим давлением, но сохраняли причудливую форму. Непрерывной цепочкой они тянулись из регулятора, скрашивая мое одиночество. Я подумал, как важны будут для нас эти пузыри. Пока они продолжают булькать на поверхности, внизу все в порядке. Исчезнут пузыри — начнется тревога, спешные розыски, мрачные догадки…
Я поплыл над камнями и нашел, что вполне могу сравниться с саргами[2]. Идти горизонтально, как они, самое удобное в среде, превосходящей воздух плотностью в восемьсот раз. Это было словно в грезах: я мог остановиться и повиснуть в пространстве, ни на что не опираясь, не привязанный ни к каким шлангам или трубкам. Мне часто снилось раньше, что я лечу, расправив руки-крылья. И вот теперь я парил в самом деле — только без крыльев. (После первого «полета» с аквалангом я уже больше никогда не летал во сне.)
Я представил себе водолаза с его громоздкими калошами, привязанного к длинной кишке и облаченного в медный колпак. Мне не раз приходилось видеть, каких трудов стоит каждый шаг водолазу-калеке в чужой стране. Отныне мы сможем проплывать милю за милей над неизведанным миром, свободные и ничем не связанные, чувствуя себя как рыба в воде.
Я совершал всевозможные маневры: петлял, кувыркался, крутил сальто. Вот я встал вверх ногами, опираясь на один палец, и расхохотался сам. Странно прозвучал этот смех под водой. И что бы я ни выдумывал, воздух поступал ровно и бесперебойно. Я парил в пространстве, словно перестал существовать закон тяготения. Совсем не двигая руками, я мог развить скорость до двух узлов. Вот я иду прямо вверх, обгоняя собственные пузыри, а вот опять спускаюсь на глубину шестидесяти футов. Мы часто бывали на этой глубине и без дыхательных аппаратов, но не знали, что ожидает нас ниже этого рубежа. Каких глубин сможем мы достичь с помощью чудесного аппарата?
Прошло уже пятнадцать минут, как я покинул берег маленького залива. Регулятор продолжал неутомимо шепелявить что-то; запас воздуха позволял мне оставаться под водой около часа. Я решил не подниматься, пока не озябну. Меня привлекали расщелины, которые до сих пор дразнили нас своей недоступностью. Я проник в темный тесный тоннель, касаясь грудью грунта; воздушные баллоны стукались с легким звоном о свод. В таких случаях человеком владеет двойственное чувство. С одной стороны, его манит загадка, с другой стороны, он помнит о том, что наделен здравым смыслом, который способен сохранить ему жизнь, если им не пренебрегать. Меня прижимало к своду тоннеля: израсходовав треть запасенного воздуха, я несколько потерял в весе. Разум подсказал мне, что мое безрассудство может привести к повреждению дыхательных трубок. Я повернул и поплыл на спине обратно. Весь свод грота был усеян омарами на тонких ножках, напоминавшими огромных мух. Их головы и усы были обращены в сторону входа. Я старался дышать осторожно, чтобы не задеть их грудью.
Там, наверху, — живущая впроголодь оккупированная Франция. Подумав о сотнях калорий, которые ныряльщик теряет в воде, я облюбовал себе пару омаров в фунт весом и осторожно, остерегаясь шипов, снял их со свода. Затем выбрался из грота и пошел со своей добычей к поверхности.
Неотступно следившая за моими пузырями Симона нырнула мне навстречу. Я вручил ей омаров и отправился за новой порцией, а она вернулась на поверхность. Симона вынырнула около камня, на котором сидел, уставившись на поплавок своей удочки, оцепеневший провансалец. Он увидел, как из воды появилась светловолосая женщина, держа в каждой руке по извивающемуся омару. Она положила их на камень и обратилась к нему: «Будьте добры, постерегите их для меня». Рыболов выронил из рук удочку.
Симона ныряла еще пять раз, принимая от меня омаров и складывая их на камне. Рыболов не мог видеть меня. Наконец Симона подплыла к нему за своим уловом.
— Прошу вас, оставьте одного себе, мсье. Их очень легко собирать, нужно только делать, как я.
Уплетая мою добычу, Тайе и Дюма дотошно расспрашивали меня обо всех подробностях. Мы строили бесчисленные планы применения акваланга. Тайе произвел расчет прямо на скатерти и торжественно объявил, что каждый ярд нашего продвижения в глубь моря открывает человеку еще триста тысяч кубических километров жизненного пространства. Наша троица давно знала друг друга — вот уже много лет мы ныряли вместе. Наш новый ключ к неизведанному миру сулил чудеса. Мы вспомнили, с чего начинали…
Нашим первым вспомогательным приспособлением были подводные очки, которые давным-давно известны в Японии и Полинезии. В шестнадцатом веке ими пользовались добытчики кораллов на Средиземном море. За последние пятьдесят лет их открывали заново не менее пяти раз. Незащищенный человеческий глаз, очень плохо видящий под водой, буквально прозревает благодаря водонепроницаемым очкам. Однажды воскресным утром 1936 года — это было в Ле Мурильоне, близ Тулона — я окунулся в воды Средиземного моря, надев очки Ферне. Я служил тогда на флоте рядовым артиллеристом, был неплохим пловцом и преследовал одну цель — отработать свой кроль. О море я думал лишь как о соленой среде, разъедающей мне глаза. И вдруг мне открылось поразительное зрелище: подводные скалы, покрытые зарослями зеленых, бурых, серебристых водорослей, среди которых плавали в кристально чистой воде неизвестные мне рыбы. Вынырнув на поверхность за воздухом, я увидел автомашины, людей, уличные фонари. Затем снова погрузил лицо в воду, и цивилизованный мир сразу исчез; внизу были джунгли, недоступные взору тех, кто движется над водой. Бывает, на вашу долю выпадает счастливое сознание того, что жизнь разом изменилась; вы прощаетесь со старым и приветствуете новое, бросаясь очертя голову навстречу неизведанному. Так случилось со мной в тот летний день в Ле Мурильоне, когда у меня открылись глаза на чудеса моря. Я стал жадно прислушиваться к рассказам о героях Средиземноморья — пользуясь очками Ферне и ножными ластами Ле Корлье, вооруженные варварским оружием, они производили настоящее опустошение в рыбьем царстве. Бесподобный Ле Муань, погрузившись в морскую пучину около Санари, бил рыбу пращой! Знаменитый Фредерик Дюма, сын профессора физики, охотился под водой с заостренным железным прутом. Для этих людей рубеж между двумя взаимно чуждыми мирами не существовал. Я уже два года увлекался ныряньем в очках, когда встретил Дюма. Вот как он сам рассказывает о своем приобщении к подводному спорту. «…Летом 1938 года, сидя как-то раз на прибрежном камне, я увидел настоящего человекорыбу, явно опередившего меня в эволюции. Плавая, он ни разу не поднял головы, чтобы сделать вдох: для этого у него во рту была трубка. На ногах — резиновые ласты. Я восхищался его сноровкой. Наконец он замерз и вышел из воды. Это был лейтенант флота Филипп Тайе. Он изобрел оружие для подводной охоты наподобие моего. Очки у него были больше моих. Он рассказал мне, где раздобыть очки и ласты и как сделать дыхательную трубку из садового шланга. Мы назначили с ним день совместной охоты. Этот день явился важной вехой в моей подводной жизни». Этот день оказался важным для всех нас: я был знаком с Тайе еще раньше, и теперь мы все трое собрались вместе. Подводная охота разгорелась вовсю. Остроги, арбалеты, самострелы, гарпунные ружья — все было обращено против морской дичи. В прибрежных водах почти не стало рыбы; местные рыбаки возмущались. Нас обвиняли в том, что мы распугиваем рыбу, рвем сети, грабим верши и устраиваем настоящий мистраль своими дыхательными трубками. Однажды, кувыркаясь в воде, Дюма заметил, что за ним наблюдает с мощного катера живописный детина, голый по пояс и весь разрисованный танцующими девицами и знаменитыми полководцами. Эта ходячая картинная галерея окликнула Диди. Он вздрогнул: это был Карбон, пресловутый марсельский гангстер, чьим идолом был Аль Капоне. Карбон подозвал Диди, пригласил его к себе на катер и осведомился, чем тот занят. — Ничего особенного, просто ныряю, — робко ответил Диди. — Я люблю приезжать сюда, чтобы отдохнуть на покое от городского шума, — сказал Карбон. — Ты заинтересовал меня — будешь теперь нырять с моей скорлупы. Диди рассказал ему, что рыбаки невзлюбили ныряльщиков. Карбон вспылил. Направив свой катер прямо в гущу рыбацких лодок, он демонстративно обнял Диди своей волосатой ручищей и заорал: — Эй, вы! Учтите — это мой друг! Мы дразнили Дюма его гангстером, но вынуждены были отметить, что рыбаки больше не смели его задевать. Вместо этого они послали протест в правительственные инстанции. Был принят закон, строго регламентирующий подводную охоту. Применение водолазных аппаратов и огнестрельного оружия запрещалось. Ныряльщиков обязали обзавестись разрешениями на охоту и войти в официально утвержденный клуб рыболовов. Однако крупная рыба уже исчезла из прибрежных вод от Ментоны до Марселя. Было зафиксировано еще одно примечательное явление: рыбы научились держаться за пределами досягаемости оружия подводных охотников. Они нагло дразнили ныряльщика, вооруженного самострелом, держась от него в пяти футах. Если ныряльщик брал с собой гарпунное ружье резинового боя, бьющее на восемь футов, то рыбы аккуратно соблюдали дистанцию в восемь футов с небольшим. Они словно знали, что дальнобойность самого мощного гарпунного ружья — пятнадцать футов. Сотни лет человек был самым безобидным изо всех появлявшихся под водой существ. Когда же он вдруг освоил правила подводного боя, рыбы тотчас разработали оборонительную тактику. В пору нашего увлечения очками Дюма как-то побился об заклад, что за два часа набьет острогой двести двадцать фунтов рыбы. Он нырнул пять раз, на глубину от сорока пяти до шестидесяти футов. В каждый заход он успевал, пока у него хватало воздуха, одолеть здоровенную рыбину. Диди добыл четырех груперов общим весом в двести фунтов и одну восьмидесятифунтовую лихию. Одно из наших самых ярких воспоминаний — сражение с огромной лихией, весившей не менее двухсот фунтов. Дюма поразил ее острогой, и мы стали посменно нырять, стараясь закрепить успех. Дважды нам удавалось дотащить рыбину до самой поверхности. Однако воздух, казалось, действовал на нее только ободряюще: мы выдыхались, а рыбина все усиливала сопротивление. В конце концов царица лихий спаслась бегством. Мы были молоды и порой переступали границы здравого смысла. Однажды — это было в декабре, в Каркерэне — Тайе пришел на берег один и, оставив свою собаку Сойку сторожить одежду, стал нырять. Температура воды была около десяти градусов. Филипп погнался с острогой за большим морским окунем, но озяб и вынужден был прекратить преследование. Между тем он успел довольно далеко уйти от берега. Усталый, окоченевший, он через силу поплыл обратно. Наконец Филипп выбрался на камень и упал без сознания, обдуваемый пронзительным ветром. Жизнь его была на волоске, но тут пес, движимый каким-то чудесным инстинктом, прикрыл Филиппа собой и стал дышать ему в лицо. Тайе пришел в себя и с огромным трудом добрел до укрытия. Исследуя физиологию подводного плавания, мы начали с действия холода. Вода лучше, чем воздух, проводит тепло, она обладает поразительной способностью поглощать калории. Тело пловца сильно охлаждается в море, что создает огромную нагрузку на его тепловые центры. Внутренняя температура должна во что бы то ни стало оставаться неизменной. Атакованный холодом организм осуществляет стратегическое отступление. Первой на произвол врага оставляется кожа, затем подкожные слои. Происходит сжатие поверхностных капилляров; отсюда гусиная кожа. Если холод продолжает наступление, организм уступает ему руки и ноги, лишь бы сохранить жизненные центры. Понижение внутренней температуры опасно для жизни. Мы убедились, что тот, кто после купания кутается в мохнатую простынь, делает ошибку. Не сохраняя нисколько тепла, он лишь заставляет тепловые центры сжигать лишние калории для подогрева покровов тела. При этом происходят серьезные нервные реакции. К слову сказать, горячие напитки и алкоголь также не способны восстановить температуру наружных покровов. Если мы иногда после трудного погружения выпиваем глоток бренди, то скорее чтобы успокоиться, чем для того, чтобы согреться. Мы установили, что самый простой и лучший способ восстановить тепло — залезть в горячую ванну или стать между двумя кострами на берегу. Часто смазывают кожу жиром, перед тем как купаться в холодной воде. Мы сделали любопытное открытие: жир не держится на коже. Вода смывает его, оставляя лишь тонкую пленку, которая не только не защищает пловца, но, наоборот, способствует потере тепла. Другое дело, если бы жир можно было впрыскивать под кожу, получая нечто вроде теплоизолирующего подкожного слоя кита. В поисках защиты от холода я немало потрудился, изготовляя прорезиненные костюмы. В первом из них я сильно смахивал на Дон-Кихота. Следующий гидрокостюм можно было слегка надувать для лучшей теплоизоляции, но зато он обеспечивал равновесие только на одной какой-нибудь глубине, и я должен был все время следить за тем, чтобы он не увлек меня вниз и не вытолкнул наверх. Кроме того, воздух стремился собраться в ногах, и я повисал вниз головой. В конце концов нам удалось в 1946 году создать гидрокостюм, который сохранял постоянную форму; с тех пор мы применяем его для работы в холодной воде. Он надувается за счет воздуха, выдыхаемого ныряльщиком. Клапаны около головы, кистей и ступней выпускают лишний воздух наружу и обеспечивают стабильность на любой глубине и при любом положении тела. Путешественник Марсель Ишак убедился в достоинствах этого костюма, погружаясь в море во льдах Гренландии во время недавней полярной экспедиции Поля-Эмиля Виктора. Дюма придумал «демисезонный» костюм — легкую резиновую кофту, которая позволяет ныряльщику находиться в воде до двадцати минут, нисколько не сковывая его. Успех ударил нам в голову. В самом деле — едва начав нырять, мы уже достигли тех же глубин, что ловцы жемчуга и собиратели губок, ныряющие с детских лет! Правда, в 1939 году у острова Джерба (Тунис) у меня на глазах шестидесятилетний араб, собиратель губок, за две с половиной минуты опустился без дыхательного аппарата на сто тридцать футов; я сам проверил глубину лотом. Такие подвиги по плечу немногим. Чем глубже опускается ныряльщик, тем сильнее растущее давление сжимает его легкие. Человеческие легкие — это воздушные шары, заключенные в тонкую клетку, прутья которой прогибаются под давлением. На глубине ста футов объем воздуха в легких уменьшается до одной четверти первоначального. Еще глубже изгиб ребер достигает предела, грозя повреждениями и переломами. Правда, обычная глубина, на которой работают собиратели губок, не превышает шестидесяти шести футов, при давлении до трех атмосфер, вызывающем сжатие грудной клетки до одной трети нормального объема. Мы натренировались опускаться на эту глубину без аппаратов за две минуты с помощью привешенного к поясу груза. Ниже двадцати пяти футов груз перевешивал подъемную силу грудной клетки и усиленно тянул ко дну; приходилось опасаться неприятных происшествий. Ныряя без аппарата, Дюма применял особую технику. Он плавал, погрузив лицо в воду и дыша через трубку. Завидев внизу что-нибудь интересное, он осуществлял маневр, получивший название coup de reins, дословно — «толчок от бедер», в подражание китам. Это означает, что человек перегибается в пояснице, направляя голову и корпус вертикально вниз, затем сильным толчком выбрасывает ноги в воздух и устремляется отвесно в глубину. Такое скоростное погружение требует хорошо тренированных широких евстахиевых труб, ведь давление растет очень быстро. Но зона собирателей губок не могла нас удовлетворить: море продолжало таить в себе загадки, которые все больше дразнили наше воображение. Мы мечтали о дыхательных аппаратах не столько даже для того, чтобы погружаться еще глубже, сколько для того, чтобы подольше оставаться под водой, получить возможность, так сказать, пожить в этом новом мире. Мы испытали аппарат Ле Приёра — баллон со сжатым воздухом, прикрепляемый на груди и непрерывно подающий воздух в маску. Ныряльщик вручную регулирует приток, что позволяет приспосабливаться к давлению и в то же время сократить расход воздуха. С аппаратом Ле Приёра мы совершили наши первые настоящие подводные прогулки. Однако ограниченный запас воздуха позволял плавать под водой очень недолго. Оружейный мастер крейсера «Сюфрен» сделал по моим чертежам кислородный аппарат. Из противогазной коробки, начиненной натронной известью, небольшого баллона с кислородом и куска шланга он смастерил приспособление, в котором щелочь поглощала углекислоту, очищая выдыхаемый воздух. Оно действовало автоматически и бесшумно, и с ним можно было свободно плавать. Уйдя с кислородным аппаратом на глубину двадцати пяти футов, я ощутил неведомый мне дотоле безмятежный покой. В полном одиночестве и безмолвии я парил в стране грез; море приняло меня как своего. Увы, блаженство длилось недолго… Услышав, что с кислородом можно безопасно нырять до глубины сорока пяти футов, я попросил двух матросов с «Сюфрена» последить за мной со шлюпки, пока я попытаюсь достичь «кислородной границы». Я шел вглубь, настроенный на торжественный лад. Морские джунгли приняли меня как своего, и я решил отказаться от человеческих повадок, сложить ноги вместе и плыть, извиваясь, как дельфин. Тайе показывал нам на поверхности моря, как плавать, не отталкиваясь руками и ногами. Несмотря на помехи, вроде моей собственной анатомии и подвешенного на поясе свинцового груза, мне удалось перевоплотиться в рыбу. Плывя в удивительно прозрачной воде, я увидел в девяноста футах от себя группу изящных серебристо-золотых аурат; алые заплаты жабер напоминали нарядные мундиры бригадиров британской армии. Я подобрался к ним довольно близко. Несмотря на свое перевоплощение, я не забывал, что могу плыть намного быстрее, стоит лишь пустить в ход «грудные плавники». Мне удалось загнать одну из рыб в ее норку. Она встопорщила спинной плавник и беспокойно завертела глазами. Потом приняла смелое решение и, бросившись мне навстречу, проскочила в нескольких дюймах от меня. В это время внизу показался большой голубой зубан с сердитым ртом и враждебными глазами. Он повис в воде на глубине около сорока шести футов. Я двинулся к нему — зубан стал отступать, сохраняя безопасное расстояние. Внезапно у меня судорожно задрожали губы и веки, спина выгнулась дугой. Отчаянным усилием я отцепил груз и… потерял сознание. Матросы увидели, как мое тело выбросило наверх, и поспешили втащить меня в лодку. После этого у меня несколько недель болели мышцы и затылок. Я решил, что коробка была заряжена недоброкачественной натронной известью. Зима прошла в упорной работе: я совершенствовал свой кислородный аппарат, чтобы застраховаться от судорог. Летом я снова отправился к Поркеролям и нырнул на глубину сорока пяти футов с новым аппаратом. Судороги напали на меня настолько неожиданно, что я не помню, как сбросил груз. Я чуть не утонул. С тех пор у меня пропал всякий интерес к кислороду.
Летом 1939 года, выступая с речью на званом обеде, я доказал присутствовавшим, что в ближайшие десять лет войны быть не может. А четыре дня спустя я был на борту своего крейсера, получившего секретный приказ выступить в западном направлении; придя еще через сутки в Оран, мы услышали, что объявлена война. Рядом с нами стоял на рейде дивизион английских торпедных катеров. Один из них вышел из строя: на винт намотался толстый стальной трос. В Оранском порту не было своих военно-морских ныряльщиков, и я вызвался проверить, как обстоит дело. Меня не охладило даже то, что я увидел под водой: трос обернулся шесть раз вокруг вала и еще несколько раз вокруг лопастей. Я вызвал со своего корабля пять хороших ныряльщиков, и мы принялись обрубать трос. На это ушло несколько часов, и мы еле стояли на ногах, когда наконец вернулись на крейсер. Торпедный катер смог выйти в море вместе со своим дивизионом, и когда он проходил мимо нас, команда выстроилась вдоль борта и прокричала троекратное «ура» в честь безрассудных французов. В этот день я убедился, что тяжелая работа под водой — опасная вещь. Для таких дел совершенно необходимы дыхательные аппараты. Прошло некоторое время. Я работал в Марселе на службе морской разведки, действовавшей против оккупантов. Мой начальник предложил мне возобновить подводные эксперименты, насколько позволит служба. Кстати, это поможет замаскировать мою деятельность. Я решил испытать аппарат Ферне; в основе его устройства трубка, через которую сверху насосом накачивают воздух. Трубка оканчивается клапаном, а ныряльщик всасывает воздух через мундштук. Это простейший из когда-либо сконструированных дыхательных аппаратов. Правда, ныряльщик связан с поверхностью и половина воздуха расходуется впустую, но зато можно обойтись без предательского кислорода. Как-то раз, на глубине сорока футов, я полной грудью вдыхал воздух, подаваемый насосом Ферне, как вдруг ощутил в легких странный толчок. Журчанье пузырьков прекратилось; я немедленно перекрыл мускульным усилием горло, сохраняя в легких остаток воздуха. Потом потянул трубку — она подалась без всякого сопротивления. Оказалось, что она переломилась у самой поверхности. Я поплыл к лодке. Только потом до меня дошло, какая опасность мне грозила. Не перекрой я инстинктивно свой собственный «клапан», вода под страшным давлением ворвалась бы через трубку в легкие. Когда с риском для жизни испытываешь изобретения, такие происшествия только увеличивают желание добиться успеха. Мы принялись изучать меры защиты. Однажды Дюма нырнул с аппаратом Ферне на семьдесят пять футов; я следил за трубкой. Вдруг она переломилась. Дюма оказался в ловушке на глубине, где давление втрое превосходит атмосферное. Я поймал трубку и стал лихорадочно вытаскивать ее, ожидая самого худшего. Снизу чувствовались какие-то сильные рывки. Наконец показался Дюма — трясущийся, с багровым лицом и выпученными глазами, но живой! Он своевременно задержал воздух и полез вверх по трубке, как по канату. Мы продолжали возиться с этим аппаратом, пока не добились того, что он стал работать сравнительно надежно, но зависимость от насоса сковывала нас, нам хотелось свободы передвижения. Мы мечтали об автоматическом аппарате с сжатым воздухом. Вместо устройства Ле Приёра с ручной регулировкой хотелось получить конструкцию вроде той, что применяется в кислородных масках для высотных полетов. Я отправился в Париж искать инженера, с которым мог бы найти общий язык. Мне посчастливилось встретить Эмиля Ганьяна, эксперта по газовому оборудованию, состоявшего на службе одной крупной международной корпорации. Это было в декабре 1942 года. Я изложил Эмилю свои требования; он кивнул и прервал меня: — Что-нибудь вроде этого? — Он протянул мне маленькую бакелитовую коробочку. — Это мой клапан для автоматической подачи горючего газа в автомобильный мотор. В то время бензин был дефицитным и его всячески старались заменить газом. — Тут есть что-то общее с вашей задачей, — сказал Эмиль. Через несколько недель наш первый автоматический регулятор был готов. Мы избрали для его проверки уединенное место на Марне. Эмиль стоял на берегу; я вошел в воду. Регулятор в изобилии подавал воздух без малейших усилий с моей стороны. Однако, как и в аппарате Ферне, часть воздуха выходила впустую через трубку выдоха. Я попробовал стать на голову — подача воздуха почти прекратилась, дышать нечем. Тогда я лег горизонтально; снова пошел воздух. Но как же мы будем нырять, если регулятор не позволяет плыть вниз головой? Обескураженные и разочарованные, мы отправились домой. В чем дело? В наших руках чудесное изобретение; оно сначала понижает давление воздуха со ста пятидесяти до шести атмосфер, потом регулирует его плотность и количество для дыхания. Ответ был найден прежде, чем мы доехали до Парижа. Когда я стоял в воде прямо, отверстие выдоха оказывалось на шесть дюймов выше отверстия вдоха; из-за перепада давления и получался непрерывный сильный ток воздуха. Если же я переворачивался вниз головой, выходное отверстие оказывалось ниже входного, ток воздуха прерывался. Когда я лежал, у обоих отверстий давление среды было равным и регулятор действовал безупречно. Выход оказался очень простым: расположить отверстия возможно ближе друг к другу, чтобы приток воздуха не нарушался разницей давления. Улучшенную конструкцию испытали в бассейне в Париже, она действовала безотказно.

Глава вторая
Глубинное опьянение

Первое лето на море с аквалангом прочно запечатлелось в нашей памяти. Это было в 1943 году, в разгар войны, в оккупированной противником стране, но мы настолько увлеклись подводным плаванием, что не обращали внимания на необычные обстоятельства. Мы жили на вилле Барри: Дюма, Тайе с женой и ребенком, кинооператор Клод Хульбрек с женой, наконец, мы с Симоной и наши двое малышей. Часто гостил у нас вместе с женой наш старый друг Роже Гари, директор фабрики красителей в Марселе. Оккупантам мы, должно быть, казались довольно унылой компанией отдыхающих.
Не так-то легко было насытить двенадцать голодных ртов. Тайе отправился в деревню и привез пятьсот фунтов сушеных бобов, которые мы сложили в углехранилище и ели за завтраком, ленчем и обедом, лишь изредка изобретая что-нибудь для разнообразия. Подводные пловцы тратят больше калорий, чем рабочие горячих цехов. Нам удалось получить карточки первой категории, что давало нам несколько граммов масла и сравнительно большой паек хлеба. Мясо было редкостью. Рыбы мы ели мало, так как рассчитали, что улов не возместит нам расход калорий на подводную охоту, настолько мы ослабли.
За это лето мы пятьдесят раз ныряли с аквалангом. Однако чем больше мы привыкали к нему, тем больше опасались внезапной катастрофы. Этому научили нас неудачи с насосом Ферне. Дело шло слишком благополучно. Чутье подсказывало нам, что невозможно так запросто покорить море. Где-то в глубинах Дюма, Тайе и меня подстерегает непредвиденная западня.
Друзья на берегу выслушивали наши отчеты из подводного мира с безразличием, приводившим нас в бешенство. Оставалось только обратиться к фотографии, чтобы показать виденное нами. Поскольку мы постоянно находились под водой в движении, мы сразу же начали с кино. Первой нашей съемочной камерой был престарелый «Кинамо», приобретенный мною за двадцать пять долларов. Папаша Хейник, венгерский беженец, изготовил для него замечательную линзу; Леон Веш, машинист торпедного катера «Марс», — водонепроницаемый бокс. В войну было невозможно раздобыть 35-миллиметровую кинопленку. Мы накупили пятидесятифутовые катушки ленты к «Лейке» и склеивали ее до нужной длины в темной комнате.
Одним из мест наших съемок был остров Планье, лежащий на главном рейде Марселя; на этом острове стоял знаменитый маяк, который отступающие немцы разрушили в 1944 году. Около Планье затонул на предательской скале английский пароход «Дальтон» водоизмещением в пять тысяч тонн. Нос судна лежал на глубине пятидесяти футов, дальше скала спускалась круто вниз.
Интересна судьба этого судна. Зафрахтованный греческой компанией, «Дальтон» в сочельник 1928 года вышел из Марселя с грузом свинца. Судно устремилось к маяку Планье, словно москит к лампе, врезалось в остров и пошло прямиком ко дну. Смотрители маяка спустились по скалам к воде и спасли всю команду. Они сообщили потом, что спасенные, начиная от юнги и кончая капитаном, поголовно были пьяны. Праздничное настроение всех одолело.
Заручившись разрешением администрации маяка, мы взяли акваланги, остроги, самострелы, кинокамеры, воздушный компрессор, продукты и высадились на острове. Служащие маяка жили в постоянном напряжении: каждый миг могли явиться немцы, чтобы взорвать маяк, либо английская подводная лодка с десантом.
Мы спустились по каменным ступеням в воду и подплыли к бушприту «Дальтона». Подступ к глубинам здесь затруднялся крутой скалой, к тому же закладывало уши. Бывает, что, погружаясь вниз головой, вы чувствуете себя так, словно превратились в забиваемый клин. Однако стоит глотнуть, как давление на барабанные перепонки пропадает и сразу восстанавливается хорошее самочувствие.
Мы прошли мимо выступающего носа и вдоль искореженных бортов к покоробившейся палубе с разинутой пастью грузового трюма. Затем проникли в трюм, щуря глаза, чтобы быстрее привыкнуть к темноте. Выстланный песком и листами железа, он напоминал глубокую шахту; в том месте, где переломился корпус, зияло громадное отверстие, открывающее вид на морскую пучину. Я повис в темном тоннеле, наблюдая, как из-за железных зубцов появляются мои товарищи. Пузырьки воздуха над ними напоминали паровозные дымки.
В середине корабля переплетение стальных конструкций образовало своего рода джунгли, в которых порхали зубаны. Под разрушенным мостиком мы обнаружили покрытое слоем маленьких ракушек главное рулевое колесо. Переборки были украшены геометрическими узорами, повторяющими расположение труб и приборов.
Мы находились на глубине ста футов, в еще не изведанной нами зоне. Внизу сквозь корпус, как сквозь трубу, виднелись части кормы, покоившиеся на песчаной банке. Надстроечная часть лежала в тридцати футах от нас неповрежденная, обе мачты на своих местах.
Первоначально мы не собирались погружаться очень глубоко. Мы думали поплавать на глубине шестидесяти футов, но море манило нас все дальше и дальше вглубь. И вот мы очутились на чреватой опасностями глубине семнадцати саженей. Где проходит предел? Может быть, на дразнящем нас песчаном откосе между двумя половинами «Дальтона»? Пожалуй, лучше подняться наверх и там обдумать эту проблему.
А на острове нас ожидала другая, весьма тривиальная задача — как прокормиться. Подводному пловцу нужно съедать в день четыре фунта мяса. Тайе и Дюма взялись опровергнуть закон, гласящий, что добытая на подводной охоте рыба не может возместить тех калорий, которые затрачены на погоню за ней. Громадные груперы, плававшие вокруг носа «Дальтона», еще не были знакомы с охотниками. Они, казалось, только и ждали, когда Дюма пронзит их острогой. Мы варили целые котлы густой похлебки. Для этого приходилось разрезать нашу добычу на части, но чистить ее мы избегали. Головы, глаза, мозг и внутренности сообщали ухе совершенно особый вкус, какого не даст очищенная рыба. Вовсе не обязательно есть, скажем, рыбьи глаза, но, сохраняя по примеру диких народов всю требуху, мы получали замечательный навар.
Выловленные нами груперы относились к особенно крупному виду, известному под названием меру, который почти не встречался на рыбных рынках Прованса, покуда за дело не взялись подводные пловцы. Рыбаки видели этих здоровяков через смотровые трубы со стеклянным дном, но не могли поймать их в свои сети. Иногда меру клюют на удочку. Попав на крючок, они уходят в щель в скале и отчаянно сопротивляются, упираясь колючками в камень. У арабов есть свой прием: они опускают к трещине осьминога и сильно дергают лесу. Иногда это приносит успех, чаще — нет. Есть еще хитрая уловка: вниз по леске спускают тяжелый грузик. Ударяя меру в нос, он заставляет рыбу на миг расслабиться, и, если одновременно потянуть лесу, можно выдернуть упрямца из щели или хотя бы подтащить его на несколько дюймов. В крайнем случае посылают еще грузики; терпеливая осада обычно приносит рыболову победу.
Одна из жертв Дюма — сорокафунтовый меру — задала ему немалую работу. Он выследил ее около «Дальтона». Меру развил стремительную скорость, словно понимая, чем ему грозит эта встреча. Он все время сохранял безопасную дистанцию, вне пределов досягаемости для гарпунного ружья, и наконец рванулся к своему убежищу. В последний миг Дюма выстрелил. Гарпун пронзил рыбину; она помчалась, таща Диди за собой. Вдруг меру нырнул под судно. Дюма попал в очень неприятное положение: его скребло грудью о песчаное дно, а баллоны акваланга бились о железо. Вот так штука: рыба затащила человека в щель! Меру исчез из поля зрения, но продолжал тянуть Дюма все дальше и дальше. В темноте Диди видел только пробковый поплавок на гарпунном шнуре. Наконец поплавок застрял, и рыбина оказалась как бы на якоре.
Дюма перерезал тросик и стал выбираться задним ходом, моля Бога, чтобы проржавленный корпус выдержал удары баллонов. В железных листах над ним уже виднелось немало дыр. В конце концов Диди выкарабкался. Что же дальше? Он решил все-таки попытаться добыть дерзкую рыбу: проник сверху внутрь корпуса и в дыре с зазубренными краями увидел свой поплавок. Едва Диди дернул шнур, как взбешенная болью рыба рванула его за собой и снова затащила в лабиринт. Перехватываясь руками, Дюма пошел вперед вдоль шнура, пока не нащупал гарпун.
Завязалась ожесточенная схватка — в темноте, в тучах песка, взбитого извивающимися телами. Диди удалось взять верх и развернуть рыбину к выходу. После этого оставалось только держаться за гарпун, как за руль: меру сам помчал его через дыру на волю.
Нелегкий способ добывать рыбу, но мы были голодны!
…Мы долго подбадривали себя, готовясь к неизбежному: предстояло опуститься к кормовой части «Дальтона», чтобы установить предел акваланга. И вот мы скользим через громадное железное брюхо вниз, в зловещую светлую пасть, за которой на глубине ста тридцати футов в кристально чистой воде лежит корма. Все здесь выглядело необычно. Предметы не отбрасывали тени. Повисшие в пространстве мачты, железные листы, даже люди казались в лучащемся отовсюду свете огромными и словно размытыми.
Доски кормовой палубы исчезли, обнажив переплетение стальных ребер и бимсов. Вместо знакомых нам зеленых и бурых водорослей — жесткий и колючий биологический покров. На квартердеке мы увидели что-то напоминающее ковенантскую арку, какую носят по улицам в дни церковных праздников. Арка оказалась кокпитом старой конструкции; над ним висел поломанный запасной штурвал, вокруг которого вился рой черных рыбок.
Мы нерешительно подплыли к поручням на корме и глянули вниз: мягкий песчаный откос терялся в смутной дали. Мы чувствовали себя так же хорошо, как на глубине пятидесяти футов. К этому времени у нас уже начало вырабатываться чувство глубины. При этом мы исходили из своих физических ощущений, стараясь не воображать несуществующих симптомов.
Прежде чем соскочить с кормы, мы невольно «пощупали» воду, чтобы увериться, что она будет служить нам опорой, когда мы покинем корабль. Потом шагнули за борт и опустились на грунт. Здесь мы увидели наполовину зарывшиеся в песок лопасти винта; дно было изрыто его предсмертными конвульсиями. Мы двинулись дальше. Так глубоко никто из нас не бывал, но мы не чувствовали ничего необычного; только дышать стало немного труднее из-за большей нагрузки. Стоило поплыть несколько быстрее или попытаться поднять тяжелый предмет, как ритм дыхания нарушался.
Наконец мы пошли к поверхности, протянув вдоль корпуса «Дальтона» тройную цепочку пузырьков, и вскоре очутились на скалистом склоне под каменной лестницей маяка Планье. Вдруг у меня помутилось в глазах, все закружилось в огненном вихре. Я уцепился за камень и зажмурился. Итак, море все-таки карало меня! Немного погодя я рискнул открыть глаза. Все было в полном порядке. На скале мелькали ленивые блики света. Мои товарищи исчезли. Я вышел на поверхность и присел на каменную ступеньку. Средиземное море весело искрилось на солнце. Позже я узнал, что все дело было в декомпрессии: к органам равновесия во внутреннем ухе приливает кровь, у ныряльщика кружится голова, и он видит падающие звезды. Осложнениями это не грозит.
Уже в первое лето мы много раз без каких-либо осложнений ныряли на глубину до двадцати двух саженей, и Дюма не сомневался, что с аквалангом можно погружаться еще глубже. Чтобы определить границу акваланга, он задумал провести под тщательным контролем экспериментальное погружение. Если не затягивать пребывание на глубине, можно не бояться кессонной болезни.
Мы уже знали кое-что об этой болезни из трудов пионера ее изучения Поля Берта, работавшего в конце 1870-х годов, и из исследований английских и американских физиологов. Кессонная болезнь — бичныряльщиков. Очень мучительная, она подчас влечет за собой инвалидность, а то и смерть. Впервые медицина столкнулась с ней на строительстве Бруклинского моста, где землекопы рыли выемки для мостовых устоев в шахтах, осушаемых сжатым воздухом.
Болезнь эта вызывается тем, что человек, находящийся под давлением, вдыхает молекулы азота — неактивного газа, который составляет семьдесят восемь процентов нашей атмосферы. При выдохе азот не выделяется целиком обратно, а растворяется в крови и в тканях. Когда давление падает, понижается и растворимость азота, он начинает собираться в пузырьки. Это напоминает то, что мы видим, открывая бутылку шампанского: углекислый газ, находившийся до этого под давлением, бурно выделяется, как только выскочит пробка. То же происходит в организме ныряльщика. В легких случаях человек отделывается ломотой в суставах. В тяжелых случаях пузырьки азота могут закупорить кровеносные сосуды, повредить нервные узлы и даже вызвать смерть, закупорив сердечные сосуды.
В октябре 1943 года мы прибыли в рыбацкую деревушку на Средиземном море, чтобы встретиться с другими участниками намеченного испытания. Мсье Матьё, портовый инженер, и мэтр Годри, местный пристав, уже осматривали стометровый канат с узлами, вдоль которого предстояло погружаться Фредерику Дюма. Во Франции пристав исполняет еще и роль официального свидетеля, а также следователя. Его свидетельство считается достаточным в любой судебной инстанции. Итак, инженер и пристав методично подсчитывали узлы и проверяли расстояние между ними; оно должно было составлять ровно один метр.
Два баркаса, полные зрителей, сопровождали жертву к месту опыта. Второй баркас шел за первым на буксире; на нем были и мы с Диди, сильно озадаченные вниманием публики. Мы уже обсудили все мыслимые стороны предстоящего эксперимента; Диди перебрал и взвесил все, что только могло случиться, и ко всему был готов.
Все было предусмотрено. Заранее выбрали место с чистой, спокойной водой. Надев новехонький акваланг и пояс с грузом, Дюма пойдет вдоль каната ногами вниз, избегая лишних движений, до наибольшей посильной ему глубины. Затем он отцепит груз, привяжет его к канату и быстро всплывет. Готовясь, Диди так переволновался, что само погружение казалось ему уже чистой формальностью.
Наш буксир бросил якорь. Глубина двести сорок футов. Небо заволокло тучами, осенний ветерок нагнал мутные волны с белыми гребешками. В воздухе повисла изморось. Я должен был страховать Дюма и вошел в воду первым. Меня сразу же отнесло, и я с большим трудом пробился обратно к трапу. Настала очередь Диди. Капитан баркаса очень волновался за него и суетился вокруг, всячески стараясь помочь нам. Дюма отдал ему честь в благодарность за заботу и скрылся под водой. Его несколько беспокоило, что груз весит много. Уже погрузившись, он обнаружил, что при повороте головы влево перегибается шланг выдоха, и вернулся. Я отплыл, чтобы поймать брошенный в воду канат с узлами, и чуть не захлебнулся еще до начала великого события. Дюма снова ушел под воду.
Я посмотрел вниз: Диди погрузился и плыл брассом против течения, к канату. Вот он взялся за него; из регулятора вырвались пузырьки воздуха — выдохнул. Диди немного отдышался и быстро пошел вниз в мутную беспокойную воду, перехватываясь руками по канату.
Все еще тяжело дыша после всей этой возни, я двинулся следом к своему посту на глубине ста футов. Голова у меня кружилась. Диди не оглядывался; я видел, как мелькают его руки и голова в бурой воде.
Вот как он сам описывает свое рекордное погружение:
«Освещение не меняет окраски, как это обычно бывает при волнении наверху. Я не могу ничего разобрать. То ли близится закат, то ли глаза ослабли. Вот узел, отмечающий глубину в сто футов. Не ощущаю никакой слабости, дышу тяжело. Проклятый канат висит не отвесно, он опускается наклонно в этот желтый суп, причем под все более острым углом. Меня это беспокоит, однако я чувствую себя превосходно. Мною овладевает чувство хмельной беззаботности. В ушах гудит, во рту горько. Течение покачивает меня, словно я хлебнул лишнего.
Забыты и Жак, и все остальные там наверху. Устали глаза. Продолжаю спускаться, пытаюсь думать о дне внизу и не могу. Меня тянет ко сну, но при таком головокружении невозможно уснуть. Вокруг меня совсем темно. Протягиваю руку за следующим узлом, но промахиваюсь. Ловлю узел и привязываю к канату свой груз в этом месте.
 Взлетаю вверх, словно пузырь. Без груза болтаюсь во все стороны. Судорожно цепляюсь за канат. Но вот хмель улетучивается. Я трезв и зол от сознания, что не достиг цели. Миную Жака и спешу дальше наверх. Мне сообщают, что я пробыл под водой семь минут».
Пояс Диди был привязан на глубине двухсот десяти футов. Пристав удостоверил этот факт. Еще ни один ныряльщик с автономным дыхательным аппаратом не достигал такой глубины, а Дюма был твердо убежден, что спустился не ниже ста футов.
Опьянение Дюма объяснялось наркотическим действием азота. Это отклонение в физиологии ныряльщиков за несколько лет до того изучал капитан военно-морских сил США А. Р. Бенке. В оккупированной Франции ничего не знали о его трудах. Мы назвали это явление l’ivresse des grandes profondeurs (опьянение или «отравление» большой глубиной).
Поначалу действие глубины похоже на легкий наркоз. Подводный пловец чувствует себя Богом. Если проплывающая мимо рыба разинет рот, ныряльщик способен вообразить, что она просит воздуха, и щедрым жестом предложить ей свой мундштук. Явление это весьма сложное и по-прежнему остается загадкой для физиологов. Капитан Бенке считает, что все дело в перенасыщении крови азотом. Кессонная болезнь тут ни при чем; газ химически воздействует на нервные центры. Новейшие лабораторные исследования говорят о связи «глубинного опьянения» с остаточным углекислым газом в нервной ткани. Опыты, проведенные военно-морскими силами США, показали, что загадочный хмель не поражает ныряльщиков, дышащих смесью, в которой азот заменен гелием. Промышленное производство гелия налажено только в США и охраняется строгим законом, так что иностранные исследователи не могут получить американский гелий. Водород, который тоже легче воздуха, эффективностью не уступает гелию, но он взрывоопасен, и с ним сложно обращаться. Швед Цеттерстрём погружался с аппаратом, где применялся водород, но из-за промаха, допущенного его помощниками на поверхности, умер во время декомпрессии и не смог внести ясности в этот вопрос.
Я очень восприимчив к глубинному опьянению. Я люблю его и вместе с тем боюсь, как Страшного Суда. Оно поражает все органы чувств и совершенно заглушает инстинкт жизни. Физически сильные люди поддаются ему не так быстро, как неврастеники вроде меня, но им труднее потом взять себя в руки. Люди умственного труда пьянеют легко, зато, одолев опьянение, они быстро приходят в себя. Этот хмель наводит на мысль о пьяных сборищах двадцатых годов, когда наркоманы собирались вместе и вдыхали закись азота.
У глубинного опьянения есть одно счастливое преимущество перед алкоголем: никакого похмелья! Как только вы вышли из опасной зоны, мозг тотчас проясняется, и на следующее утро нет никаких неприятных ощущений. Когда я читаю отчеты о рекордных погружениях, мне всегда хочется спросить чемпиона, сильно ли он опьянел!
Самую потешную историю о воздействии давления рассказал мне сэр Роберт Дэвис, изобретатель первого спасательного аппарата для подводников. Много лет назад под одной рекой прокладывали тоннель, и группа местных деятелей спустилась туда, чтобы отпраздновать сбойку стволов. Они пили шампанское и были весьма разочарованы: ни игры, ни шипучести в вине. А все дело было в давлении, из-за него пузырьки углекислого газа остались растворенными. Когда же отцы города поднялись на поверхность, вино в их желудках зашумело и брызнуло через рот на манишки, только что из ушей не полилось! Одного высокопоставленного чиновника пришлось отправить обратно в тоннель, чтобы подвергнуть рекомпрессии.
Взлетаю вверх, словно пузырь. Без груза болтаюсь во все стороны. Судорожно цепляюсь за канат. Но вот хмель улетучивается. Я трезв и зол от сознания, что не достиг цели. Миную Жака и спешу дальше наверх. Мне сообщают, что я пробыл под водой семь минут».
Пояс Диди был привязан на глубине двухсот десяти футов. Пристав удостоверил этот факт. Еще ни один ныряльщик с автономным дыхательным аппаратом не достигал такой глубины, а Дюма был твердо убежден, что спустился не ниже ста футов.
Опьянение Дюма объяснялось наркотическим действием азота. Это отклонение в физиологии ныряльщиков за несколько лет до того изучал капитан военно-морских сил США А. Р. Бенке. В оккупированной Франции ничего не знали о его трудах. Мы назвали это явление l’ivresse des grandes profondeurs (опьянение или «отравление» большой глубиной).
Поначалу действие глубины похоже на легкий наркоз. Подводный пловец чувствует себя Богом. Если проплывающая мимо рыба разинет рот, ныряльщик способен вообразить, что она просит воздуха, и щедрым жестом предложить ей свой мундштук. Явление это весьма сложное и по-прежнему остается загадкой для физиологов. Капитан Бенке считает, что все дело в перенасыщении крови азотом. Кессонная болезнь тут ни при чем; газ химически воздействует на нервные центры. Новейшие лабораторные исследования говорят о связи «глубинного опьянения» с остаточным углекислым газом в нервной ткани. Опыты, проведенные военно-морскими силами США, показали, что загадочный хмель не поражает ныряльщиков, дышащих смесью, в которой азот заменен гелием. Промышленное производство гелия налажено только в США и охраняется строгим законом, так что иностранные исследователи не могут получить американский гелий. Водород, который тоже легче воздуха, эффективностью не уступает гелию, но он взрывоопасен, и с ним сложно обращаться. Швед Цеттерстрём погружался с аппаратом, где применялся водород, но из-за промаха, допущенного его помощниками на поверхности, умер во время декомпрессии и не смог внести ясности в этот вопрос.
Я очень восприимчив к глубинному опьянению. Я люблю его и вместе с тем боюсь, как Страшного Суда. Оно поражает все органы чувств и совершенно заглушает инстинкт жизни. Физически сильные люди поддаются ему не так быстро, как неврастеники вроде меня, но им труднее потом взять себя в руки. Люди умственного труда пьянеют легко, зато, одолев опьянение, они быстро приходят в себя. Этот хмель наводит на мысль о пьяных сборищах двадцатых годов, когда наркоманы собирались вместе и вдыхали закись азота.
У глубинного опьянения есть одно счастливое преимущество перед алкоголем: никакого похмелья! Как только вы вышли из опасной зоны, мозг тотчас проясняется, и на следующее утро нет никаких неприятных ощущений. Когда я читаю отчеты о рекордных погружениях, мне всегда хочется спросить чемпиона, сильно ли он опьянел!
Самую потешную историю о воздействии давления рассказал мне сэр Роберт Дэвис, изобретатель первого спасательного аппарата для подводников. Много лет назад под одной рекой прокладывали тоннель, и группа местных деятелей спустилась туда, чтобы отпраздновать сбойку стволов. Они пили шампанское и были весьма разочарованы: ни игры, ни шипучести в вине. А все дело было в давлении, из-за него пузырьки углекислого газа остались растворенными. Когда же отцы города поднялись на поверхность, вино в их желудках зашумело и брызнуло через рот на манишки, только что из ушей не полилось! Одного высокопоставленного чиновника пришлось отправить обратно в тоннель, чтобы подвергнуть рекомпрессии.
Теперь, через десять лет после того, как мы впервые робко проникли в стотридцатифутовую зону, женщины и старики уже при третьем или четвертом погружении достигают этой глубины. Летом на Ривьере неизменно появляется некий мсье Дюбуа, он выдает напрокат акваланги и инструктирует любого, кто пожелает увидеть морское дно. Сотни людей надевают на спину аппараты и смело ныряют в воду. А я вспоминаю, сколько пришлось помучиться Филиппу, Диди и мне, и к чувству гордости при виде снаряжения, которое раздает мсье Дюбуа, примешивается легкая досада.

Глава третья
Затонувшие корабли

Вернемся, однако, немного назад. Однажды ночью в ноябре 1942 года мы с Симоной были разбужены в нашей марсельской квартире гулом самолетов, летевших на восток. Я настроил приемник на Женеву: Гитлер нарушил свое слово и занял военно-морскую базу Тулон. Грохот и пламя взрывов возвестили о самоуничтожении французского флота. Голос диктора дрожал, когда он перечислял погибшие корабли, в число которых входили так хорошо знакомые мне «Сюфрен» и «Дюплей». Мы с Симоной плакали у приемника, словно изгнанники, оторванные от дорогих нам людей и кораблей.
На место немцев пришли итальянцы, которые принялись хозяйничать в доках: разрушать и расчищать. Не могу забыть, как они калечили орудия на боевых судах.
Мысль о погибших кораблях не давала нам покоя. Когда мы стали намечать свою программу на следующую весну, Дюма только о них и говорил. Мы решили снять фильм о затонувших судах.
Однако Южная Франция была по-прежнему занята солдатами Муссолини. Итальянцы были начеку; они отказывались дать нам пропуск на выход в море с рыбаками. Тщетно старались мы произвести на них впечатление письмом от Международного комитета по исследованию Средиземноморья, который одно время возглавлял итальянский адмирал Таон ди Равель. Стоило нам заплыть за пределы зоны, отведенной для купальщиков, как посты открывали огонь, причем я так и не мог понять, делалось ли это по злобе или просто так, для забавы.
Потом итальянцев сменили немцы. Неожиданно я обнаружил, что мое письмо производит впечатление на самых свирепых гитлеровцев. Слово «культура» оказывало на них магическое действие, и мы смогли возобновить свою работу без особых помех. Притом они, к счастью для нас, никогда не допытывались, чем мы занимаемся. Позднее мы узнали, что германское морское министерство затратило миллионы марок на разработку подводного снаряжения для военных целей. Некоторые из их испытательных команд, очевидно, ныряли неподалеку от нас. Мы погружались до тридцати саженей, тогда как военные ныряльщики с кислородными аппаратами вынуждены были ограничиваться семью саженями. Правда, у кислородных аппаратов есть неоспоримое преимущество для военных: они не выдают подводного пловца предательскими пузырями.
Мы быстро убедились, что планировать розыск затонувших судов куда легче, чем находить их на самом деле. Большинство таких кораблей, лежащих на дне грязных, темных гаваней или в местах с сильным течением и непрекращающимся волнением на поверхности, не представляло интереса для кинооператора. Нас могли устроить только суда, затонувшие в чистой воде, но где их найти? Ни одна карта, ни один документ не давали точных данных. Даже наиболее заинтересованные стороны — судовладельцы, страховые компании и правительственные бюро — редко могли дать нужные сведения. Единственным выходом было тщательно проверять рассказы спасателей, рыбаков и водолазов.
Мы приступили к поискам, опираясь на помощь Огюста Марселлина, известного в Марселе подрядчика по подъему грузов с затонувших судов. Он указал нам несколько известных ему точек и дал нам для рекогносцировки катера с командами. Но сперва мы опросили рыбаков во всех приморских кабачках. Они знали только один способ обнаружить затонувшее судно: если сеть за что-нибудь зацепилась, значит, внизу лежит корабль, mais certainement (можете не сомневаться!). Мы исследовали много таких мест; чаще всего виновником порчи сетей оказывалась подводная скала…
Не один вечер скоротали мы, слушая рассказы двух бывших водолазов, Жана Кацояниса из Кассиса и Мишеля Мавропойнтиса из Тулона. Вся жизнь их прошла в поисках затонувших судов, губок, красных кораллов и асцидий виолет. Виолета — необычное лакомство, распространенное только в Марселе. Эти асцидии с виду похожи на камни и селятся на каменистом грунте, извлекая питательные вещества из морской воды. При опасности они сжимаются и словно прирастают к камню, так что ныряльщик должен быть расторопным, если хочет вернуться с добычей. Престарелые гурманы так и рыщут в гавани в поисках редкого и драгоценного лакомства, продаваемого горластыми уличными торговцами, и поедают его тут же на улице. Разрезав оболочку виолеты, вы видите неаппетитную на вид мякоть ярко-желтого цвета с красными и фиолетовыми пятнышками. Содержимое оболочки отправляется большим пальцем прямо в рот. Я как-то попробовал одну виолету. Это было все равно, что есть йод. Утверждают, будто виолеты излечивают туберкулез и увеличивают половую потенцию. Дюма съел как-то пятнадцать штук за раз и доложил наутро, что не заметил никакого эффекта.
Жан Кацоянис и Мишель Мавропойнтис поработали на своем веку во всех концах Средиземноморья: у берегов Ливии, Греции, Туниса, Алжира, Испании, Италии, Франции. Мы услышали захватывающие описания схваток с муренами и рассказы о том, как можно заблудиться в густых подводных лесах. Ветераны водолазного дела не раз наблюдали сквозь стекла своих шлемов ныряльщиков — собирателей губок — и разработали собственную теорию, слушая которую мы едва удерживались от хохота.
— Кожа ныряльщика, — поясняли они, — покрывается множеством маленьких пузырьков. Эти-то пузырьки и защищают его от давления. Стоит ему задеть за что-нибудь, и пузырьки отрываются от кожи, а тогда — конец.
У обоих стариков руки и ноги были скрючены кессонной болезнью. Это наше счастье, говорили они, что мы еще живы. В дни их молодости ежегодно половина ныряльщиков, работавших в богатых губкой прибрежных водах Туниса, становилась калеками или гибла от «глубинного удара».
Как-то мы встретили в корсиканских водах группу греков — профессиональных водолазов. Они погружались в старых латаных костюмах и помятых шлемах, за несколько секунд достигая глубины в сто семьдесят футов. Через десять — пятнадцать минут медленно поднимались обратно, однако совершенно пренебрегали правилами ступенчатой декомпрессии, которые предусматривают для этой глубины и длительности погружения девятиминутную остановку в десяти футах от поверхности, чтобы выделился накопившийся в тканях азот. Без громоздких костюмов это были щуплые люди, изуродованные кессонной болезнью. Они собирали кораллы для ювелиров и зарабатывали совсем неплохо. Сбыв свой товар, ловцы кораллов ковыляли в бистро, где мигом пропивали и проигрывали полученные деньги.
Эти полуинвалиды уверяли нас, что стоит им покинуть сушу и вернуться в мир повышенного давления, как они, словно омытые живой водой, сразу обретают утраченную гибкость членов. Первый же «глубинный удар» превращает их в узников моря, и с каждым новым погружением узы становятся все прочнее. То, что им под водой легче, объясняется очень просто: плотная среда служит опорой и расковывает их.
Море увечит греков-водолазов; но еще безжалостнее обходится оно с затонувшими судами. Под слоем краски полным ходом орудует ржавчина; сверху все обрастает водорослями и моллюсками. Издалека может показаться, что перед вами подводный утес. Потом вы догадываетесь: это корабль, утративший свой гордый вид.
Первый обследованный нами — еще до «Дальтона» — затонувший корабль относился к числу тулонских «самоубийц». Это был мощный буксир, покоившийся на внешнем фарватере на глубине сорока пяти футов. Один генуэзец по имени Джианино подрядился поднять его груз для итальянских военно-морских властей. Мы сопровождали Джианино, изображая любителей-энтузиастов, мечтавших о возможности заснять его за работой.
За восемь месяцев такелаж и рангоут обросли пышными водорослями, и судно напоминало разукрашенный цветами плот на карнавале в Ницце. Черные раковины покрыли борта и вентиляционные трубы траурным орнаментом. Кругом во множестве плавали рыбы, преимущественно морские окуни; люди их ничуть не беспокоили.
Джианино упивался возможностью продемонстрировать нам свое искусство. Но водолаз передвигается по дну с большим трудом, каждый неуклюжий скачок стоит ему немалых усилий. Вода бурлит вокруг него. Мы привыкли к тому, что для успеха исследований надо избегать касаться дна, и были готовы проклинать его свинцовые калоши. А Джианино, вдохновленный глазом кинокамеры, играл. Вот он нагнулся и драматическим жестом прижал к груди морскую звезду. Мы прилежно «снимали» эту подводную феерию. Джианино не знал, что мы оставили камеру в Тулоне, а здесь таскали за собой нагруженный здоровенным гаечным ключом пустой бокс, не желая разочаровывать его.
Джианино приподнял люк машинного отделения, закрепил его гнилой веревкой, вытравил из скафандра половину воздуха и вошел внутрь судна. Самолюбие Диди было задето. Он еще ни разу не видал затонувшего корабля, не говоря уже о том, чтобы проникнуть внутрь. И он решил отправиться следом за Джианино. Однако тут же подумал о гнилой веревке и вернулся. Джианино подпустил воздуха в скафандр и выскочил из люка, словно аэростат воздушного заграждения. Он виртуозно маневрировал по вертикали, по горизонтали же двигался с большим трудом. Диди не спеша поплыл вдоль палубы и очутился перед входом на полубак. Я увидел, как он нерешительно открыл дверь и, поколебавшись секунду, двинулся вперед, словно нырнул в бутылку с чернилами. В тот же миг его ласты показались снова, и он выскочил задним ходом.
Человек, плавно скользящий над поросшей тиной палубой, не видит ни дерева, ни бронзы, ни железа. Оснастка судна превращается во что-то непонятное. Вот возвышается странное трубообразное растение, выращенное садовником-чародеем. Диди подплыл ближе и повернул какое-то колесо. Растение медленно наклонилось: это был пушечный ствол. Стальные механизмы сохраняются в море долго. Мы видели поднятые на поверхность дизельные моторы и электрогенераторы; они прекрасно сохранились, хотя три года пробыли на дне. Необходимо, однако, сразу разбирать их и промывать пресной водой, иначе от соприкосновения с воздухом тотчас же начнется бурная коррозия.
Первым обследованным нами давно погибшим кораблем был линкор «Иена»; он затонул во время артиллерийских испытаний еще до первой мировой войны. За три десятилетия вода так разрушила корабль, что он казался уродливым творением самого моря. Ничего похожего на судно. Уцелевшие листы рассыпались в прах от малейшего толчка. Еще десяток лет, и от «Иены» ничего не останется: железные суда уничтожаются водой за какие-нибудь полвека.
Незадолго до Второй мировой войны грузовое судно «Тозёр» водоизмещением в четыре тысячи тонн было сорвано с якорей мощным мистралем и брошено на утес Фриуль недалеко от Марселя. Нос судна выступал над поверхностью; торчали мачты, слегка наклоненные на штирборт. Корма лежала на глубине шестидесяти пяти футов. «Тозёр» стал для нас учебным объектом: на нем мы осваивали искусство исследования затонувших кораблей. Своего рода лестница, по которой мы шаг за шагом опускались в глубь моря. Плотный, но не слишком толстый слой морских организмов не скрадывал контуров корабля. Это было идеальное «пособие» — одно из немногих, вполне отвечающих романтическому представлению школьника о затонувшем корабле.
«Тозёр» был для нас легко доступен и в то же время достаточно коварен, и мы смогли изучить на нем многочисленные опасности, подстерегающие исследователей погибших судов. Корпус во многих местах покрывали маленькие коварные существа, так называемые «собачьи клыки»: острые, как бритва, зубчатые ракушки, к тому же еще и ядовитые. Стоило волне прижать наши полуголые тела к борту корабля, как на коже появлялись многочисленные царапины.
Подводные царапины, как правило, безболезненны. Море не знает никакой разницы между водой и кровью; недаром они сходны по составу. Но повреждения от «собачьих клыков» очень болезненны. Встречались мы невзначай и с ловко камуфлирующейся, отвратительной, как жаба скорпеной. Хотя эти рыбы и считаются ядовитыми, мы ни разу не пострадали от них.
Деревянные части судна почти совсем истлели, зато металл был едва тронут ржавчиной. Бронзовые ручки были словно источены термитами: действие гальванических токов. Судно омывала прозрачная чистая вода, но в трюмах она была загрязнена и пожелтела. Как-то сильный мистраль настолько охладил море, что нам пришлось ждать три дня, пока оно согреется. На третий день мы вошли в теплые волны, опустились в трюм и… мигом выскочили: там вода по-прежнему была ледяная, как в холодильнике.
«Тозёр» отлично подходил для съемок. Мы потратили немало пленки, запечатлевая это красивое зрелище для нашего фильма «Epaves» («Затонувшие корабли»). Мы тщательно изучили все судно. Диди проник в рулевую рубку; Филипп и я последовали за ним. Проходы в переборках напоминали монастырские своды. Впрочем, здесь многое наводило на мысль о храме: водоросли — будто вьюнки на каменной стене, свет, падающий словно сквозь окошечко кельи. Следом за Диди мы проплыли по этому железному собору к уходящей вниз шахте. Трапы вели от палубы к палубе, все дальше от солнца и воздуха, и с каждым этажом становилось все темнее. На одной из площадок мы задержались и заглянули в длинный темный коридор. В конце его светились выходящие в воду голубые отверстия. Однако нас что-то не тянуло идти туда, к голубому свету, через весь этот тоннель.
Спустились на один пролет. Теперь нас отделял от поверхности железный барьер. Диди уже одолел следующий пролет; мы пошли за ним. Плыли осторожно, стараясь ничего не задеть, — вдруг это еще один карточный домик вроде «Иены»? Неожиданно по всему судну разнесся сильный гул. Мы замерли и поглядели друг на друга. Прошло несколько секунд, ничего не случилось. Диди влекло все ниже и ниже. Снова громкий удар; потом целая очередь. Мы сгрудились вокруг Тайе; он пробурчал:
— Прибой.
Ну, конечно! Под ударами прибоя затонувшее на мелком месте судно билось о грунт.
Мы вернулись в рулевую рубку, когда было уже совсем темно, с сознанием, что хорошо поработали.
В одном из кормовых отсеков нам попалась не тронутая морем большая сверкающая бутылка с какой-то жидкостью. Диди захватил ее с собой и отдал Симоне. Она вылила на ладонь несколько капель и понюхала.
— Прекрасный довоенный одеколон, — сообщила она.
Диди рьяно охотился за подводными сокровищами. Он вывинчивал уцелевшие лампочки, подобрал матросские сапоги из разных пар, а скорпены только смотрели на него, пренебрегая своими обязанностями охранников. Под мостиком мы обнаружили ванную комнату капитана. Диди заплыл туда и улегся в ванне. Словно в самом деле моется! Я чуть не потерял мундштук от хохота.
Огюст Марселлин дал нам побывать на корабле, с которого поднимал груз отряд опытных водолазов, и мы засняли на киноленту, как автогеном разрезают под водой железо. Водолазы решили подшутить над нами, дилетантами. Они вышли в море в сильный мистраль и нарочно повели катер вдоль волны, так что нас основательно швыряло. Один из них ушел в воду и вернулся с полной корзиной крупных горьких мидий, собранных на затонувшем судне. Поглядел на нас и произнес с лукавой улыбкой:
— Что-то вы, ребята, уж больно тощие с виду. Надо накормить вас как следует, прежде чем вы станете нырять.
Перед погружением есть не рекомендуется, но мы принялись открывать ракушки и поглощать йодистое содержимое, стараясь всем своим видом изображать восторг. Водолазы сидели рядом, не спуская глаз с наших лиц. Мы благополучно справились с мидиями.
— А теперь угощайтесь вином и хлебом.
Мы съели хлеб и выпили вино. Водолазы были очень довольны: смеялись, балагурили и приняли нас в свою компанию. Наш гастрономический подвиг поразил их гораздо больше, чем умение плавать под водой.
Один из водолазов зажег горелку и погрузился с ней в воду. Мы пошли за ним и увидели всплывающие в красном зареве пузырьки. Он направил пламя на стальную балку, и оно вгрызлось в металл, разбрызгивая раскаленные шарики. Взбаламученная вода забилась о наши тела.
…Когда мы работали на «Дальтоне», Диди захватил своеобразную добычу. Внутри корпуса он обнаружил горы посуды — фаянсовой, серебряной, стеклянной с коралловыми инкрустациями — и большую хрустальную вазу. Вся эта посуда лежала среди железных руин чистая и целая, словно выставленная напоказ на свадьбе в мещанской семье. В другой раз он нашел гору чистых бутылок из-под вина и бренди марки «Метаксас». Эти бутылки были опустошены в ту самую ночь, когда беспечная команда «Дальтона» перепилась и отправила судно на дно. Да, горькое было похмелье…
Корабельный компас оброс кораллами. Мы расчистили его, и нашим глазам предстал единственный живой остаток «Дальтона»: стрелка плавала в спиртовой ванне, по-прежнему подчиняясь притяжению далеких полюсов. Тайе взял на память несколько судовых фонарей, но Диди был ненасытен. Он поднял на поверхность дубовый штурвал, потом принялся нырять за посудой и серебром. Уж не задумал ли обзавестись домашней утварью, готовясь втайне от нас сыграть свадьбу?..
Решив механизировать свой труд, он вооружился большой корзиной. Корзина сразу же провалилась сквозь дыру в палубе и запуталась в искореженных бимсах. Диди отправился за ней, зацепился регулятором за кабель и повис, боясь пошевельнуться, чтобы не порезать воздушные шланги. Случайно проплывая мимо, я обнаружил его и выручил. Диди немедленно двинулся вниз, не желая уступать упрямой корзине. Нагрузил ее доверху и дернул канат, подавая сигнал своему помощнику, чтобы тот тянул. Корзина сорвалась и упала обратно на корабль. При следующей попытке компасная тренога, которую Диди примостил сбоку, застряла в поручнях. Диди отцепил компас. Корзина свалилась в трюм. Приглушенный вопль пронизал толщу воды.
Диди еще раз вытащил корзину. Он донес ее на руках до самого борта, и теперь она пошла на канате вверх без осложнений. Но от посуды, которая благополучно пережила аварию и четверть века пребывания в море, остались одни черепки.
Бесчувственный приятель спросил его:
— Что, Диди, придется свадьбу отложить?
Страсть Дюма к «Дальтону» едва не кончилась трагически. Однажды, когда сильный мистраль не давал спустить на воду дежурную лодку, ему понадобилось во что бы то ни стало закончить какие-то съемки на корме, и он нырнул один в разгулявшиеся волны. Уже на глубине шести футов было тихо и спокойно, но могучие волны давали знать о себе до двадцати футов: давление на барабанные перепонки то росло, то ослабевало. В одиночестве, сознавая свою хрупкость и уязвимость, Диди не без трепета погружался в тихие пустынные глубины.
Он шел обычным маршрутом — через люк рулевой рубки и большой тоннель к зияющему отверстию, откуда была видна кормовая часть. Добравшись до нее, мы всегда испытывали ту же гордость, что и мальчишка, забравшийся на макушку самого высокого дерева.
Проникнув в рубку, Дюма почувствовал, как кто-то схватил его за трубку выдоха. Маска акваланга ограничивает поле зрения не хуже лошадиных шор. Дюма не мог понять, в чем дело. Он попытался повернуть голову — тщетно. Тогда Диди протянул назад руку и нащупал покрытую «собачьими клыками» железную трубу. Из руки засочилась кровь.
Только тут он разглядел: оскалившаяся ракушками труба проходила мимо его головы над левым плечом и дальше между шлангом и регулятором. Идя вниз, Дюма ухитрился зацепиться шлангом за обломанную с одного конца трубу и теперь повис на ней, как кольцо на палке. Просто чудо, что острые ракушки не порезали ни шланга, ни шеи Дюма.
Дюма выпустил из рук киноаппарат и повис неподвижно, благодаря небо за то, что внутри «Дальтона» не было течений. Он застрял на глубине ста футов, отрезанный от товарищей; они не появятся здесь в такую погоду.
Подумав, Диди закинул обе руки за голову, обхватил пальцами трубу, чтобы она не касалась шланга и шеи, и, перехватываясь, пошел вверх ногами. Он был готов изрезать ладони до кости, только бы отделаться от этой проклятой трубы. Казалось, это осторожное отступление никогда не кончится…
Но вот руки Диди нащупали обломанный конец трубы — он свободен! Самое длинное подводное путешествие в жизни Диди составило… десять футов. Не думая о порезах, он подобрал киноаппарат, прошел сквозь тоннель и снял призрачный кокпит в необычном освещении под изрытой штормом поверхностью моря. Закончив съемку, возвратился к лестнице маяка и высунул свою маску над соленой пеной. Набежавшая волна подсадила Диди на каменную ступеньку, и он побрел к маяку.
После этого случая мы взяли за правило никогда не погружаться в одиночку. Ходить группами — закон для тех, кто работает в аквалангах.
Каждое затонувшее судно для ныряльщиков как бы одушевленное существо со своими отличительными чертами. У каждого из них своя история, трагическая или комическая, волнующая или нелепая. Мы всегда старались узнать «биографию» судна до его гибели, и иногда нам удавалось открыть интересные страницы в прошлом какой-нибудь дремлющей подводной развалины. Так было с «Дальтоном», буйным рождественским гулякой, так было с пылким авантюристом «Рамоном Мембру», испанским грузовым судном, лежащим на дне близ порта Кавалер на Лазурном берегу.
Эту историю рассказал нам в местном кафе один седой крестьянин. Мы несколько дней охотились за этим человеком: он был свидетелем гибели «Рамона Мембру» в 1925 году.
— Сижу это я на рассвете, — говорил он, — с удочкой на мысу Лардье. Вдруг поразительное зрелище: прямо на меня идет огромный корабль. Большое судно — так близко от берега! А я, можно сказать, столкнулся с ним нос к носу. Страшный грохот — «Рамон Мембру» врезался в скалы. С разгону даже выскочил из воды. Нос оказался на берегу, корпус смялся, словно желе. Тут он и остался.
И двадцать лет спустя наш очевидец дрожал от возбуждения, вспоминая этот удивительный случай.
— Весь день испанцы грузили на шлюпки сундучки и чемоданы и свозили их на берег. Наконец таможенный офицер из Кавалера возмутился. Заявил, что, если они не прекратят эту контрабанду, он опечатает груз: пароход вез испанские сигары. На следующий день пришел буксир. Осторожно стащил судно за корму с камней, и — о, чудо! — «Рамон Мембру» держался на плаву! С буксира подали трос к носу парохода — трос лопнул… А они все еще торчали у самого берега, и свежий ветерок снова понес пароход на камни. На буксире поняли, что надо спешить, и успели-таки закрепить другой трос. «Рамона» отвели в Кавалер. А ночью деревня проснулась от тревоги: испанец загорелся на рейде! Сигары вспыхнули ярким пламенем, и «Рамон Мембру» пошел ко дну.
Мы нашли «Рамона» в нескольких сотнях ярдов от пристани, в мутноватой воде густо-изумрудного цвета. И удивились, увидев судно водоизмещением в пять-шесть тысяч тонн. Люди, которые рассказывали нам о затонувших судах, особенно жители Южной Франции, были склонны к преувеличениям. Однако наш крестьянин, бывший моряк, сказал правду.
«Рамон Мембру» весь был покрыт водорослями, только нос и корма не заросли. Кругом него в песке было что-то вроде рва. Нам ничего не удалось обнаружить внутри, даже клочка от старой сигарной этикетки не нашлось. Зато мы встретили там лихию. Величиной с человека, она родственна тунцу, однако стройнее и грациознее его. Ее еще ни разу не удавалось поймать ни на крючок, ни сетью. Нужно немало походить под водой, чтобы увидеть эту лихию. Зато какое это красивое зрелище: большая серебристая рыбина царственно скользит в морском приволье. Рыбы проходили гуськом над гладким дном возле самого корабля, словно это был привычный для них маршрут. Сегодня они торопились, нервничали, завтра беззаботно резвились. И никогда нельзя было предугадать, в какую минуту они появятся, в какую исчезнут. Они то пропадали на несколько дней, то опять появлялись, словно караван в пустыне.
…Неподалеку от Пор-Крос на дне моря лежал небольшой рыболовный траулер — чистый, новенький, сети аккуратно сложены на палубе, пробковые поплавки бьются о доски. Мы не стали осквернять маленькое судно, но сети подсказали нам одну мысль: мы решили заснять идущий по дну рыболовный трал. Никто еще не видел трал в работе. Рыбаки, всю жизнь добывающие рыбу тралом, лишь теоретически представляли себе его действие. Нападешь на хорошее место — будешь с рыбой; вот почти все, что было известно о траловом лове.
Выбрав себе место над травянистым дном, я увидел приближающийся трос; он тащил ненасытный зев, ломая водоросли и внося переполох в мир хрупких жителей подводных прерий. Рыбы разбегались в стороны, словно кролики перед косарем. Огромный мешок трала проследовал мимо меня, раздуваемый водой. Медленно поднялась примятая трава. Я удивился: как много рыбы спасается от страшной пасти. Методы, которыми человек ведет подводное «хозяйство», можно сравнить с тем, когда со всего поля собирают лишь малую толику колосьев. Диди, вися на тросе головой вниз, запечатлел на кинопленку разверстую пасть дракона, чтобы наглядно показать, сколько рыбы уходит и какой вред наносится подводному пастбищу.
Осмотрели мы и большие сетевые заграждения, которые преграждали путь подводным лодкам в Йер. Проход в заграждении охранял морской буксир «Полифем». Престарелое судно сторожило дверь, подобно парижскому консьержу. На ночь «Полифем» закрывал проход, бросая в нем якорь, и засыпал с ключом в руках. Буксир стоял там и в ночь на 27 ноября 1942 года, когда в Тулоне взрывался флот. «Полифем» покончил с собой и пошел ко дну, привязанный к сети.
Мы навестили его год спустя. Он лежал на глубине шестидесяти футов, в очень чистой воде, и грот-мачта всего на четыре фута не доходила до поверхности моря. Голова кружилась, когда мы глядели сквозь маски вниз на буксир. Совершенно чистый стопятидесятифутовый корпус, парящие в пространстве мачты и ванты… Ничто не говорило о бедствии. Легкий крен на штирборт лишь усиливал впечатление полной сохранности. Ни одна травинка не успела вырасти на буксире, только редкий зеленый пушок, который даже не закрыл краску.
Внутри судна было пусто. Команда все сняла, прежде чем открыть кингстоны.
На картах бухты Йера можно увидеть маленький кружок с надписью «epave» — скромная надгробная эпитафия над испанским судном «Феррандо» водоизмещением в шесть тысяч тонн, затонувшим пятьдесят лет тому назад. Место его гибели обозначено точно, однако найти судно по такому знаку не так-то просто. Один местный житель доставил нас на шлюпке в точку, отвечающую кружочку на карте, но затем вдруг начал колебаться.
— Я не совсем уверен, — сказал он. — Где-то здесь…
В пятистах ярдах от нас прыгал на волнах плавучий буй. Наш проводник впервые видел его.
— Наверно, рыбаки потеряли здесь сеть и пометили место, — произнес он в раздумье.
Дюма нырнул вдоль якорного троса этого буя и увидел могилу «Феррандо». От судна остался один скелет, окутанный обрывками сетей. «Феррандо» лежал на левом борту; остатки палубы напоминали изрешеченную снарядами артиллерийскую мишень. Дюма пробрался в главный грузовой трюм. Там было темно и просторно, как в соборе. Сквозь отверстия в корпусе пробивался голубой свет; в одном месте зияла громадная дыра, проделанная водолазами, которые много лет назад обобрали «Феррандо».
Дюма проплыл через среднюю часть судна и на проникшем внутрь песке нашел четыре китайских блюда с черными прожилками. Кругом валялись горы серо, — зеленого камня, уродливые, словно в бредовом видении. Диди подобрал один камень и ударом о переборку разбил его. Камень рассыпался черными блестящими осколками: это был битуминозный уголь из груза «Феррандо», покрывшийся серым налетом за пятьдесят лет пребывания в море.
Выбравшись наружу, Дюма увидел огромные черные раковины пинна; они напоминали могильные камни. А обрывки сетей были словно ограда вокруг кладбища, на котором погребены надежды многих рыбаков. Рыбаки знают, что около затонувших судов водится особенно много рыбы, но они знают также, что здесь легче всего потерять свои сети. Захочется взять полные сети, подойдешь поближе — и останешься без рыбы и без сетей.
Диди поплыл к раковинам. В ста ярдах от винта он на песчаном дне увидел нечто вроде амфитеатра. В центре лежала маленькая чаша тончайшего японского фарфора. Он положил ее в мешок и поплыл дальше над россыпью снарядных осколков, говоривших о том, что когда-то на поверхности шли учебные стрельбы. Подобрал дешевое фаянсовое блюдо. За много лет море покрыло его тонким узором трещин, словно кто-то нанес специальный рисунок. Блюдо тоже очутилось в мешке.
Пора возвращаться, чтобы обойтись без длительной декомпрессии. Только Дюма двинулся к поверхности, вдруг глаза его остановились на пересекающей дно, прямой, как стрела, дороге. Он задержался, чтобы получше рассмотреть ее. Дорога терялась вдали в обоих направлениях. Кто или что создало эту дорогу? Куда она ведет?
Диди вынырнул с добытой посудой. На следующий день мы решили вернуться, чтобы взглянуть поближе на таинственную дорогу, но буй уже исчез. Сколько мы ни искали «Феррандо», все было напрасно.
Японская чаша и блюдо стоят на видном месте в новом доме Диди в Санари. И если гость спрашивает, откуда эта находка, тотчас следует встречный вопрос: не известно ли ему что-нибудь о древнеримских дорогах на дне моря?

Глава четвертая
Подводные изыскания

Когда кончилась оккупация, меня назначили в Марсель заведовать сборным пунктом для возвращающихся моряков. Как-то ночью я стал раздумывать о своем прошлом и будущем. Конечно, моя работа нужна, но ведь ее может выполнять любой другой офицер, а подводные эксперименты, которые мы начали по своему почину, не могут не представлять интереса для военно-морского флота. Подводным пловцам по плечу самая разнообразная работа, в том числе связанная с обследованием и ремонтом поврежденных и торпедированных судов.
Чтобы убедить министерство, что я под водой принесу больше пользы, я отправился в Париж и показал адмиралу Андре Лемонье и его штабу фильм о работе на затонувших судах с участием Дюма и Тайе. На следующий день я уже ехал в Тулон с поручением возобновить подводные опыты.
Тайе был рад оставить свою временную работу лесника. Мы привлекли Дюма как вольнонаемного специалиста и заняли письменный стол в канцелярии начальника порта, поставив дощечку с надписью Groupe de Recherches Sous-Marines (Группа подводных изысканий). Начальником группы был старший по чину Филипп. Все наше снаряжение составляли два акваланга. Конечно, это не мешало нам при каждой возможности рекламировать самих себя в качестве мощного отдела Марин Насьональ.
К нам направили трех младших офицеров: Мориса Фарга, Жана Пинара и Ги Морандье. Дюма быстро научил их работать с аквалангом и сделал их инструкторами подводного плавания. Мало-помалу мы обзаводились средствами, людьми, мотоциклами, грузовиками, а вскоре у нас появилось и свое суденышко, новенькая моторная лодка «Л’Эскилляд».
После «Л’Эскилляд» мы получили двухвинтовой катер ВП-8 длиной в семьдесят два фута, который Тайе переоборудовал в водолазную базу, установив специальные площадки, баллоны со сжатым воздухом и рекомпрессионную камеру. В это же время мы изготовили акваланги для британского военно-морского флота. Сэр Роберт Дэвис, глава крупнейшей в мире фирмы водолазного снаряжения, купил право производить акваланги в Великобритании.
Нашим наиболее крупным приобретением был «Альбатрос», настоящая плавучая водолазная база, переданная нам военно-морским министерством. «Альбатросу» было всего два года, однако он успел многое пережить. Он еще не сошел со стапелей, не был даже покрашен, когда его захватили на немецкой верфи русские. Они передали судно англичанам, и оно бросило якорь на Темзе. Затем «Альбатрос» очутился во Франции. Некрашеный, сменивший несколько владельцев, он попал к нам довольно запущенным. В Группе подводных изысканий «Альбатрос» обрел наконец счастливую гавань. С огромным увлечением, забыв обо всем другом, мы принялись оборудовать наше новое судно. Окрестили его «Инженер Эли Монье» — по имени моего знакомого, морского инженера, который погиб, ныряя, из-за несчастного случая.
На «Дальтоне» мы освоились с большой глубиной, благодаря «Эли Монье» приобщились к океанографии. На нем мы побывали у берегов Корсики, Сардинии, Туниса, Марокко и на просторах Атлантики. С нами ходили научные работники; они расширили наши познания о море и сами увлеклись аквалангом, который позволял им своими глазами наблюдать подводную жизнь.
Штаб утвердил планы работ подводных пловцов; мы ныряли под контролем видных специалистов, в том числе военных врачей Ф. Девилля и Дюфо-Казенаба. Жан Алина заведовал нашим «домом игрушки», где он изобретал и изготовлял новые маски, скафандры, оружие и светильники. Там мы сконструировали и подводные сани, которые позволяли буксировать пловца со скоростью шести узлов; с ними было гораздо легче заниматься поиском.
Мы придумали удобное приспособление: на поясе укреплялся буек с тросиком и грузом. Если подводный пловец, идя на санях, замечал что-нибудь интересное, он выбрасывал буй и шел дальше. Другой аквалангист мог спуститься по тросику вниз и обследовать замеченный предмет.
Наша группа установила связь с океанографическими и водолазными учреждениями в Великобритании, Германии, Швеции, Италии.
В войну британский флот исследовал восприимчивость организма ныряльщика к подводным взрывам. Профессор Дж. Б. С. Хэлдейн, руководитель многих опытов, писал:
«Нужно быть по-настоящему отважным человеком, чтобы искать магнитные мины в мутной воде, особенно если на ваших глазах подрывались ваши товарищи. Нужна сверхчеловеческая смелость, когда знаешь, что если ты, услышав шипение мины, поспешишь наверх, то в лучшем случае будешь парализован на всю жизнь, в худшем разорван в клочья».
Нас втравил в это малоприятное дело Дюма — неисправимый любитель острых ощущений под водой.
Приехав на воскресенье в Санари, он решил наглушить рыбы и швырнул в воду итальянскую ручнуюгранату. Через две-три секунды на поверхность всплыло несколько оглушенных рыбешек. Тайе нырнул и собрал на дне вдесятеро больше: яркое доказательство того, что глушить рыбу — крайне расточительный способ лова, если вы не можете нырнуть и собрать весь улов.
Дюма бросил вторую гранату. Она не взорвалась. Выждав несколько минут, он нырнул проверить, в чем дело. Граната лежала на глубине пятнадцати футов, от нее поднималась цепочка пузырьков, однако Диди не понял, что это означает. Граната взорвалась как раз под ним — самый худший вариант, потому что взрывная волна идет туда, где плотность воды меньше.
Осколки ему не грозили, из-за сопротивления воды они теряют ударную силу уже через несколько футов. Зато взрывная волна может оказаться смертельной для человека. Тайе увидел, как Дюма выбрался на мелкое место, встал и, шатаясь, побрел к берегу. Его основательно тряхнуло, но повреждений не было.
Удар взрывной волны разрушает мозговую ткань. Мы познакомились с работами англичан; получалось, что Дюма должен был погибнуть. Видимо, сопротивляемость ныряльщика взрывной волне намного выше, чем предполагалось…
И вот Дюма и Тайе решили как следует проверить эту гипотезу. У Хэлдейна сказано: «Чтобы выяснить, насколько велика опасность, полезно провести опыты над животными, но эти опыты не скажут нам точно, что может вынести человек. Здесь требуются люди смелые и увлеченные своим делом, готовые пожертвовать собой».
Мы по двое погружались в воду, и с каждым разом все ближе к нам взрывали фунтовый заряд тола. Опыт прекращали тогда, когда ощущения от взрыва делались очень уж неприятными. Главная опасность состояла в том, что мы могли, ничего не почувствовав, получить внутренние повреждения. Тем не менее программа была благополучно завершена.
Взрыв динамита под водой больно отдается в ушах; все тело ощущает резкий толчок. Фунтовый заряд немецкого толита действовал иначе: словно в грудь ударял мешок с песком, и удар отдавался во всем организме. Поразительно, до чего близко мы могли подходить к заряду без вреда для здоровья.
Взрывчатка одного вида, который я не могу здесь называть, заставила Тайе и Дюма пережить настолько неприятные секунды, что мы решили найти какое-нибудь занятие получше. И без того опыты уже дали любопытный материал. Наш первый вывод: у ныряльщика без скафандра сопротивляемость взрыву выше, чем у водолаза. Этот кажущийся парадокс объясняется тем, что взрывная волна распространяется в ткани человеческого тела примерно с той же скоростью, что в воде (лишнее доказательство физического сродства между нашей тканью и морской водой). Ахиллесовой пятой водолаза оказался… шлем: он предохраняет голову от ударов извне, но взрывная волна сквозь мягкий костюм проникает в тело и передается по нему вверх, а внутри шлема нет контрдавления, которое могло бы ее нейтрализовать.
Неприятно идти на войну, когда для всех остальных война кончилась. Но таков удел подрывников и матросов, которые на минных тральщиках ищут коварные предметы, расставленные в воде воюющими сторонами. Искать мины не было обязанностью Группы подводных изысканий, но штабы умеют убеждать подчиненные им подразделения, когда ставят новые задачи…
Немецкие мины сильно мешали поднимать затонувшие суда и ремонтировать доки в Тулоне. У Поркерольских островов попадающиеся в самых неожиданных местах контактные мины серьезно угрожали судоходству. Как обычно, мы сначала расспросили местных рыбаков. Они показали нам свою карту; на ней был нанесен узкий коридор, по которому они выходили в море. Мы вышли на «Л’Эскилляд» и, радуясь хорошему началу, полным ходом двинулись по безопасному коридору. Смеркалось; вдруг я увидел рожки мины в нескольких дюймах от нашего борта. Я сбавил ход и выставил наблюдателей. Впередсмотрящий то и дело кричал: «Мина!» Можно подумать, что большинство мин собралось именно в «безопасном» проходе.
Особенно внушительно выглядели мины под водой. Море всегда приспосабливает для своих нужд изделия человеческих рук, так и тут — всю поверхность мин покрывали морские желуди и водоросли. Сверху, словно колючки чудовищных морских ежей, торчат усики спускового механизма; якорный тросик усеян ракушками. На первый взгляд казалось, что мины утратили свои разрушительные свойства. Однако, несмотря на видимые изменения, это были настоящие грозные мины. Мы не подрывали их сами, наше дело было подсоединить к ним провода, которые тянулись до прикомандированного к нам судна, стоявшего в двухстах ярдах.
Вскоре штаб поручил нам новую опасную операцию. В тулонской гавани, как раз в главном фарватере, плавал на воде красный буй, каким обозначают предполагаемое место гибели судна. Здесь было мелко, и затонувший корабль мешал судоходству. Подрывная команда получила приказ убрать все препятствия, но осторожный офицер разглядел сверху какие-то странные предметы и решил задержать подрывников, пока мы не осмотрим грунт. Дюма, Тайе и я спустились и нашли большую баржу, доверху нагруженную металлическими цилиндрами. Цилиндры обросли тиной, которую с аппетитом пощипывали рыбы. Мы осмотрели груз со всех сторон, в нескольких местах соскребли тину — под ней был алюминий. Только я принялся фотографировать баржу, вдруг Дюма схватил меня за руку и быстро потащил к поверхности.
— Я узнал их! — сказал он нам. — Это особые немецкие мины — магнитно-акустические, кроме того, они срабатывают от вибрации в толще воды.
Наш эксперт по взрывчатке подтвердил, что эти мины, сконструированные в самом конце войны, одно из наиболее изощренных изобретений нацистов. По его расчетам, в барже лежало около двадцати тонн сильнейшей взрывчатки — достаточно, чтобы разрушить доки и оставить большинство деревьев в Тулоне без листвы, а дома без стекол, неоновых реклам, труб и черепицы.
Подрывники, изучив наши снимки, заявили, что при попытке удалить хотя бы одну мину или оттащить баржу может взорваться весь груз. Остается только оградить большую часть фарватера вехами и ждать, когда морская вода разрушит механизм мин. Уходя с совещания, мы вспоминали пасущихся на барже рыб и как мы сами соскребали тину с алюминия…
В другой раз меня вызвал капитан Бурраг, который по заданию министерства реконструкции занимался разминированием.
— У меня есть для вас несколько плохоньких мин, — весело заявил он. — В водах вокруг Сета в Лионском заливе немцы, за неимением лучшего, набросали прямо на дно обыкновенную взрывчатку и установили на высоких подставках взрыватели.
Он изобразил на бумаге, как подставки соединены между собой проводами, чтобы мины взрывали одна другую. Обедневшие создатели этого заграждения поставили также маленькие буйки на тросиках. Зацепишь винтом такой тросик, и мина взрывается.
Минные тральщики прочесали этот район три года назад; но недавно подорвалась одна из барж сетского муниципалитета, и подозрение пало на злополучные немецкие мины.
Мы пришли в Сет для рекогносцировки. Коварные сувениры были рассыпаны по неровному каменистому дну на глубине от шести до сорока футов; вода холодная и беспокойная. Взрывчатку засосало в ил между камнями; кое-где только взрыватели торчали. За шесть лет провода порвались во многих местах. Мины тянулись вдоль побережья на несколько миль; преобладающая глубина — двадцать пять футов; видимость очень плохая. Я рассчитал, что, если мы будем искать по старинке, пройдет не один год, прежде чем мы сможем уверенно сказать, что определили положение всех мин на минном поле площадью в семь с половиной акров. Мне вовсе не улыбалось потратить несколько лет подводной жизни на поиски примитивных мин в холодной мутной воде. Надо было изобретать что-то новое. Я предложил капитану Буррагу переоснастить ВП-8.
Граждане Сета дивились, глядя на наше судно. Появились новая мачта и две пятидесятифутовые стрелы, поддерживаемые вантовыми тросами. Все это было украшено разноцветными вымпелами. Пять фалов с яркими тряпочками через каждый ярд через блоки на стрелах спускались в воду. Расстояние между фалами — двадцать два фута; средний фал уходил за борт с кормы. За концы стрел были зачалены две лодки. В каждой из них сидело по матросу; у одного был запас белых буйков, другой держал багор.
Фалы оканчивались сорокафунтовыми свинцовыми грузилами, за которые держались подводные пловцы.
И вот мы принялись медленно крейсировать вдоль побережья. Ветер трепал флажки, офицеры на мостике давали команду потравить или выбрать фал. Матрос в лодке с левого борта оставлял за собой шеренгу белых буйков, затем судно круто поворачивало и шло параллельным курсом, а матрос в лодке с правого борта вылавливал буйки багром. Два месяца длилась наша операция.
Мы обезвредили четырнадцать мин и могли поклясться, что не пропустили ни одной. Пловцы-наблюдатели были распределены по фронту так, что внимательно осматривали каждый фут. Увидев мину, они выпускали наверх желтый буй. Флажки на фалах точно отмечали глубину, и офицеры на мостике, следя по гидрографической карте, давали команду приподнять или опустить наблюдателя, так что он всегда плыл в трех футах над дном. Курс меняли каждые полчаса, и пловцы чередовались в конце галса.
Мы очень гордились своим карнавальным судном. Из двадцати наблюдателей только двое ныряли прежде. Боясь, как бы новички не запутались в коварной сети минного заграждения, мы внимательно следили за ними. Все они быстро стали настоящими человекорыбами.
Когда пришла пора подрывать наши находки, новые аквалангисты получили самостоятельную задачу: подготовить к взрыву отмеченные буями мины. Они восприняли это задание как праздник…
Одной из второстепенных задач Группы подводных изысканий была в то время подводная фотография. Нас попросили заснять, как действуют «антиасдиковые пилюли»; в итоге появился на свет первый фильм о подводной лодке в ее стихии.
Асдик — это подводный эквивалент радара, ультразвуковой прибор, которым союзники выслеживали подводные лодки. В ответ нацисты придумали «антиасдиковую пилюлю». С преследуемой лодки выбрасывали маленькую коробочку, сбалансированную так, что она повисала в воде. Коробочка непрерывно выделяла пузырьки воздуха, имитируя шум работающего мотора; уловив его, преследователи обрушивали на ложную мишень град глубинных бомб. Достаточно было одной подводной лодке набросать побольше таких коробочек, и противнику казалось, что в пучине притаилась грозная эскадра.
Филипп Тайе нырнул с кинокамерой и занял позицию как раз на пути лодки. Она шла неглубоко, разбрасывая «пилюли». Тайе увидел, как из мглы возник установленный на носу лодки сетерез. Он проследовал мимо, за ним скользнул и исчез в толще воды корпус; два мерно вращающихся винта напомнили Филиппу игрушечные пропеллеры. «Пилюли» действовали в точности как предполагалось; но Филиппа гораздо больше поразила подводная лодка — никакого сравнения с инсценированными кадрами из военных кинофильмов! Мы решили заснять, как лодка совершает под водой разные маневры. Нам предложили снимать «Рубин», предназначенный для постановки мин.
В день съемок вода была исключительно прозрачной, видимость — девяносто футов. Командир лодки, лейтенант Жан Рикуль, продемонстрировал нам погружение. Плавая вокруг лежащего на глубине ста двадцати футов «Рубина», мы осматривали ослепший перископ, безжизненный компас, нелепо торчащий пулемет, антенну радара, который в воде был бесполезен; тут же сновали любопытные рыбки. Неподвижно стоял развернутый непромокаемый флаг; красное и синее поля приобрели одинаковый зеленоватый оттенок. А внутри этого бронированного воздушного пузыря, вмещающего, помимо всяческого оборудования, сорок человек экипажа, кипела жизнь. Мы слышали нестройный гул разговора, шаги, стук работающего насоса, звон упавшего гаечного ключа и чуть ли не брань матроса, уронившего этот ключ. Но вот тяжелый корпус оторвался от грунта, завертелись винты, приминая водоросли и взмучивая ил. «Рубин» пошел вверх. Первым прорезал поверхность воды нос. Флаг исчез; за ним скрылась боевая рубка. Вихрь сверкающей пены очертил контуры корпуса. Загадочное инородное тело превратилось на наших глазах в обыкновенный киль.
Рикуль погрузился снова; теперь предстояло заснять выстрел из торпедного аппарата на глубине шестидесяти футов. Дюма уселся на корпусе подлодки с молотком в руках, а я отмерил расстояние для съемки. Отплыв на тридцать футов, я навел видоискатель на торпедный аппарат, отошел футов на шесть в сторону от вероятной траектории торпеды и помахал рукой Диди. Он ударил молотком по корпусу, люк торпедного аппарата раскрылся, и прямо на меня ринулась стальная сигара. Нужно было удерживать ее в поле зрения, пока она проходила у меня перед носом. Пришлось-таки потрудиться, поворачивая камеру в воде. Торпеда промчалась со скоростью гоночного автомобиля. Я продолжал снимать ее, пока она не растаяла вдали, оставив белый след в голубой толще.
 Потом мы засняли спасательную операцию. Рикуль взял на борт Диди и Ги Морандье — они должны были играть роль спасающихся — и лег на грунт на глубине ста двадцати футов. Диди и Ги вошли в спасательную камеру — стальную бутылку диаметром в два фута и высотой в семь. Проверили клапаны, выпускающие наружу воздух, затем в «бутылку» стала поступать холодная морская вода. Давление возрастало, пока не сравнялось с наружным, которое раз в пять превосходило давление внутри лодки. Нешуточное испытание для барабанных перепонок и нервов двух подводных пловцов, ожидавших, когда откроется автоматический люк.
Наконец он вздрогнул и раскрылся, словно створки раковины. Вверх устремился большой воздушный пузырь, и следом за ним выскочили на волю «спасающиеся».
Дальше предстояло снять, как подводная лодка ставит мины. Мы обозначили буйками коридор в сто пятьдесят футов шириной, посредине которого на глубине перископа должен был идти «Рубин», выбрасывая серию из четырех контактных мин; до дна здесь было пятьдесят футов. Мины были старого образца — шаровидные, с рожками, заключенные в тяжелые металлические футляры. Внутри футляра помещалась соляная таблетка; она растворялась за двадцать — тридцать минут, после чего футляр открывался и выпускал мину. Поднявшись на тросике, мина останавливалась у самой поверхности и замирала в ожидании своей жертвы.
Проблема заключалась в том, чтобы «Рубин» выбросил мины точно в поле зрения моей камеры. Ведь только так я смогу заснять, как ведет себя мина под водой. Мы устроили совет. Дюма предложил:
— У меня есть план. Полная гарантия, мины будут падать перед самым объективом. Я спущусь на лодке вниз и дам сигнал, когда бросать.
Мы с Рикулем переглянулись. Диди продолжал:
— Поняли? Я спущусь на лодке, снаружи.
Рикуль дипломатично помалкивал, недоверчиво улыбаясь.
— Пусть попробует? — спросил я.
И вот Дюма оседлал нос «Рубина»; в одной руке молоток, другая держится за сетерез. Рикуль прильнул к перископу. Ему хотелось проследить, что будет с этим безумцем в бурном водовороте, который возникает при погружении. Сперва он увидел, как водяной вихрь обрушился на ноги Диди, силясь сорвать с него ласты. Затем «всадник» весь исчез под водой, однако он крепко держался на месте, выпуская к боевой рубке цепочку пузырьков. Рикуль поражался: как может Дюма противостоять такому мощному напору! Но факт был налицо. Уйдя на глубину перископа, «Рубин» двинулся вдоль коридора.
Стоя на своем посту в холодной воде на дне моря, в центре размеченного нами коридора, я чувствовал себя заброшенным и одиноким. У меня не было компаса, а под водой чувство направления пропадает, поэтому я вертелся, как флюгер, высматривая «Рубин». Задолго до того, как лодка появилась в поле моего зрения, я услышал шум моторов. Словно со всех сторон доносился гул подводного завода. Чем сильнее звук, тем больше я волновался.
Дюма первый меня заметил; за девяносто футов он увидел мои пузырьки. Тут и я его обнаружил: на громадном носу подводного судна, словно талисман, сидела маленькая потешная фигурка. Он стукнул молотком по корпусу, подавая сигнал, и все мои тревоги рассеялись. Казалось, мимо меня промчался кит! Мелькнули его бока, и первый футляр упал со стуком в десяти футах от моего поста, подняв облачко ила.
Через каждые двадцать секунд от «Рубина» отделялись новые мины. Плывя вдогонку, я успел заснять три футляра и остановился перевести дух, когда четвертый футляр лег на дно уже за пределами видимости. Облачка ила медленно росли, потом развеялись, и я увидел большие металлические ящики, внутри которых, посасывая свои соляные таблетки, затаились рогатые мины. Я снял их под разными углами и вернулся на поверхность. На смену мне спустился Тайе; он должен был, выбрав какую-нибудь мину, запечатлеть ее движение после того, как раскроется футляр.
Прождав пять минут, Тайе услышал глухой скрежет. Он приготовился нажать спуск, но футляр был недвижим. Зато одна за другой всплывали остальные мины. Тайе не сводил глаз со своей избранницы. Прошло тридцать пять минут. Совершенно окоченев, он вынырнул, чтобы передать камеру другому. Фарг схватил ее и поспешил вниз, но тут же вернулся.
— Этот чертов шар всплыл раньше, чем я подоспел, — сообщил он. — Должно быть, нарочно выжидал, когда никого не будет.
Мы попросили Рикуля сделать новый заход и сбросать еще четыре мины. Я объяснил ему, что мы удачно сняли, как ставятся мины, Фредерику Дюма больше не надо быть всадником. Командир «Рубина» улыбнулся и повторил маневр. На этот раз с камерой дежурил Дюма, освобожденный от роли рыбы-лоцмана при железной акуле.
— Смотри не ошибись, когда будешь выбирать! — напутствовали мы его.
Дюма успокоительно помахал нам рукой, над водой мелькнули его ласты, и он ушел вниз. Время шло, а Диди не возвращался. Мы понимающе переглянулись: мины опять решили надуть нас. Ну что ж, наладим постоянную смену на месте под водой, чтобы ни на минуту не выпускать футляр из поля зрения. Нырнул первый сменщик; Дюма вернулся и доложил, что остальные три мины всплыли, а его коварная избранница затаилась в своей коробке. Второй раз нам из четырех мин попалась самая ехидная!
Подводные пловцы сменялись каждые десять минут. Возьмем упрямицу измором, пусть убедится, что сопротивление бесполезно. Наконец футляр что-то проворчал, и рогатый мяч поплыл кверху. Мы прождали его целый час. На экране весь маневр длился девяносто секунд.
Потом мы засняли спасательную операцию. Рикуль взял на борт Диди и Ги Морандье — они должны были играть роль спасающихся — и лег на грунт на глубине ста двадцати футов. Диди и Ги вошли в спасательную камеру — стальную бутылку диаметром в два фута и высотой в семь. Проверили клапаны, выпускающие наружу воздух, затем в «бутылку» стала поступать холодная морская вода. Давление возрастало, пока не сравнялось с наружным, которое раз в пять превосходило давление внутри лодки. Нешуточное испытание для барабанных перепонок и нервов двух подводных пловцов, ожидавших, когда откроется автоматический люк.
Наконец он вздрогнул и раскрылся, словно створки раковины. Вверх устремился большой воздушный пузырь, и следом за ним выскочили на волю «спасающиеся».
Дальше предстояло снять, как подводная лодка ставит мины. Мы обозначили буйками коридор в сто пятьдесят футов шириной, посредине которого на глубине перископа должен был идти «Рубин», выбрасывая серию из четырех контактных мин; до дна здесь было пятьдесят футов. Мины были старого образца — шаровидные, с рожками, заключенные в тяжелые металлические футляры. Внутри футляра помещалась соляная таблетка; она растворялась за двадцать — тридцать минут, после чего футляр открывался и выпускал мину. Поднявшись на тросике, мина останавливалась у самой поверхности и замирала в ожидании своей жертвы.
Проблема заключалась в том, чтобы «Рубин» выбросил мины точно в поле зрения моей камеры. Ведь только так я смогу заснять, как ведет себя мина под водой. Мы устроили совет. Дюма предложил:
— У меня есть план. Полная гарантия, мины будут падать перед самым объективом. Я спущусь на лодке вниз и дам сигнал, когда бросать.
Мы с Рикулем переглянулись. Диди продолжал:
— Поняли? Я спущусь на лодке, снаружи.
Рикуль дипломатично помалкивал, недоверчиво улыбаясь.
— Пусть попробует? — спросил я.
И вот Дюма оседлал нос «Рубина»; в одной руке молоток, другая держится за сетерез. Рикуль прильнул к перископу. Ему хотелось проследить, что будет с этим безумцем в бурном водовороте, который возникает при погружении. Сперва он увидел, как водяной вихрь обрушился на ноги Диди, силясь сорвать с него ласты. Затем «всадник» весь исчез под водой, однако он крепко держался на месте, выпуская к боевой рубке цепочку пузырьков. Рикуль поражался: как может Дюма противостоять такому мощному напору! Но факт был налицо. Уйдя на глубину перископа, «Рубин» двинулся вдоль коридора.
Стоя на своем посту в холодной воде на дне моря, в центре размеченного нами коридора, я чувствовал себя заброшенным и одиноким. У меня не было компаса, а под водой чувство направления пропадает, поэтому я вертелся, как флюгер, высматривая «Рубин». Задолго до того, как лодка появилась в поле моего зрения, я услышал шум моторов. Словно со всех сторон доносился гул подводного завода. Чем сильнее звук, тем больше я волновался.
Дюма первый меня заметил; за девяносто футов он увидел мои пузырьки. Тут и я его обнаружил: на громадном носу подводного судна, словно талисман, сидела маленькая потешная фигурка. Он стукнул молотком по корпусу, подавая сигнал, и все мои тревоги рассеялись. Казалось, мимо меня промчался кит! Мелькнули его бока, и первый футляр упал со стуком в десяти футах от моего поста, подняв облачко ила.
Через каждые двадцать секунд от «Рубина» отделялись новые мины. Плывя вдогонку, я успел заснять три футляра и остановился перевести дух, когда четвертый футляр лег на дно уже за пределами видимости. Облачка ила медленно росли, потом развеялись, и я увидел большие металлические ящики, внутри которых, посасывая свои соляные таблетки, затаились рогатые мины. Я снял их под разными углами и вернулся на поверхность. На смену мне спустился Тайе; он должен был, выбрав какую-нибудь мину, запечатлеть ее движение после того, как раскроется футляр.
Прождав пять минут, Тайе услышал глухой скрежет. Он приготовился нажать спуск, но футляр был недвижим. Зато одна за другой всплывали остальные мины. Тайе не сводил глаз со своей избранницы. Прошло тридцать пять минут. Совершенно окоченев, он вынырнул, чтобы передать камеру другому. Фарг схватил ее и поспешил вниз, но тут же вернулся.
— Этот чертов шар всплыл раньше, чем я подоспел, — сообщил он. — Должно быть, нарочно выжидал, когда никого не будет.
Мы попросили Рикуля сделать новый заход и сбросать еще четыре мины. Я объяснил ему, что мы удачно сняли, как ставятся мины, Фредерику Дюма больше не надо быть всадником. Командир «Рубина» улыбнулся и повторил маневр. На этот раз с камерой дежурил Дюма, освобожденный от роли рыбы-лоцмана при железной акуле.
— Смотри не ошибись, когда будешь выбирать! — напутствовали мы его.
Дюма успокоительно помахал нам рукой, над водой мелькнули его ласты, и он ушел вниз. Время шло, а Диди не возвращался. Мы понимающе переглянулись: мины опять решили надуть нас. Ну что ж, наладим постоянную смену на месте под водой, чтобы ни на минуту не выпускать футляр из поля зрения. Нырнул первый сменщик; Дюма вернулся и доложил, что остальные три мины всплыли, а его коварная избранница затаилась в своей коробке. Второй раз нам из четырех мин попалась самая ехидная!
Подводные пловцы сменялись каждые десять минут. Возьмем упрямицу измором, пусть убедится, что сопротивление бесполезно. Наконец футляр что-то проворчал, и рогатый мяч поплыл кверху. Мы прождали его целый час. На экране весь маневр длился девяносто секунд.
Через пять лет у Группы подводных изысканий был уже свой небольшой штаб в трехэтажном здании на территории военно-морской верфи. Отсюда было видно стоянку обеих наших плавучих баз. В первом этаже размещались компрессорная, экспериментальные компрессионные камеры, фотолаборатория, механическая мастерская, трансформаторная установка, гараж и помещения для подопытных животных. На втором этаже находились чертежная, склад и жилые комнаты личного состава. На третьем — канцелярия, физическая, химическая и физиологическая лаборатории и конференц-зал, украшенный некоторыми из наших трофеев: судовые колокола и штурвалы, ионическая капитель и греческая амфора — все поднято со дна моря. Наконец, сквозь все три этажа проходила камера для подводных пловцов, в которой можно было создать давление, отвечающее глубине в восемьсот футов. Военно-морские силы других стран предоставляли своим аквалангистам куда больше места. У нашего здания было то преимущество, что в нем мы ощущали тесный контакт с плещущимся под самыми нашими окнами морем. Все, кто работал в этом доме, от чертежника до санитара, были одновременно подводными пловцами; мастерские и лаборатории могли в предельно короткий срок переделать сухопутную технику для работы в море. Если аквалангисты — будь то военные или гражданские — попадали в беду, их везли к нашим врачам. Пациентов, пораженных кессонной болезнью или параличом, мы направляли в физиологическую лабораторию, где их под наблюдением экспертов подвергали рекомпрессии в кессоне. Весь наш штат приходил посмотреть, как пациент, пройдя лечение, прыгал от радости. Санитары всякий раз любезно предлагали исцелившемуся его костыли, а он отвечал веселой бранью и обещанием забросить «эти палки» подальше в море. Среди заданий, выполненных Группой подводных изысканий, вспоминается одно, особенно неприятное: подъем со дна моря утонувших летчиков. В мглистый летний день на Средиземноморье экипаж двухмоторного военного самолета был сбит с толку миражем и машина на полной скорости врезалась в волны. Пилота (он был моим другом) выбросило; потом рыбаки подобрали его тело. Самолет пошел ко дну. Нас попросили отыскать тела второго пилота и штурмана. Могила была отмечена на поверхности радужными разводами сочившегося из бака бензина. Дюма сходил на разведку и на глубине ста двадцати футов на фоне ржаво-коричневого дна заметил светлый корпус самолета. Он стоял торчком; пропеллеры сорваны, капоты вспороты, в кокпите зияющее отверстие, пробитое телом выброшенного летчика. Вокруг машины сновали серебристые рыбки. Я заснял место происшествия со всех сторон и увидел второго пилота. Он сидел с широко раскрытыми глазами в бывшей кабине. Счет моих погружений достиг к тому времени тысячи, но я впервые видел утопленника. Жутко было глядеть на спокойное, мудрое выражение его лица. За спиной мертвеца вздулся купол парашюта. Футах в ста от самолета, на скудной донной поросли лежал навзничь штурман — одна нога подогнута, указательный палец направлен вверх. Его, очевидно, выбросило, когда самолет ударился о поверхность моря, причем одновременно раскрылся парашют. Дюма и Морандье подали со шлюпки канаты, и летчиков с развевающимися позади парашютами подняли наверх.
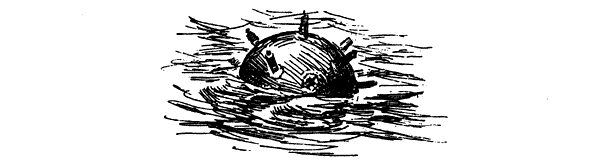
Глава пятая
С аквалангом под землей

Мы погружались в море в общей сложности пять тысяч раз, но больше всего мы переволновались не тогда, когда исследовали море, а когда изучали заполненную водой пещеру близ Авиньона. Речь идет о знаменитом Воклюзском источнике. Многие видели небольшой водоем во впадине известковой скалы, возвышающейся на пятьсот футов над рекой Сорг. Круглый год из впадины бежит маленький ручеек, и так до марта месяца, когда он превращается в бурный поток, вызывая паводок на реке. Пять недель продолжается усиленный приток воды, потом уровень водоема опускается. Это явление отмечалось ежегодно с незапамятных времен.
Начиная со средневековья Воклюзский источник вдохновляет поэтов. В четырнадцатом веке Петрарка писал здесь сонеты Лауре. Фредерик Мистраль, наш провансальский поэт, тоже был почитателем Воклюза.
Не одно поколение гидрологов ломало себе голову над этим интересным явлением природы; были выдвинуты десятки гипотез. Гидрологи замерили количество осадков на вышележащем плато, нанесли на карту все впадины, установили, что температура воды круглый год неизменна — тринадцать градусов. Но никто не знал, чем вызывается внезапный весенний разлив.
Часто природные фонтаны объясняются тем, что есть «подземный сифон»: вода поступает из бассейна, лежащего выше в горах. Но Воклюз нельзя объяснить только тем, что осадки переполняют верхний резервуар, так как прибыль воды в гроте не совпадает с дождями. Тут был либо огромный внутренний резервуар, либо несколько меньших пустот, соединенных «сифонами».
Многие научные гипотезы выглядели не более достоверными, чем поэтичное объяснение Мистраля: «Однажды фея фонтана приняла образ прекрасной девы. Она взяла за руку бродячего менестреля-старика и провела его сквозь воды Воклюза к подземному лугу, на котором было семь отверстий, закрытых семью огромными алмазами. „Видишь ли ты эти алмазы? — спросила фея. — Когда я поднимаю седьмой алмаз, источник поднимается до корней фигового дерева, пьющего воду один раз в году“».
Приходится признать, что Мистраль, во всяком случае, сообщает один подлинный факт, которого нет в гипотезах ученых: на отвесной стене над источником, на отметке высшего годового уровня воды, приютилось рахитичное столетнее фиговое дерево. Его корни и впрямь только один раз в год смачиваются водой.
Отставной армейский офицер Брюне, поселившийся поблизости в деревушке Апт, стал поклонником Воклюзского источника, так же как Петрарка шесть веков тому назад. Брюне предложил Группе подводных изысканий прислать аквалангистов, чтобы они исследовали пещеры и раскрыли тайну. В 1946 году командование разрешило нам сделать попытку. Мы прибыли в Воклюз 24 августа, когда источник был спокоен.
Приезд военных моряков на грузовиках с водолазным снаряжением вызвал переполох в Воклюзе. Нас обступили ребятишки; каждому хотелось нести по деревянной лестнице к источнику баллоны со сжатым воздухом, акваланги и гидрокостюмы. Половина города во главе с мэром Гарсеном бросила свои дела и окружила нас.
Мы услышали рассказ, как в 1936 году в страшный грот проник сеньор Негри. О, этот сеньор Негри был такой отважный человек! В особенном скафандре с микрофоном внутри шлема он нырнул на глубину ста двадцати футов, до нижнего изгиба сифона, и передавал оттуда репортаж о своих потрясающих впечатлениях. Волнуясь, наши воклюзские друзья вспоминали драматическую минуту, когда голос из бездны возвестил, что сеньор Негри нашел цинковую лодку Оттонелли!
Нам уже приходилось слышать о наших предшественниках. Оттонелли проник в грот еще в 1878 году, располагая самым примитивным снаряжением, и мы восхищались его подвигом. Зато другая фигура несколько смущала нас: сеньор Негри, марсельский подрядчик по спасательным работам, упорно уклонялся от встречи с нами, когда мы хотели расспросить его о топографии пещеры. Конечно, мы прочли его письменный отчет, но частности надеялись выяснить в личной беседе.
Оба водолаза составили топографическое описание части пещеры. Оттонелли сообщал, что на глубине сорока шести футов достиг дна, после чего погрузился еще на столько же по наклонному тоннелю, который начинался под огромным треугольным камнем. Пока он находился внизу, его цинковая лодка перевернулась и тоже пошла ко дну. Негри утверждал, что достиг глубины ста двадцати футов и обнаружил изгиб, откуда сифон поднимался вверх. Здесь, по его словам, лежала лодка Оттонелли. Не боящийся коррозии металл отлично сохранился. Негри сообщал, что не смог продвинуться дальше потому, что его воздушный шланг задевал за громадный камень, который качался на остром выступе, грозя запереть его и обречь на мучительную смерть.
Исходя из всех этих сведений, мы и разработали свои планы. Дюма и я, связанные друг с другом тридцатифутовым канатом — совсем как альпинисты, — составим первое звено. С поверхностью нас соединял другой, четырехсотфутовый канат; его длину мы рассчитали по данным в отчете Негри. Учитывая те же данные, мы привесили к поясу груз намного тяжелее обычного, чтобы проникнуть в описанный Негри тоннель и противостоять течению в сифоне.
Спускаясь в грот, мы не могли предусмотреть, что сеньор Негри был наделен чрезмерным воображением. Топография пещеры совсем не отвечала его описанию. Очевидно, драматический репортаж Негри был передан с глубины пятидесяти футов, как только водолаз оказался вне поля зрения наблюдателей. Мы с Дюма едва не поплатились жизнью, чтобы узнать, что никакой цинковой лодки Оттонелли, скорее, всего, не существовало. Правда, причиной наших заключений в недрах источника была не только дезинформация: нам подготовил неприятный сюрприз новый воздушный компрессор, которым заряжались наши баллоны.
Но начнем по порядку.
Итак, мы находимся у водоема. Мэр Гарсен одолжил нам свое канадское каноэ; мы спустили лодчонку на воду и привязали к ней нашу путеводную нить — канат с тяжелым грузилом, которое мы постарались спустить возможно глубже. В одном месте подводный ход был отчасти перекрыт выступом скалы; тем не менее нам удалось опустить чугунную чушку до глубины шестидесяти пяти футов. Старшина Жан Пинар вызвался нырнуть в легком скафандре, чтобы протолкнуть грузило еще дальше. Он вернулся посиневший от холода и доложил, что загнал чушку на глубину девяноста футов. Пинар не подозревал, что проник в грот намного глубже, чем Негри.
Поверх шерстяного трико я, на глазах у восхищенной публики, усеявшей скалы вокруг впадины, натянул на себя гидрокостюм собственной конструкции. Среди зрителей была и моя жена, которая явно неодобрительно относилась ко всей этой затее. Дюма избрал итальянское военно-морское снаряжение «Фрогмен». Мы нагрузились, как ишаки: у каждого по три баллона, ласты, длинный нож и два водонепроницаемых фонаря — один на поясе, другой в руке. На левом плече у меня висело три конца свернутого кольцом каната общей длиной в триста футов. Дюма прицепил к поясу маленький запасной акваланг, глубиномер и альпинистский ледоруб. Нас ожидали каменистые склоны, и с таким грузом ледоруб мог пригодиться.
Наверху командовал наш изобретательный заведующий материальной частью Морис Фарг, теперь уже лейтенант. Он должен был держать верхний конец каната с грузилом; только этот канат связывал нас с поверхностью. Мы разработали сигнальную азбуку. Дернем один раз — Фарг должен натянуть канат, чтобы не цеплялся за камни. Дернем три раза — потравить канат. Шесть раз — сигнал тревоги, быстро тянуть наверх.
Дойдя до «сифона Негри», мы оставим там чушку и нарастим канат из моих запасов. Затем, постепенно разматывая канат, пойдем вверх по сифону. Финиш — где-нибудь за качающимся камнем Негри, в конце расщелины, ведущей, очевидно, в другую пещеру, которая хранит разгадку ежегодных извержений Воклюзского источника.
Поддерживаемые с обеих сторон товарищами, мы вошли в водоем; сердце отчаянно колотилось. В последний раз поглядели вокруг. Мои глаза с облегчением остановились на могучей фигуре Фарга. Вдоль края впадины сгрудился народ; впереди стоял молодой аббат, явно ожидавший, что могут потребоваться и его услуги.
Вода сомкнулась у нас над головой и сразу облегчила груз. Мы остановились, чтобы проверить балласт и связь. У меня под эластичным шлемом был особый мундштук, позволяющий говорить под водой. У Дюма такого мундштука не было, он отвечал мне кивками и жестами.
Я повернулся вниз головой и нырнул в темное отверстие. Быстро прошел мимо каменных выступов, не боясь, что Дюма отстанет. Прекрасный пловец, он в любую секунду мог обогнать меня. Мы были разведчиками, за нами пойдут другие двойки. Мы решили, что не будем терять времени, изучая путь, а доберемся до чугунной чушки и отнесем ее к изгибу «сифона Негри»; потом совершим быструю вылазку в тайник. Вспоминаю, что подсознательно мне хотелось побыстрее завершить первую вылазку.
Я оглянулся назад и увидел Дюма: он плавно опускался вниз на фоне слабого зеленоватого сияния. Впрочем, теперь нам не было дела до неба. Мы очутились в ином мире, куда еще не проникал луч света. Тщетно силился я увидеть световую дорожку от моего фонаря: в воде подземного источника не было взвешенных частиц, которые могли бы отразить свет. Лишь иногда в темноте загорался светлый кружок — это луч упирался в скалу. Увлекаемый вглубь тяжелым грузом, я торопился вниз, не задумываясь о Дюма. Внезапно меня остановил рывок; сверху посыпались камни. Диди тяжелее меня, поэтому он попытался притормозить ногой. Он повредил гидрокостюм и сорвал небольшой обвал. С грохотом катились обломки известняка. Один из них ударил меня в плечо. Надо что-то придумать… Но мысли меня не слушались.
На глубине девяноста футов я на уступе увидел чушку. Казалось, это не предмет из другого мира, а часть того, что меня окружает. Я смутно помнил, что должен что-то сделать с этой чушкой. Столкнул ее вниз. Она покатилась вдогонку за камнями. В голове у меня был туман, и я не заметил, как исчез висевший на плече запасной канат. А я забыл дать Фаргу сигнал потравить канат с грузилом, вообще забыл о Фарге, забыл обо всем, что позади. Тоннель изгибался под острым углом. Моя правая рука непрерывно крутилась, рисуя лучом фонарика круги на гладкой стене. Я шел со скоростью двух узлов. Я был в парижском метро. Никто не попадался мне навстречу: ни одного окунька, совсем никаких рыб.
В это время года, после летнего сезона, наши уши обычно хорошо натренированы. Почему же такая боль в ушах? Что-то случилось. Луч не бежал больше вдоль стены тоннеля, теперь он уткнулся в ровный грунт. Это уже не скала, а земля, покрытая мелкими камешками. Ищу стены — их нет, я оказался на дне огромной пещеры, заполненной водой. Я нашел чугунную чушку, но нигде не было видно ни цинковой лодки, ни сифона, ни качающегося камня. Голова раскалывалась от боли. Мной овладела полная апатия.
Я вспомнил, что нужно изучить топографию этой гигантской подземной пустоты. Ни стен, ни потолка, только пол, уходящий вниз под углом в сорок пять градусов… Но чтобы вернуться, нужно сперва найти свод этого грота, ведущего в сокровенные глубины тайны, которая нас занимает.
Что-то знакомое: луч света выхватил из мрака извивающийся канат, на котором повисла бесформенная масса. Это был Дюма. Изогнувшись, словно какой-то невиданный червяк, он вяло взмахивал руками — пытался привязать к канату ледоруб. Я подплыл и посмотрел на его глубиномер. Сто пятьдесят футов. Под стеклом прибора поблескивала вода. Скорее всего, мы находимся еще глубже, не меньше двухсот футов по вертикали, в четырехстах футах от поверхности, на дне извилистого наклонного тоннеля.
Мы оказались жертвами какой-то необычной формы глубинного опьянения. Вместо игривого веселья на душе гнетущая тревога. Дюма явно чувствовал себя еще хуже, чем я. В моем мозгу вертелись несвязные мысли: «Странное самочувствие для этой глубины… Идти обратно нельзя, пока не установлю, где мы. Почему я не ощущаю никакого течения? Канат с чушкой — наша единственная путеводная нить. Вдруг мы ее потеряем? А где же канаты, которые были у меня на плече?» С трудом я сообразил, что где-то обронил их. Взял руку Дюма и вложил в нее сигнальный конец.
— Жди здесь! — крикнул я. — Пойду искать тоннель.
Диди подумал, что у меня кончился воздух и я прошу у него запасной акваланг. Я пытался нашарить фонарем потолок пещеры. Тщетно.
Из-за сильного опьянения Дюма решил, что мне грозит опасность, и стал поспешно отвязывать акваланг. Нервно размахивая руками, он поскользнулся на гравии и выпустил конец, связывавший нас с поверхностью. Канат исчез во тьме. Плавая вверху, я вслепую пытался нащупать стену или потолок; вдруг Дюма потянул меня назад, не давая искать.
Он был в полуобмороке. Едва я коснулся его, как Диди, охваченный безумным страхом за свою жизнь, со страшной силой ухватил меня за кисть и потянул к себе. Я вырвался, отступил назад и посветил на него фонариком. Сквозь стекло маски были видны судорожно вращающиеся выпученные глаза Дюма.
Мертвую тишину нарушало только мое прерывистое дыхание. Я сделал над собой усилие: думай, думай… Течения нет, Дюма не могло отнести в сторону от грузила. Наше счастье, не то мы оба пропали бы. Грузило должно быть где-то поблизости. Я настойчиво искал глазами ржавый слиток металла, который был для нас дороже золота. Вон он! Нет, она: тяжелая, твердая, спасительная чугунная чушка! А вот и канат, уходящий сквозь мрак туда, где теперь сосредоточились все наши надежды.
Отуманенный мозг Дюма перестал управлять челюстями, и мундштук выскочил у него изо рта. Диди глотнул воды и чуть было не захлебнулся, но каким-то чудом нащупал мундштук. Канат манил меня вверх. Но как я поплыву, волоча за собой Дюма? В наполненном водой гидрокостюме он весит не меньше двадцати пяти фунтов, а у меня совсем нет сил. И ведь не скажешь, чтобы нам пришлось особенно напрягаться. Однако Дюма беспомощен, а у меня в голове дурман. Да, странно действует на человека эта затопленная пещера…
Я решил лезть по канату и тащить за собой Диди. Перехватился руками раз, другой, третий — вдруг Фарг услужливо потравил канат: он понял рывки как сигнал! Вот незадача! Я делал нечеловеческие усилия, стараясь выиграть хоть один дюйм, а Фарг, чувствуя нетерпеливые рывки, продолжал травить канат. В конце концов я сообразил, что надо делать: тянуть канат, пока не кончится — уж конец-то Фарг не выпустит из рук! И я уныло принялся за работу.
Четыреста футов каната прошло через мои руки и легло кольцами на дне пещеры. Вдруг я почувствовал ладонью узел: Фарг нарастил канат, предполагая, что мы в эту секунду проходим последнюю подземную галерею Воклюза!..
Я отдернул руки от каната, словно это была змея. Остается только лезть по тоннелю, как альпинисты лезут. Фут за футом я карабкался вверх по выступам, останавливаясь каждый раз, когда начинал задыхаться и терять сознание от страшного напряжения. Чувствуя, что мои усилия приносят успех, я заставлял себя снова трогаться с места. Вот я привстал на цыпочках, стараясь получше ухватиться руками за очередной выступ, — вдруг пальцы сорвались, и бессильное тело Дюма потянуло меня вниз.
Потрясенный такой неудачей, я снова подумал о канате и только тут вспомнил: шесть рывков означают, что надо немедленно вытягивать нас наверх! Не сомневаясь, что смогу сосчитать до шести, я поймал канат и стал его дергать. Четыреста футов провисшего, петляющего на выступах каната! Фарг, неужели ты не чувствуешь, что здесь происходит? У меня больше нет сил. А тут еще Дюма…
Почему Дюма не может понять, какой обузой он стал для меня? Дюма, ты же все равно погибнешь. Если уже не погиб. Диди, у меня рука не поднимается, но ведь ты уже мертв, а не хочешь выпустить меня живым отсюда. Уйди с дороги, Диди. Я протянул руку за ножом: обрезать соединяющий нас канат.
Как ни затуманен был мой рассудок, что-то удержало меня, нож остался в ножнах. Диди, прежде чем обрезать канат, я еще раз попытаюсь связаться с Фаргом. Я взялся за канат и стал подавать сигналы бедствия, снова и снова. Диди, я делаю все, что может сделать человек. Я умираю вместе с тобой.
Фарг стоял на берегу водоема, совершенно сбитый с толку. Время, отведенное первой двойке на разведку, еще не вышло, но эти странные сигналы… Несколько минут назад мы вдруг затребовали огромное количество каната. Он послушно выполнил нашу просьбу и даже поспешил нарастить канат. «Не иначе они нашли там что-нибудь потрясающее», — подумал Фарг. Он уже предвкушал, как придет его черед нырять и ему откроются тайны глубин. Однако теперь канат безжизнен, его сильные, но чуткие руки не чувствуют никаких подергиваний. Фарг нахмурился и стал щупать канат, словно пульс.
И вот за четыреста футов до его пальцев дошли чуть заметные рывки, ослабленные трением о камень. Фарг замер и пробормотал не то себе, не то собравшимся у грота зрителям:
— Чем я рискую? В худшем случае обругают…
И он с каменным лицом принялся вытягивать чугунную чушку.
Я почувствовал, как натянулся канат, и ухватился за него, отпустив рукоятку ножа. Мы быстро поднимались; баллоны Дюма мелодично постукивали о скалу. В ста футах надо мной возник тускло светящийся зеленый треугольник — треугольник надежды! Меньше чем за минуту Фарг вытащил нас в верхний водоем и прыгнул в воду за бесчувственным Дюма. Тайе и Пинар подбежали ко мне. Напрягая последние силы, чтобы не утратить власть над собой и не упасть в обморок, я заставил себя выйти на берег. Дюма лежал ничком, его рвало. Друзья сняли с нас гидрокостюмы, и я стал греться у большого бензинового факела. Фарг и врач наклонились над Дюма. Пять минут спустя Диди был на ногах и стоял рядом со мной у огня. Я протянул ему бутылку с бренди. Он сделал добрый глоток и сказал:
— Я пойду еще раз.
Я спросил, где Симона.
Мне ответил мэр:
— Как только перестали подниматься пузырьки воздуха, ваша жена убежала вниз. Сказала, что ее нервы не выдерживают.
Бедная Симона прибежала в кафе в Воклюзе и попросила дать ей чего-нибудь покрепче. Какой-то уличный торговец промчался мимо окон, вопя, что один водолаз утонул. Симона крикнула ему вслед:
— Который? Какого цвета у него маска?
— Красного! — ответил тот.
Симона облегченно вздохнула: я нырял в синей маске. Однако тут же она подумала о Дюма, и вся радость прошла. В полном отчаянии Симона побрела вверх по лестнице к источнику. А там — о, чудо! — стоял Дюма, живой и невредимый.
К нему быстро вернулись силы и нормальный цвет лица, прояснился рассудок. Как и я, он ломал себе голову: чем объяснить наше странное состояние в гроте?
Во второй половине дня мы отправили следующую двойку — Тайе и Ги Морандье, правда уже не с такой нагрузкой. Они надели только шерстяное трико и взяли небольшой балласт, так что сохраняли положительную плавучесть. Было намечено, что они спустятся в пещеру, потом будут искать ход в тайник Воклюзского источника; найдя его, немедленно вернутся и набросают маршрут для третьей двойки, которая и завершит исследование.
Вахтенный журнал позволяет восстановить, что пережили капитан Тайе и Морандье. Им пришлось ничуть не легче, чем нам. И ведь после того, как грот едва не прикончил первую двойку, от них требовалось больше мужества, чем от нас, чтобы идти туда.
Войдя в воду, они немного подождали, чтобы обвыкнуть; Морандье сразу озяб. Потом они плечом к плечу, связанные веревкой, проникли в тоннель. Ныряя под очередной выступ и снова отыскивая потолок, они каждый раз мечтали, что теперь наконец-то пойдет ровный участок. Все дальше и дальше вниз… Наш единственный глубиномер вышел из строя, но опытный ныряльщик Тайе обладал исключительно развитым чувством глубины. Погрузившись на сто двадцать футов, они остановились, чтобы проверить свои ощущения. Тайе чувствовал первые признаки глубинного отравления. На глубине двадцати саженей этого не должно быть, однако все признаки налицо.
Филипп окликнул Морандье: надо возвращаться. Морандье подвинулся, освобождая место, чтобы Тайе мог развернуться. Услышав учащенное дыхание Филиппа, он повернулся к нему, чтобы тот видел, и дернул канат шесть раз. Они не могли переговариваться под водой, оставалось только положиться на неверный свет фонаря и собственную смекалку. Морандье спустился ниже Тайе, хотел подталкивать его к поверхности. Тайе решил, что с Морандье что-то случилось; глубинное опьянение, едва не погубившее первую двойку, действовало все сильнее.
Тайе осторожно двинулся вверх. Канат, провисая, обвился вокруг его плеч. Надо перерезать его, пока совсем не опутал! Филипп выхватил нож и ударил лезвием по канату. Морандье, плывший следом за Тайе, испугался: кажется, Филипп теряет рассудок… В полном смятении вторая двойка устремилась на свет зеленого треугольника.Морандье догнал Тайе, схватил его за ноги и, чуть не задохнувшись от напряжения, протолкнул сквозь узкий проход.
Мы увидели на поверхности Тайе в его белом костюме, затем появился и Морандье. Филипп встал и пошел к берегу — взбудораженный, глаза вытаращены. В правой руке он держал нож. Пальцы были порезаны, на мокрое шерстяное трико стекала струйка крови, но он ничего не чувствовал.
Мы решили тщательно изучить топографию первой части источника и на том ограничиться. Дюма не мог без ярости думать о коварном гроте, и чтобы он не вздумал добираться до пещеры, едва не ставшей нашей могилой, Фарг привязал к его поясу канат длиной в сто пятьдесят футов, а нож отобрал — еще перережет конец и пойдет дальше без страховки! Мы завершили наши изыскания без новых происшествий.
Кончился бурный день, и вечером обе двойки провели сравнительное изучение действия коньяка и глубинного опьянения. Странное ощущение, испытанное нами в Воклюзском источнике, не давало нам покоя. Все мы испытывали бурные приступы l’ivresse des grandes profondeurs в море, на глубине двухсот двадцати футов, но почему эта прозрачная, стерильная известковая вода дурманит совсем иначе?
Поздно вечером Симона, Диди и я поехали обратно в Тулон. Несмотря на усталость и головную боль, мы продолжали искать ответ.
Время от времени кто-нибудь нарушал молчание, высказывая очередную догадку. Диди задумчиво произнес:
— Несчастные случаи бывают у ныряльщиков не только из-за глубинного опьянения. Расстроенные нервы, вдыхаемый воздух…
Я подскочил:
— Воздух! Надо проверить в лаборатории воздух, оставшийся в аквалангах!
Утром мы взяли пробы воздуха из баллонов. Анализ показал присутствие одной двухтысячной доли окиси углерода. На глубине ста шестидесяти футов угарный газ действует в шесть раз сильнее. Мы запустили наш новый компрессор и увидели, что он засасывает выхлоп дизельного движка. Достаточно провести двадцать минут в таком воздухе, каким мы дышали в аквалангах, чтобы человек погиб.
Потом мы изучали гроты Шартре и Эстрамар. Но и там не удалось обнаружить подземного сифона или какого-нибудь другого механизма, подающего воду наверх. В 1948 году, когда большинство из нас уехало с экспедицией «Батискаф», троим членам Группы подводных изысканий — лейтенанту Жану Алина, доктору Ф. Девиллю и Жану Пинару — удалось наконец вместе с армейскими саперами разгадать одну такую загадку. Они исследовали подземный источник Витарель в районе Грама.
Зеркало источника находится на глубине трехсот девяноста футов, и саперам пришлось основательно поработать, чтобы проложить путь к нему. Сперва — 260-футовая шахта; солдаты спустили в нее понтоны, доски для мостков, акваланги, гидрокостюмы, канаты, осветительное оборудование и продукты. Дальше нужно было протащить снаряжение через тесную, почти вертикальную расщелину длиной в сто двадцать футов, которая заканчивалась большой пустотой. Затем пришлось настилать деревянные мостки и переносить все за тысячу шестьсот футов, форсируя частично затопленные галереи и опасный извилистый проход длиной в тридцать футов. Наконец они добрались до источника, который собирались изучать подводные пловцы. Саперы сколотили плотик с лесенками для спуска в воду, и аквалангисты приготовились к погружению.
По плану Алина, они должны были нырять по одному, каждый раз удлиняя канат. Вооруженные измерительной лентой, фонарями, компасами, глубиномерами и миллиметровкой, они продвигались в глубь подводного тоннеля, составляя карту. Никаких перебоев не было, на карту наносились все новые участки. Десятое погружение, совершенное Алина 29 октября 1948 года, оказалось решающим.
Предыдущий аквалангист добрался до входа в сифон. Алина нырнул с четырехсотфутовым канатом и, не задерживаясь, поплыл к границе последнего изученного участка. Дальше галерея поднималась вверх под углом в двадцать градусов. Алина проник в узкий тоннель. В полной темноте, светя фонариком, прошел сорок футов; чувствовалось течение. Вдруг его голова словно прорвала тонкую пленку, и давление воды исчезло. Сквозь стекло маски, которое теперь напоминало окропленное дождем ветровое стекло, Алина увидел, что его окружает подземная пустота с глинистым сводом и стенами. Он снял маску, вынул изо рта мундштук и вдохнул полной грудью. Всюду, где течет вода, даже в закрытых гротах, есть воздух.
Алина выбрался на длинный скользкий берег. Он был первым живым существом в этом подземном тайнике, куда ни разу не проникал солнечный луч. Алина прошел вдоль берега, измеряя и зарисовывая; сердце ликовало: в борьбе с подземными источниками мы победили.
В конце грота его подстерегало разочарование. Под водой, у самой поверхности, виднелось отверстие другого сифона. Витарельский источник раскрыл нам не все свои секреты… Алина сел и мысленно прикинул, какие усилия потребуются, чтобы преодолеть весь лабиринт. Чтобы устроить новый аванпост, откуда можно будет идти дальше, аквалангисты должны перенести снаряжение под водой на четыреста футов…
Он закончил свою зарисовку и, печатая ластами лягушачьи следы на подземном берегу, вошел в воду. Поплевал на стекло маски, сполоснул его, надел маску, вставил в рот мундштук, нырнул, оттолкнулся ногами и поплыл вниз по течению первого сифона. Несколько минут на поверхности озерка еще лопались пузырьки воздуха, потом в гроте снова воцарилось небытие. Мрак поглотил следы человека.

Глава шестая
Сокровища на дне моря

Однажды в портовом кабачке в Йере мы услышали историю, которая заставила нас навострить уши.
— Давным-давно, — рассказывал старый рыбак, — между Рибо и островами Поркероль столкнулись на глубоком месте два колесных парохода. Оба пошли ко дну. Один из них вез золото. Спросите старого водолаза, грека Мишеля Мавропойнтиса — он работал там. Один подрядчик пытался добраться до сокровища землечерпалкой. Потом правительство послало туда два военных корабля. Они хотели перевернуть затонувший пароход, да не поддался он, так и остался лежать килем кверху. Никто не может проникнуть внутрь. Ныряльщики боятся подходить к нему с тех пор, как один из них встретил в трубе огромного морского угря.
Знакомая песня! Судно, лежащее вверх дном (а в трубу попасть можно!), золото, охраняемое морским чудовищем… Но Мишель Мавропойнтис был нашим другом, и мы решили проверить рассказ рыбака. Вместе с Дюма я пришел в любимый кабачок Мишеля. Ветеран-водолаз очень нам обрадовался. Он знал, что более благодарных слушателей ему не найти; мы видели в старом Мишеле достойного представителя почетной профессии водолазов.
Мы предложили Мишелю рюмку пастиса, он поблагодарил, вылил ее в стакан воды и проглотил мутную смесь.
— Между этими двумя судами, о которых вы спрашиваете, нет никакой связи, — сказал он. — Одно из них, «Мишель Сеи», длина триста футов, затонуло пятьдесят лет тому назад. Второе называется «Виль де Гра», это колесный пароход, его разрезал пополам «Виль де Марсель» примерно в 1880 году. На борту «Де Гра» были итальянские эмигранты, пятьдесят три человека погибли. Эмигранты везли с собой тысячу семьсот пятьдесят золотых монет. Нос парохода лежит на глубине ста шестидесяти, корма — ста восьмидесяти футов.
Классический образец рассказа о подводном кладе: подробное описание катастрофы, точное указание — сколько было золота, как назывался пароход, когда погиб, какая глубина в этом месте. Малейшая неопределенность может поколебать веру в клад и отпугнуть лиц, готовых финансировать попытку добыть его. Наш друг составил еще один коктейль и продолжал:
— Я получил от властей разрешение поднять груз «Мишеля Сеи». По этому разрешению мне принадлежало все, что я найду в радиусе восьмисот футов. Одновременно я искал «Виль де Гра».
Это понятно: занимаясь для вида прозаической работой, он мог втайне искать золото.
— Целое лето проработал, а колесника так и не нашел. С «Мишеля Сеи» поднял хороший фарфор и хрусталь, несколько ящиков отличного пива, мешки с мукой…
— С мукой? — переспросил Дюма.
— Вот именно, — подтвердил Мавропойнтис. — В морской воде мешковина и верхний слой муки образовали корочку, а внутри все было сухо.
Он глотнул пастиса, явно наслаждаясь возможностью поразить зеленых новичков своими познаниями.
— В конце сезона мы однажды зазевались и не заметили, что катер сносит. Вдруг якорь за что-то зацепился. И что же вы думаете, дети, — это был «Виль де Гра», золотоносный корабль! Сами понимаете, я мигом пошел в воду. Добрался до судна и стал разрывать руками ил. Остальные водолазы тоже искали как одержимые. Смотрю — сундук.
Мишель снова взял стаканчик, делая эффектную паузу. Сейчас будет самое главное…
— На катере — страшное волнение, — заговорил он наконец. — Команда сгрудилась вокруг сундука, у каждого в руке нож. Наконец крышка поддалась, и мы увидели… всевозможные театральные побрякушки, украшения, мишуру. Стоило тронуть их, как они рассыпались в прах. Так что золото «Виль де Гра» и по сей день лежит на дне морском.
Мишель не назвал координаты погибшего парохода, а наши осторожные попытки выудить их из него ни к чему не привели. Видимо, в чреве затонувшего судна и впрямь сокрыто золото! Мы решили сами отыскать эмигрантское сокровище: будем нырять там, где затонул «Мишель Сеи».
Диди обнаружил «Сеи» со второго захода. Его зоркие глаза увидели темную глыбу, а когда он подошел ближе, она превратилась в силуэт старого, зазубренного железного корпуса. Память Мавропойнтиса преувеличила размеры «Мишеля Сеи»: скелет парохода достигал в длину не трехсот, а ста пятидесяти футов. Над махиной главного котла вырисовывался ажурный мостик; конец вала с обломанными лопастями винта напоминал мутовку. Дюма проник внутрь судна, начал поиск — и нашел мешок муки, оставленный Мишелем много лет тому назад!
У носа «Мишеля Сеи» кружило невиданное множество рыбы. Донные рыбы группировались по видам, словно море приготовило выставку для ихтиолога; среди них вихрем кружили пелагические жители моря. Диди взял с затонувшего корабля бронзовый судовой фонарь и бинокль.
Сколько мы ни рыскали вокруг «Мишеля Сеи», нигде не было видно никаких следов «Виль де Гра». Мы много раз возвращались на это место, и с годами «Мишель Сеи» буквально таял у нас на глазах. «Виль де Гра» оставался самым сомнительным сюжетом репертуара Мавропойнтиса, а сам хранитель морских преданий умер, так и не рассказав, где покоится эмигрантский корабль.
Но вот в 1949 году, когда мы проходили в этих местах на «Эли Монье», эхолот нащупал на дне, неподалеку от «Мишеля Сеи», какой-то бугор. Диди мигом надел на себя «сбрую» и стремительно нырнул, словно голодный дельфин.
Здесь было очень глубоко. Спустившись на мягкий песчаный грунт, Дюма впереди увидел что-то темное. Он подошел ближе, и его глазам открылось необычайное зрелище: на дне стояли торчком два громадных, покрытых курчавой зеленью гребных колеса. Между ними лежала паровая машина. Торчащие из песка голые ребра обозначали, где некогда был борт судна. От второго борта ничего не осталось, зато с этой стороны валялись сотни баночек из-под косметических изделий. Дюма нашел небольшую медную кастрюлю и несколько бутылок. Его глубиномер показывал пятьдесят пять метров. Старик Мавропойнтис сказал правду и глубину назвал верно. Но раскапывать эти развалины было бесполезно. Тут у Дюма стал протекать шланг вдоха, и он наглотался соленой воды со сжатым воздухом. Захватив одну баночку и бутылку, он пошел обратно. По пути к поверхности сжатый воздух у него в желудке стал расширяться. Диди вынырнул из царства золота с раздувшимся животом и три часа рыгал, как после роскошного обеда.
Огюст Марселлин, который с такой готовностью поддержал наши первые шаги, когда мы начинали изучать затонувшие суда, дал Дюма срочный подряд на розыски подводных кладов. Он получил от властей разрешение обследовать четыре торговых судна, которые затонули около города Пор-Вандр, недалеко от испанской границы: «Сомюр», «Сен Люсьен», «Л’Алис Робер» и «Л’Астре». Они были торпедированы в 1944 году французской подводной лодкой, когда возвращались из Испании. По имевшимся сведениям, они везли немцам вольфрам почти на миллион долларов.
— Я думаю закупить эти суда, — объяснил Марселлин, — но хотел бы точно знать, что там за груз. Возьмешься проверить, Диди?
Дюма был весьма польщен тем, что Огюст Марселлин отдает ему предпочтение перед своими испытанными водолазами, и тотчас собрался в путь, взяв акваланг.
В Пор-Вандре он обошел все кабачки, расспрашивая моряков, рыбаков, служащих и кабатчиков. На этот раз, в виде исключения, все рассказы о гибели названных судов удивительно совпадали. Подводная лодка, пользуясь данными разведывательной сети союзников в Испании, укрылась у самого входа в гавань под скалами Медвежьего мыса. Как раз над ней стояли немецкие береговые батареи, но лодка подошла так близко, что оказалась вне зоны обстрела. Командир действовал безошибочно. Заняв боевую позицию, он одно за другим потопил все четыре судна с вольфрамом, когда они появились в водах Пор-Вандра.
Местные водолазы обследовали «Л’Алис Робер» и нашли пустые трюмы. «Л’Астре» был торпедирован ночью; где именно — никто не знал. Зато не было, казалось, в Пор-Вандре человека, который не видел бы, как пошел ко дну пораженный двумя торпедами «Сомюр».
Дюма нанял старого портовика, папашу Анри, подвезти его к месту гибели «Сомюра». Приведя туда свою лодку, папаша Анри бросил якорь, и Диди спустился по якорной цепи в пучину.
Вот как он сам описывает свою разведку:
«Сначала я заметил мачту. Ее усеяли тысячи мидий. На самой макушке повисли два здоровенных омара. Впервые в жизни я видел омаров на мачте. Спустился ниже — лебедка и целый лес омаровых усов. Через открытый люк я пробрался на первую грузовую палубу. Под люком лежала груда пустых раковин; на вольфрам что-то не похоже. Дальше раковин нет, можно подумать, что рыбы поедали мидий на мачте и роняли раковины в трюм. Кругом россыпи мелких камней, смешанных с землей. Я никогда не видел вольфрама, но если это он, красивым его не назовешь. Положил в мешочек несколько горстей и вернулся на палубу. Всюду омары. Взялся за якорную цепь — омары полезли из клюзов. Я озяб и пошел к поверхности».
Диди передал свои трофеи местному химику.
— Это вольфрам? — удивился тот. — Ничего подобного. На мой взгляд, это низкосортная железная руда.
На следующий день Диди снова посетил лежащий на глубине ста пятидесяти футов «Сомюр» и осмотрел остальные трюмы. Они были наполнены тем же веществом, о котором так презрительно отозвался химик. Дюма проплыл над главной палубой. В одном месте взрыв торпеды сорвал настил, и было видно кишащие омарами тазы и ванны. Он скользнул вниз и взял трех омаров для папаши Анри.
Итак, «Сомюр» оказался пустым номером. Что-то покажет «Сен Люсьен»? Вот как описывали его гибель местные жители:
«Торпеда попала в носовую часть, от удара с грохотом сорвались якоря. Судно зарылось носом в воду, и винты долго вращались в воздухе. Вторая торпеда прошла мимо. Она взорвалась на скалах. „Сен Люсьен“ тонул очень медленно».
Снова Дюма сел в лодку папаши Анри. Несколько часов они безуспешно прощупывали дно кошкой. Диди нежился на солнышке, размышляя. «Взрыв первой торпеды освободил якоря. Значит, когда судно тонуло, они лежали на дне. А оно тонуло носом вниз». Вероятно, «Сен Люсьен» шел ко дну, вращаясь по спирали на якорной цепи.
— Ну-ка, пройдем поближе к берегу, — предложил Дюма.
Папаша Анри согласился, и вскоре кошка нащупала «Сен Люсьен»; он лежал на той же глубине, что «Сомюр». Дюма пошел вниз. Кошка лежала на чистом грунте, судна не было видно. Сорвалась… Но кошка прочертила на грунте борозду. Диди двинулся по следу и обнаружил «Сен Люсьен».
Главный грузовой трюм парохода был пуст, если не считать множества разбросанных в беспорядке деревянных дощечек. Дюма вернулся в лодку ошалевший от охоты за кладами.
На следующее утро его разбудил нестройный гул во дворе гостиницы. Он выглянул в окно и увидел, что там идет оживленная торговля испанскими апельсинами. Торговки доставали золотистые плоды из ящиков, сколоченных из таких же дощечек, какие Диди нашел в трюме «Сен Люсьена». Так вот в чем дело! Судно тонуло медленно потому, что везло апельсины…
Огюст Марселлин воздержался от покупки «вольфрамовых» судов.
Узнав, чем мы занимаемся, собеседники обычно задают три стандартных вопроса. Первый: «Наверно, вы нашли немало сокровищ на всех этих судах?» Эта глава служит ответом.
Второй вопрос: «А как насчет морских чудовищ, которые охраняют затонувшие корабли?» На это отвечу позже.
Третий: «Что вы испытали, когда в первый раз нашли утопленника?» Мы научились терпеливо относиться к этому вопросу. А между тем он рожден совершенно ошибочным представлением. Мы побывали в общей сложности более шестисот раз на двадцати пяти погибших кораблях, проникали во все закоулки, доступные человеку с тремя баллонами на спине, но ни разу не находили никаких останков. Люди редко гибнут внутри судна, большинство успевает выбраться наружу и тонет в море.
Допустим, однако, что какой-нибудь несчастный пошел ко дну, запертый в каюте. Его тело сохранится всего несколько недель. Мягкие ткани будут съедены в два-три дня, и участвуют в этом не только рыбы и ракообразные, но даже, как ни странно это покажется, морские звезды — очень прожорливые существа. Потом черви и бактерии постепенно уничтожат скелет.
Легенды о кладах на дне моря — на девяносто девять процентов мистификация и обман; единственное золото, о котором можно тут говорить, — то, которое перекочевывает из карманов романтиков-легковеров в руки ловких дельцов. Эфемерная мечта о быстром обогащении, лелеемая большинством из нас, успешно эксплуатируется владельцами пожелтевших морских карт с помеченными на них затонувшими галеонами. Успех жульничества обеспечен уже тем, что легковерные люди, дающие деньги на дутые проекты, знают море еще хуже, чем авторы этих затей. Серьезный предприниматель, у которого есть и знания, и технические средства, чтобы поднять сокровище, держит свои действия в секрете. Если же к такому делу привлекают посторонних, это верный признак того, что речь идет не столько о подводном золоте, сколько о земных благах на суше.
По-моему, найти клад — худшее, что может постигнуть шкипера. Прежде всего, ему придется сказать об этом команде и заключить с ней контракт, обеспечивающий каждому его долю. Разумеется, он возьмет с подчиненных клятву, что они будут хранить тайну. Но достаточно третьему помощнику выпить два стаканчика в первом попавшемся портовом кабачке, и тайное станет явным. И тогда, если шкипер обнаружил испанское золото, немедленно вынырнут всякие наследники и правопреемники конкистадоров и скончавшихся монархов и предъявят иск. Власти страны, в чьих территориальных водах найден клад, сдерут со шкипера немалые поборы. Если после всего этого у бедняги еще останется что-нибудь, собственное правительство изымет у него большую часть посредством налогов. Вижу его, потерявшего друзей, лишившегося доброй славы, на его судно наложен арест, а сам он проклинает себя за то, что не оставил злополучный клад лежать на дне морском.
Мы очень быстро излечились от золотой лихорадки; только Дюма подвержен повторным приступам.
Затонувшие корабли часто таят в своем чреве более современные сокровища, вроде олова, меди, вольфрама. Однако эти клады лежат не в легко доступных для подводного пловца трюмах португальских каравелл, которыми любят заманивать простаков комбинаторы. Чтобы добыть такой клад, нужны поставленные на широкую ногу механизированные подъемные работы под контролем собственников груза, властей и страховых компаний; и длительные, лишенные всякой романтики усилия вознаграждаются очень скудной прибылью.
Мы знаем только один случай, когда подводный клад принес богатство счастливцу. Это было на острове До Сал в архипелаге Зеленого Мыса. В этом глухом уголке к нам на судно неожиданно пришел старый знакомый — водолаз-любитель с Ривьеры.
— Что ты здесь делаешь? — спросили мы его.
— Спасаю груз с затонувшего судна.
— Кто ваш подрядчик?
— Никто, — ответил он. — Работаю один.
Я заподозрил, что он морочит нам голову. Но наш приятель клялся, что заключил контракт на подъем груза с судна, лежащего на глубине двадцати пяти футов. Работает один, пользуясь лишь маской и ластами.
— Я привез сюда один из ваших аппаратов «Наргиле», но здесь все равно не нашлось ни одного воздушного насоса, — сообщил он.
«Наргиле» (так называется турецкий курительный прибор) — разновидность легководолазного аппарата; воздух накачивается в маску через шланг с поверхности.
Ожидая услышать обычную историю о золотых и серебряных слитках, я спросил, что за клад он нашел.
— Бобы какао, — последовал неожиданный ответ. — Четыре тысячи тонн бобов какао. Уже открыл люк и начал поднимать груз.
Наша встреча была слишком краткой, чтобы мы могли проверить его слова, но в Дакаре представитель крупной страховой компании подтвердил:
— Он подписал контракт с нами. И работает без специального снаряжения, если не считать сачка.
— Сачок! — воскликнул Диди.
— Вот именно. Джутовые мешки с бобами какао плавают в трюме под самой палубой. Наверху, в лодке, сидит туземец. Пловец набирает в легкие воздух, ныряет через люк в трюм и разрезает мешки. Потом гонит бобы к люку, и они всплывают на поверхность. Здесь помощник вылавливает их сачком. У него на берегу уже целая гора бобов лежит.
Год спустя мы с Диди решили навестить «ловца какао» в его доме на Лазурном берегу. Вид хозяина красноречиво говорил о его благополучии.
— Друзья, — сказал он нам, — это был лучший год в моей жизни. Контракт принес мне восемь миллионов семьсот пятьдесят тысяч франков.
И выходит, что на дне моря в самом деле можно найти настоящий клад.

Глава седьмая
Необычный музей

Но есть на дне морском еще более замечательные сокровища, доступные человеку с аквалангом. Древнейшие очаги цивилизации возникли на берегах Средиземного моря, и самым выдающимся подводным открытием нам кажутся находки затонувших кораблей, построенных еще до нашей эры. Мы обследовали два таких судна и нашли то, что неизмеримо дороже золота: произведения античного искусства и ремесла. Кроме того, мы нашли еще три погибших древних корабля, которые ожидают своих исследователей.
На суше не сохранилось ни одного грузового судна античной поры. Шнеки викингов, найденные при раскопках, и увеселительные лодки императора Траяна, которые извлекли, осушив озеро Неми в Италии, — замечательные образцы древнего кораблестроения, но нам очень мало известно о торговых судах, связывавших между собой разные народы.
Первым, что толкнуло меня искать суда классической древности, была бронзовая скульптура, найденная одним рыбаком сорок лет тому назад в Санарской бухте. Увы, когда я попал в Санари, этого рыбака уже не было в живых, и мне так никогда и не удалось узнать, где именно он ее нашел.
Много лет спустя Анри Бруссар, руководитель Каннского клуба подводных скалолазов, ныряя с аквалангом, обнаружил греческую амфору. Этот изящный керамический сосуд с двумя ручками был грузовой тарой древности; в нем перевозили вино, растительное масло, зерно, воду. Финикийские, греческие, карфагенские, римские суда везли в своих трюмах тысячи амфор. У амфоры вид сужающегося книзу конуса. На суше их устанавливали, втыкая в землю. На кораблях амфоры, вероятнее всего, вставляли в отверстия в досках. Бруссар сообщил, что на дне, на глубине шестидесяти футов, лежит груда амфор. Ему и в голову не пришло, что здесь захоронено целое судно — так основательно оно было занесено илом.
Мы обследовали это место с «Эли Монье». Амфоры валялись в беспорядке на ложе из уплотненного органического вещества; кругом простирался серый подводный ландшафт. Мощный землесос позволил нам углубиться в грунт. Из промоины извлекли около сотни амфор; большинство закупоренные. На некоторых сохранились даже восковые печати с инициалами древнегреческих виноторговцев.
Несколько дней мы откачивали ил и поднимали амфоры. Зарывшись в грунт на пятнадцать футов, натолкнулись на дерево. Это был палубный настил античного торгового судна, второго найденного в наше время.
К сожалению, у нас не было ни времени, ни снаряжения, чтобы поднять редкую находку. Мы покинули это место, увозя амфоры и образцы дерева; было очевидно, что здесь находится уникальный гидроархеологический объект, требующий сравнительно несложных работ. Судя по всему, корпус сохранился и его можно поднять целиком. Как много рассказало бы это судно о кораблестроении и международной торговле далекого прошлого!
Мы очень смутно представляли себе древнее судоходство, да и то по росписям на стенах и вазах, и можем только догадываться, каким было навигационное искусство той поры. Античные грузовые суда были короткими и широкими и вряд ли могли идти против ветра. Немногочисленные маяки отличались простотой устройства: на берегу разжигали обычные костры. Не было ни бакенов, ни буев, чтобы обозначать рифы и мели. Вряд ли мы ошибемся, предположив, что судоводители старались не терять из виду сушу, а на ночь предпочитали стать на якорь в надежном месте. Вынужденные все время плотно прижиматься к берегу, античные корабли оказывались легкой добычей внезапных штормов и коварных рифов. Поэтому большинство затонувших судов надо искать в сравнительно мелких прибрежных водах, то есть в пределах досягаемости для подводного пловца. Морские битвы и пиратские налеты множили число погибших кораблей. Не сомневаюсь, что в иле на дне моря погребено немало хорошо сохранившихся античных судов, до которых совсем нетрудно добраться.
Суда, лежащие на глубине до шестидесяти футов, скорее всего уничтожены разрушительным действием течений и приливов. Зато те, которые затонули на большей глубине, по сей день хранятся в огромных залах подводного музея. На каменистом грунте их быстро освоили бурно размножающиеся организмы. Губки, водоросли и гидроиды скрыли борта и надстройки. Прожорливые представители морской фауны нашли здесь пищу и приют. Целые поколения моллюсков кончили свое существование и были съедены другими жителями моря, горы экскрементов накрывали разрушающееся судно. Все эти процессы вместе приводят к тому, что за несколько веков морское дно сглаживается и остается разве что чуть заметный бугор.
Только подводный пловец с наметанным глазом обнаружит признаки такого судна: маленькая неровность, необычный утес или плавные линии обросшей амфоры. Сосуд, найденный Бруссаром, наверно, стоял на палубе; трюмный груз море поглощает вместе со всем судном. Следы многих античных кораблей безвозвратно утрачены, потому что ловцы губок и кораллов, не подозревая, что поблизости от амфор может быть затонувшее судно, поднимали сосуд на поверхность и никак не отмечали место находки.
Первое из двух известных грузовых судов классической древности — так называемая «галера Махдиа». Правда, название это неверно: у судна нет отличающих галеру рядов уключин, это был самый настоящий парусник, предназначенный для перевозки внушительных по тому времени грузов — не менее четырехсот тонн. Махдийский корабль был построен в Древнем Риме около двух тысяч лет тому назад для вывоза из Греции награбленных предметов искусства. Наши поиски этого корабля вылились в настоящую археолого-детективную историю.
В июне 1907 года один из тех приземистых греческих ныряльщиков, которых можно встретить по всему Средиземноморью, в поисках губок разведывал воды у Махдии на восточном побережье Туниса. На глубине ста двадцати семи футов он неожиданно увидел лежащие в несколько рядов наполовину занесенные илом большие предметы цилиндрической формы. Он сообщил, что дно здесь сплошь устлано пушками.
Адмирал Жан Бэм, командующий военно-морским округом Французского Туниса, послал туда водолазов. Они насчитали шестьдесят три орудия, которые лежали на одинаковом расстоянии друг от друга, образуя правильный овал. Рядом покоились на дне какие-то прямоугольники. Все густо обросло морской живностью. Водолазы подняли один из цилиндров. Соскребли наслоения, а под ними был… мрамор. Пушки оказались ионическими колоннами!
Правительственный чиновник Альфред Мерлен, знаток античной культуры, написал о тунисском открытии знаменитому археологу и искусствоведу Соломону Рейнаху. Рейнах обратился к меценатам за средствами, чтобы поднять со дна моря памятники древности. На его призыв откликнулись два американца: некий эмигрант, назвавшийся герцогом Лубатским, и Джеймс Хайд, пожертвовавший двадцать тысяч долларов. Рейнах предупредил, что не может ручаться за успех, но это не испугало Хайда. Возглавил экспедицию лейтенант Тавера. Он набрал в Италии и Греции самых искусных водолазов и выдал им новейшее снаряжение.
При тогдашнем развитии водолазной техники и такая глубина была крепким орешком. Как раз в том году водолазное управление английского военного флота составило первый график ступенчатой декомпрессии для работ на глубинах до ста пятидесяти футов. Тавера об этом не знал. Из набранных им водолазов несколько человек навсегда вышли из строя из-за кессонной болезни. Трудная и опасная операция продолжалась пять лет.
Затонувший корабль оказался настоящим музеем античного изобразительного искусства. На нем были не только капители, колонны, цоколи и другие элементы ионической архитектуры, но и резные садовые вазы в рост человека. Водолазы нашли мраморные и бронзовые скульптуры. Судя по тому, как их разбросало, корабль опускался на дно, словно летящий с дерева на землю листок.
Мерлен, Рейнах и другие эксперты предполагали, что эти предметы были изготовлены в Афинах в первом веке до нашей эры. Скорее всего, судно затонуло около 80 года до нашей эры, участвуя в вывозе богатейшей добычи, награбленной римским диктатором Луцием Корнелием Суллой, который опустошил Афины в 86 году до нашей эры. Это подтверждается и тем, что архитектурные детали представляют собой части разобранного храма или роскошной виллы. Очевидно, люди Суллы погрузили их на корабль в Афинах, а по пути в Рим судно сбилось с курса; это нередко случалось при тогдашнем уровне навигационного дела.
Поднятые водолазами произведения искусства заняли пять залов в тунисском музее Алауи, где их можно видеть и по сей день. В 1913 году работы были прекращены: кончились деньги.
Впервые мы услышали об этом корабле в 1948 году, когда проводили подводные археологические исследования там, где, как предполагалось, ушел под воду торговый порт древнего Карфагена. Годом раньше генерал авиации Верну, занимавший командную должность в Тунисе, летом заснял с воздуха несколько интересных фотографий карфагенского мелководья. Сквозь прозрачную воду отчетливо виднелись правильные геометрические линии, поразительно напоминавшие очертания молов и пристаней коммерческой гавани. Фотографии были изучены патером Пуадебаром, ученым-иезуитом, который служил священником в военно-воздушных силах. В начале двадцатых годов Пуадебар нашел затопленные остатки портов Тира и Сидона; теперь он очень заинтересовался новым открытием.
Патер прибыл на борт «Эли Монье», и мы составили бригаду из десяти человек для исследования «порта». Увы, нам не удалось найти следов каменной кладки или другого строительства. Для проверки мы мощной драгой прорыли траншеи, где снимки показывали что-то вроде портовых сооружений. Но в извлеченном драгой грунте не было никаких строительных материалов.
Зато мы напали в тунисских архивах и в музее Алауи на материалы о махдийском корабле. Прочтя труды Мерлена и отчет лейтенанта Тавера, мы заключили, что они подняли далеко не все сокровища. Я с интересом увидел имя адмирала Жана Бэма: это был дед моей жены. Мы нашли зарисовки Тавера и отправились туда, где лежало затонувшее судно.
В ослепительно яркое воскресное утро мы шли вдоль берега, неотступно следя за чертежом. Тавера нанес на свой план три сухопутных ориентира; затонувший корабль находился на скрещении воображаемых прямых, проведенных от этих ориентиров. Первый ориентир — замок, стоящий на одной линии с каменным устоем, остатком разрушенной пристани. Замок мы увидели сразу, но устоев было четыре — выбирай любой!
Вторым ориентиром Тавера выбрал куст на дюнах и гребень холма. Но за тридцать пять лет здесь вырос целый лес… Последним ключом служила точка в оливковой роще, сопряженная с ветряной мельницей. Мы все глаза проглядели, вооружившись биноклями, но мельницы не нашли. Немало нелестных замечаний было высказано в адрес лейтенанта Тавера, которому явно следовало бы поучиться картографии у Роберта Стивенсона.
Мы решили искать на берегу. Погрузили в машину доски, чтобы соорудить вышку, и покатили по пыльным дорогам, опрашивая местных жителей. Никто не помнил никакой мельницы, однако в одном месте нам посоветовали обратиться к старику евнуху. Он встретился нам на дороге: дряхлый восьмидесятилетний хромой старец с обрамленной белым пушком блестящей лысиной. Трудно было угадать в нем когда-то упитанного заправилу арабского гарема. В потухшем взоре старца вспыхнул обнадеживающий огонек.
— Ветряная мельница? — проскрипел он. — Я проведу вас к ней.
Мы прошли с ним несколько миль; наконец добрались до какой-то груды камня и, не мешкая, воздвигли вышку. Вдруг старик, озабоченно поглядев на меня, пробормотал:
— Тут подальше была другая мельница…
Он показал нам еще одну груду развалин. Мы с ужасом заметили, что он старается припомнить, где стояла третья мельница. Казалось, махдийское побережье — сплошное кладбище мельниц.
Мы вернулись на «Эли Монье» и устроили совет. Решили положиться на акваланги и вести поиски так, как если бы вообще ничего не знали о местонахождении корабля. Собственно, так оно и было. Сведения были очень скудные: судно лежит где-то поблизости на глубине ста двадцати семи футов. Эхолот показывал, что дно почти совсем гладкое, с небольшими неровностями. Мы долго кружили, пока не пошли глубины, близкие к данным Тавера. Теперь круг поисков намного сузился, и мы опустили на дно сеть из стального троса площадью в сто тысяч квадратных футов. Получилось нечто вроде американского футбольного поля с поперечными линиями через каждые пятьдесят футов. Суть подводного «матча» заключалась в том, что аквалангисты плавали вдоль линий, изучая грунт по обе стороны. За два дня мы осмотрели всю площадь, но счет был явно не в нашу пользу.
Лейтенант Жан Алина вызвался прокатиться на подводных санях. Мы протащили его на буксире вокруг стальной сети; он ничего не нашел. Уже пять дней прошло в бесплодных поисках. Вечером мы с горя постановили перейти ближе к берегу.
На следующее утро наш начальник Тайе, не полагаясь на сани, решил плыть, держась за трос, на буксире у вспомогательного катера.
Помню, утром шестого дня я уже ни на что не надеялся; за все время наших поединков с непокорной морской стихией у меня не было такого мрачного настроения. Мысленно я сочинял рапорт начальству в Тулоне, объясняя, почему счел нужным неделю занимать две плавучие единицы военно-морского флота и тридцать человек на поисках судна, которое было обследовано еще в 1913 году. Нетерпеливый Пуадебар напоминал скорее разгневанного адмирала, чем патера.
Вдруг — крик наблюдателя. На залитой солнцем глади моря мелькала оранжевая точка: сигнальный буек Тайе. Значит, подводный пловец обнаружил что-то важное! Тайе всплыл, выдернул изо рта мундштук и завопил:
— Колонна! Я нашел колонну!
Старые записи указывали, что одну колонну, в стороне от судна, оставили, когда пришлось прекратить работы. Теперь корабль не уйдет от нас! Мы зашли на ночь в Махдиа и основательно кутнули, как и положено морякам, отыскавшим сокровище. Город гудел. Прошел слух, что мы нашли мифическую золотую статую, о которой тридцать лет толковали все местные легенды. Молва превратила источенную моллюсками колонну в золотой клад. Нас без конца поздравляли восторженные почитатели.
С рассветом закипела работа. Мы с Дюма нырнули первыми и разыскали наш основной объект. С виду ничего похожего на корабль. Оставшиеся на дне пятьдесят восемь колонн покрылись толстым слоем растительности и живых существ. Поглощенные илом загадочные цилиндры едва выступали над грунтом. Мы призвали на помощь все воображение, чтобы мысленно воссоздать очертания корабля. Измерив площадь, занятую колоннами, мы получили цифры, отвечающие длине судна в сто тридцать и ширине в сорок футов. Внушительно для той поры! Другими словами, древний корабль вдвое превосходил водоизмещением стоявший наверху «Эли Монье».
Корабль лежал в прозрачной воде на теряющейся вдали голой илисто-песчаной равнине и представлял собой подлинный оазис для рыб. Над экспонатами подводного музея плавали крупные полиприоны. Среди облепивших колонны губок не было видов, представляющих промышленный интерес. Дотошные ловцы губок — современные греки — очевидно, собрали все, что им годилось. Возможно, они подняли также и мелкие предметы искусства, возвратив себе много веков спустя кое-что из украденного римлянами.
Нам предстояли довольно обширные работы. Правда, с тех пор, как храбрецы Тавера отважно проникали в глубины, водолазная наука шагнула далеко вперед, и все ее завоевания были к нашим услугам. Располагали мы также и таблицами для подводных пловцов, только что разработанными под руководством лейтенанта Жана Алина; акваланги позволяют совершать серию быстрых кратковременных погружений, не боясь, что кровь будет перенасыщена азотом.
Для той глубины, с которой мы столкнулись здесь, график водолаза предусматривает после сорока пяти минут работы подъем с остановками для ступенчатой декомпрессии: на глубине тридцати футов — четыре минуты, потом двадцать шесть минут на глубине двадцати и столько же на глубине десяти футов. Иначе говоря, почти час. По графику Алина подводный пловец погружается трижды на пятнадцать минут, с двумя трехчасовыми перерывами для отдыха. После третьего погружения аквалангисту нужна пятиминутная декомпрессия на глубине десяти футов: одна двенадцатая того, что требуется водолазу.
Чтобы развить на основе расчетов Алина успешное наступление на древнеримское судно, наши двойки должны были уходить в воду и возвращаться точно по расписанию. На то, что они сами будут следить за временем, надеяться не приходилось. Поэтому мы изобрели «стреляющие часы»: дежурный с винтовкой стрелял в воду через пять, десять и пятнадцать минут после погружения. Звук от удара пули о воду отчетливо доносился до затонувшего судна.
В первый же день один из аквалангистов вернулся, неся какой-то небольшой блестящий предмет. Мое сердце учащенно забилось: мы мечтали найти античную бронзу. Увы, это была всего-навсего пуля от наших стреляющих часов. Постепенно все дно усеяли золотистые шарики. Вот бы спрятаться за колонну и посмотреть на ловца губок, который, придя сюда после нас, увидит на дне золотую россыпь!
Наш график был все время под угрозой. «Эли Монье» сносило ветром и течением, и подводным пловцам приходилось тратить лишнее время и энергию, чтобы попасть к цели. Дюма притащил на палубу кучу железного лома. Остальные смеялись над его мальчишеской затеей, однако пятнадцатифунтовый груз позволял быстрее достичь дна и маневрировать под водой. Стало легче добираться до затонувшего корабля; регулируя балласт, можно было как угодно двигаться по горизонтали и по вертикали, аквалангист приходил на место неуставшим и сбрасывал груз.
Диди добросовестно подчинялся стреляющим часам, пока однажды, всплывая после третьего погружения, не заметил что-то очень уж заманчивое. Грунт еще был озарен солнечным светом. Дюма не устоял и быстро пошел вниз. Увы, это был обман зрения, пришлось ему возвращаться ни с чем. За обедом Дюма пожаловался, что у него колет плечо. Мы немедля взяли его в плен, заперли в установленную на борту рекомпрессионную камеру и подняли давление до четырех атмосфер. Иначе нельзя, слишком велика опасность кессонной болезни. В рекомпрессионке был телефон, соединенный с динамиком в каюте аквалангистов. Только мы поели, вдруг послышался голос Диди: он укорял друзей, способных уморить товарища голодом. Мы охлаждали его кипучий нрав около часа. За все время это был единственный раз, когда нам пришлось воспользоваться рекомпрессионной камерой.
Древнеримский корабль лежал в сумеречном голубом мире, где человеческое тело казалось зеленоватым. Приглушенные солнечные лучи рождали блики на хромированных легочных автоматах, на масках, серебрили пузырьки выдыхаемого воздуха. Желтоватый грунт отражал достаточно света, и мы сняли первый на такой глубине цветной фильм о работе подводных пловцов.
От слоя морских организмов афинские колонны стали темно-голубыми. Мы рыли под ними ямы руками, по-собачьи, чтобы можно было продеть тросы. Во время подъема на поверхности колонн постепенно как бы проявлялась гамма ярких красок. Извлечешь из воды — залюбуешься, но на палубе тень смерти скоро ложилась на изобилие морской флоры и фауны. Мы усердно чистили, мыли, и обнажался снежно-белый мрамор, не видевший солнца почти две тысячи лет.
Всего мы подняли четыре колонны, две капители и два основания. Достали также загадочные свинцовые части древних якорей. Судя по тому, как они лежали, корабль стоял на якоре, когда случилась катастрофа. Видимо, беда пришла внезапно. Частей было две, каждая весом в три четверти тонны, продолговатой формы, с отверстием посредине: очевидно, сюда вставлялась деревянная часть, которая давно уже истлела. Прямые полосы металла никак не могли быть лапами якоря, но мы напрасно искали лапы. Оставалось предположить, что свинцовые части были грузилами и крепились в верхней части деревянного якоря. Но тогда возникал новый вопрос: почему древние судостроители сосредоточивали главный вес якоря вверху?
Основательно все обсудив, мы пришли к такому выводу. Античные суда пользовались не цепями, а канатами. Когда на современное судно, стоящее на якоре, напирает ветер или течение, нижняя часть якорной цепи натягивается горизонтально. Деревянные крючья римского якоря в таком случае оторвало бы от дна, небудь верхушка прижата свинцовым грузом, который гасил натяжение.
Мы работали шесть дней, все более увлекаясь находками, позволяющими судить о первых шагах судоходства. Хотелось откопать самый корабль. Записи Тавера сообщали, что его водолазы провели большие раскопки у кормы. Выбрав участок посредине правого борта, я очистил его от обломков мрамора, чтобы можно было углубиться в грунт в этом месте. Мы решили размывать грунт мощной струей воды из шланга. В ходе работ подтвердилась наша догадка, что надстройки были разрушены, а главная палуба продавлена грузом, когда тяжелый корабль ударился о дно.
Углубившись на два фута, мы наткнулись на крытую свинцовым листом толстую палубу. Море быстро заносило илом промытый нами ход, так что дело подвигалось плохо. Все же нам удалось выяснить, что корабль в основном сохранился. Мы нашли погребенную илом ионическую капитель, на которой не успели поселиться ни водоросли, ни моллюски. Нетронутая прелесть замечательного изделия перенесла нас в те далекие дни, когда над ним работали искусные руки древних мастеров.
Я убежден, что в средней части махдийского корабля лежит неповрежденный груз. Все говорит о том, что команда тогда, как и теперь, жила в наименее приятной части судна — на баке. Значит, и там можно найти интересные вещи, которые многое расскажут о людях, ходивших на судах Рима.
За несколько дней работы на огромном древнем корабле мы разве что тихонько постучались в двери истории. Нашли изъеденные морем железные и бронзовые гвозди; подняли жернова, которыми коки мололи хранившееся в амфорах зерно. Извлекли из ила большие обломки бимсов из ливанского кедра, сохранившие древнее лаковое покрытие. (Не худо бы узнать состав этого лака, который выдержал разрушительное действие двадцати веков!) Проникнув на пять футов в грунт под носом корабля, я добрался до форштевня, сделанного из толстых кедровых брусьев.
Спустя четыре года я встретил в Нью-Йорке председателя Французских обществ США и Канады, энергичного старого джентльмена по имени Джеймс Хайд. «Уж не тот ли это Хайд, который давал деньги на подъем сокровищ махдийского корабля?» — спросил я себя. Это был он. Хайд пригласил меня на обед, и я показал ему цветной фильм о работе подводных пловцов.
— Замечательно, — сказал он. — Знаете, я ведь так и не увидел, что там подняли. У меня тогда было много денег, своя паровая яхта. Когда шли работы, я ходил в Эгейском море, а в Тунисский музей не попал. Соломон Рейнах прислал мне фотографии найденных ваз и статуй, Мерлен написал любезное письмо, а тунисский бей наградил меня орденом. Да, интересно увидеть эти вещи с опозданием в сорок пять лет…

Глава восьмая
Пятьдесят саженей

Нас по-прежнему занимало глубинное опьянение. Хотелось наперекор всему проникнуть еще глубже. То, что испытал Дюма в 1943 году во время рекордного погружения, заставило нас очень серьезно подойти к этой проблеме. Группа составляла подробные отчеты в каждом случае, когда кто-нибудь из ее членов погружался на большую глубину. И все-таки мы знали о глубинном опьянении далеко не все. Наконец летом 1947 года мы начали серию опытных погружений.
Должен сразу сказать, что не рекорды нас манили, хотя во время этих опытов старые мировые достижения были превзойдены. Мы считаем, что очень важно вернуться живым из морской пучины; даже бесстрашный Диди знает чувство меры. Мы шли все дальше вглубь потому, что только так можно было исследовать глубинное опьянение и выяснить, какую работу позволяет выполнить акваланг на той или иной глубине. Каждый опыт тщательно готовился, аквалангисты погружались под строгим контролем, и мы получали абсолютно точные данные. Предварительные наблюдения позволили нам заключить, что предельная глубина для подводного пловца — триста футов, или пятьдесят саженей; между тем еще ни один пловец с автономным снаряжением не побил рекорд Дюма, равный двумстам десяти футам.
Глубину погружения измеряли канатом с борта «Эли Монье». Через каждые шестнадцать с половиной футов (пять метров) на канате были укреплены белые дощечки. Подводный пловец брал с собой химический карандаш, чтобы оставить свой автограф на дощечке, до которой доберется, и записать несколько слов о своих ощущениях.
Чтобы сберечь силы и воздух, аквалангист шел вниз без излишних движений, увлекаемый десятифунтовым балластом в виде железного лома. Замедлить спуск можно было притормозив рукой за канат. Достигнув намеченной или посильной для себя глубины, пловец расписывался, сбрасывал балласт и возвращался по тросу на поверхность. Чтобы избежать кессонной болезни, он делал короткие остановки на глубине двадцати и десяти футов, как этого требовала декомпрессия.
К началу опыта я пришел в отличной форме. Всю весну работал на море, и это было хорошей тренировкой; уши легко переносили давление.
Войдя в воду, я стал быстро спускаться, придерживаясь за канат правой рукой, сжимая балласт левой. В голове неприятно отдавался гул движка на «Эли Монье», снаружи ее сдавливал растущий столб воды. Был жаркий июльский полдень, но вокруг меня быстро темнело. Я скользил вниз в сумерках, наедине со светлым канатом, однообразие которого нарушалось только теряющимися вдали белыми дощечками.
На глубине двухсот футов я ощутил во рту металлический привкус сжатого азота. Глубинное опьянение поразило меня внезапно и сразу же очень сильно. Я сжал правую руку и остановился. Меня обуревало беспричинное веселье, все стало нипочем. Попробовал заставить мозг сосредоточиться на чем-нибудь реальном: скажем, определить цвет воды на этой глубине. Не то ультрамарин, не то аквамарин, не то берлинская лазурь… Отдаленный рокот не давал покоя, вырастая в оглушительный перестук, словно билось сердце вселенной.
Я взял карандаш и записал на дощечке: «У азота противный вкус». Рука почти не чувствовала карандаша; в уме проносились забытые кошмары. Я перенесся в детство: лежу больной в постели, и все на свете кажется мне распухшим. Пальцы превратились в сосиски, язык — в теннисный мяч, мундштук сжимают чудовищно распухшие губы. Воздух сгустился в сироп, вода стала как студень.
Я висел на канате совсем отупевший. Рядом со мной, весело улыбаясь, стоял другой человек, мое второе «я», оно отлично владело собой и снисходительно посмеивалось над невменяемым аквалангистом. Это длилось несколько секунд; потом второй человек принял командование на себя, приказал отпустить веревку и продолжать погружение.
Я медленно шел вниз сквозь вихрь видений…
Вода вокруг дощечки с отметкой двести шестьдесят четыре фута светилась сверхъестественным сиянием. Из ночного мрака я вдруг перешел в область занимающейся зари. Это отражался от грунта свет, который не поглотили верхние слои. Внизу, в двадцати футах от дна, висел конец каната с грузом. Я остановился у предпоследней дощечки и поглядел на последнюю, белевшую пятью метрами ниже. Пришлось напрячь всю умственную энергию, чтобы трезво, не обманывая себя, оценить обстановку. И я двинулся к нижней дощечке, привязанной на глубине двухсот девяноста семи футов.
Дно было мрачное и голое, если не считать моллюсков и морских ежей. Я еще достаточно соображал, чтобы помнить, как опасно резко двигаться при таком давлении, больше нормального в десять раз. Медленно набрав полные легкие воздуха, я расписался на дощечке, но не смог ничего написать о своих ощущениях на глубине пятидесяти саженей.
Итак, я достиг глубины, на какой еще не был ни один пловец с автономным снаряжением. В моем сознании удовлетворение уживалось с ироническим презрением по собственному адресу.
Сбросив балласт, я рванулся вверх, словно отпущенная пружина. Один толчок ногами — две дощечки мимо. И тут на глубине двухсот шестидесяти четырех футов опьянение вдруг прошло, безвозвратно и необъяснимо. Ко мне вернулись легкость и ясность мысли, я снова был человеком и наслаждался вливающимся в мои легкие воздухом. Быстро миновав зону сумерек, увидел снизу поверхность воды, всю в платиновых пузырьках и играющих бликах света. До чего похоже на небо…
 Но по пути к небесам надо было еще пройти чистилище. Я переждал положенные пять минут на глубине двадцати футов, потом, томясь нетерпением, еще десять минут в десяти футах от поверхности.
Когда канат выбрали на палубу, я убедился, что какой-то мошенник ловко подделал мою подпись на последней дощечке.
После этого погружения у меня около получаса слегка болели колени и плечи. Филипп Тайе тоже добрался до последней дощечки, написал на ней какую-то чушь и вернулся с головной болью, которая мучила его два дня. Дюма еле справился с сильнейшим приступом глубинного опьянения в стометровой зоне. Наши два закаленных моряка, Фарг и Морандье, сказали, что смогли бы недолго выполнять в придонном слое не слишком тяжелую работу. Квартирмейстер Жорж тоже побывал у нижней дощечки, потом час жаловался на головокружение. Жан Пинар почувствовал на глубине двухсот двадцати футов, что дальше идти не может, расписался и благоразумно вернулся на поверхность. Никто из нас не смог записать чего-либо вразумительного на последней дощечке.
Осенью мы приступили к новому ряду глубоководных погружений, на этот раз на пятьдесят саженей с лишним. Решили нырять, привязав к поясу канат; напарник дежурил на поверхности, готовый в любую секунду идти на помощь.
Первым пошел опытный подводный пловец Морис Фарг. Канат передавал нам успокоительный сигнал «Tout va bien» («Все в порядке»). Вдруг сигналы прекратились. Сердце кольнула тревога. Напарник Фарга, Жан Пинар, ринулся вниз, а мы подняли Мориса до отметки сто пятьдесят футов, где они должны были встретиться. Пинар столкнулся с бесчувственным телом друга и с ужасом обнаружил, что мундштук Фарга болтается у него на груди.
Двенадцать часов бились мы, стараясь оживить Фарга, но он был безвозвратно мертв. Глубинное опьянение вырвало мундштук изо рта Мориса и погубило его. Вытянув канат, мы увидели его подпись на дощечке, привязанной на отметке триста девяноста шесть футов. Фарг заплатил своей жизнью, перекрыв наше лучшее достижение на сто футов. Другими словами, он побывал глубже любого водолаза, работающего с воздухом обычного состава.
С первых дней существования Группы изысканий Морис Фарг делил с нами наше возрастающее увлечение морем. Мы навсегда запомнили своего верного друга. Дюма и я были обязаны Морису жизнью: он вырвал нас из пещеры смерти в Воклюзе. Мы никогда не простим себе, что не сумели спасти его…
Гибель Фарга и итоги летних опытов показали нам, что триста футов — предел для аквалангиста. Любителей можно за несколько дней научить погружаться до ста тридцати футов; профессионалы могут, соблюдая график декомпрессии, выполнять на этой глубине тяжелую работу. В следующей зоне — до двухсот десяти футов — опытному подводному пловцу под силу легкая работа и кратковременные исследования; при этом нужно строго выполнять правила безопасности. Зона глубинного опьянения доступна для рекогносцировок только самым натренированным аквалангистам. Правда, подводные пловцы могут опускаться немного ниже стометровой границы, если дышать смесью кислорода с легкими газами вроде гелия и водорода. Доказано, что гелий исключает приступы глубинного опьянения; но длительная (и скучная) декомпрессия не отменяется.
В 1948 году Дюма превзошел рекорд погружения с аквалангом, выполняя задание, которое преследовало совсем другие цели. Его пригласили осмотреть подводное препятствие. Предполагали, что на дне лежит погибшее судно. Прибыв на минный тральщик, который зацепил своим тросом таинственный предмет, Дюма узнал, что глубина определена в триста шесть футов. Он сильно оттолкнулся ластами и пошел вниз; через девяносто секунд достиг дна. Оказалось, трос зацепился за каменный бугор. Диди пробыл внизу около минуты и всплыл так же быстро, как погрузился. При таком коротком погружении можно было не бояться кессонной болезни.
Дюма разработал курс обучения для флотских аквалангистов; на каждом французском военно-морском корабле предусмотрены два пловца, умеющих работать в аквалангах. Сперва новички погружаются на мелководье, знакомясь с основами, которые мы постигали годами. Они учатся смотреть через прозрачное окошечко маски, познают преимущества автоматического дыхания, необходимость избегать лишних движений, когда плаваешь под водой. Второй урок — погружения на пятьдесят футов с канатом; человек осваивается с изменением давления и проверяет свои уши. На третьем уроке инструктор заставляет группу поволноваться. Ученики опускаются с балластом и рассаживаются на дне на глубине пятидесяти футов. Преподаватель снимает свою маску и посылает ее по кругу. Получив обратно, надевает ее; сильный выдох носом выталкивает наружу набравшуюся воду. Ученики должны повторить это. Они узнают, что можно перекрыть носоглотку при снятой маске, дыша через мундштук.
Следующий урок также проходит на дне. Учитель снимает маску, вынимает изо рта мундштук и отстегивает все ремни. Акваланг кладется на песок; инструктор стоит в одних плавках. Затем уверенно, не спеша снова надевает все снаряжение, продувая маску и глотая небольшое количество воды, которое попало в шланги. Это под силу любому человеку, способному набрать полные легкие воздуха и задержать дыхание на полминуты.
Ученики повторяют действия инструктора. Следующая задача — тот же маневр, но при этом ученики обмениваются снаряжением друг с другом. Так прививается умение свободно действовать под водой.
Курс заканчивается таким упражнением: группа ныряет на глубину ста футов, снимает акваланги и возвращается без них. У этого экзамена есть своя забавная сторона: чем выше, тем меньше давление, воздух в легких расширяется, и изо рта пловца вырывается цепочка пузырьков.
Первый иностранный военный моряк, который прибыл к нам в Тулон в официальную командировку, был лейтенант британского флота Ходж. Он быстро увлекся подводным плаванием и киносъемкой и стал энтузиастом этого дела. В 1950 году ему выпало трагическое задание: определить местонахождение затонувшей подводной лодки «Трэкьюлент». В январском тумане на Темзе небольшой шведский танкер «Дивина» наскочил на лодку, и она пошла ко дну с экипажем в восемьдесят человек. Пятнадцать из них спаслось с аппаратами Дэвиса; по их словам, лодку было бы нетрудно найти. Но вода была мутная и холодная, сильное течение осложняло обстановку. Водолазы снова и снова погружались в реку, но их относило, и они не смогли обнаружить лодку. Тогда Ходж вызвался нырнуть с аквалангом. Он вошел в воду выше по реке, рассчитав, что течение принесет его к «Трэкьюленту». Ходж нашел лодку с первого же захода. Ее подняли, но люди уже погибли.
Летом 1945 года я привез из Парижа домой два маленьких акваланга для своих сынишек — семилетнего Жана-Мишеля и пятилетнего Филиппа. Старший уже учился плавать; младший только плескался в воде у бережка. Однако я не сомневался, что они легко научатся нырять: ведь для этого не надо быть хорошим пловцом. Маска защищает нос и глаза, дыхание происходит автоматически, и двигаться под водой очень просто.
Мы вернулись на берег; я прочитал им небольшую лекцию, которую они конечно же пропустили мимо ушей. Ни минуты не колеблясь, оба последовали за мной в воду; мы погрузились на неглубоком месте на каменистый грунт, в мир затонувших судов, колючих морских ежей и ярких рыб. Тишину подводного мира нарушили восторженные крики: мальчикам не терпелось обратить мое внимание на многочисленные чудеса. Заставить их молчать было невозможно. У Филиппа выскочил изо рта мундштук. Я затолкал его на место и тут же прыгнул к Жану-Мишелю — поправить шланг вдоха. Они засыпали меня градом вопросов, и я едва поспевал водворять на место мундштуки. Оба наглотались соленой воды. Поняв, что они не перестанут болтать, пока не захлебнутся окончательно, я сгреб в охапку своих сорванцов и вытащил их из воды.
Пришлось повторить им, что море — это мир тишины, где маленьким мальчикам надлежит держать язык за зубами. Но не сразу удалось приучить их сдерживать чувства до той минуты, когда мы всплывем на поверхность. После этого я взял их на более глубокое место.
Они ничуть не боялись ловить осьминогов руками. Когда мы устраивали пикник на берегу, Жан-Мишель вооружался обыкновенной вилкой и отправлялся на глубину тридцати футов за сочными морскими ежами. Мама их тоже ныряет, но без такого энтузиазма. Женщины почему-то недоверчиво относятся к этому виду спорта и неодобрительно смотрят на увлеченных им мужчин. Дюма — звезда семи фильмов о подводном мире — не получил еще ни одного восторженного послания, написанного женской рукой.
Но по пути к небесам надо было еще пройти чистилище. Я переждал положенные пять минут на глубине двадцати футов, потом, томясь нетерпением, еще десять минут в десяти футах от поверхности.
Когда канат выбрали на палубу, я убедился, что какой-то мошенник ловко подделал мою подпись на последней дощечке.
После этого погружения у меня около получаса слегка болели колени и плечи. Филипп Тайе тоже добрался до последней дощечки, написал на ней какую-то чушь и вернулся с головной болью, которая мучила его два дня. Дюма еле справился с сильнейшим приступом глубинного опьянения в стометровой зоне. Наши два закаленных моряка, Фарг и Морандье, сказали, что смогли бы недолго выполнять в придонном слое не слишком тяжелую работу. Квартирмейстер Жорж тоже побывал у нижней дощечки, потом час жаловался на головокружение. Жан Пинар почувствовал на глубине двухсот двадцати футов, что дальше идти не может, расписался и благоразумно вернулся на поверхность. Никто из нас не смог записать чего-либо вразумительного на последней дощечке.
Осенью мы приступили к новому ряду глубоководных погружений, на этот раз на пятьдесят саженей с лишним. Решили нырять, привязав к поясу канат; напарник дежурил на поверхности, готовый в любую секунду идти на помощь.
Первым пошел опытный подводный пловец Морис Фарг. Канат передавал нам успокоительный сигнал «Tout va bien» («Все в порядке»). Вдруг сигналы прекратились. Сердце кольнула тревога. Напарник Фарга, Жан Пинар, ринулся вниз, а мы подняли Мориса до отметки сто пятьдесят футов, где они должны были встретиться. Пинар столкнулся с бесчувственным телом друга и с ужасом обнаружил, что мундштук Фарга болтается у него на груди.
Двенадцать часов бились мы, стараясь оживить Фарга, но он был безвозвратно мертв. Глубинное опьянение вырвало мундштук изо рта Мориса и погубило его. Вытянув канат, мы увидели его подпись на дощечке, привязанной на отметке триста девяноста шесть футов. Фарг заплатил своей жизнью, перекрыв наше лучшее достижение на сто футов. Другими словами, он побывал глубже любого водолаза, работающего с воздухом обычного состава.
С первых дней существования Группы изысканий Морис Фарг делил с нами наше возрастающее увлечение морем. Мы навсегда запомнили своего верного друга. Дюма и я были обязаны Морису жизнью: он вырвал нас из пещеры смерти в Воклюзе. Мы никогда не простим себе, что не сумели спасти его…
Гибель Фарга и итоги летних опытов показали нам, что триста футов — предел для аквалангиста. Любителей можно за несколько дней научить погружаться до ста тридцати футов; профессионалы могут, соблюдая график декомпрессии, выполнять на этой глубине тяжелую работу. В следующей зоне — до двухсот десяти футов — опытному подводному пловцу под силу легкая работа и кратковременные исследования; при этом нужно строго выполнять правила безопасности. Зона глубинного опьянения доступна для рекогносцировок только самым натренированным аквалангистам. Правда, подводные пловцы могут опускаться немного ниже стометровой границы, если дышать смесью кислорода с легкими газами вроде гелия и водорода. Доказано, что гелий исключает приступы глубинного опьянения; но длительная (и скучная) декомпрессия не отменяется.
В 1948 году Дюма превзошел рекорд погружения с аквалангом, выполняя задание, которое преследовало совсем другие цели. Его пригласили осмотреть подводное препятствие. Предполагали, что на дне лежит погибшее судно. Прибыв на минный тральщик, который зацепил своим тросом таинственный предмет, Дюма узнал, что глубина определена в триста шесть футов. Он сильно оттолкнулся ластами и пошел вниз; через девяносто секунд достиг дна. Оказалось, трос зацепился за каменный бугор. Диди пробыл внизу около минуты и всплыл так же быстро, как погрузился. При таком коротком погружении можно было не бояться кессонной болезни.
Дюма разработал курс обучения для флотских аквалангистов; на каждом французском военно-морском корабле предусмотрены два пловца, умеющих работать в аквалангах. Сперва новички погружаются на мелководье, знакомясь с основами, которые мы постигали годами. Они учатся смотреть через прозрачное окошечко маски, познают преимущества автоматического дыхания, необходимость избегать лишних движений, когда плаваешь под водой. Второй урок — погружения на пятьдесят футов с канатом; человек осваивается с изменением давления и проверяет свои уши. На третьем уроке инструктор заставляет группу поволноваться. Ученики опускаются с балластом и рассаживаются на дне на глубине пятидесяти футов. Преподаватель снимает свою маску и посылает ее по кругу. Получив обратно, надевает ее; сильный выдох носом выталкивает наружу набравшуюся воду. Ученики должны повторить это. Они узнают, что можно перекрыть носоглотку при снятой маске, дыша через мундштук.
Следующий урок также проходит на дне. Учитель снимает маску, вынимает изо рта мундштук и отстегивает все ремни. Акваланг кладется на песок; инструктор стоит в одних плавках. Затем уверенно, не спеша снова надевает все снаряжение, продувая маску и глотая небольшое количество воды, которое попало в шланги. Это под силу любому человеку, способному набрать полные легкие воздуха и задержать дыхание на полминуты.
Ученики повторяют действия инструктора. Следующая задача — тот же маневр, но при этом ученики обмениваются снаряжением друг с другом. Так прививается умение свободно действовать под водой.
Курс заканчивается таким упражнением: группа ныряет на глубину ста футов, снимает акваланги и возвращается без них. У этого экзамена есть своя забавная сторона: чем выше, тем меньше давление, воздух в легких расширяется, и изо рта пловца вырывается цепочка пузырьков.
Первый иностранный военный моряк, который прибыл к нам в Тулон в официальную командировку, был лейтенант британского флота Ходж. Он быстро увлекся подводным плаванием и киносъемкой и стал энтузиастом этого дела. В 1950 году ему выпало трагическое задание: определить местонахождение затонувшей подводной лодки «Трэкьюлент». В январском тумане на Темзе небольшой шведский танкер «Дивина» наскочил на лодку, и она пошла ко дну с экипажем в восемьдесят человек. Пятнадцать из них спаслось с аппаратами Дэвиса; по их словам, лодку было бы нетрудно найти. Но вода была мутная и холодная, сильное течение осложняло обстановку. Водолазы снова и снова погружались в реку, но их относило, и они не смогли обнаружить лодку. Тогда Ходж вызвался нырнуть с аквалангом. Он вошел в воду выше по реке, рассчитав, что течение принесет его к «Трэкьюленту». Ходж нашел лодку с первого же захода. Ее подняли, но люди уже погибли.
Летом 1945 года я привез из Парижа домой два маленьких акваланга для своих сынишек — семилетнего Жана-Мишеля и пятилетнего Филиппа. Старший уже учился плавать; младший только плескался в воде у бережка. Однако я не сомневался, что они легко научатся нырять: ведь для этого не надо быть хорошим пловцом. Маска защищает нос и глаза, дыхание происходит автоматически, и двигаться под водой очень просто.
Мы вернулись на берег; я прочитал им небольшую лекцию, которую они конечно же пропустили мимо ушей. Ни минуты не колеблясь, оба последовали за мной в воду; мы погрузились на неглубоком месте на каменистый грунт, в мир затонувших судов, колючих морских ежей и ярких рыб. Тишину подводного мира нарушили восторженные крики: мальчикам не терпелось обратить мое внимание на многочисленные чудеса. Заставить их молчать было невозможно. У Филиппа выскочил изо рта мундштук. Я затолкал его на место и тут же прыгнул к Жану-Мишелю — поправить шланг вдоха. Они засыпали меня градом вопросов, и я едва поспевал водворять на место мундштуки. Оба наглотались соленой воды. Поняв, что они не перестанут болтать, пока не захлебнутся окончательно, я сгреб в охапку своих сорванцов и вытащил их из воды.
Пришлось повторить им, что море — это мир тишины, где маленьким мальчикам надлежит держать язык за зубами. Но не сразу удалось приучить их сдерживать чувства до той минуты, когда мы всплывем на поверхность. После этого я взял их на более глубокое место.
Они ничуть не боялись ловить осьминогов руками. Когда мы устраивали пикник на берегу, Жан-Мишель вооружался обыкновенной вилкой и отправлялся на глубину тридцати футов за сочными морскими ежами. Мама их тоже ныряет, но без такого энтузиазма. Женщины почему-то недоверчиво относятся к этому виду спорта и неодобрительно смотрят на увлеченных им мужчин. Дюма — звезда семи фильмов о подводном мире — не получил еще ни одного восторженного послания, написанного женской рукой.

Глава девятая
Подводный дирижабль

Однажды вечером (это было в 1948 году) жена сказала мне:
— Прошу тебя, не погружайся в этой противной машине. Откажись от участия в экспедиции Пикара. Мы все ужасно беспокоимся за тебя.
Я удивился: впервые Симона возражала против моих планов. Жена военного моряка, она привыкла дисциплинированно относиться ко всем моим занятиям. Но на этот раз она изменила своему правилу.
— Тебе ведь никто не приказывал, — продолжала она. — Незачем рисковать собой ради какой-то безрассудной затеи.
Ее поддержали мои родители. Да и многие ученые говорили мне, что недоверчиво относятся к подводному экипажу профессора Огюста Пикара. Я успокаивал родных:
— Батискаф вполне надежен. Вам не из-за чего беспокоиться.
Признаюсь, что я немного кривил душой, так как наша операция не была застрахована от неожиданностей.
Как бы то ни было, мы с Дюма и Тайе снова были вместе, готовые плыть к берегам Западной Африки навстречу самому замечательному приключению в нашей жизни, и ничто не могло нас удержать. В чудесном подводном дирижабле я погружусь в море на глубину, которая в пять раз превысит прежний рекорд. Профессор Пикар, поднимавшийся на одиннадцать миль в небеса, намеревался теперь опуститься на тринадцать тысяч футов в морскую пучину.
Доблестный ветеран науки разработал конструкцию «Батискафа» (глубинного судна) десять лет назад. Тогда осуществить проект помешала война. Когда она кончилась, батискаф был построен под наблюдением выдающегося бельгийского физика, доктора наук Макса Косэнса. Бельгийский национальный научно-исследовательский фонд дал средства на персонал и плавучую морскую базу. Группа подводных изысканий заручилась разрешением французских ВМС использовать военные самолеты для разведки и спасательных работ, а также два фрегата и наш «Эли Монье». В экспедиции должны были участвовать двое французских ученых — директор Института Черной Африки профессор Теодор Моно и доктор наук Клод Франсис-Беф, основатель Научно-исследовательского океанографического центра. Я назывался «морским экспертом».
Два года наша Группа готовила опыт; мы сконструировали немалую часть необычного вспомогательного оборудования батискафа, включая самое смертоносное подводное оружие, какое когда-либо существовало. На «Эли Монье» мы поставили автоматический киноаппарат для съемки под водой.
Первого октября, в четыре часа утра, сверкающий белизной свежеокрашенный «Эли Монье» вышел из Дакара, чтобы встретиться в море со «Скалдисом» — бельгийским судном, которое везло профессора Пикара, его ученых собратьев и батискаф.
Едва наши суда сошлись, как мне неудержимо захотелось немедленно посмотреть батискаф. Я спустил на воду шлюпку и поспешил на «Скалдис». Отвечая на ходу на приветствия капитана Ла Форса и ученых, я скатился по трапу вниз в открытый грузовой трюм, где находилось подводное судно. Вспыхнули яркие лампы, и я увидел чудесный корабль.
Под большим сверкающим тупоносым баллоном — металлической оболочкой «дирижабля» — висел крашеный стальной шар диаметром около семи футов; в этой гондоле я и должен был спуститься на дно океана. С обеих сторон гондолы было по электрическому мотору; они вращали винты, призванные перемещать наш аппарат в среде, где давление в четыреста раз больше атмосферного. Я уже был знаком с батискафом по чертежам, теперь смог пощупать его своими руками. Моя вера, питавшаяся до сих пор теорией, окончательно окрепла.
Кабина для наблюдателей была отлита из стали; толщина стенок — три с половиной дюйма. Мощные стальные рамы заключали два иллюминатора шестидюймовой толщины.
В оболочке «дирижабля» (она придает плавучесть аппарату под водой) находилось шесть стальных баков для десяти тысяч галлонов особо легкого бензина, удельный вес которого немногим больше половины удельного веса морской воды. Бензин служил не горючим, а, так сказать, поплавковым наполнителем. Важное свойство бензина — его относительно слабая сжимаемость; он лучше, чем воздух, сопротивляется напору воды. Теоретически оболочка батискафа могла выдержать давление, отвечающее глубине в пятьдесят тысяч футов; такой на деле нет в природе. Мы собирались погрузиться на тринадцать тысяч футов — среднюю глубину Мирового океана — и могли полагаться на хороший запас прочности.
Самым смелым в проекте профессора Пикара было то, что аппарат погружался без привязывающих его к поверхности тросов; разумеется, это особенно радовало энтузиастов акваланга из Группы подводных изысканий. Пикар отказался от прежних конструкций — стальных сфер, опускаемых в пучину на тросах. Доктор Вильям Биб проник в морские глубины именно в таком шаре, обремененном колоссальным весом стального троса. Его батисфера не обладала никакой маневренностью; к тому же каждый дополнительный отрезок троса только увеличивал грозившие наблюдателю опасности.
Батискаф был сделан так, чтобы самостоятельно передвигаться на глубине, в двадцать пять раз превосходящей рабочую глубину обычной подводной лодки. Погружаться вертикально вниз, тормозить, сбрасывая балласт (железная дробь и чушки), в случае необходимости выпуская бензин из баков. Под гондолой была укреплена цепь весом в триста фунтов. Коснувшись дна, она останавливала погружение; она же позволяла батискафу идти над грунтом на высоте трех футов со скоростью одного узла. Запас хода — десять морских миль. Через иллюминаторы наблюдатели могли видеть подводный ландшафт, освещаемый наружными прожекторами; их мощность допускала цветную киносъемку.
Внутри гондолы было невероятное множество всяких рычагов. Наша Группа сконструировала механические клешни, которыми экипаж батискафа мог брать предметы, находящиеся снаружи. Кабина была оснащена десятками приборов, включая счетчик Гейгера для измерения космического излучения, а также кислородным аппаратом и воздухоочистителем, превосходившими все, что было создано до тех пор в этом роде. Два человека могли жить внутри стального шара двадцать четыре часа.
В снаряжение батискафа входили изготовленные нами в Тулоне глубинные пушки Пикара — Косэнса. Эти пушки составляли невиданную подводную батарею. Семь стволов двадцать пятого калибра заряжались трехфутовыми гарпунами, которые выстреливались с помощью гидравлического «пистона». Ударная сила возрастала с увеличением давления воды. На глубине трех тысяч футов пушка Пикара — Косэнса с пятнадцати футов пробивала трехдюймовую дубовую доску. На поверхности гарпун был бессильным.
Гидропушка предназначалась для подводных обитателей, таких, как дразнивший наше воображение гигантский кальмар. Не полагаясь на одну только ударную силу гарпуна, мы подвели через трос к его наконечнику электрический ток. Если «дичь» окажется невосприимчивой и к электричеству, наконечник гарпуна впрыскивает в рану стрихнин. В казенной части гидропушки был барабан, на который наматывался трос.
Очень важно было своевременно обнаружить всплывший батискаф, чтобы люди в нем не задохнулись. Для этого на «Эли Монье» был установлен новый гидролокатор. Фрегаты «Ле Верье» и «Круа де Лорен», а также самолеты могли выследить подводный дирижабль благодаря установленной на нем радарной мишени.
Чтобы подняться, батискаф освобождал груз, удерживаемый электромагнитами. Если с экипажем случится что-нибудь непредвиденное, магниты автоматически отключатся.
Конечным пунктом нашего первого перехода был залив, закрытый от ветра вулканической вершиной португальского острова Боавишта в архипелаге Зеленого Мыса. Руководили операцией Пикар, Косэнс, Моно и Франсис-Беф, капитан «Скалдиса» Ла Форс, отвечавший за спуск «Батискафа» на воду и подъем его на борт, и, наконец, мы с Дюма и Тайе; нам было поручено зарядить баки и подвесить балласт, следить за аппаратом во время погружения, зачалить его по всплытии и передать капитану Ла Форсу. Вскоре выяснилось, что нам не придется испытывать вспомогательное оборудование. Время не позволяло проверить механические клешни и гидропушку. Дюма очень огорчился, он так мечтал увидеть извивающиеся щупальца громадного кальмара, расстрелянного, отравленного и пораженного током на глубине двух миль! Чтобы оправдать ожидания своих почитателей и попечителей, профессор Пикар сказал, что хочет сам участвовать в первом контрольном погружении батискафа. Остальные охотно с этим согласились. Наши суда стали на якорь рядом с Боавиштой в таком месте, где глубины не превышали ста футов. Начался утомительный труд: мы готовили подводный дирижабль к спуску на воду. Пять дней бились, преодолевая самые неожиданные препятствия; наконец осталось только прикрепить к корпусу электромагнитами аккумуляторы весом в тысячу двести фунтов и несколько тонн железных чушек. Для автоматического всплытия в кабине батискафа был «будильник», который в нужную минуту отключал магниты. Аппарат был подвешен в трюме, и профессор Пикар забрался в гондолу, чтобы в последний раз проверить приборы. Хронометр исправно отсчитывал секунды, но тут Пикар увидел часы, которые почему-то стояли. Истый швейцарец, наш рассеянный профессор завел часы, не обратив внимания на то, что стрелка «будильника» поставлена на 12 часов дня. Мы потратили все утро, чтобы подвесить балласт, и уже приготовились к следующей операции — вдруг, ровно в полдень, часы сработали, и многотонный груз с грохотом обрушился вниз. Каким-то чудом в этот миг под аппаратом не было людей. А после случившегося все вообще старались держаться подальше от батискафа, подходя к нему, только если это было необходимо. Хорошо еще, что у нас нашлись запасные аккумуляторы взамен разбившихся. На место второго участника крещения подводного дирижабля претендовало семь человек. Мы бросили жребий — счастливцем оказался Теодор Моно. Погружение началось в 15.00 26 ноября 1948 года. Пикар и Моно выслушали заключительные пожелания и напутствия, после чего их заперли в белом шаре. Лебедка вознесла аппарат в воздух и опустила его на притихшее море. Три часа мы накачивали в баки бензин. Тем временем Тайе и Дюма плавали вокруг, проверяя оборудование и обмениваясь через иллюминатор жестами с заточенными в кабине учеными мужами. Поднявшись на борт, Тайе отрапортовал: — Все в порядке. Они играют в шахматы. Вот уже и солнце зашло. Канат, соединявший батискаф со «Скалдисом», передали на шлюпку, которая должна была отвести аппарат подальше, чтобы он не вынырнул прямо под базой. Вспыхнули судовые прожекторы, освещая подводный дирижабль. Квартирмейстер Жорж стоял на медленно погружавшейся оболочке; можно было подумать, что он каким-то чудом стоит на воде. Профессор Пикар, морской узник, включил для проверки фонари батискафа, и море озарилось снизу ярким сиянием. С лодки передали Жоржу чушки — дополнительный балласт; уйдя в воду по подбородок, он пристроил их на место, потом выскочил на поверхность и взялся за борт лодки. Батискаф скрылся. Команды кораблей выстроились вдоль поручней, молча глядя туда, где только что плавал необычайный аппарат. Вдруг батискаф появился вновь! Без веса Жоржа он оказался слишком легким. Грянул неудержимый хохот. Жорж, улыбаясь, подплыл к оболочке и добавил еще балласта. Батискаф окончательно ушел под воду. …Через шестнадцать минут, в 22.16, из моря вынырнула радарная мишень «дирижабля» — причудливое алюминиевое сооружение, напоминающее китайскую пагоду. Пять часов, которые показались нам нескончаемыми, мы буксировали, откачивали и поднимали; нужно было поместить батискаф обратно в трюм и освободить его пленников. Но вот вспыхнули прожекторы, осветив гондолу и замерших в ожидании кинооператоров. Мы отперли люк и откинули крышку. Показался сапог, затем голое колено, еще один сапог и еще колено, купальные трусики, голый живот и, наконец, взъерошенная очкастая голова профессора Огюста Пикара. Его вытянутая рука держала бутылку с патентованным напитком, предусмотрительно обращенную наклейкой к камерам. Профессор Пикар торжественно отпил несколько глотков влаги, изготовляемой одним из его попечителей. Батискаф вернулся из пучины. Весть об успехе первого испытания была передана по радио бельгийскому правительству. Одновременно мы запросили еще средств на «большое» погружение. «Большое» погружение — без людей — назначили на воскресенье, и команда «Скалдиса» обрадовалась возможности получить сверхурочные. Снова лебедка подняла неуклюжий аппарат со всеми его автоматическими приспособлениями. Части балласта были связаны канатом в огромную колбасу. В последнюю секунду эта колбаса стукнулась о шлюпбалку, и три тонны груза рухнули на палубу. Наши сердца сжались в отчаянии. Капитан Ла Форс взбунтовался. Он предложил прекратить опыт, пока батискаф не пробил брешь в корпусе судна. Я горячо возразил: — Ведь дело не в какой-нибудь ошибке в расчетах! Надо сделать еще попытку! Ученые, конечно, поддержали меня. Наконец капитан смягчился. Суда пошли в залив Санта-Клара на острове Сантьягу; здесь глубина около пяти тысяч семисот футов. На рассвете Косэнс завел «будильник» батискафа на 16 часов 40 минут. В 16.00 аппарат ушел под воду. Боцман занес топор над буксирным канатом. Я махнул рукой — топор обрубил канат. Дюма и Тайе нырнули следом за батискафом. На глубине ста пятидесяти футов они расстались с ним, он быстро ушел в голубую толщу. Если аппарат не вернется, замечательной идее Пикара конец… Неудача сегодня на много десятилетий отодвинет исполнение мечты ученых проникнуть в последнюю неизведанную область на земле. Если же батискаф вернется, мы увидим, как построенные по его принципу глубоководные суда откроют человеку доступ в океанскую бездну! На корабле все притихли. Я пообещал бутылку коньяка первому, кто обнаружит батискаф. Люди облепили мачты и трубы; на фоне голубого неба мелькали красные помпоны матросских беретов. Прошло двадцать девять минут. Вдруг раздался крик механика Дюбуа: — Вон он! В двухстах ярдах от судна из воды показалась оболочка батискафа. Мы так напряженно смотрели на нее, что не сразу заметили: радарная мишень была начисто срезана, словно каким-то грозным орудием! Аквалангисты толпой ринулись в воду, спеша осмотреть подводный дирижабль. Я обследовал аппарат со всех сторон; он вполне сохранял плавучесть, нигде не было течи, хотя тонкий лист оболочки, особенно в верхней части, был смят и покоробился. Смеркалось, надо было подтягивать батискаф к судну. Однако нас понемногу относило в сторону, а мы никак не могли зацепить аппарат. Жорж вместе с одним матросом со «Скалдиса» стоял на оболочке, пытаясь закрепить канат. Ветер крепчал, появились волны; батискаф подпрыгивал и качался, и мы боялись, как бы его не разбило ударом о борт «Скалдиса». Дюма и Тайе нервничали: им никак не удавалось подсоединить шланги, чтобы откачать бензин из баков. Тогда Косэнс приказал продуть баки сжатой углекислотой. Облака бензиновых паров обволокли «Скалдис». Малейшая искра грозила взрывом и гибелью не только батискафа, но и его базы. Жорж и его помощник героически трудились у клапанов, подставляя лица брызгам бензина. Наконец закончили работу и были подняты на борт полуослепшие и совсем измотанные. Всю ночь мы бились, спасая батискаф. Лишь на рассвете аппарат был наконец водворен в свой ангар. На наше глубинное судно, которое олицетворяло столько надежд, было больно глядеть. Оболочка бесповоротно искорежена. Один из моторов сорван вместе с винтом. Внутри баков отложился осадок растворенной бензином краски. Мы открыли люк, чтобы проверить приборы. Автоматический глубиномер свидетельствовал — с поправкой на температуру и соленость воды, — что батискаф достиг глубины в четыре тысячи шестьсот футов. Ирония судьбы! Аппарат благополучно перенес давление в глубинах, если не считать таинственного исчезновения башенки, но был выведен из строя небольшим волнением на поверхности. Мы получили судно, которое могло доставить человека в морскую пучину, но не сумели добиться того, чтобы оно без вреда для себя переходило из водной среды в воздушную. Потом батискаф переделали, и он стал более устойчивым. Теперь его можно буксировать, вместо того чтобы перевозить в трюме. Экипаж входит в гондолу перед самым погружением и выходит сразу после всплытия. Предстоит новое испытание, и я уверен, что «Батискаф-II» доставит людей к «фундаменту» нашей земли.

Глава десятая
Среди жителей моря

Операция «Батискаф» позволила нам уделить несколько недель первым подводным исследованиям в Атлантическом океане. На карте между Мадейрой и Канарским архипелагом мы обнаружили два пятнышка и надпись: «Острова Сальведж». Справочник сообщал, что эти острова необитаемы, и мы пошли к ним. Нам предстояло пересечь зону, изобилующую акулами, поэтому были приняты особые меры предосторожности. Подводные пловцы ходили только по двое, страхуя друг друга, и к ногам прикрепляли таблетки уксуснокислой меди — мы называли их «флайтокс», — призванные удерживать акул на почтительном расстоянии.
Около пустынного островка Сальведжем Гранде мы с Дюма приготовились к погружению — Диди с большим подводным ружьем, которое зарядил взрывным гарпуном, я с киноаппаратом. Только мы оттолкнулись от трапа и опустили лицо в воду, как тут же непроизвольно опять уцепились за трап. Никогда еще мы не испытывали такого страха; отчаянно кружилась голова.
Мы поглядели друг на друга и, не выпуская трапа, осторожно снова окунули маски в воду. В ста футах под нами простиралось дно, видимое необычайно отчетливо, с мельчайшими подробностями. Ничто не говорило о том, что нас отделяет от него плотная толща воды. На грунте — ни камешка, ни малейшего следа животных или растительных организмов. Вода словно дистиллированная; эпитет «прозрачная», предполагающий прекрасную видимость на расстоянии, сравнимом с длиной хорошего концертного зала, здесь явно был недостаточным. Подводный ландшафт вырисовывался с пугающей четкостью. Казалось, стоит выпустить из рук трап, и мы сорвемся в пустоту и шлепнемся на волнистую скалу.
В конце концов, набравшись решимости, мы оторвались от корабля, и — о, чудо! — вода держала нас. Мы поплыли вниз — два огромных невиданных животных в аптечной жидкости. На глубине нескольких метров увидели неподвижно застывших барракуд: они не обратили на нас никакого внимания. Кругом висели в пустоте каменные окуни и крупные финты.
Но всего непривычнее были блестящие бурые лавовые косогоры, настолько гладкие, что казались отполированными. Наш друг, профессор Пьер Драш, уверял нас, что нет на свете подводной скалы или рифа, которых не облюбовала бы морская флора или фауна. И вот — исключение из этого правила. Тщетно мы старались разглядеть на подводных склонах острова Сальведжем Гранде хотя бы одного представителя животного или растительного мира. Впрочем, был один вид, который мы сразу даже не заметили. Все бугры усеяло несчетное множество морских ежей, какая-то особая тропическая разновидность, с иголками длиной в двенадцать дюймов. Повернувшись на бок, мы изучали этот народец; равномерно колыхались иглы, напоминая волнуемую ветром рожь. Потом мы снова поворачивались на живот, и опять при виде прозрачной пустоты приходилось бороться с головокружением.
Уходящие вверх пузыри выдоха успокаивали, напоминая, что в любой миг можно всплыть и ухватиться за трап. Мы не поймали ни одной рыбы и не сняли ни одного кадра: здесь и на море-то было непохоже.
В конце лета «Эли Монье» пришел в Дакар, в обманчиво тихих водах которого таятся тысячи акул. Два года мы готовились к встрече с атлантическими акулами, и у нас была самая надежная защита против них, какую когда-либо изобретал человеческий ум и изготовляли искусные руки тулонских кузнецов. Это была сборная железная клетка, наподобие львиной, которую можно было быстро смонтировать и опустить в воду. Через дверцу подводный пловец, спасаясь от акулы, мог войти внутрь под водой.
Мы учитывали, что акула опаснее всего для аквалангиста, когда он входит в воду или выходит. Теперь мы могли погружаться, ничего не боясь, выходить для работы из клетки, возвращаться в нее, запирать дверцу и спокойно подниматься вверх. Для связи с судном устроили электрическую сигнализацию.
Долгожданный первый спектакль «Человек в клетке» состоялся к югу от острова Мадлен, неподалеку от Дакара. Почетное право участвовать в премьере выпало Тайе, Дюма и мне — гордым авторам нового изобретения. Нагрузившись баллонами, киноаппаратами и подводными ружьями, мы сошли в клетку на палубе. Грузовая стрела вознесла нас на воздух; мы судорожно ухватились за железные прутья. Болтаясь на конце стрелы, мы решили, что «Эли Монье» качает больше обычного. Помахали на прощанье нашим восхищенным коллегам и погрузились в прозрачные волны.
Вода не воздух. Она приподняла нас и прижала к потолку клетки. Мы оттолкнулись и запорхали кругом этакими неуклюжими птичками. Судно мерно покачивалось, дергая трос с клеткой. Мы стукались о прутья то головой, то ногами, то всем телом. Чем длиннее трос, тем более рискованные прыжки выделывала стальная клетка. Баллоны колотились о железо; их колокольный звон гулко отдавался в воде, словно благовест, возвещающий наступление нового года.
У меня сорвало маску, и я больно ударился головой. Твердо решив не сдаваться, я вернул маску на место. Немного не доходя дна, клетка рывком остановилась и принялась раскачиваться взад и вперед. Мы держались за прутья, с тоской глядя на волю. Стайка бурых рыб-хирургов с ярко-желтыми плавниками, принарядившаяся для прогулки по зоопарку, долго обозревала нас. Потом они двинулись дальше; на смену им появилась шестифутовая барракуда. Она проследовала мимо не останавливаясь, и мы оценили ее чуткость: барракуда вполне могла заплыть между прутьями к нам. Я дал сигнал поднимать.
Наше хитроумное изобретение пригодилось только один раз, когда мы опустили клетку на дно без людей, в качестве «акулоубежища». В гости к акулам мы ходили без клетки.
В районе Дакарского порта на глубине семидесяти пяти футов наш эхолот нащупал затонувшую во время войны французскую подводную лодку. Мы нырнули. Чистенькая и аккуратная, она лежала на грунте, окруженная тучами рыб — серебристыми мальками и темными строматеусами. Дюма заплыл в тень около левого винта и встретил там нос к носу огромного промикропса, разновидность групера и родственника нашего средиземноморского меру. Сей экземпляр весил не менее четырехсот фунтов, превосходя наших старых знакомцев раз в десять. Широкая плоская голова с маленькими глазками медленно надвигалась на Дюма. Чудовищная пасть разинулась во всю ширь — достаточно большая, чтобы проглотить Диди. Он знал, что у групера нет опасных зубов, но этот великан был, кажется, способен съесть его, не разжевывая. Так поступает меру: плывя с открытой пастью, он заглатывает целиком омаров и осьминогов. Дюма был безоружен, а я плавал где-то в стороне, увлеченный киносъемкой.
Огромный зев был в двух футах от Дюма, когда он опомнился и дал задний ход, сохраняя безопасное расстояние. Чудовище не спешило, и просвет не сокращался. Диди знал, что промикропс безобиден, но вид этакой пасти все же его беспокоил. Долго, бесконечно долго, как показалось Дюма, длилось отступление; человек и рыба смотрели друг на друга со взаимной неприязнью. Наконец монстр утратил интерес к Диди, повернулся и ушел в свое темное убежище под затонувшей лодкой. Дюма возвратился на поверхность очень задумчивый.
— Представляю себя проглоченным заживо каким-то паршивым групером… — произнес он.
Пожалуй, нашим самым потешным морским товарищем стал тюлень. Некогда Средиземное море изобиловало тюленями Monachus albiventer — белыми монахами; в древности они были распространены от Черного моря до восточной части Атлантического океана. В семнадцатом веке, когда зародился тюлений промысел, «монахов» безжалостно истребляли люди, последователи ньюфаундлендца Абрахама Кина, который хвастливо называл себя величайшим зверобоем в истории: он забил миллион тюленей. Тем не менее мы не раз слышали от старых рыбаков, что они видели «монаха». Впервые мы напали на след этих вымирающих обитателей моря на Ла Галите. Так называется знаменитая своими омарами группа мелких островов в тридцати пяти милях к северу от Туниса; омаров ловят и держат в садках, потом их забирают суда из Туниса или из самой Франции. Рыжеволосый мэр Ла Галите, очень разговорчивый человек, уверял нас, что сам видел живых «монахов». — Как-то вечером, — рассказывал он, — «монах» на глазах у всех принялся грабить садок с омарами около пристани. Затеял такую возню, что, когда всплыл за воздухом, садок сидел у него на голове, словно шляпа. Мы расхохотались, представив себе эту картину. — Мы все его видели! — воскликнул мэр. — Я провожу вас к гротам, где живут тюлени. Мы обследовали три грота и ничего не нашли. Мэр показал нам четвертую пещеру. Тайе, Дюма и Марсель Ишак сошли на берег, чтобы спугнуть ее предполагаемых обитателей, а мы с Жаном Алина нырнули в воду напротив входа в грот. Жан притаился за скалой в пятнадцати футах впереди меня, я подыскал опору для кинокамеры. Наши друзья на суше бросили в грот камень. К их удивлению, оттуда выползли два тюленя — серая самка и громадный белый самец — и бросились в воду. Никаких сомнений, Monachus albiventer жив! Увидев из своей засады на фоне темного отверстия пещеры что-то большое и белое, я решил, что это какая-нибудь необычная рыба. Не потому, чтобы явообще не верил в «монаха», просто я никак не ожидал увидеть «беляка»: взрослый белый тюлень встречается чрезвычайно редко. Зато Алина сразу понял, что это настоящий «монах», и замахал руками: — Снимай! Самец остановился в шести футах от Жана. Старый альбинос сам был уникальным явлением природы, но он впервые увидел «рыбу» с раздвоенным хвостом, выделяющую пузырьки воздуха. Вращая огромными глазами, он недоуменно развел ластами и озадаченно погладил свои усы. Потом пошел прямо на меня. Он проплыл так близко от Алина, что тот успел даже погладить волосатый белый бок. Мы быстро вернулись на корабль, оделись и поспешили к пещере. При свете фонаря в глубине грота отыскали проход, сквозь который мог пробраться человек. Двадцать футов ползком, и мы во внутренней камере. Нам ударил в ноздри острый запах зверя. Посередине «зала» шириной около двадцати футов лежал хорошо сохранившийся скелет здоровенного тюленя. В этом тайнике тюлени нашли себе надежное укрытие, здесь они рожали детенышей, скрытые от глаз кровожадных людей, сюда заползали умирать, когда врагу удавалось подстрелить их. Одинокий скелет напомнил нам надгробный памятник… Дальше мы пошли в Порт-Этьенн[3], французский аванпост близ испанского Золотого Берега. Там мы встретили некоего мсье Коссэ, который обитал в одиночестве в лачуге из рифленого железа. Он рассказал нам, что тюлени — его единственные друзья. — Я знаю сигнал, стоит мне посвистеть, и они собираются, — говорил Коссэ. — В воскресенье встаю с утра пораньше, потихоньку пробираюсь в самую середину тюленьего стада и целый день провожу с ними на берегу. Мы смотрели на него и спрашивали себя, кто же вымер — «монахи» со своим другом Коссэ или все остальное человечество! Круг «друзей» Коссэ насчитывал двести представителей якобы вымерших тюленьих колоний Золотого Берега. Он предложил познакомить нас, и мы надели плавки, чтобы научиться у нашего хозяина ползать по-тюленьи. Филипп и Диди взяли маски и ласты и подплыли с моря. Они предусмотрительно держались в сторонке от этих животных, которые были вдвое больше их и могли прокусить и мышцы и кость своими мощными челюстями. Как раз в это время возле самого берега резвились два десятка тюленей: большой темный самец, самка с детенышами и стайка шаловливых подростков. Дюма внимательно изучал, как ныряют тюлени. Они закрывали ноздри, изгибались и без малейшего всплеска ныряли головой вниз. Самый обтекаемый среди нас, Диди решил изобразить «монаха». Это было унылое зрелище… Мощный прибой разбивал о скалы мутные волны, кишевшие жгучими микроорганизмами и медузами, но Диди и Филипп слишком увлеклись уроками плавания, чтобы считаться с такими неудобствами. В свою очередь, тюлени с явным интересом смотрели на приезжих дилетантов. Здоровенный самец потихоньку ушел под воду позади Тайе и вынырнул у него перед носом: захотел напугать. Филипп сложил ладонь чашечкой и брызнул водой тюленю в физиономию. Тот фыркал и отдувался, словно мальчишка. А на Дюма напал безудержный хохот, который вдруг сменился пронзительным воплем. Мы увидели, как Диди перевернулся и окунул голову в воду. Сквозь стекло маски он заметил хвост уплывающего тюленя: шутник подкрался сзади и пощекотал усами спину Диди. Как только мы увидели эту колонию, я тотчас решил привезти одного детеныша во Францию и приучить его нырять вместе с нами — будет «охотничья собака». Нам удалось поймать сетью дитя весом в восемьдесят фунтов. Много пар укоризненных глаз следили, как мы вытягивали из воды пленника. Коссэ явно был огорчен ничуть не меньше, чем его морские друзья. — Не беспокойтесь, — успокаивал я его. — Мы будем заботиться о нем. Он подружится с нами. Моряки прозвали тюлененка «Думбо». Они собрали на палубе пресловутое «акулоубежище» и расстелили внутри коврик. Тюлененок дулся, лежал совсем апатично и отказывался есть. Голодовка длилась уже шесть дней, когда мы пришли в Касабланку. Сильно обеспокоенные, мы решили арендовать общественный бассейн с морской водой, надеясь, что там наш малыш разгонит свою хандру. В разгар переговоров о бассейне к нам на палубу поднялся добродушный араб-рыбак и поглядел сквозь прутья злополучной клетки на грустного детеныша. — Послушайте, — сказал он, — тюлени очень любят осьминогов. Вы бы попробовали. Я стиснул его руку: — Умоляю вас, достаньте несколько осьминогов! Рыбак отправился на берег, срезал ветку с оливкового дерева и привязал ее на конец длинной жерди. Потом прошел на пристань, опустил ветку в воду и принялся крутить серебристые листья перед расщелиной в каменном устое. Засевший там осьминог принял листья за рыбок и обхватил ветку своими длинными щупальцами. Выждав, когда спрут окончательно запутается, араб вытащил его на пристань. За двадцать минут он выловил тройку маленьких осьминогов. Мы кинули улов в клетку Думбо. Тюлененок мигом ожил и проглотил спрутов, как макароны. С этой минуты Думбо пожирал без разбора любую рыбу, какую только мы могли раздобыть. Он стал крайне общительным, и наша дружба с этим энергичным юношей привела к неожиданному открытию: он поедал рыбы на двести долларов в месяц. Мы подсчитали, что, когда Думбо станет взрослым тюленем, эта цифра вырастет до тысячи! Сначала мы думали отпустить его в Средиземное море, но тут же сообразили, что Думбо (ведь он привык не бояться людей) способен внезапно вынырнуть около какого-нибудь рыбака и попросить рыбки, а тот с испуга убьет его. Везти его обратно к Золотому Берегу мы не могли. Да еще и неизвестно, как примет колония испорченного заграничным путешествием сородича. С грустью решились мы передать Думбо в марсельский зоопарк, где ему отвели отдельный бассейн. Мы навещали своего друга. Коссэ присылал ему из Африки поздравления к Рождеству. Но Думбо скоро разучился узнавать своих благодетелей с «Эли Монье». Он отворачивался от нас и радостно тявкал, приветствуя старушку в черном, которая ежедневно приносила ему рыбу.
Много интересного дало нам знакомство с благодатными водами архипелага Зеленого Мыса, где каждая вылазка в подводный мир сулила новые чудеса. Какие наблюдения смог бы сделать с нашим снаряжением Чарлз Дарвин, побывавший здесь в 1831 году во время своего знаменитого путешествия на «Бигле»! «Когда при наблюдении морских животных мне случалось нагибать голову фута на два над скалистым берегом, — писал Дарвин, — меня не раз обдавала снизу струя воды, и при этом слышался легкий скрипучий звук… Я обнаружил, что струю выбрасывала каракатица. Я заметил, что животное, которое я держал в каюте, слегка фосфоресцировало в темноте». Мы наблюдали каракатиц и осьминогов не сверху, а в их родной стихии. Мы видели в глубине огромных скатов. В водах у острова Боавишта развелось столько голубых омаров, что для них не хватало расщелин. Бездомные омары бродили по оживленным бульварам между жилищами счастливцев, совсем как фланирующие гуляки на городских улицах. Возле острова Брава мы с удивлением наблюдали, как долго сидят под водой морские черепахи. В зоопарке черепахи то и дело всплывают за воздухом, здесь же, на воле, они часами отсиживались на дне. Только однажды мы увидели черепаху, которая поднялась подышать. Очевидно, обмен веществ у них настолько вялый, что потребление кислорода очень мало, кроме тех случаев, когда надо грести вовсю, спасаясь от преследования. На глубине пятидесяти футов мы нашли широкий тоннель, пронизывающий насквозь основание островка. Заплывешь в эту темную трубу, оглянешься — и видишь изумрудное отверстие входа; дальше вглубь встречаются столбы серебристого света, проникшего сверху сквозь расщелины; наконец огибаешь выступ — и снова впереди приветливая зелень моря. У входа в грот всегда было много ярких серебристо-голубых рыб; они резвились, будто гости на свадьбе. Кстати, это сравнение очень близко к истине: здесь гуляли большие голубые каранги, брюшко рыб раздувалось от икры. Вообще-то каранги попадались нам у этого островка повсюду, стаями от четырех до тридцати штук; но здесь, в тенистом гроте, они скапливались сотнями, образуя непрерывно струящуюся серебристую массу. Появление подводных пловцов их настораживало, они окружали нас, словно гости на торжественном приеме, которые возмущенно глядят на незваных гуляк. Мы подплывали к тоннелю потихоньку, жались в темные углы, чтобы не спугнуть рыб; так нам удалось подсмотреть брачный обряд карангов. Перед лицом одной из тайн природы, которой, быть может, до нас не видел ни один человек, мы старались держаться скромно и незаметно. Нашим самым верным морским товарищем была трагикомическая рыба-труба; ее очень много в море у архипелага Зеленого Мыса. Лошадиная голова и несоразмерно маленький хвост соединены длинной, до двух футов, трубкой тела. Злополучная рыба-труба, или рыба-флейта, как ее еще называют, очень плохо приспособлена для движения. Бесполезный хвост и негибкое тело — серьезный изъян, и ей приходится отчаянно работать плавниками, чтобы сдвинуться с места. При этом ей как будто безразлично, как плыть — горизонтально или вертикально, торчком или вниз головой. Смотришь — из какой-нибудь расщелины в скале торчит штук десять этих жалких созданий, совсем как карандаши в стакане. В повадках рыбы-трубы есть любопытная черта. Мы видели это много раз, так что речь пойдет не о скороспелом выводе, а о проверенном наблюдении, которое подтверждено многочисленными кинокадрами. Если мимо проплывет более крупная рыба, скажем, рыба-попугай, рыба-ворчун, групер или лаврак, труба оставляет своих сородичей и устремляется к чужаку. Пристроится почти вплотную — либо сбоку, либо сзади — и силится не отстать, словно моля о дружбе и чуткости и обещая полную взаимность. В этом жесте нет ничего враждебного. Рыба-труба не вооружена ничем, что могло бы представлять угрозу для других рыб ее размеров, скорее она подвергает себя опасности, подходя к лучше оснащенным от природы большим рыбам. И она вовсе не хочет урвать себе кусочек от чужого обеда. Увы, ее порыв не встречает взаимности. Подводный прохожий плывет дальше по своим делам, игнорируя рыбу-трубу, пока ему вконец не надоест докучливый спутник. Рванется вперед, желая избавиться от общительного уродца, но тот упрямо тянется следом. В конце концов недовольный предмет столь навязчивого внимания развивает полную скорость, оставляя рыбу-трубу в одиночестве, отвергнутой — в который раз… Мы часто видели эту рыбью драму, не зная, смеяться или плакать.
Гибралтарский пролив — чрезвычайно благоприятное место, чтобы изучать морских млекопитающих. Тысячи мигрирующих китов и дельфинов ходят через узкий коридор, соединяющий Средиземноморье и Атлантику. Мы с Тайе однажды смотрели, как целые стада торопливо скользили сквозь эти ворота; в это же время под килем «Эли Монье» Дюма возился с автоматической кинокамерой, которая должна была заснять стайку резвых дельфинов, затеявших игру перед носом корабля. Они неслись рядом с судном, выскакивая один за другим из воды и шлепаясь обратно, или быстро уходили вперед, лежа на боку и поглядывая на людей маленькими живыми глазками. Вот плывет мать с детенышем; детеныш изо всех сил старается не отставать, и они ласково подталкивают друг друга. Вдруг, безо всякой видимой причины, ряды дельфинов стали редеть, потом и последний исчез, и занавес из соленой пены скрыл морской балет. Мы часто наблюдали этих животных, иногда ныряли с ними. Они играют в пятнашки так, словно им доступно чувство юмора. В строении дельфина поразительно много сходства с человеком. Они теплокровные, дышат воздухом, размеры и вес — почти как у человека. Доктор Лонже анатомировал дельфина на операционном столе на борту «Эли Монье». Неприятно было смотреть, когда он вынимал легкие — совсем как наши, мозг, величиной с человеческий, с глубокими извилинами, которые принято считать мерилом разумности. У дельфинов улыбающийся рот и блестящие глаза. Они общительны и обладают отчетливо выраженным чувством коллективности. Пожалуй, дельфинов в море больше, чем людей на земле[4]. Удары сильных ластов молниеносно выносят дельфина к поверхности; здесь он вдыхает воздух и опять ныряет, словно живая торпеда. Мы сняли ускоренной съемкой дыхало дельфина, чтобы проверить, сколько длится вдох. Кинолента показала, что они наполняют легкие за одну восьмую секунды. Когда дельфины ныряют, за ними тянется цепочка серебристых пузырьков: значит, дыхало не закрыто наглухо. Плавая среди них под водой, мы слышали что-то вроде мышиного писка, очень потешный звук для таких великолепных животных. Вполне возможно, что пронзительный писк дельфинов служит им не только для переговоров друг с другом. Однажды мы шли в океане со скоростью двадцати узлов курсом на Гибралтар; до пролива оставалось сорок миль. В это время нас нагнало стадо дельфинов. Их строй смотрел на центр Гибралтарского пролива, а ведь еще не было даже видно суши. Я незаметно изменил курс на пять-шесть градусов, пытаясь сбить дельфинов с толку. На несколько минут они поддались на мою уловку, потом повернули и легли на свой прежний курс. Я последовал их примеру — они шли точно на Гибралтар. Откуда бы дельфины ни плыли, они безошибочно знают, где лежит в океане этот проход в десять миль шириной. Может быть, у дельфинов есть звуковой или ультразвуковой локатор и мышиным писком они прощупывают невидимое дно? Или они обладают инстинктом, который безошибочно ведет к далеким скалам, воротам в страну их игр — Средиземноморье?

Глава одиннадцатая
Встречи с морскими чудовищами
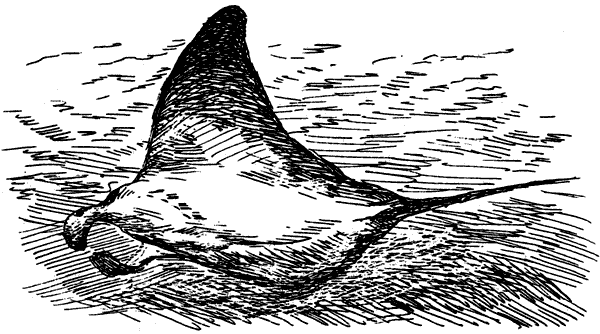
Рыболовство — одно из древнейших занятий человека, и фантастические истории рыбаков давным-давно стали частью фольклора. Сочинители книг и псевдоученые сделали свое, чтобы распространить суеверия, которые сохранились по сей день. И в наше время пресса частенько не может устоять против соблазна поместить какую-нибудь небылицу о морских чудовищах.
Когда сто лет тому назад на сцену впервые выступил водолаз, рассказы стали особенно драматичными: появился герой, который погружался в пучину и вступал там в бой со страшным врагом. Правда, авторы описаний кровавых схваток чаще всего оказывались завзятыми сухопутными крабами. Да будут прощены усердные труженики-водолазы за то, что они молчаливо подтверждали всю эту писанину! Разве можно требовать от облаченного в шлем водолаза, почти всегда работающего в мутной воде гаваней и каналов, чтобы он точно определил, что цепляет его воздушный шланг — осьминог-великан или гнилая доска? А где есть почва для сомнений, там процветают домыслы.
Подводный пловец накоротке изучает жизнь моря и по-настоящему с ней осваивается; он может сам быть предметом наблюдения другого пловца и даже оптической линзы, которая поставляет документальный материал. Его появление в море кладет конец суевериям.
Если оставить в стороне морского змея, то злодеи подводных драм — акулы, осьминоги, морские угри, мурены, хвостоколы, манты, кальмары и барракуды. Мы встречали всех, кроме гигантского кальмара, обитающего в недосягаемых для нас глубинах. Исключая акулу, которую нам так еще и не удалось раскусить, все эти чудовища оказались на поверку безобидными существами. Некоторые из них равнодушны к человеку; другие проявляли к нам интерес. Большинство, когда мы подплывали слишком близко, обнаруживало явную трусость. Я расскажу здесь о некоторых встреченных нами «чудовищах»; об акуле — особо.
Наши наблюдения, естественно, относятся в основном к Средиземноморью и отчасти к Атлантике и Красному морю. Конечно, я готов допустить, что средиземноморские чудовища успели стать ручными, а все дикие особи обитают в ваших морях… Но начнем с незаслуженно оклеветанного осьминога.
Осьминог обязан своей дурной славой прежде всего Виктору Гюго, описавшему в «Тружениках моря», как спрут поглощает добычу, а именно человека.
«Множеством гнусных ртов приникает к вам эта тварь, гидра срастается с человеком; человек сливается с гидрой. Вы одно целое с нею. Вы — пленник этого воплощенного кошмара. Тигр может сожрать вас, осьминог — страшно подумать! — высасывает вас. Он тянет вас к себе, вбирает, и вы, связанный, склеенный этой живой слизью, беспомощный, чувствуете, как медленно переливаетесь в страшный мешок, каким является это чудовище.
Ужасно быть съеденным заживо, но есть нечто еще более неописуемое — быть заживо выпитым».
Вот это представление об осьминоге тяготело над нами, когда мы впервые проникли в подводный мир. Однако после первых же встреч со спрутами мы решили, что автор приведенного отрывка не прав.
Несчетное множество раз мы подвергали собственные персоны риску стать жертвой пристрастия спрутов к необычным напиткам. Первое время мысль о том, чтобы прикоснуться к слизистой поверхности скал или покровам морских животных, вызывала у нас естественное отвращение, но мы быстро убедились, что наши пальцы не так уж щепетильны. И мы решились потрогать живого осьминога. Их было кругом очень много, и на дне, и на каменистых склонах. Дюма набрался храбрости и взял быка за рога, сиречь снял осьминога со скалы. Он сделал это не без опаски, успокаивая себя тем, что спрут был невелик и Дюма явно был чересчур большим глотком для него. Но если Диди слегка трусил, то осьминог был просто в панике. Он отчаянно извивался, стараясь спастись от четырехрукого чудовища, наконец вырвался и удрал скачками, прокачивая сквозь себя воду и выбрасывая струйки знаменитой чернильной жидкости.
Вскоре мы уже смело подступались к головоногим любых размеров. Дюма стал учителем танцев у спрутов. Подойдет к сопротивляющемуся изо всех сил ученику, вежливо, но решительно возьмет его за руки и кружится, приглашая партнера следовать его примеру. Осьминог усиленно вырывался. Перепуганное животное решительно отказывалось прикреплять свои присоски к телу человека. Диди оборачивал его щупальцы вокруг своей голой руки и только так добивался того, что присоски на миг прилипали, оставляя на коже быстро исчезающие следы.
Осьминогам присуща ярко выраженная приспособляемость. Дюма установил это, терпеливо играя с ними, пока они не начинали отвечать взаимностью. Особенно покорными спруты делались, когда совсем выбивались из сил.
Спрут передвигается двумя способами. Он успешно ползает по твердой поверхности. (Ги Гилпатрик рассказывает, как одного осьминога выпустили на свободу в библиотеке. Он принялся носиться вверх и вниз по полкам, швыряя книги на пол; это была, очевидно, запоздалая месть писателям!) Плавая, спрут набирает внутрь воду и с силой выталкивает ее, постепенно наращивая скорость. Дюма легко догонял осьминога под водой. Преследуемый выпускал несколько чернильных зарядов, наконец, не видя другого выхода, падал на дно и замирал, тотчас приобретая ту же окраску, что окружающий грунт. Зоркий глаз Диди видел насквозь все эти фокусы, он быстро обнаруживал жертву. Истощив все наличные средства психологической войны, несчастный осьминог подпрыгивал, усиленно вращая щупальцами, и снова опускался на дно.
После этого партнер соглашался танцевать. Учитель брал ученика за руки, и они делали импровизированные па. Испытав нервное потрясение, спруты послушно повиновались пальцам Дюма и под конец урока превращались в игривых котят. Но вот Дюма уходит, оставляя осьминога в состоянии полного изнеможения. Несчастный спрут облегченно следит, как исчезает его мучитель…
 Я знаю, все это напоминает истории одного популярного барона. Поэтому я снял несколько кинолент, которые подтверждают мой рассказ.
Предприимчивые писаки не пожалели сил, чтобы расписать «чернила» осьминога. Наши лица всегда защищены маской, поэтому я не могу сказать, отравляет ли чернильная жидкость спрута глаза. Во всяком случае, она никак не действует на обнаженную кожу человека и на проплывающих сквозь нее рыб. Мы убедились также, что эту жидкость не сравнишь с дымовой завесой, призванной скрыть спрута от преследователя: она не расплывается в воде, а повисает большим клубом, правда, недостаточно большим, чтобы скрыть осьминога. Могут спросить: для чего же служат эти чернила? Мне довелось услышать интересное объяснение верного друга осьминогов Теодора Руссо, куратора Музея искусств в Нью-Йорке. Он предполагает, что «чернильная бомба» не что иное, как «лжеосьминог», призванный вводить в заблуждение плохо видящего преследователя. Размерами и формой такая бомба в самом деле отдаленно напоминает сбросившего ее спрута.
На плоской отмели к северо-востоку от Поркерольских островов нам попался целый город осьминогов. Мы едва верили своим глазам. Научные данные, подтвержденные нашими собственными наблюдениями, говорили, что спруты обитают в расщелинах скал и рифов. А тут — причудливые постройки, явно сооруженные самими спрутами. Опишу типичную конструкцию: крыша — плоский камень двухфутовой длины, весом около двадцати фунтов, с одной стороны возвышается над грунтом на восемь дюймов, подпертая меньшим камнем и обломками кирпича. Внутри, в мягким грунте, выемка глубиной в пять дюймов. Перед навесом — небольшой вал из всевозможного строительного мусора: крабьих панцирей, устричных створок, глиняных черепков, камней, а также из актиний и ежей. Из жилища высовывалась длинная рука, а над валом прямо на меня смотрели совиные глазки осьминога. Едва я приблизился, как рука зашевелилась и пододвинула весь барьер к входу. Дверь закрылась. Этот дом мы засняли на цветную пленку.
Это было для меня очень ценным наблюдением, ведь оно говорит, что осьминог отлично умеет приспосабливать для своих нужд предметы; другими словами, у него сложные условные рефлексы. Я никогда раньше не встречал таких данных о спрутах. То, что осьминог собирает стройматериал для своего дома и, приподняв каменную плиту, ставит подпорки, позволяет сделать вывод, что у него высоко развит мозг.
Никто еще не наблюдал брачных отношений спрутов на воле. Однако они описаны англичанином Генри Ли, который восемьдесят лет назад, работая при Брайтонском аквариуме, терпеливо изучал заключенных в специальном бассейне осьминогов. Генри Ли выпустил остроумную книгу под названием «The Octopus, the Devilfish of Fact and Fictions» («Осьминог или рыба-черт: правда и выдумка»), где, равняясь на нравы викторианской эпохи, писал:
«В книге для широкого читателя я могу сообщить лишь минимальные сведения о том, как оплодотворяются яйца осьминогов».
После этой оговорки следует описание виденного:
«Когда наступает брачная пора, в одном из щупальцев спрута мужского пола происходит странное изменение. Оно набухает, и появляется длинный змеевидный отросток с двумя продольными рядами присосков, из конца которого, в свою очередь, протягивается эластичная нить. Когда спрут предлагает руку даме своего племени, она принимает ее и сохраняет, унося с собой, ибо указанный отросток отделяется от владельца и становится подвижным существом, живущим своей жизнью еще и некоторое время после того, как перешел во владение дамы».
Любимое пристанище чудовищ иного рода — площадка на глубине ста двадцати футов около Ла Сеш дю Сарранье на Лазурном берегу. Здесь очень своеобразный грунт: издали он кажется песчаным, когда же подплываешь ближе, видишь, что все дно выстлано странными круглыми плитками органического происхождения, окрашенными в нежно-розовые и нежно-лиловые тона. Тут же в камнях есть несколько расселин, занятых меру и скорпенами; но подлинные хозяева этих мест — скаты. Множество хвостоколов, орляков и обычных скатов отдыхает на этой необычной подстилке.
Завидев нас, они настораживались, готовые вспорхнуть, и в конце концов попарно «улетали», размахивая своими «крыльями». Мы часто встречали двойки скатов, но нам ни разу не удалось выловить такую пару, чтобы проверить, состоит ли она из особей разного пола. Однажды я напал на двух среднего размера хвостоколов, спавших на дне. Один из них проснулся и хотел было улепетнуть, однако спохватился, вернулся и разбудил второго, погладив его плавниками. Они уплыли вместе.
Если мы проникали в царство скатов незаметно, не двигая руками и ногами, рыбы оставались лежать на местах, только вращали огромными глазами, следя за нами. Те, что потолще — самки с детенышами; они очень долго носят в себе мальков, словно сознательно стремятся выпустить их в море возможно лучше подготовленными к борьбе за существование. Охота на скатов быстро перестала нас увлекать: это было простое истребление. Но поначалу мы иногда выходили на них с острогой. Один добытый нами скат неожиданно разродился прямо на песке. Тайе взял восьмидюймового малька, чтобы швырнуть его в воду, и вскрикнул: малыш уколол его не хуже, чем взрослый скат.
Случается, выловленные скаты ранят рыбаков, вот почему те так тщательно соблюдают правило: первым делом отрубить скату хвост. Часто рана оказывается отравленной. У ската есть шип на хвосте. В его бороздах имеются ядовитые железы, слизь которых покрывает зазубренный шип.
Скаты-хвостоколы человеку не опасны: они не нападают первыми. Знаменитый шип служит не для атаки, а лишь для защиты от назойливых чужаков. Он расположен в основании хвоста, выступая всего на одну шестую своей длины. Дюма подплывает к скату сзади и хватает его за самый кончик хвоста, чтобы случайно не уколоться. Скат силится вырваться, но не может пустить в ход шип. Зазубренное оружие защищает его от нападения сзади и сверху. Купальщик, наступивший на ската, может поплатиться болезненной раной, которая тем глубже, чем сильнее удар, нанесенный испуганной рыбой. Можно на много дней угодить в больницу.
Как-то раз, когда мы ныряли около Прая (архипелаг Зеленого Мыса), по дну скользнула громадная тень. Я решил, что ее отбрасывает облако, парящее в надводном мире, но тут Дюма окликнул меня и указал вверх. Прямо над нами скользил гигантский скат-манта с размахом «крыльев» в восемнадцать футов. Он не плыл, а буквально летел, заслонив собою солнце. Изогнутые края его «крыльев» рассекали поверхность воды. Брюхо отливало белой эмалью, и тем чернее казалась спина рыбины. Сверхъестественное видение длилось недолго. Эта махина легко увернулась от догонявшего ее со скоростью двух узлов Дюма, взмахнула напоследок «крыльями» и пропала в сумрачной толще.
Рыбаки боятся манты: ее любимая ночная забава — выскакивать из воды, обрушивая затем с оглушительным шумом свой многотонный вес на волны, породила одно суеверие. Рыбаки клялись нам, что манты убивают ныряльщиков, обхватывая их и душа своими огромными «крыльями» или расплющивая о дно. На деле манта не только не внушает ныряльщику страха, а, напротив, вызывает восхищение у тех, кому посчастливилось видеть ее в полете. Мы исследовали анатомию манты, чтобы узнать строение ее пищеварительного аппарата, и не нашли никаких зубов. Манта добывает пищу могучим насосом, включающим ее пасть и жаберные щели. Поток воды проходит сложную фильтрующую систему, в которой осаждается планктон — единственная пища этой огромной рыбины с крохотным горлом. В отличие от хвостокола манта не вооружена шипом и, спасаясь от врага, может рассчитывать только на скорость. Она опасна лишь для… планктона.
Я знаю, все это напоминает истории одного популярного барона. Поэтому я снял несколько кинолент, которые подтверждают мой рассказ.
Предприимчивые писаки не пожалели сил, чтобы расписать «чернила» осьминога. Наши лица всегда защищены маской, поэтому я не могу сказать, отравляет ли чернильная жидкость спрута глаза. Во всяком случае, она никак не действует на обнаженную кожу человека и на проплывающих сквозь нее рыб. Мы убедились также, что эту жидкость не сравнишь с дымовой завесой, призванной скрыть спрута от преследователя: она не расплывается в воде, а повисает большим клубом, правда, недостаточно большим, чтобы скрыть осьминога. Могут спросить: для чего же служат эти чернила? Мне довелось услышать интересное объяснение верного друга осьминогов Теодора Руссо, куратора Музея искусств в Нью-Йорке. Он предполагает, что «чернильная бомба» не что иное, как «лжеосьминог», призванный вводить в заблуждение плохо видящего преследователя. Размерами и формой такая бомба в самом деле отдаленно напоминает сбросившего ее спрута.
На плоской отмели к северо-востоку от Поркерольских островов нам попался целый город осьминогов. Мы едва верили своим глазам. Научные данные, подтвержденные нашими собственными наблюдениями, говорили, что спруты обитают в расщелинах скал и рифов. А тут — причудливые постройки, явно сооруженные самими спрутами. Опишу типичную конструкцию: крыша — плоский камень двухфутовой длины, весом около двадцати фунтов, с одной стороны возвышается над грунтом на восемь дюймов, подпертая меньшим камнем и обломками кирпича. Внутри, в мягким грунте, выемка глубиной в пять дюймов. Перед навесом — небольшой вал из всевозможного строительного мусора: крабьих панцирей, устричных створок, глиняных черепков, камней, а также из актиний и ежей. Из жилища высовывалась длинная рука, а над валом прямо на меня смотрели совиные глазки осьминога. Едва я приблизился, как рука зашевелилась и пододвинула весь барьер к входу. Дверь закрылась. Этот дом мы засняли на цветную пленку.
Это было для меня очень ценным наблюдением, ведь оно говорит, что осьминог отлично умеет приспосабливать для своих нужд предметы; другими словами, у него сложные условные рефлексы. Я никогда раньше не встречал таких данных о спрутах. То, что осьминог собирает стройматериал для своего дома и, приподняв каменную плиту, ставит подпорки, позволяет сделать вывод, что у него высоко развит мозг.
Никто еще не наблюдал брачных отношений спрутов на воле. Однако они описаны англичанином Генри Ли, который восемьдесят лет назад, работая при Брайтонском аквариуме, терпеливо изучал заключенных в специальном бассейне осьминогов. Генри Ли выпустил остроумную книгу под названием «The Octopus, the Devilfish of Fact and Fictions» («Осьминог или рыба-черт: правда и выдумка»), где, равняясь на нравы викторианской эпохи, писал:
«В книге для широкого читателя я могу сообщить лишь минимальные сведения о том, как оплодотворяются яйца осьминогов».
После этой оговорки следует описание виденного:
«Когда наступает брачная пора, в одном из щупальцев спрута мужского пола происходит странное изменение. Оно набухает, и появляется длинный змеевидный отросток с двумя продольными рядами присосков, из конца которого, в свою очередь, протягивается эластичная нить. Когда спрут предлагает руку даме своего племени, она принимает ее и сохраняет, унося с собой, ибо указанный отросток отделяется от владельца и становится подвижным существом, живущим своей жизнью еще и некоторое время после того, как перешел во владение дамы».
Любимое пристанище чудовищ иного рода — площадка на глубине ста двадцати футов около Ла Сеш дю Сарранье на Лазурном берегу. Здесь очень своеобразный грунт: издали он кажется песчаным, когда же подплываешь ближе, видишь, что все дно выстлано странными круглыми плитками органического происхождения, окрашенными в нежно-розовые и нежно-лиловые тона. Тут же в камнях есть несколько расселин, занятых меру и скорпенами; но подлинные хозяева этих мест — скаты. Множество хвостоколов, орляков и обычных скатов отдыхает на этой необычной подстилке.
Завидев нас, они настораживались, готовые вспорхнуть, и в конце концов попарно «улетали», размахивая своими «крыльями». Мы часто встречали двойки скатов, но нам ни разу не удалось выловить такую пару, чтобы проверить, состоит ли она из особей разного пола. Однажды я напал на двух среднего размера хвостоколов, спавших на дне. Один из них проснулся и хотел было улепетнуть, однако спохватился, вернулся и разбудил второго, погладив его плавниками. Они уплыли вместе.
Если мы проникали в царство скатов незаметно, не двигая руками и ногами, рыбы оставались лежать на местах, только вращали огромными глазами, следя за нами. Те, что потолще — самки с детенышами; они очень долго носят в себе мальков, словно сознательно стремятся выпустить их в море возможно лучше подготовленными к борьбе за существование. Охота на скатов быстро перестала нас увлекать: это было простое истребление. Но поначалу мы иногда выходили на них с острогой. Один добытый нами скат неожиданно разродился прямо на песке. Тайе взял восьмидюймового малька, чтобы швырнуть его в воду, и вскрикнул: малыш уколол его не хуже, чем взрослый скат.
Случается, выловленные скаты ранят рыбаков, вот почему те так тщательно соблюдают правило: первым делом отрубить скату хвост. Часто рана оказывается отравленной. У ската есть шип на хвосте. В его бороздах имеются ядовитые железы, слизь которых покрывает зазубренный шип.
Скаты-хвостоколы человеку не опасны: они не нападают первыми. Знаменитый шип служит не для атаки, а лишь для защиты от назойливых чужаков. Он расположен в основании хвоста, выступая всего на одну шестую своей длины. Дюма подплывает к скату сзади и хватает его за самый кончик хвоста, чтобы случайно не уколоться. Скат силится вырваться, но не может пустить в ход шип. Зазубренное оружие защищает его от нападения сзади и сверху. Купальщик, наступивший на ската, может поплатиться болезненной раной, которая тем глубже, чем сильнее удар, нанесенный испуганной рыбой. Можно на много дней угодить в больницу.
Как-то раз, когда мы ныряли около Прая (архипелаг Зеленого Мыса), по дну скользнула громадная тень. Я решил, что ее отбрасывает облако, парящее в надводном мире, но тут Дюма окликнул меня и указал вверх. Прямо над нами скользил гигантский скат-манта с размахом «крыльев» в восемнадцать футов. Он не плыл, а буквально летел, заслонив собою солнце. Изогнутые края его «крыльев» рассекали поверхность воды. Брюхо отливало белой эмалью, и тем чернее казалась спина рыбины. Сверхъестественное видение длилось недолго. Эта махина легко увернулась от догонявшего ее со скоростью двух узлов Дюма, взмахнула напоследок «крыльями» и пропала в сумрачной толще.
Рыбаки боятся манты: ее любимая ночная забава — выскакивать из воды, обрушивая затем с оглушительным шумом свой многотонный вес на волны, породила одно суеверие. Рыбаки клялись нам, что манты убивают ныряльщиков, обхватывая их и душа своими огромными «крыльями» или расплющивая о дно. На деле манта не только не внушает ныряльщику страха, а, напротив, вызывает восхищение у тех, кому посчастливилось видеть ее в полете. Мы исследовали анатомию манты, чтобы узнать строение ее пищеварительного аппарата, и не нашли никаких зубов. Манта добывает пищу могучим насосом, включающим ее пасть и жаберные щели. Поток воды проходит сложную фильтрующую систему, в которой осаждается планктон — единственная пища этой огромной рыбины с крохотным горлом. В отличие от хвостокола манта не вооружена шипом и, спасаясь от врага, может рассчитывать только на скорость. Она опасна лишь для… планктона.
Около острова Брава как-то раз Дюма удалось обнаружить здоровенную морскую черепаху, которая, полагаясь на свою защитную окраску, прильнула к подводной скале. Диди подобрался к ней сзади и поймал руками за щит. Пораженная черепаха принялась брыкаться. Диди приподнял ее и слегка оттолкнулся ластами. Оскорбленное животное поплыло вперед, и они вместе сделали мертвую петлю. Дюма выполнил несколько фигур высшего пилотажа, в том числе безупречный иммельман, и только после этого отпустил свой буксир. Бедная черепаха не сразу пришла в себя — она еще раз, словно на бис, повторила последнюю петлю, прежде чем скрыться в зеленой воде. В повестях о подводном мире мурену всегда изображают подлинным гангстером глубин. Наравне с осьминогом она охраняет подводные клады. Впрочем, у рыбаков есть основание ее бояться. Пойманная мурена отчаянно извивается в лодке и хватает все без разбора своими страшными челюстями. Опытные рыбаки немедленно разбивают голову этому опасному хищнику. Древнеримские историки сообщают, что Нерон приказал бросить рабов в садок с муренами, чтобы развлечь своих друзей зрелищем поедаемого человека. Было ли это на самом деле или нет, во всяком случае с тех самых пор за муренами закрепилась дурная слава. По всей вероятности, Нерон до того заморил голодом своих мурен, что они готовы были сожрать все, что угодно. В море мурена не нападает на человека. Мы обычно видели лишь торчащие из расщелин головы и шеи этих змеевидных рыб. Спору нет, вид у них устрашающий. Помимо скорости, защитной окраски и своего вооружения, рыбы прибегают еще и к психологическим эффектам. Страшные глаза и клыки мурены производят очень сильное впечатление. Если бы она могла шипеть дикой кошкой, она бы и от этого не отказалась! Мурену можно встретить в трубе затонувшего корабля, откуда она выглядывает своими сатанинскими глазами. И все же мурена — такое же прозаическое существо, как вы, я и ваша домашняя кошка. Она мечтает лишь о том, чтобы ей не мешали жить ее рыбьей жизнью. Понятно, она не остановится перед тем, чтобы вонзить зубы в незваного гостя. Как-то раз Дюма ловил омаров на скале маяка Мачадо, и мурена укусила его за палец. Ранка была незначительная и за ночь почти затянулась. На следующий день она еще немного кровоточила, потом совсем зажила. — Мурена не нападала на меня, — уверял Диди. — Она просто предупредила мою руку, чтобы та убиралась и больше не входила. У него не было ни заражения, ни отравления.
Роясь в гавани древнего Карфагена, мы встретили доктора наук Хелдта, директора океанографической станции в Саламбо. И он, и его жена были энтузиасты изучения морской фауны Туниса; они настояли на том, чтобы мы познакомились с одним из самых ужасных и ярких зрелищ, какое вообще можно увидеть — сиди-даудской мадрагой. Мадрага — огромная сеть для лова тунцов, изобретенная несколько веков назад на берегах Эгейского и Адриатического морей и позднее перекочевавшая в Тунис. Крупноячеистую вертикальную сеть длиной в одну-две мили протягивают от берега по диагонали так, что она образует в море четыре камеры. Эти камеры служат западней для больших тунцов ранним летом, когда они нерестятся. Тунцы — кочующие рыбы; некоторые ихтиологи считают, что они путешествуют по всему свету. Как бы то ни было, во время нереста большие косяки тунцов подходят к берегу, причем они всегда идут правым боком к суше. Аристотель, очень неплохой океанограф, решил, что тунец слеп на левый глаз, и это мнение до сих пор господствует среди рыбаков Средиземноморья. Что бы ни заставляло тунцов в их медовый месяц плыть правым боком к берегу, именно эта черта оказывается для них роковой. Натолкнувшись на мадрагу, косяк, чтобы обойти препятствия, сворачивает вдоль сети влево и попадает прямо в западню. Рыбаки-арабы, сидя в лодках, стерегут вход в ловушку и, едва вошла рыба, закрывают «дверь». Тунцы проходят во вторую камеру, она тоже запирается, а первую дверь можно открыть для новых пришельцев. Тем временем косяк оказывается уже в третьем отделении, за которым идет камера смертников, названная зловещим сицилианским словом «корпо» (трупы). Шестьдесят огромных тунцов и несколько сот бонит были загнаны в корпо, когда мы прибыли в Сиди-Дауд, чтобы заснять избиение на цветную пленку. Корпо уже подтянули к берегу. На пристани стоял в красной феске и американских армейских брюках раис — церемониймейстер и обер-палач. Вот он поднял флаг — сигнал к началу матансы (избиения). Сотни арабов съехались на своих плоскодонках и образовали вокруг корпо тесный квадрат. Раиса подвезли на лодке в середину квадрата. Новый сигнал — и толпа рыбаков издала варварский клич, после чего затянула старинную сицилианскую песню, которая всегда сопровождает матансу. В такт песне лодочники выбирали сеть. Марсель Ишак снимал этот спектакль с лодки над самым корпо, а мы с Дюма нырнули в сетевую камеру, чтобы запечатлеть подводные кадры. Хотя вода была кристально чиста, мы не могли видеть одновременно обеих стен корпо. Очевидно, и рыбы их не видели. Подсознательно мы восприняли психологию обреченных животных. Лишь изредка в поле нашего зрения попадал метавшийся в фисташково-зеленой толще косяк. Красавцы весом до четырехсот фунтов, по своему обычаю, плавали по кругу против часовой стрелки. Рядом с их мощными телами сеть казалась паутиной, чуть нажми — и лопнет, но рыбы не делали и малейшей попытки прорваться на волю. А наверху арабы продолжали выбирать сеть. Стенки камеры сужались, и пол поднимался все выше, его уже не было видно. Мы увидели жизнь в ином свете, когда смотрели на нее с точки зрения несчастных существ, заключенных в корпо. Каково это: оказаться в западне, обреченным на трагическую участь… В этой все более тесной тюрьме только мы с Дюма знали выход, только нам было предначертано спастись. Возможно, это излишняя сентиментальность, но нам было стыдно. Я готов был схватить нож и прорезать косяку путь на свободу. Вот камера смертников уменьшилась до одной трети первоначального размера. Возбужденная, нервная атмосфера… Косяк метался все стремительнее, но еще держал строй. Глаза рыб выражали почти человеческий ужас. В последний раз я вошел в сеть как раз перед тем, как лодочники приступили к истреблению. В эту минуту камера смертников представляла собой зрелище, какого я еще никогда не видел. Обезумевшие тунцы и бониты носились во всех направлениях в пространстве не больше хорошей жилой комнаты. Инстинкт правостороннего движения перестал действовать, тунцы утратили контроль над собой. Мне приходилось напрягать всю силу воли, чтобы оставаться под водой среди исступленно метавшихся рыб. Вот тунец мчится, как паровоз, прямо на меня, или сбоку, или летит наперерез. Разве тут увернешься… С перепугу я и не заметил, как истекло мое время, и поспешил сквозь мешанину тел к поверхности. На мне не было ни одной царапины. Даже совершенно обезумев, рыбины ухитрялись огибать меня, так что я в худшем случае чувствовал, как кожу гладит вихрь воды. Но вот сеть поднята к самой поверхности, и раис подает последний сигнал, приподнимая феску и приветствуя смертников. Рыбаки начали бить рыб трезубцами. Вода покраснела от крови. Пять-шесть человек объединялись, чтобы поднять из воды бьющегося и извивающегося, словно огромная заводная игрушка, тунца. В лодках росли горы окровавленных туш. Наконец бойня закончилась, и рыбаки прыгнули в розовую воду корпо — обмыться и отдохнуть…
Крупные лихии скорее, чем какие-либо другие рыбы, заслуживают название морской аристократии. Они ведут вольное существование глубже пятнадцати саженей, недосягаемые для сетей и крючков, снисходя до общения с надводным миром лишь у далеких мысов, уединенных рифов и затонувших на большой глубине судов. Длинные и гибкие, сильные и быстрые, с лимонно-желтой полосой вдоль серебристого бока, лихии — украшение морей. Иногда в одиночку, чаще в стаях, они внезапно, неведомо откуда, появляются в мире подводного пловца и смотрят на него глазами лани. И тотчас все остальные рыбы превращаются в неуклюжую деревенщину. Лихии — высокомерные космополиты; встречаясь на своем долгом пути от Сидона до Геркулесовых Столбов с человеком, они в лучшем случае приостановятся, чтобы взглянуть на него, но чаще всего он для них досадная помеха, которую надлежит небрежно оттолкнуть. Мы видели их снизу, как бы на фоне неба; они кружились вокруг теряющегося во мгле подводного пика. Как и тунцы, лихии — крупные кочующие хищники. Люди безуспешно пытаются заманить их на крючок или в сеть. Лихия так ловко обходит все западни, что рыбаки и ученые считают ее редкой рыбой, не больше трех футов в длину. А мы встречали в море гораздо больше лихий, чем тунцов, и для нас шестифутовые экземпляры не редкость. Но лихии настолько захватывающее зрелище, что для нас каждая встреча с ними событие. Вполне безопасна для подводных пловцов и барракуда. Если не считать фантастических небылиц о подводном мире, я нигде не читал, чтобы барракуда атаковала человека. Мы нередко встречались с крупными барракудами в Красном море, Средиземноморье и в тропической части Атлантики, и ни одна из них не проявила даже намека на агрессивность. По правде говоря, подводному пловцу просто не до барракуд, он слишком занят мыслью, как избежать другого, действительно опасного морского существа. Настоящий, невыдуманный бич глубин — обыкновенный морской еж с его длинными ломкими иглами. Но и морской еж не так агрессивен; вся беда в том, что он вездесущ. Конечно, он мал и не может вдохновить создателей мифов о морских чудовищах, но на того, кто наступил на морского ежа, он производит достаточно сильное впечатление. Иглы впиваются глубоко и обламываются. Их очень трудно вытащить; к тому же они бывают ядовитые. Мы остерегаемся морских ежей куда больше, чем барракуд. Еще неприятнее столкнуться со жгучими медузами, чьи разноцветные хрустальные купола висят в воде, словно небольшие мины. Синие, коричневые, желтые узоры медузы ласкают глаз, но многие виды могут чувствительно обстрекать человека. Особенно распространена и опасна сифонофора «португальский военный корабль» (физалия). Ее появление в прибрежных водах испортило отпуск не одному курортнику. Она плавает на поверхности, свесив вниз длинные — и ядовитые! — щупальца. Около Бермудского архипелага мне пришлось нырять сквозь колонию этих особ, настолько многочисленную, что надо было протискиваться между ними. Уйдя на безопасную глубину, я поглядел вверх и увидел лес «анчаров», чьи «кроны» сомкнулись в почти сплошной свод. Между щупальцами сновали мелкие рыбки номеусы, которые явно находятся в особой милости у физалии, так как она их не стрекает. Опасны для человека в подводном мире «огненные кораллы» и некоторые актинии; они могут причинить долго не заживающие ожоги, которые относятся к числу аллергических явлений: некоторые люди совсем невосприимчивы к ним, другие безболезненно переносят первое прикосновение, зато во второй раз сильно обжигаются. Особые антигистаминные мази излечивают такие ожоги за несколько часов. …Таковы некоторые из чудовищ, с которыми мы встречались. Если ни одно из них до сих пор не сожрало нас, то, вероятно, потому, что они не читали инструкций, которыми изобилует морская демонология.

Глава двенадцатая
Лицом к лицу с акулой

Впервые я встретился под водой с акулами в 1939 году, у острова Джерба близ берегов Туниса. Отливающие бронзой хищницы шли попарно, сопровождаемые свитой прилипал. При виде этих бестий мне стало не по себе, а Симона попросту пришла в ужас. Акулы надменно проследовали мимо нас.
Джербские акулы все до одной были внесены в специальную учетную книгу. Эту книгу я сохранял до 1951 года, когда мы попали в Красное море: здесь акул было столько, что моя статистика утратила всякий смысл. Из многочисленных — больше ста — встреч с акулами всевозможных видов я сделал два вывода. Первый: чем ближе мы знакомимся с акулами, тем меньше знаем о них. Второй: никогда нельзя предугадать заранее, как поведет себя акула.
Человека отделяют от акулы сотни миллионов лет. За триста миллионов лет она изменилась очень мало и по-прежнему живет в мезозойской эре, когда на земле шло горообразование. Время, заставившее других обитателей моря пройти сложную эволюцию, почти не коснулось этой безжалостной и неуязвимой хищницы, этого исконного убийцы, издревле вооруженного для борьбы за существование.
…Солнечный день в открытом море между островами Боавишта и Маю в архипелаге Зеленого Мыса. Атлантический океан обрушивает на торчащий из воды риф тяжелые валы, вверх взлетают высокие фонтаны. Это зрелище не вызывает у гидрографов особой приязни, и они тщательно отмечают такие места, чтобы предостеречь мореплавателей. Но «Эли Монье» тянет к рифам. Мы бросаем якорь у самой скалы: воды вокруг рифов кишат жизнью. Здесь мы будем нырять с кренящейся палубы.
Судно тотчас окружили небольшие акулы. Команда забросила в воду самые толстые крючки и за десять минут выловила десять акул. Когда мы отправились за борт с кинокамерой, на воле оставались еще две акулы. Бушующие волны сомкнулись у нас над головой, и мы увидели, как хищницы, схватив каждая по крючку, вознеслись на воздух. У подводных склонов рифа ходили вольные жители океана, в том числе очень крупные ковровые акулы. Три представительницы этого безопасного для человека вида мирно дремали в гротах. Однако кинокамера требовала более энергичных артистов. Дюма и Тайе проникли в гроты и подергали акул за хвосты. Рыбы проснулись, выскочили наружу и скрылись в голубой толще, добросовестно сыграв свою несложную роль.
Немного спустя мы увидели еще одну, пятнадцатифутовую ковровую акулу. Я подозвал Диди и на языке жестов дал ему понять, что разрешается нарушить наш нейтралитет и пустить в ход против этой особы гарпунное ружье. Спусковой механизм ружья развивал энергию в триста фунтов; заряжалось оно шестифутовым гарпуном со взрывчатым наконечником. Дюма выстрелил прямо вниз с двенадцати футов. Четырехфунтовый гарпун вонзился в голову акулы; через две секунды послышался взрыв. Нас основательно тряхнуло, ощущение было не из приятных. А акула невозмутимо продолжала свой путь, неся гарпун в голове, словно флагшток. Несколько резких движений, и древко пошло ко дну. Акула поплыла дальше. Мы поспешили за ней, чтобы увидеть, чем все это кончится. Она шла как ни в чем не бывало; вот прибавила ходу и скрылась. Видимо, наконечник прошел насквозь и взорвался снаружи, ибо даже акула не может без вреда для своих внутренних органов перенести взрыв, который едва не прикончил нас на расстоянии, равном шестикратной длине гарпуна. Эта догадка ничуть не умерила нашего восхищения поразительной живучестью акулы.
Как-то раз, заканчивая съемки спинорогов, мы с Дюма вдруг оцепенели от ужаса — ощущение неприятное и на суше, не говоря уже о морской стихии. Зрелище, которое предстало нашим глазам, заставило нас остро осознать, что не защищенному скафандром человеку не место в подводном царстве. В мутной толще в сорока футах от нас мелькнуло свинцово-белое брюхо двадцатипятифутовой белой акулыCarcharodon carcharias, единственной акулы, которую все знатоки в один голос называли завзятым людоедом. Дюма, исполнявший роль моей личной охраны, мигом очутился рядом со мной. Чудовище медленно приближалось. Я утешал себя тем, что баллоны со сжатым воздухом, укрепленные у нас на спине, заставят хищницу помучиться несварением желудка.
Вот акула увидела нас. А дальше случилось такое, чего мы меньше всего ожидали: хищница перепугалась насмерть, выбросила облачко испражнений и пропала.
Дюма поглядел на меня, я на него, и мы расхохотались. С того дня мы прониклись самонадеянностью, которая перешла в непростительное легкомыслие. Мы позабыли обо всех мерах предосторожности и отказались от взаимной охраны. После новых встреч с острорылыми, тигровыми, сельдевыми и тупорылыми акулами наше самомнение только выросло: они неизменно удирали от нас. Проведя несколько недель в архипелаге Зеленого Мыса, мы окончательно уверовали, что все акулы трусливы. Это были настолько малодушные особы, что они не могли даже спокойно подождать, пока мы их снимем.
Однажды я стоял на мостике, наблюдая, как эхолот вычерчивает рельеф дна Атлантического океана у побережья Африки на глубине девяти тысяч футов. Как обычно, отражался слабый вторичный сигнал от проницаемого слоя, простирающегося на глубине тысячи двухсот футов. Этот слой — одна из удивительных новых проблем океанографии, загадочный свод, перекрывающий морское дно. Днем он держится на глубине двухсот — трехсот саженей, ночью поднимается ближе к поверхности. Связь между высотой слоя и сменой дня и ночи побудила некоторых ученых предположить, что речь идет о пласте живых организмов, настолько огромном, что его трудно себе представить. Следя за таинственными каракулями на бумажной ленте, я вдруг увидел три жирные линии, отвечающие трем расположенным друг над другом слоям в толще воды. В голове проносились самые невероятные догадки, но тут на палубе закричали: «Киты!»
Возле «Эли Монье» кружило стадо неуклюжих бутылконосов.
В прозрачной воде были отчетливо видны массивные темные туши с блестящей круглой головой. Их выпуклый лоб в самом деле напоминал бутылку. Всплывут, пустят к небу высокие фонтаны и ложатся отдыхать. Губы китов были искривлены, словно в застывшей улыбке, и углы пасти почти достигали крошечных глаз, придавая чудовищам странно лукавый вид. Дюма побежал на гарпунерскую площадку на носу судна, а я зарядил камеру новой лентой. Нырнув, киты снова направились вверх. Один из них появился футах в двенадцати от Дюма, и он изо всех сил метнул гарпун. Наконечник вонзился в тело бутылконоса около грудного плавника. Брызнула кровь. Кит стал медленно погружаться. Мы вытравили сотню ярдов троса, который соединял древко гарпуна с большим буем. Буй заскользил по воде. Бутылконос был загарпунен надежно. Его приятели как ни в чем не бывало качались на волнах вокруг «Эли Монье».
Вот из воды показалось древко гарпуна, а теперь исчезло. Кит скрылся, и буй пропал. Взяв бинокль, Дюма полез на мачту. Мы решили ориентироваться на остальных китов, полагая, что они не оставят в беде раненого товарища.
Наконец Либера, наш зоркий радист, обнаружил буй, а рядом с ним и кита. Гарпунное древко торчало, как зубочистка, и бутылконос казался невредимым. Дюма выпустил в него две разрывные пули. Остальные киты окружили раненого, взбивая хвостами порозовевшую воду. Только через час нам удалось выловить буй и закрепить гарпунный трос на палубе.
Берег пропал из виду, под килем тысяча пятьсот саженей воды. Бутылконосы продолжали нырять и пускать фонтаны. Мы с Тайе тоже решили нырнуть, чтобы добраться по тросу до кита; он был не такой уж большой.
Вода была бирюзовая, на редкость прозрачная. Идя вдоль троса, мы добрались до нашей жертвы. Из пулевых отверстий в туше струйками била кровь. Я поплыл к остальным китам; они задрали хвосты кверху и нырнули отвесно вниз. В этом характерное отличие бутылконоса от дельфина — тот ныряет под углом. Я прошел за ними около ста футов. Вдруг подо мной промелькнула пятнадцатифутовая акула, вероятно привлеченная запахом крови. Где-то в глубине за пределами видимости простирался загадочный слой; поодаль мирно паслось стадо морских великанов; кругом сновали акулы. Надо мной в серебристом сиянии плавал вокруг умирающего кита Тайе. Я неохотно повернул обратно к судну.
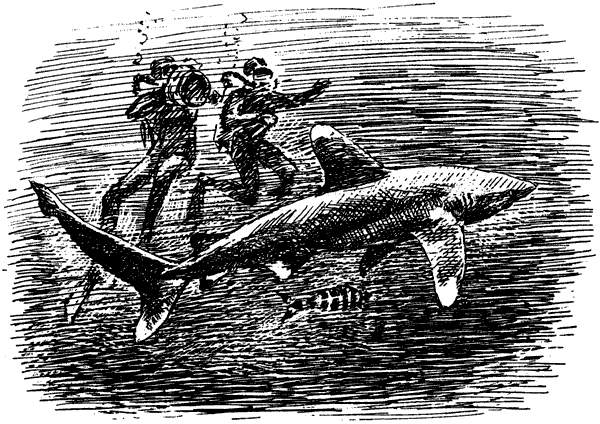 Поднявшись на палубу, я сменил акваланг и привязал к ноге и к поясу по одной таблетке уксуснокислой меди. Считается, что эта химия, растворяясь в воде, отгоняет акул. Мне нужно было заснять, как Дюма будет набрасывать петлю на хвост кита. Мы прыгнули в воду. Дюма увидел здоровенную акулу, но она исчезла прежде, чем я успел обернуться на его оклик. Проплыв под килем судна, мы отыскали гарпунный трос. И тут же оба увидели на глубине пятнадцати футов светло-серую восьмифутовую акулу незнакомого нам вида. Удивительно изящная, она казалась произведением искусства. Чуть позади плыла небольшая полосатая рыбка, знаменитый лоцман. Мы отважно пошли на акулу, не сомневаясь, что она, по примеру своих соплеменниц, бросится наутек. Однако она не отступила ни на дюйм. Когда до нее осталось десять футов, мы увидели весь акулий эскорт — стаю трех-, четырехдюймовых лоцманов.
Лоцманы не сопровождали акулу, они будто срослись с ней. Крохотная рыбешка торчала перед самым ее носом, каким-то чудом сохраняя одно и то же положение, куда бы ни повернулась хищница. Казалось, малыша увлекает за собой слой уплотненной воды; очутись он за его пределами, и сразу безнадежно отстанет от хозяйки. Волей-неволей пришлось нам примириться с мыслью, что ни акула, ни ее придворные ничуть не боятся нас.
Есть поверье, будто рыба-лоцман указывает слабой глазами акуле путь к добыче, рассчитывая на крошки со стола владыки. Но ученые не очень-то уважительно относятся к догадке, будто лоцман выступает в роли собаки-поводыря. Хотя исследования вроде бы подтвердили, что у акулы зрение ослаблено, мы могли на собственном опыте убедиться, что она видит, во всяком случае, не хуже нас.
Серая красавица не обнаруживала никаких признаков страха. Я был счастлив, что представился случай заснять акулу; правда после того, как прошло первое удивление, в душе родилось ощущение близкой опасности. Акула медленно ходила вокруг нас со своей свитой. Как режиссер, я подавал знаки Дюма, который послушно проплыл перед мордой бестии, потом вдоль ее бока к хвосту. Протянув руку, он поймал конец хвостового плавника. Дернуть? Это могло прибавить акуле живости и дать мне несколько отличных кадров, но могло случиться и так, что хищница захочет цапнуть Дюма зубами. Он продолжал следовать за акулой, а я кружился в центре, стараясь держать его в рамке видоискателя. Хотя акула казалась неподвижной, Диди приходилось напрягать все силы, чтобы не отстать от нее. Она не делала никаких враждебных движений, но и не убегала от нас; маленькие жесткие глаза неотступно следили за нами.
Я попытался определить, что это за вид. Хвост асимметричный, с необычайно длинным верхним плавником; громадные грудные плавники; спинной плавник округлый, с большим белым пятном. Очертаниями и расцветкой она отличалась от всех акул, которых мы раньше видели или изучали[5].
Акула постепенно привела нас на глубину шестидесяти футов. Дюма указал вниз. Из пучины к нам поднимались еще две акулы, стройные пятнадцатифутовые рыбины, отливающие голубой сталью и куда более свирепые на вид, чем первая. Они пристроились ниже нас; лоцманов с ними не было.
Наша серая приятельница теперь кружила совсем близко от нас, но вид у нее по-прежнему был покладистый. Скорость не изменялась, и все лоцманы оставались на своих местах. Голубая пара из пучины ходила чуть поодаль, уважая ее приоритет. Мы кружились внутри кольца, описываемого серой акулой, стараясь не упустить из поля зрения ни ее, ни голубых. Это было не так-то просто.
Внизу, под голубыми акулами, показались здоровенные тунцы с длинными плавниками. Вполне возможно, что они были там все время, но мы только сейчас заметили их. Над нами резвились летучие рыбы; их веселье резко диссонировало с назревающей драмой. Мы с Дюма лихорадочно вспоминали, как отгоняют акул. «Надо бурно жестикулировать», — советовал один деятель службы спасания на водах. Мы замахали руками. Серая и бровью не повела. «Их можно напугать пузырями воздуха», — наставлял нас знакомый водолаз. Дюма подпустил акулу вплотную и сильно выдохнул. Никакого впечатления. «Кричите что есть мочи», — поучал Ханс Хасс. Мы орали до хрипоты. Акула словно оглохла. «Стоит акуле глотнуть уксуснокислой меди, и она поспешит убраться восвояси», — утверждал один офицер военно-воздушных сил. Наша приятельница, не сморгнув, пересекла отравленную воду и посмотрела на нас холодными, спокойными, оценивающими глазами. Похоже, она знает, чего хочет, и вовсе не спешит.
А вот это уже совсем некстати! Малюсенький лоцман, дежуривший перед носом акулы, оставил свой пост и направился к Дюма. Немалый путь для такого малыша, и у нас было достаточно времени, чтобы поразмыслить, как это понимать. Малютка заметался перед маской Дюма. Он помотал головой, словно отгоняя назойливого комара. Крошка-лоцман продолжал резвиться, стукаясь в маску перед самым носом окосевшего от волнения Дюма.
Я почувствовал, как Диди прижался ко мне, и увидел нож в его вытянутой руке. Серая акула сперва отошла немного назад, потом повернулась и заскользила прямо на нас.
Мы не очень-то верили, что акулу можно убить ножом, но в эту минуту нож и кинокамера составляли все наше вооружение. Я машинально нажал спуск, сам не сознавая, что кинолента запечатлевает наступающее на нас чудовище. Все ближе и ближе плоская морда, вот уже заняла все поле зрения. И тут на меня напала дикая ярость. Я замахнулся кинокамерой и изо всех сил ударил ею по морде акулы. В следующий миг меня задела тяжелая туша и… акула снова, как ни в чем не бывало, пошла по кругу футах в двенадцати от нас. «Какого черта она не идет к киту? — думал я. — К чудесному вкусному киту? Что мы ей такого сделали?»
Голубые поднялись выше и снова присоединились к нашей компании. Может быть, лучше всплыть? Мы вынырнули из воды и увидели с подветренной стороны, в трестах ярдах, «Эли Монье». Однако сколько мы не махали руками, нам никто не отвечал. А мы хорошо знали, что наша теперешняя поза вполне устраивает прожорливых акул: ноги свисают, словно бананы, остается только сорвать их… Я поглядел вниз. Все три акулы поднимались к нам в согласованной атаке.
Мы нырнули им навстречу. Они снова начали кружить. Пока мы плавали на глубине одной-двух саженей, они не нападали. Самое правильное — идти под водой к судну. Но у нас нет никаких ориентиров, нет даже компаса, чтобы определить нужное направление.
Исхода из все той же теории, что акулы предпочитают хватать за ноги, мы повернулись так, чтобы все время видеть ласты друг друга. Каждую минуту Дюма выскакивал на поверхность и махал руками. Потом мы стали чередоваться: один всплывает, другой, поджав колени к подбородку, следит за акулами. Когда Дюма опять пошел вверх, одна из голубых метнулась к его ногам. Я закричал. Он круто обернулся и решительно пошел ей навстречу. Хищница вернулась на свое место. От этой карусели кружилась голова, а тут еще каждый раз, всплыв, приходилось вертеть ею во все стороны, отыскивая «Эли Монье». А там словно забыли про нас!
Нас одолевала усталость, руки и ноги коченели от холода. По моим подсчетам, мы провели в воде уже около получаса. Воздух на исходе, каждую секунду могут начаться перебои в подаче. Тогда мы включим аварийный запас, рассчитанный на пять минут. А затем придется расстаться с мундштуками и нырять, обходясь лишь тем, что мы успеем вдохнуть на поверхности. Придется больше двигаться, нагрузка удвоится, а внизу нас подстерегают неутомимые и беспощадные хищницы, которые чувствуют себя под водой так же хорошо, как мы на суше.
Акулы закружились быстрее. Сильно взмахивая мощными плавниками, они сделали еще один круг, метнулись вниз и… исчезли. Мы не верили своим глазам. Вдруг на нас упала тень: мы посмотрели вверх и увидели дно шлюпки. Друзья на «Эли Монье» заметили наши сигналы и отыскали нас по пузырям. Шлюпка обратила в бегство акул.
Мы упали на дно лодки, вконец обессилевшие. Матросы переволновались не меньше нас. Наблюдатели потеряли наши пузыри, поэтому судно ушло в сторону. Оказалось, что мы пробыли в воде всего двадцать минут! От столкновения с носом акулы кинокамера сплющилась…
Дюма поднялся на борт «Эли Монье», схватил винтовку и тотчас снова прыгнул в шлюпку — проведать кита, который все еще подавал признаки жизни. Бурая тень отделилась от туши бутылконоса и метнулась прочь. Акула! Дюма подошел к голове великана и добил его в упор разрывной пулей. Голова с разинутой пастью ушла под воду; из дыхала вырвались пузырьки воздуха. Акулы рассекали порозовевшую воду, яростно набрасываясь на кита. Опустив руки в красную пену, Дюма набросил петрю на хвост бутылконоса и завершил дело, от которого нас оторвала серая красавица.
Подняв кита на палубу, мы увидели на нем зияющие раны. Громадные куски мяса в десять — пятнадцать фунтов были как будто отсечены ножом вместе с толстой, не меньше дюйма, кожей: как только нас подобрала шлюпка, акулы кинулись на легкую добычу.
Судовой врач Лонже впервые в жизни оперировал своими инструментами такую тушу. Он вскрыл скальпелем брюхо кита, и на палубу хлынул поток непереваренных кальмаров около трех фунтов каждый. Среди них были совсем неповрежденные и даже живые. В складках китового желудка лежали тысячи черных кальмаровых клювов.
Я невольно вспомнил загадочный слой в пучине. Обед бутылконоса и — черточки, нарисованные эхолотом. Конечно, это может быть случайное совпадение, никаких достоверных доказательств у меня нет. И все-таки я не мог отогнать от себя видение: киты, погрузившись в мрачную бездну до таинственного слоя на глубине тысячи двухсот футов, пасутся на невиданном лугу, где торчат миллионы кальмаровых щупалец…
По пути в Дакар нам встретилось стадо дельфинов. Дюма попал одному из них в спину гарпуном. Дельфин заметался, словно собака на цепи, окруженный своими сородичами. Их явно объединяло чувство товарищества. События повторились, только на месте бутылконоса теперь был дельфин. Дюма и Тайе ушли в воду; на этот раз гребцы в шлюпке не спускали глаз с их пузырей.
Я смотрел, как дельфин плывет на привязи, словно ягненок, которого охотник выставил, чтобы приманить львов. Акулы не заставили себя ждать. Это было жестоко с нашей стороны, но мы затеяли важное исследование, и его нужно было довести до конца.
Акулы ходили вокруг дельфина точно так же, как незадолго до этого вокруг нас. Стоя на палубе, мы говорили о трусости этих бестий. Силища невероятная, к боли они нечувствительны, вооружены страшнейшим оружием и, однако, никак не могут решиться атаковать добычу. Да и можно ли тут говорить об атаке! Что сделает умирающий дельфин этим коварным разбойницам!
Под вечер Дюма добил его. Тотчас одна из акул набросилась на жертву и вспорола ей брюхо, подавая сигнал остальным. Вода окрасилась кровью. Они не грызли добычу, не рвали ее — просто, не замедляя хода, с лета отсекали огромные куски, словно это было сливочное масло.
Если не считать выпадов серой красавицы и голубой пары, акулы ни разу не нападали на нас по-настоящему. Мы не хотим ничего утверждать, но похоже, что они предпочитают атаковать объекты, плавающие на поверхности. Именно здесь хищницы обычно находят свой корм: больную или раненую рыбу или отбросы с проходящих судов. Те акулы, которых встречали мы, подолгу присматривались к подводному пловцу, он явно казался им опасным существом. Вероятно, их пугали и пузырьки воздуха, которые вырываются из легочного автомата.
Насмотревшись, как акулы невозмутимо плывут с гарпуном в голове, с зияющими ранами на теле и даже после взрыва рядом с головным мозгом, мы решили, что на нож надеяться нечего. Уж лучше «акулья дубинка» — крепкая палка длиной в четыре фута, усаженная на конце гвоздями. Этими гвоздями надо упереться в кожу наступающей акулы; так дрессировщик отгоняет льва обыкновенным стулом. Гвозди не дают дубинке соскользнуть, но и не впиваются настолько, чтобы разозлить хищницу. Палка позволяет подводному пловцу не подпускать противника слишком близко.
Мы сотни раз, прикрепив к руке дубинку, ныряли в кишащие акулами воды Красного моря. Но применить ее нам не пришлось, и отнюдь не исключено, что это всего-навсего еще одна мнимая защита против этих непостижимых существ.
Поднявшись на палубу, я сменил акваланг и привязал к ноге и к поясу по одной таблетке уксуснокислой меди. Считается, что эта химия, растворяясь в воде, отгоняет акул. Мне нужно было заснять, как Дюма будет набрасывать петлю на хвост кита. Мы прыгнули в воду. Дюма увидел здоровенную акулу, но она исчезла прежде, чем я успел обернуться на его оклик. Проплыв под килем судна, мы отыскали гарпунный трос. И тут же оба увидели на глубине пятнадцати футов светло-серую восьмифутовую акулу незнакомого нам вида. Удивительно изящная, она казалась произведением искусства. Чуть позади плыла небольшая полосатая рыбка, знаменитый лоцман. Мы отважно пошли на акулу, не сомневаясь, что она, по примеру своих соплеменниц, бросится наутек. Однако она не отступила ни на дюйм. Когда до нее осталось десять футов, мы увидели весь акулий эскорт — стаю трех-, четырехдюймовых лоцманов.
Лоцманы не сопровождали акулу, они будто срослись с ней. Крохотная рыбешка торчала перед самым ее носом, каким-то чудом сохраняя одно и то же положение, куда бы ни повернулась хищница. Казалось, малыша увлекает за собой слой уплотненной воды; очутись он за его пределами, и сразу безнадежно отстанет от хозяйки. Волей-неволей пришлось нам примириться с мыслью, что ни акула, ни ее придворные ничуть не боятся нас.
Есть поверье, будто рыба-лоцман указывает слабой глазами акуле путь к добыче, рассчитывая на крошки со стола владыки. Но ученые не очень-то уважительно относятся к догадке, будто лоцман выступает в роли собаки-поводыря. Хотя исследования вроде бы подтвердили, что у акулы зрение ослаблено, мы могли на собственном опыте убедиться, что она видит, во всяком случае, не хуже нас.
Серая красавица не обнаруживала никаких признаков страха. Я был счастлив, что представился случай заснять акулу; правда после того, как прошло первое удивление, в душе родилось ощущение близкой опасности. Акула медленно ходила вокруг нас со своей свитой. Как режиссер, я подавал знаки Дюма, который послушно проплыл перед мордой бестии, потом вдоль ее бока к хвосту. Протянув руку, он поймал конец хвостового плавника. Дернуть? Это могло прибавить акуле живости и дать мне несколько отличных кадров, но могло случиться и так, что хищница захочет цапнуть Дюма зубами. Он продолжал следовать за акулой, а я кружился в центре, стараясь держать его в рамке видоискателя. Хотя акула казалась неподвижной, Диди приходилось напрягать все силы, чтобы не отстать от нее. Она не делала никаких враждебных движений, но и не убегала от нас; маленькие жесткие глаза неотступно следили за нами.
Я попытался определить, что это за вид. Хвост асимметричный, с необычайно длинным верхним плавником; громадные грудные плавники; спинной плавник округлый, с большим белым пятном. Очертаниями и расцветкой она отличалась от всех акул, которых мы раньше видели или изучали[5].
Акула постепенно привела нас на глубину шестидесяти футов. Дюма указал вниз. Из пучины к нам поднимались еще две акулы, стройные пятнадцатифутовые рыбины, отливающие голубой сталью и куда более свирепые на вид, чем первая. Они пристроились ниже нас; лоцманов с ними не было.
Наша серая приятельница теперь кружила совсем близко от нас, но вид у нее по-прежнему был покладистый. Скорость не изменялась, и все лоцманы оставались на своих местах. Голубая пара из пучины ходила чуть поодаль, уважая ее приоритет. Мы кружились внутри кольца, описываемого серой акулой, стараясь не упустить из поля зрения ни ее, ни голубых. Это было не так-то просто.
Внизу, под голубыми акулами, показались здоровенные тунцы с длинными плавниками. Вполне возможно, что они были там все время, но мы только сейчас заметили их. Над нами резвились летучие рыбы; их веселье резко диссонировало с назревающей драмой. Мы с Дюма лихорадочно вспоминали, как отгоняют акул. «Надо бурно жестикулировать», — советовал один деятель службы спасания на водах. Мы замахали руками. Серая и бровью не повела. «Их можно напугать пузырями воздуха», — наставлял нас знакомый водолаз. Дюма подпустил акулу вплотную и сильно выдохнул. Никакого впечатления. «Кричите что есть мочи», — поучал Ханс Хасс. Мы орали до хрипоты. Акула словно оглохла. «Стоит акуле глотнуть уксуснокислой меди, и она поспешит убраться восвояси», — утверждал один офицер военно-воздушных сил. Наша приятельница, не сморгнув, пересекла отравленную воду и посмотрела на нас холодными, спокойными, оценивающими глазами. Похоже, она знает, чего хочет, и вовсе не спешит.
А вот это уже совсем некстати! Малюсенький лоцман, дежуривший перед носом акулы, оставил свой пост и направился к Дюма. Немалый путь для такого малыша, и у нас было достаточно времени, чтобы поразмыслить, как это понимать. Малютка заметался перед маской Дюма. Он помотал головой, словно отгоняя назойливого комара. Крошка-лоцман продолжал резвиться, стукаясь в маску перед самым носом окосевшего от волнения Дюма.
Я почувствовал, как Диди прижался ко мне, и увидел нож в его вытянутой руке. Серая акула сперва отошла немного назад, потом повернулась и заскользила прямо на нас.
Мы не очень-то верили, что акулу можно убить ножом, но в эту минуту нож и кинокамера составляли все наше вооружение. Я машинально нажал спуск, сам не сознавая, что кинолента запечатлевает наступающее на нас чудовище. Все ближе и ближе плоская морда, вот уже заняла все поле зрения. И тут на меня напала дикая ярость. Я замахнулся кинокамерой и изо всех сил ударил ею по морде акулы. В следующий миг меня задела тяжелая туша и… акула снова, как ни в чем не бывало, пошла по кругу футах в двенадцати от нас. «Какого черта она не идет к киту? — думал я. — К чудесному вкусному киту? Что мы ей такого сделали?»
Голубые поднялись выше и снова присоединились к нашей компании. Может быть, лучше всплыть? Мы вынырнули из воды и увидели с подветренной стороны, в трестах ярдах, «Эли Монье». Однако сколько мы не махали руками, нам никто не отвечал. А мы хорошо знали, что наша теперешняя поза вполне устраивает прожорливых акул: ноги свисают, словно бананы, остается только сорвать их… Я поглядел вниз. Все три акулы поднимались к нам в согласованной атаке.
Мы нырнули им навстречу. Они снова начали кружить. Пока мы плавали на глубине одной-двух саженей, они не нападали. Самое правильное — идти под водой к судну. Но у нас нет никаких ориентиров, нет даже компаса, чтобы определить нужное направление.
Исхода из все той же теории, что акулы предпочитают хватать за ноги, мы повернулись так, чтобы все время видеть ласты друг друга. Каждую минуту Дюма выскакивал на поверхность и махал руками. Потом мы стали чередоваться: один всплывает, другой, поджав колени к подбородку, следит за акулами. Когда Дюма опять пошел вверх, одна из голубых метнулась к его ногам. Я закричал. Он круто обернулся и решительно пошел ей навстречу. Хищница вернулась на свое место. От этой карусели кружилась голова, а тут еще каждый раз, всплыв, приходилось вертеть ею во все стороны, отыскивая «Эли Монье». А там словно забыли про нас!
Нас одолевала усталость, руки и ноги коченели от холода. По моим подсчетам, мы провели в воде уже около получаса. Воздух на исходе, каждую секунду могут начаться перебои в подаче. Тогда мы включим аварийный запас, рассчитанный на пять минут. А затем придется расстаться с мундштуками и нырять, обходясь лишь тем, что мы успеем вдохнуть на поверхности. Придется больше двигаться, нагрузка удвоится, а внизу нас подстерегают неутомимые и беспощадные хищницы, которые чувствуют себя под водой так же хорошо, как мы на суше.
Акулы закружились быстрее. Сильно взмахивая мощными плавниками, они сделали еще один круг, метнулись вниз и… исчезли. Мы не верили своим глазам. Вдруг на нас упала тень: мы посмотрели вверх и увидели дно шлюпки. Друзья на «Эли Монье» заметили наши сигналы и отыскали нас по пузырям. Шлюпка обратила в бегство акул.
Мы упали на дно лодки, вконец обессилевшие. Матросы переволновались не меньше нас. Наблюдатели потеряли наши пузыри, поэтому судно ушло в сторону. Оказалось, что мы пробыли в воде всего двадцать минут! От столкновения с носом акулы кинокамера сплющилась…
Дюма поднялся на борт «Эли Монье», схватил винтовку и тотчас снова прыгнул в шлюпку — проведать кита, который все еще подавал признаки жизни. Бурая тень отделилась от туши бутылконоса и метнулась прочь. Акула! Дюма подошел к голове великана и добил его в упор разрывной пулей. Голова с разинутой пастью ушла под воду; из дыхала вырвались пузырьки воздуха. Акулы рассекали порозовевшую воду, яростно набрасываясь на кита. Опустив руки в красную пену, Дюма набросил петрю на хвост бутылконоса и завершил дело, от которого нас оторвала серая красавица.
Подняв кита на палубу, мы увидели на нем зияющие раны. Громадные куски мяса в десять — пятнадцать фунтов были как будто отсечены ножом вместе с толстой, не меньше дюйма, кожей: как только нас подобрала шлюпка, акулы кинулись на легкую добычу.
Судовой врач Лонже впервые в жизни оперировал своими инструментами такую тушу. Он вскрыл скальпелем брюхо кита, и на палубу хлынул поток непереваренных кальмаров около трех фунтов каждый. Среди них были совсем неповрежденные и даже живые. В складках китового желудка лежали тысячи черных кальмаровых клювов.
Я невольно вспомнил загадочный слой в пучине. Обед бутылконоса и — черточки, нарисованные эхолотом. Конечно, это может быть случайное совпадение, никаких достоверных доказательств у меня нет. И все-таки я не мог отогнать от себя видение: киты, погрузившись в мрачную бездну до таинственного слоя на глубине тысячи двухсот футов, пасутся на невиданном лугу, где торчат миллионы кальмаровых щупалец…
По пути в Дакар нам встретилось стадо дельфинов. Дюма попал одному из них в спину гарпуном. Дельфин заметался, словно собака на цепи, окруженный своими сородичами. Их явно объединяло чувство товарищества. События повторились, только на месте бутылконоса теперь был дельфин. Дюма и Тайе ушли в воду; на этот раз гребцы в шлюпке не спускали глаз с их пузырей.
Я смотрел, как дельфин плывет на привязи, словно ягненок, которого охотник выставил, чтобы приманить львов. Акулы не заставили себя ждать. Это было жестоко с нашей стороны, но мы затеяли важное исследование, и его нужно было довести до конца.
Акулы ходили вокруг дельфина точно так же, как незадолго до этого вокруг нас. Стоя на палубе, мы говорили о трусости этих бестий. Силища невероятная, к боли они нечувствительны, вооружены страшнейшим оружием и, однако, никак не могут решиться атаковать добычу. Да и можно ли тут говорить об атаке! Что сделает умирающий дельфин этим коварным разбойницам!
Под вечер Дюма добил его. Тотчас одна из акул набросилась на жертву и вспорола ей брюхо, подавая сигнал остальным. Вода окрасилась кровью. Они не грызли добычу, не рвали ее — просто, не замедляя хода, с лета отсекали огромные куски, словно это было сливочное масло.
Если не считать выпадов серой красавицы и голубой пары, акулы ни разу не нападали на нас по-настоящему. Мы не хотим ничего утверждать, но похоже, что они предпочитают атаковать объекты, плавающие на поверхности. Именно здесь хищницы обычно находят свой корм: больную или раненую рыбу или отбросы с проходящих судов. Те акулы, которых встречали мы, подолгу присматривались к подводному пловцу, он явно казался им опасным существом. Вероятно, их пугали и пузырьки воздуха, которые вырываются из легочного автомата.
Насмотревшись, как акулы невозмутимо плывут с гарпуном в голове, с зияющими ранами на теле и даже после взрыва рядом с головным мозгом, мы решили, что на нож надеяться нечего. Уж лучше «акулья дубинка» — крепкая палка длиной в четыре фута, усаженная на конце гвоздями. Этими гвоздями надо упереться в кожу наступающей акулы; так дрессировщик отгоняет льва обыкновенным стулом. Гвозди не дают дубинке соскользнуть, но и не впиваются настолько, чтобы разозлить хищницу. Палка позволяет подводному пловцу не подпускать противника слишком близко.
Мы сотни раз, прикрепив к руке дубинку, ныряли в кишащие акулами воды Красного моря. Но применить ее нам не пришлось, и отнюдь не исключено, что это всего-навсего еще одна мнимая защита против этих непостижимых существ.

Глава тринадцатая
По ту сторону барьера

Чаще всего мы ныряли с определенной целью. Осматривали затонувшие суда, снимали мины, делали физиологические опыты. Но иногда удавалось вырвать часок и просто побродить под водой, полюбоваться переливами света, игрой красок, послушать причудливые подводные звуки и насладиться ласковым прикосновением воды. Вот когда мы могли вполне оценить, что значит проникнуть через барьер между двумя стихиями, тончайший молекулярный слой, равносильный стене. В самом деле, сколько труда стоило человеку одолеть эту преграду! А посмотрите на рыб! Когда извлечешь их из привычной среды, они своими широко раскрытыми ртами красноречиво говорят нам, как разнятся вода и воздух.
Одно из величайших наслаждений, которое дарует купальщику море (а многие, наверно, и не задумываются об этом), — вода снимает с нас повседневное бремя земного тяготения. Люди и другие наземные позвоночные тратят немало сил, чтобы придать своему телу нужное положение. Море освобождает вас от этой обузы. Воздух в легких дает вам плавучесть, и с ваших членов сваливается огромная тяжесть; вы отдыхаете так, как ни в какой постели не отдохнете.
Принято считать, что толстые люди держатся на воде лучше, чем худые. Спору нет, жировой слой несколько легче мышечной ткани, однако наши наблюдения показали, что у тучных людей далеко не всегда лучше плавучесть. Очевидно, все дело в том, что у них обычно меньше объем легких. Любопытно, что новичку привешивают на пояс больший балласт, чем опытному подводному пловцу с таким же «водоизмещением». От страха и волнения новичок невольно набирает в легкие лишний воздух, который и приходится уравновешивать дополнительным балластом. После нескольких погружений, научившись дышать нормально, он обнаруживает, что перегружен. Начинает постигать, как важно, регулируя дыхание, использовать вес воздуха в легких; это позволяет ему изменять свое «водоизмещение» на шесть — двенадцать фунтов.
В мире невесомости подводный пловец должен привыкать к необычному поведению неодушевленных предметов. Если у него сломается молоток, металлическая часть утонет, а ручка всплывет. Весь подводный инструмент нужно уравновешивать, чтобы он не улетел куда-нибудь. К ножам приделывают пробковые ручки. Семидесятифунтовая кинокамера невесома благодаря воздуху в боксе. За инструментом надо следить особенно тщательно: достаточно малейшего «довеска», чтобы нарушилось равновесие пловца. В начале погружения в одном баллоне акваланга три фунта сжатого воздуха. Но с каждым вдохом аквалангист весит все меньше, и в конце концов баллон приобретает подъемную силу в три фунта. Когда вес рассчитан верно, пловец уходит под воду несколько перегруженным, и это вполне логично, ведь ему нужно опускаться вниз. А под конец он немного недогружен — опять очень кстати, так как ему надо всплывать.
Перед погружением с кинокамерой я похож на вьючное животное. На спине — сорокапятифунтовый акваланг, на поясе четырехфунтовый свинцовый груз плюс вес ножа, часов, глубиномера, компаса, да еще иногда и четырехфунтовой «акульей дубинки», висящей на кисти. Как хорошо переложить все это бремя на море! Мне подают сверху семидесятифунтовую кинокамеру «Батискаф». Вместе со всем снаряжением я вешу двести шестьдесят четыре фунта, а в воде — всего лишь около фунта (расчетная перегрузка), и иду вниз, ощущая удивительную легкость в теле.
Итак, вес уничтожен, но остается еще масса. Надо несколько раз сильно оттолкнуться ластами, чтобы привести в движение всю махину, зато потом я скольжу по инерции. Неразумно, даже опасно столь плохо приспособленному существу, как человек, стараться плыть быстро в толще воды. Пусть лучше морская стихия сама определяет твою скорость: скользи плавно, спокойно, в полной гармонии с окружающей средой.
Давление растет быстро и равномерно, с каждым метром примерно на сто граммов на квадратный сантиметр поверхности тела. Единственная осязаемая реакция организма — закладывание ушей; оно проходит, если глотнуть раз-другой. Человеческая плоть почти не поддается сжатию. Мы плавали без скафандра при таком давлении, которое раздавило бы корпус подводной лодки, потому что его не уравновешивает контрдавление изнутри.
На суше на человека со всех сторон давит воздух, но он этого не замечает. В морской воде, на глубине тридцати трех футов давление вдвое больше атмосферного. На глубине шестидесяти шести футов оно равно уже трем атмосферам, на глубине девяноста девяти — четырем и продолжает возрастать кратно тридцати трем футам.
На отметке тридцати тысяч футов, где давление достигает почти тонны на квадратный сантиметр, в океане обитают живые существа. Будь дело только в давлении, мы могли бы погружаться без скафандра на две тысячи футов и больше. Но фактически предел намного меньше из-за косвенных последствий. Он будет определяться тем, что ткани человека насыщаются громадным количеством газов и уже не могут выделять углекислоту.
Замечено, что чем глубже, тем легче аквалангист переносит прирост давления. Если подряд снова и снова погружаться на глубину до тридцати трех футов, вы быстро устанете и почувствуете себя скверно, потому что давление каждый раз удваивается. Ваш товарищ, работая глубже, не испытает того же, потому что в следующей тридцатитрехфутовой зоне давление увеличится только на одну треть, и так далее. Между ста тридцатью двумя и ста шестьюдесятью пятью футами вес воды возрастет на одну пятую. Мы на деле установили, что если здоровье позволяет человеку нырять на десять ярдов, он спокойно, не боясь осложнений, может погружаться до двухсот футов. Критический порог проходит на рубеже верхней зоны.
Эта же зона самая опасная для водолаза. В шлеме и верхней части скафандра собирается большой пузырь воздуха, крайне чувствительный к перемене давления. Проходя роковую зону, водолаз должен особенно тщательно следить за воздухом, чтобы избежать «обжима» и «пузырения». «Пузырение» получается, когда водолаз набирает слишком много воздуха в скафандр. Рубаха внезапно раздувается и быстро увлекает водолаза на поверхность, а это грозит кессонной болезнью.
«Обжим» происходит, наоборот, от недостаточного контрдавления в шлеме и легких. Шлем превращается в громадную «банку», вроде медицинских, которые врачи прописывают при простуде. Мы в Группе подводных изысканий называли «обжим» coup de ventouse (coup — удар; ventouse — медицинская банка). Страшная гибель ожидает водолаза, если в шланге отказывает клапан, который призван не пускать воздух в обратную сторону. На большой глубине шланг сосет так сильно, что отрывает куски мяса, оставляя голый скелет в резиновом саване…
Еще мальчиком, живя в Эльзасе, я прочел чудесную историю о герое, который укрылся от злодеев на дне реки и сидел там, дыша через камышинку. (Этот мотив встречается, судя по всему, в фольклоре всех народов.) Я отрезал кусок садового шланга, к одному концу прикрепил кусок пробки побольше, другой взял в рот, схватил в руки камень и нырнул в плавательный бассейн. Я не смог сделать ни единого вдоха, бросил шланг и камень и поспешил вверх. Недаром мальчишки недоверчиво относятся к подобным россказням. Автор моей книги, как и другие авторы подводных повестей, сам никогда не пробовал опуститься на дно реки с камышинкой в зубах.
Уже на глубине нескольких футов грудные мышцы не могут преодолеть давление воды, и вдох не получается. Человек с идеально развитыми легкими может несколько минут вдыхать воздух с поверхности, лежа на глубине шести футов; однако большинству из нас затруднительно дышать уже на однофутовой глубине. Шестидюймовая дыхательная трубка может выкачать все силы из пловца, который слишком долго любуется подводными картинами.
Купальщики любят теплое море; подводные пловцы тоже. Увы, когда идешь вглубь, приходится поступиться этим удовольствием. В Средиземном море самая теплая вода в августе, но и то чуть поглубже уже холоднее, впрочем, еще вполне терпимо. В июне и ноябре зона умеренной температуры — на отметке сорок пять футов; в июле, августе и октябре она опускается до ста двадцати. Лучший месяц — сентябрь: вода приятная до глубины двухсот футов.
За умеренным слоем следует холодный, температура понижается до одиннадцати градусов. Холодный и теплый слои разделены четкой границей, никакого перехода. Можно, плывя в умеренной зоне, сунуть палец в холодную и почувствовать разницу так же отчетливо, как перед первым купаньем в году, когда вы нерешительно пробуете воду большим пальцем ноги. Надо собраться с духом, чтобы нырнуть в холодную ванну. Зато потом, когда кожа привыкнет к более низкой температуре, приятно подумать, что возвращаться будешь сквозь толщу воды теплой. Хитроумные капитаны подводных лодок умудряются использовать эту разницу температур. Холодная вода несколько плотнее теплой, и балласт лодки рассчитывают так, чтобы в теплом слое она была перегружена, а в холодном чуть недогружена. Можно выключить моторы, и лодка будет лежать, как на подушке.
Мистраль, который подул, когда мы обследовали «Дальтон», познакомил нас с динамикой слоев. Вода была сравнительно теплая до ста двадцати футов, пока не подул штормовой норд-норд-вест. В первый же день холодная зона поднялась до восьмидесяти футов, назавтра она начиналась с сорока. На третий день и у поверхности было холодно. Очевидно, мистраль не охлаждает верхний слой воды, а отгоняет его так, что на место теплой воды поднимается холодная. Как только ветер стих, теплая вода стала возвращаться, оттесняя прохладную вглубь. Вот почему в трюмах «Дальтона» собралась ледяная вода, хотя кругом было тепло.
В Кассисе мы однажды нырнули в пещеру, которую Тайе назвал пещерой Али-Бабы. В этот день было холодно от дна до самой поверхности. Но в пещере на глубине девяноста футов нас ожидало приятное тепло — ветер не смог вытеснить теплую воду из глубины грота и отогнать.
Каждому, кто купался в дождь, известно забавное чувство, когда не хочется вылезать из воды, чтобы не «промокнуть». Когда подводный пловец в дождь смотрит снизу вверх, он видит, как миллионы крохотных пик прокалывают поверхность воды. Медленное смешение пресной воды с соленой создает в море своего рода «марево», вроде того, что плывет над землей в жару. В прибрежных водах мы наблюдали во время ливня сильнейшее возбуждение среди рыб. Они буквально сходили с ума. Мелюзга носилась во все стороны. Сидячие обитатели дна лезли вверх, срывались и снова лезли, обнаруживая неожиданную энергию. Кефали и окуни бешено метались под бурлящей от дождя поверхностью моря. Становились торчком, разинув рты, словно глотали пресную воду. В дождливые дни в море царит пьяный разгул.
Море — настоящий мир безмолвия. Я говорю это вполне убежденно, опираясь на многочисленные наблюдения, хотя знаю, что за последнее время немало написано о подводных звуках. Записи шумов с гидрофона продаются как фонографические курьезы, но эти шумы сильно преувеличены. Запись нисколько не соответствует тому, что слышит подводный пловец. Спору нет, в море можно уловить очень интересные звуки, и вода передает их удивительно далеко, но это шум совсем другого рода.
Звуки под водой такая редкость, что воспринимаются особенно остро. Страх, боль, радость — все эти чувства обитатели моря выражают безмолвно. Извечный круг жизни и смерти вращается бесшумно; и только млекопитающие — киты и дельфины — нарушают тишину. Случайный взрыв или рокот судовых моторов — проявления деятельности человека — не могут потревожить покоя глубин. В этих глухих джунглях очень гулко отдаются шумы, в которых повинен подводный пловец: бурлят пузырьки выдыхаемого воздуха, сипит струйка вдыхаемого, разносятся голоса товарищей. Ваш напарник может охотиться за сотни ярдов, так что его совсем не видно, однако удар гарпуна о камень вы услышите совершенно отчетливо, и когда товарищ вернется, вы можете его подразнить, показав на пальцах, сколько раз он промазал.
Чуткое ухо подводника порой улавливает отдаленный скрип, особенно если затаить дыхание. Конечно, гидрофон способен усилить этот слабый звук до грохота, что может оказаться важно для научного исследования, но это вовсе не то, что слышит подводный пловец. Мы пока не смогли удовлетворительно объяснить эти скрипы. Сирийские рыбаки находят отмели для лова, прикладывая ухо к фокусу слуховой раковины, которая образуется корпусом лодки. Где услышат скрип, там ставят сети. Они уверяют, что звук исходит от камней на дне, а камни — рыбье «пастбище». Некоторые специалисты по биологии моря приписывают скрип креветкам; мол, они собираются огромными стаями и дружно скрипят своими клешнями. Если посадить креветку в банку, она и впрямь будет щелкать. Но ведь сирийские рыбаки ловят рыбу, а не креветок. К тому же мы ныряли в местах, где был слышен скрип, и не находили ни одной креветки. Похоже, эти звуки усиливаются после шторма, когда стихает волнение на море, но так бывает не всегда. Чем больше мы изучаем море, тем больше убеждаемся, что не стоит делать поспешных выводов.
Некоторые рыбы квакают вроде лягушек. Около Дакара я плавал под водой под громкие звуки такого оркестра, Киты, дельфины, горбыли и неизвестные существа, которые скрипят, — вот и все известные нам нарушители подводной тишины.
Во внутреннем ухе рыбы есть слуховые камешки — «отолиты», из которых любители делают ожерелья-амулеты. Но большинство рыб слабо реагирует, а то и вовсе не отзывается на звук. Наблюдения показывают, что они гораздо более восприимчивы к колебаниям незвуковых частот. Вдоль бока рыбы тянется чувствительная полоса, своего рода шестой орган чувств. Очень похоже, что эта боковая линия издалека воспринимает колебания воды, скажем, от сражающихся морских обитателей. Мы заметили, что наши голоса рыб не тревожат, зато они очень чутки к колебаниям воды от наших ластов. Подплывая к рыбам, мы чуть-чуть двигаем ногами; резкое или просто неосторожное движение сразу же их разгонит, даже тех, которые закрыты камнями и не видят нас. Тревога распространяется, как цепная реакция; стоит одной рыбешке броситься наутек, как паника тотчас передается всем остальным. Далеко за пределами видимости рыбы улавливают беззвучное предупреждение.
Плавать среди рыб так, чтобы не распугивать их, стало для нас уже второй натурой. Мы научились неприметно ходить над ландшафтами, где безмятежно, нисколько не опасаясь нас, наслаждаются жизнью морские обитатели. Вдруг, без малейшего повода с нашей стороны, все живое исчезает. Что заставило сотни рыб мгновенно скрыться без единого звука? Пришедшее издалека колебание воды от играющих дельфинов? Или где-нибудь в мутной толще охотятся голодные зубаны? Мы знаем только, что беззвучная сирена заставила всех, кроме нас, уйти в укрытие.
Мы словно глухие. Все наши чувства уже приспособились к новой среде, но нам недостает шестого чувства, быть может самого главного для подводного обитателя.
Около Дакара я видел, как акулы мирно скользили среди сотен соблазнительных красных пагров, которых присутствие хищниц ничуть не тревожило. Я вернулся в лодку, забросил удочку и обрадовался хорошему клеву. Однако всякий раз я вытаскивал из воды лишь половинку пагра. Может быть, от бьющейся на крючке рыбы расходятся в воде колебания, говорящие акулам, что поблизости есть легкая добыча? В тропиках мы сзывали акул, взрывая динамит. Подозреваю, что звук взрыва был для них просто глухим, не заслуживающим внимания шумом. Зато они мгновенно улавливали вибрацию воды от судорожных движений полуоглушенной рыбы.
У Лазурного берега попадаются крутые рифы, уходящие на глубину двухсот футов… Когда спускаешься вниз над склоном такой скалы, совершаешь необычную экскурсию и видишь, как разнообразен подводный мир, насколько резки контрасты между различными зонами. Альпинисты, ходившие с нами по подводным скалам, например Марсель Ишак, поражались этим контрастам. На суше вы милю за милей шагаете по предгорьям, затем долго идете через лес до его верхней границы, оттуда — до снеговой линии и, наконец, попадаете в область разреженного воздуха. При «нисхождениях» под водой зоны сменяются с непостижимой быстротой. Верхние десять саженей, пронизанные солнечным светом, населены беспокойными, юркими рыбками. Дальше вы попадаете в сумеречную страну осеннего климата и нездоровой атмосферы, в которой голова становится тяжелой, как у человека, обреченного всю жизнь проводить в задымленном индустриальном городе.
Вы скользите вниз и оглядываетесь назад, туда, где царит лето. А кругом уже холод, вы совершили скачок в зиму. Густой мрак заставляет забыть о солнце. И не только о солнце. Уши больше не отзываются на перемену давления, воздух приобретает металлический вкус. Здесь царит угрюмый покой. Вместо зеленых мшистых валунов — готический камень, острый, рогатый, колючий. В каждом склепе, под каждой аркой — свой маленький мирок с песчаным бережком и живописными рыбками.
Еще ниже появляются крохотные голубые деревца с белыми цветами. Это — настоящие кораллы, полудрагоценные Corallium rubrum с их удивительным разнообразием хрупких форм. Сотни лет на Средиземном море шла промышленная добыча кораллов своего рода деревянной драгой, которая сокрушала эти деревья, извлекая на поверхность лишь отдельные веточки. Теперь толстых вековых деревьев не осталось. Спаслись лишь те кораллы, которые обитают глубже двадцати саженей, в тайниках и гротах, нарастая от свода вниз, как сталактиты. Их могут достать только подводные пловцы.
Пловец, попавший в коралловый грот, должен быть готов к тому, что увидит кораллы сквозь обманчивый цветной фильтр моря. Ветви кажутся сине-черными. Они покрыты бледными цветами, которые втягиваются и исчезают, когда их потревожат. Кораллы сейчас вышли из моды, за фунт дают не больше семидесяти шиллингов.
В зоне кораллов из расщелин в скалах торчат полосатые усики омаров. Завидев руку пловца, омары издают скрипучий звук. Скалы покрыты живыми шишками и напоминающими вымя наростами, длинными мясистыми нитями, «чашечками» и «грибами». Тут царят необычные цвета — фиолетовый, темно-синий, желто-зеленый; все краски приглушены сединой.
Но вот мы у основания рифа. Здесь простирается голый, однообразный песок. Здесь проходит граница жизни, за которой уже ничто не растет, никто не движется. Вы плывете автоматически, мозг словно выключается. Лишь где-то на задворках сознания теплится древний инстинкт самосохранения. Он призывает вас вернуться на поверхность. Вы поднимаетесь, и дурман проходит. А внизу остается обесцвеченная страна, которая еще никому не показала своего подлинного лица.
Рыбы не любят подниматься или опускаться, они, словно жители многоэтажного дома, предпочитают держаться на одном горизонте. Жильцы первого этажа — губаны, груперы и испанские пагры — очень редко идут вверх по лестнице. Зубаны снуют взад и вперед над песчаным дном. Между камнями с озабоченным и решительным видом мечутся сарги. Губаны медлительны и вялы на вид. Испанские пагры еще ленивее. Висят около скалы и посасывают ее, словно леденец. Выше, в сторонке от каменной башни бродят пелагические рыбы, но они явно отдают предпочтение определенному горизонту и редко его покидают. Рыбы не любят усилий, связанных с переменой давления.
Посмотришь — скользят, как заведенные, взад и вперед, покуда их не спугнут. Чем они заняты день-деньской? Большую часть времени просто плавают. Мы не часто видели рыб за едой. Иногда у рифа заставали сарга, который поедал прилепившихся к камню морских ежей. Методично откусывает хрупкие иглы, выплевывает их и мало-помалу добирается до тела ежа… Зеленушки непрестанно что-то жуют. Подхватывают со дна невидимые крошки или, стоя вниз головой, взмучивают облачка ила и глотают их. Суетливые кефали снуют над самой скалой, обсасывая толстыми белыми губами водоросли, поедая икринки и споры. Разноцветные пагры сотнями пасутся в морских прериях. Заметят нас — и ныряют в огромные зеленые облака.
Сколько лет мы пытаемся застать за едой хищников: лаврака, зубана, морского угря или мурену — и ни разу нам это не удавалось. Знаем только по наблюдениям с поверхности, что хищники едят два раза в день в строго определенные часы. В это время многочисленные стаи шпрот, сардин или морских игл подвергаются страшным атакам снизу. Море вскипает, в воздухе сверкают спасающиеся бегством серебристые рыбешки. Морские птицы тоже участвуют в избиении: камнем падают вниз и гордо взлетают с трепещущей добычей в клюве. Но стоит нам нырнуть, и пиршество прекращается. Мы видим, как разбойники рыщут внизу, выжидая, когда мы удалимся. Мелюзга получает передышку, при нас хищники почему-то не хотят есть.
Налет хищников длится обычно около получаса, затем наступает перемирие, все стихает, и они мирно ходят рядом с теми, кто будет съеден завтра.
Еще более скудный итог дали наши попытки подсмотреть спаривание рыб. Меньше других стесняется кефаль. Она празднует свадьбу в сентябре, в теплых прибрежных водах Средиземноморья. Самки важно прогуливаются вверх и вниз, а возбужденные самцы мечутся около и трутся о своих подруг. В брачную пору даже высокомерные пагры отказываются от гордого одиночества. Они собираются в огромные косяки, прижимаясь друг к другу так плотно, что едва могут плыть. Каждый участник любовного роя непрерывно перемещается.
Рыбы по-разному проявляют свое любопытство. Часто, идя под водой, обернешься — и видишь носы многочисленных подводных обитателей, которые с жадным интересом следят за нами. Зубаны ограничиваются одним презрительным взглядом. Лаврак решительно подходит вплотную, внимательно вас разглядит и уплывает. Лихии изображают полное безразличие, а сами пододвигаются поближе.
Не так ведут себя меру. Все морские судаки — словно мальчишки, их безумно интересуют наши особы. У меру большие, преисполненные недоумения трогательные глаза. Мы били острогой меру весом в пятьдесят пять фунтов, а видели стофунтовых. Эта рыба — родственница тропического промикропса, достигающего пятисот фунтов. Обитают меру вдоль берегов, в беспокойной мутной воде, на глубине тридцати футов, держась поблизости от своих убежищ, которые защищают с великим упорством. Некоторые забираются выше, селясь на глубине десяти футов. Недоверчивые индивидуалисты, они редко выходят из дому, чутки к опасности и доживают до глубокой старости.
 И они же — самые любопытные обитатели моря, каких мы встречали. В краю непуганых рыб меру покидают свои обители и издалека приплывают поглядеть на нас. Зайдут снизу и с ханжеским видом уставятся вам в лицо, этакие ангелочки с крыльями-плавниками. Пошевельнешься — отскочат в сторону и опять занимают удобную позицию. Наконец уходят домой, но и там продолжают следить за нами из дверей и окон.
Часто меру окружают маленькие темные строматеусы с большими хвостами, сквозь которые меру смотрят на нас, как женщины сквозь вуаль. Резкое движение — строматеусы бросаются врассыпную, а меру мгновенно исчезают. На глубине ста футов рыбы, по-видимому, не связывают нас с надводным миром. В унылом голубом полумраке подводных джунглей вас принимают как своего, здешние жители относятся к странному животному, которое непрерывно пускает пузыри, скорее с любопытством, чем со страхом.
Меру глотает все, что только попадется в его здоровенную пасть. Осьминог — давай осьминога, причем вместе с камнями, за которые он цепляется; туда же целиком отправляется каракатица со своим щитком, колючий краб-паук, омары, рыбы. Если меру случайно заглотнет рыболовный крючок, он обычно рвет лесу. Дюма нашел в желудке меру два крючка, которые от времени обросли слизью.
Меру успешно могут потягаться с хамелеоном. Обычный цвет этих рыб красно-бурый, но они умеют маскироваться под мрамор, а то вдруг покроются темными полосами. Один раз мы увидели на песке лежащего плашмя белого меру. Решили, что это цвет смерти и разложения, но нет, призрак вздрогнул, из белого стал бурым и удрал.
Как-то мы шли на глубине четырнадцати саженей над большой расщелиной и заметили стайку молодых меру фунтов по двадцати — тридцати. Мы остановились. Они подплыли к нам, потом перевернулись и скользнули вниз — совсем как ребятишки, катающиеся с горки. Поглубже озабоченно совершали какой-то маневр их родичи покрупнее. Один из них вдруг побелел. Остальные прошли рядом с ним, а один остановился возле альбиноса и сам выцвел. Они потерлись друг о друга. Может быть, это было спаривание? Мы смотрели не отрываясь на это загадочное видение. Что означал этот ритуал среди растворяющихся во мгле камней? Нам это зрелище показалось ничуть не менее удивительным, чем то, которое наблюдал маленький Тумаи, когда перед ним танцевали слоны.
Мы относимся к меру, как к старым добрым знакомым. В наших подводных наблюдениях они занимают особое место. Мы уверены, что могли бы приручить какого-нибудь меру, используя его любопытную натуру.
И они же — самые любопытные обитатели моря, каких мы встречали. В краю непуганых рыб меру покидают свои обители и издалека приплывают поглядеть на нас. Зайдут снизу и с ханжеским видом уставятся вам в лицо, этакие ангелочки с крыльями-плавниками. Пошевельнешься — отскочат в сторону и опять занимают удобную позицию. Наконец уходят домой, но и там продолжают следить за нами из дверей и окон.
Часто меру окружают маленькие темные строматеусы с большими хвостами, сквозь которые меру смотрят на нас, как женщины сквозь вуаль. Резкое движение — строматеусы бросаются врассыпную, а меру мгновенно исчезают. На глубине ста футов рыбы, по-видимому, не связывают нас с надводным миром. В унылом голубом полумраке подводных джунглей вас принимают как своего, здешние жители относятся к странному животному, которое непрерывно пускает пузыри, скорее с любопытством, чем со страхом.
Меру глотает все, что только попадется в его здоровенную пасть. Осьминог — давай осьминога, причем вместе с камнями, за которые он цепляется; туда же целиком отправляется каракатица со своим щитком, колючий краб-паук, омары, рыбы. Если меру случайно заглотнет рыболовный крючок, он обычно рвет лесу. Дюма нашел в желудке меру два крючка, которые от времени обросли слизью.
Меру успешно могут потягаться с хамелеоном. Обычный цвет этих рыб красно-бурый, но они умеют маскироваться под мрамор, а то вдруг покроются темными полосами. Один раз мы увидели на песке лежащего плашмя белого меру. Решили, что это цвет смерти и разложения, но нет, призрак вздрогнул, из белого стал бурым и удрал.
Как-то мы шли на глубине четырнадцати саженей над большой расщелиной и заметили стайку молодых меру фунтов по двадцати — тридцати. Мы остановились. Они подплыли к нам, потом перевернулись и скользнули вниз — совсем как ребятишки, катающиеся с горки. Поглубже озабоченно совершали какой-то маневр их родичи покрупнее. Один из них вдруг побелел. Остальные прошли рядом с ним, а один остановился возле альбиноса и сам выцвел. Они потерлись друг о друга. Может быть, это было спаривание? Мы смотрели не отрываясь на это загадочное видение. Что означал этот ритуал среди растворяющихся во мгле камней? Нам это зрелище показалось ничуть не менее удивительным, чем то, которое наблюдал маленький Тумаи, когда перед ним танцевали слоны.
Мы относимся к меру, как к старым добрым знакомым. В наших подводных наблюдениях они занимают особое место. Мы уверены, что могли бы приручить какого-нибудь меру, используя его любопытную натуру.

Глава четырнадцатая
Там, где льется зеленая кровь

Жители тропиков с незапамятных времен ныряют в море и собирают его дары, но покуда какой-то сметливый полинезиец не догадался вделать два куска стекла в водонепроницаемую оправу, люди были почти слепы под водой. Хрусталик не умеет приспособляться к преломлению лучей, переходящих из воды в зрачок. Вместо того чтобы ложиться на сетчатку, фокус изображения оказывается за ней, и человек видит все в тумане, как если бы страдал очень сильной дальнозоркостью.
Пловец, у которого глаза защищены маской, видит под водой предметы несколько увеличенными. Они кажутся ему ближе, чем есть на самом деле, примерно на одну четверть истинного расстояния. Причина — преломление света, который проникает из воды через стекло маски. Когда явпервые нырнул и протягивал руку за каким-нибудь предметом, она оказывалась слишком короткой: не рука, а какая-то культяпка. То, что вода играет роль увеличительного стекла, очень на руку хвастливым рыболовам. Шестифутовая акула в самом деле кажется им девятифутовой. Нужен длительный навык, чтобы автоматически корректировать размеры и расстояние.
Ныряя вместе с Дюма, я иногда незаметно подкрадывался к нему сзади: изображал акулу. Было совсем нетрудно, оставаясь вне поля его зрения, подойти вплотную. Дюма и впрямь казалось, что к нему подбирается акула. Он вертелся и так, и сяк, стараясь увидеть ее, но я легко сводил на нет его уловки. Нужно было только внимательно следить за ним и вовремя отходить в сторону. Если человек может провести такого искусного пловца, как Дюма, то можете себе представить зловещие возможности наделенного толикой разума людоеда.
В морских глубинах новый день занимается очень медленно. Конечно, рассвет проникает в толщу воды, но освещение не меняется резко, ведь поверхность моря отражает солнечные лучи, и они пронизывают ее только в полдень, когда солнце стоит над самой головой. Чем глубже, тем слабее дневной свет: сперва как лунное сияние, потом как звездное, наконец он совсем гаснет.
Солнечные лучи теряют силу в воде потому, что их энергия преобразуется в тепло, к тому же свет рассеивается взвешенными в воде частицами ила, песка, планктоном и даже молекулами воды.
В чистой воде на глубине ста футов сравнительно темно, во на дне вдруг становится светлее, так как от него отражается свет. Мы наблюдали это, когда обследовали «Дальтон».
Даже на глубине трехсот футов (рубеж аквалангиста), как правило, достаточно света, чтобы работать, а нередко и снимать черно-белые фотографии. Доктор Вильям Биб и другие установили, что дневной свет проникает в воду на тысячу пятьсот футов.
Прозрачность воды меняется не только от места к месту, но и от слоя к слою. Однажды мы плавали над подводной скалой в Средиземном море. Вода была настолько мутна, что видимость ограничивалась несколькими ярдами. Двумя саженями ниже нам вдруг попался совсем прозрачный слой. Его сменил пятнадцатифутовый пласт воды молочного оттенка, с видимостью примерно в пять футов. После этого молока до самого дна шла чистая вода. В сумеречной прозрачной толще сновало множество рыб, и туманная пелена над нами напоминала низко нависшие тучи в дождливый день. Часто, погружаясь на большую глубину, мы пересекали причудливо чередующиеся мутные и прозрачные слои. А бывает, что прозрачность одного и того же слоя меняется на глазах. Я видел, как чистая вода вдруг мутнела, хотя никакого течения как будто не было; видел и столь же таинственное внезапное прояснение. Мы заметили, что всего мутнее вода у поверхности весной и осенью; но в это же время года мы иногда обнаруживали мутный слой под мощным пластом прозрачной воды.
У берегов, естественно, воду может замутить речной ил. Дальше в море муть образуют главным образом бесчисленные микроорганизмы. В конце весны вода насыщена водорослями, крохотными одно- и многоклеточными организмами, спорами, икринками, малюсенькими рачками, личинками, а также шариками и нитями живой слизи. В таком супе видимость сокращается до пятнадцати футов, и он грозит пловцу болезненным раздражением кожи. Соприкосновение с миллионами крохотных существ не очень приятно, тем более что они могут принести вам серьезный вред. В самых неожиданных местах вы ощущаете уколы и ожоги; хуже всего достается губам. Хорошо, что глаза защищены маской.
Когда вы читаете про чарующую глаз игру красок в волшебной стране подводных скал, речь идет о глубинах не более двадцати двух футов. Дальше краски сильно приглушены, даже в пронизанных солнцем водах тропиков. Морская вода действует, как голубой фильтр. Группа подводных изысканий изучала, как изменяются цвета под водой. Мы брали таблицы с ярко-красными, голубыми, желтыми, зелеными, пурпуровыми и оранжевыми квадратами, а также шкалу серых тонов от белого до черного и фотографировали их на различной глубине, вплоть до сумеречной зоны. На глубине пятнадцати футов красный цвет казался розовым, а на сороковом футе — черным; одновременно исчезал и оранжевый цвет. На глубине ста двадцати футов желтый цвет начинал превращаться в зеленый; здесь царит уже почти полная монохроматичность. Ультрафиолетовые лучи проникают довольно глубоко, а инфракрасные полностью поглощаются буквально несколькими дюймами воды. Как-то раз мы охотились в море у скал Ла Кассадань. Нырнув на двадцать саженей, Диди подстрелил восьмидесятифунтовую лихию. Гарпун пробил ее насквозь позади головы, но не задел позвоночника. Рыба отчаянно сопротивлялась и потащила Диди за собой на тридцатифутовом гарпунном тросе. Когда лихия устремлялась вниз, Диди раскидывал руки и ноги крестом, чтобы тормозить; когда она направлялась кверху, он вытягивался в струнку и сильно работал ластами, помогая ей. Рыба казалась неутомимой. У нас уже кончался воздух, а она и не думала сдаваться. Дюма стал подтягиваться к ней по тросу. Лихия, не сбавляя скорости, пошла по кругу; он должен был приноравливаться к ее движению, чтобы не запутаться в тросе. Наконец подобрался вплотную и одной рукой взялся за древко гарпуна, а другой вонзил в сердце рыбины нож. Из раны фонтаном забила кровь. Но кровь была зеленая! Ошеломленный этим зрелищем, я подплыл ближе, глядя на струю, вместе с которой из сердца рыбы уходила жизнь. Она была изумрудного цвета. Мы недоумевающе переглянулись. Сколько раз мы плавали среди лихий, но никогда не подозревали, что у них зеленая кровь. Крепко держа гарпун со своим поразительным трофеем, Диди пошел вверх. На глубине пятидесяти пяти футов кровь стала коричневой. Двадцать футов — она уже розовая, а на поверхности растеклась алыми струями. В другой раз я сильно порезался на глубине ста пятидесяти футов, и из моей руки потекла зеленая кровь. Я был во власти легкого опьянения, и мне почудилось, что море сыграло со мной какую-то шутку. Но тут я вспомнил лихию и с трудом убедил себя, что на самом деле у меня красная кровь. В 1948 году мы принесли свет в сумеречную зону. В ясный полдень Дюма нырнул с электрическим светильником, равным по мощности киноюпитерам. К поверхности тянулся длинный провод. В прозрачной воде наши глаза отчетливо различали голубые предметы, но нам хотелось увидеть настоящие цвета. На глубине ста пятидесяти футов Диди навел рефлектор на склон рифа и включил свет. Риф буквально взорвался красками! Луч света выявил ослепительную гамму; преобладали сочные оттенки красного и оранжевого цветов. Яркость красок напоминала о картинах Матисса. Впервые после сотворения мира озарилось светом все великолепие палитры сумеречной зоны. Мы упивались невиданным зрелищем. Даже рыбы никогда не видели ничего подобного. Почему такое богатство оттенков собралось там, где нельзя его оценить? И почему в глубинах преобладал красный цвет, который первым отфильтровывается в верхних слоях? Какие краски таятся еще глубже, в области вечного мрака? Мы решили снять цветные фотографии в голубой зоне, которая начинается примерно со ста пятидесяти футов. К тому времени мы уже десять лет работали над черно-белыми кинофильмами. Подводная фотография вообще началась гораздо раньше, чем можно подумать. Как-то нам попала в руки редкая книга под названием «La Photographie Sous-Marine» («Подводная фотография»), изданная в 1900 году. Ее автор Луи Бутан рассказывал о шестилетнем опыте подводной фотографии в те времена, а ведь тогда снимали на неудобные мокроколлодионные пластинки. Свои первые снимки под водой Бутан сделал в заливе Баньюль-сюр-Мэр в 1893 году. Тайе снимал наши первые фильмы на 9,5-миллиметровую пленку аппаратом Пате, для которого сам сделал из жести бокс. Американец Дж. Э. Вильямс опередил нас: он снимал первые подводные фильмы еще в 1914 году. Начиная подводные съемки, мы не столкнулись ни с какими оптическими проблемами. Резкость получалась отличная, хотя мы определяли расстояние на глазок. Преломление света на рубеже воды и воздуха нам не мешало. Но затем пошли нерезкие кадры. Тот же оператор, с той же камерой никак не мог добиться четкого изображения. Обескураженные неудачей, мы вплотную занялись этой проблемой и в конце концов нашли решение, причем в области психологии, а не оптики. Первое время мы наводили фокус, определяя расстояние на глаз, и камера добросовестно запечатлевала то, что мы видели. Но потом мы перемудрили: автоматически внося поправку на рефракцию, соответственно устанавливали аппарат. И на снимках получался туман, ведь линза не делала никаких поправок в уме. Стоило нам вернуться к старому способу и устанавливать дальность так, как она представлялась глазу, и снова стали получаться отличные, резкие кадры. Подводная киносъемка была для нас подлинным откровением. Кинокамера послушно выполняла все наши замыслы. Мы подвешиваем ее к двум полозьям, которые заканчиваются рукоятками, как у пистолета-пулемета. Оператор держит эту конструкцию перед собой, целясь в избранный объект. Служа опорой, плотная среда позволяет применять приемы, для которых в киностудии требуются специальные приспособления, потому что в руках кинокамера будет качаться. В воде легко снимать наплывом, делать панорамы и запечатлевать сложные объемные объекты. Мы не пользуемся видоискателем под водой. Камера смотрит прямо на предмет, «залп» дается без «прицела». Все решает координация тела оператора, его глаз и камеры. Первые фильмы мы снимали на мелководье при ярком солнечном освещении. Вооружившись аквалангом, мы убедились, что успешно можем получать черно-белые негативы и на больших глубинах. В 1946 году при свете июльского полуденного солнца мы засняли целый фильм на глубине двухсот десяти футов без искусственной подсветки. Выдержка — 1:50 при диафрагме 2. Чтобы определить выдержку, пользовались серой шкалой. В 1948 году мы установили, что можно делать глубоко под водой цветные фильмы; как раз тогда мы на глубине ста двадцати семи футов сняли ленту о работе аквалангистов на махдийском корабле. Но съемки не были самоцелью, нам важно было запечатлеть работу подводного пловца. Большая часть заснятых нами семидесяти тысяч футов кинопленки хранится в наших архивах. Без фильма мы не смогли бы убедить военно-морские власти создать Группу подводных изысканий. И фильмы помогают нам готовить океанографические экспедиции. Но, как ни странно, для научного исследования удобнее цветная фотография. После десяти лет увлечения кино мы восстановили в правах и обычную фотосъемку, причем нередко она оказывается сложнее. Первые цветные фото под водой сделали в 1926 году В. X. Лонглей и Чарльз Мартин, члены американского Национального географического общества. Они пользовались магниевой вспышкой; установленный на поверхности рефлектор отбрасывал свет на глубину до ста пятидесяти футов. Франсуа Жирардо, парижский специалист по аппаратуре для подводных съемок, укрепил по нашему заказу «Роллейфлекс» на штативе с рукоятками, который нам полюбился. Так как прежние светильники были слишком слабы, если учесть их размеры и вес, мы сделали рефлектор с восемью небывало мощными лампами, каждая из которых давала пять миллионов люменов. На суше одна такая лампа позволяла снимать ночью цветные объекты с пятидесяти футов. Под водой в темной зоне радиус ее действия ограничивается шестью футами. Переключатель позволял включать одну, две, четыре или все восемь ламп одновременно. Наибольшая мощность светильника — сорок миллионов люменов. Разве что только атомная бомба способна сосредоточить такой яркий свет на столь малом пространстве. Но даже эта конструкция давала достаточную освещенность не дальше, чем на пятнадцать футов. Важным свойством ламп было то, что они не хуже нас выдерживали давление. Мы назвали свое изобретение «экспедиционная вспышка». Первые съемки с новым светильником состоялись в глубинах Средиземного моря. Вместе со мной под воду ушли Жан Бельтран и Жак Эрто; они несли рефлекторы, соединенные с камерой тридцатифутовым проводом. Небольшие поплавки приподнимали провода над полем зрения фотоаппарата и над камнями, чтобы не цеплялись. Дюма поплыл вперед и на глубине двадцати пяти саженей выбрал подходящий для съемки грот. Для масштаба он должен был сам присутствовать на снимке. В темном закоулке яркие ласты Дюма были едва видны на фоне голубого рифа. Он прислонил к камню цветную шкалу, по которой нам предстояло судить о качестве снимков. Никто не знал, какая пленка и какой свет обеспечат правильное воспроизведение. Для подводной цветной фотографии не было еще выработано никаких правил; это предстояло сделать нам. Эрто и Вельтран направили свои рефлекторы на Диди, как положено: один поближе к объекту съемки, другой повыше и подальше, для общего освещения. Я нажал спуск. Последовало мгновенное извержение красок, столь кратковременное, что мы ничего не успели разобрать и только ждали, ослепленные, когда прекратится свистопляска цветов на сетчатке наших глаз. Не сразу мы оправились от этой страшной вспышки! Диди перешел на другое место, и мы приготовились снимать следующий кадр. Но тут лампы отказали. Пришлось возвращаться на поверхность. Лампы были целы, они благополучно перенесли давление около пяти атмосфер, но гореть по-прежнему не хотели. Уже в лаборатории мы нашли, что в цоколи просочилась вода. Выход был один: перейти на водонепроницаемые боксы. Конечно, мы с самого начала подумывали об этом, но решили обойтись так; не хотелось усложнять конструкцию и терять время. Голым лампам давление было не страшно, но когда их упрятали под стекло, понадобилось предохранить его изнутри сжатым воздухом. Жирардо изготовил из толстого металла два бокса с окошками из дюймового стекла и приспособил к ним микроакваланги. Два месяца провели мы в холодной весенней воде, снимая морскую фауну и флору. Побывали и на затонувших судах, изучая покрывавшие их организмы. Если известно, когда погибло судно, ученые могут рассчитать скорость прироста органического слоя; для рифов и скал это невозможно, хотя покров на них достигает порой шести футов. Температура воды была около одиннадцати градусов, и пальцы немели, а иногда и голова плохо работала. Так, Эрто однажды забыл включить клапан, пропускающий в бокс сжатый воздух, а мы работали на глубине, где давление равно четырем атмосферам. Только он стал приспосабливать свой светильник, как стекло с оглушительным звоном лопнуло. Эрто отбросило к скале, потом он провалился, словно шагнул в яму. Уравновешенный воздухом бокс ничего не весил, теперь же вес его достигал тридцати пяти фунтов. Провод оборвался, и Эрто мигом очутился на дне. Мы пошли за ним. Он тщетно силился оторвать ото дна тяжелый светильник, который стоил нам полторы тысячи долларов. Подоспевший Дюма повернул бокс отверстием вниз, лег рядом на грунт и направил внутрь бокса пузырьки выдоха. Постепенно своеобразный водолазный колокол наполнился воздухом и легко всплыл на поверхность. Три раза повторялась авария, и это в такой холодной воде! Чтобы пополнить свои знания об освещенности моря, я решил нырнуть ночью. Если подводный пловец скажет мне, что не испытывал никакого страха перед ночным погружением, я ему не поверю. Я выбрал знакомое место, глубина двадцать пять футов, каменистое дно. Была ясная летняя ночь, в безлунном небе горели яркие звезды. Мириады светящихся морских микроорганизмов перемигивались с небесными огоньками, а когда я окунул маску в воду, ночесветки засверкали еще ярче, словно светлячки. Днище лодки превратилось в переливающийся серебром свод. Я не спеша шел через подводный Млечный Путь. Но вот очутился на дне, среди уродливых каменных глыб, и очарование рассеялось. Невдалеке смутно вырисовывались скалы. Мое воображение пыталось проникнуть через окружающую тьму в невидимые расщелины, где ходили в поисках добычи безжалостные ночные охотники — угри и мурены. Фантазия так разыгралась, что я поспешил зажечь электрический фонарь. Конус ослепительного света пронизал воду, затмив все огоньки на своем пути; на камне загорелся круг кремового цвета. Зато все, что было за пределами луча, окуталось еще более густым мраком. Я уже не видел окружающих меня скал. Мерещилось, что меня со всех сторон подстерегают чудовища. Я завертелся юлой, светя фонарем, вконец растерялся и перестал ориентироваться. Собравшись с духом, я выключил фонарь и в полной темноте осторожно поплыл над камнями, то и дело оглядываясь назад. Глаза привыкли к мраку, и мне снова стали чудиться всякие страсти. Вот, рождая световые облачка, шевельнулась какая-то тень и унеслась, словно комета. Какая-нибудь удивленная рыба, которую разбудило мое вторжение. За ней последовали другие. Мало-помалу я одолел страх, даже оказался в состоянии радоваться: хорошо, что это не кишащее акулами тропическое море. Под конец я вроде бы чувствовал себя превосходно. Но никаких ценных наблюдений я не сделал. В другой раз я нырял при полной луне. На скалах причудливо бегали белые блики. Донный ландшафт был виден почти как днем, но настроение — совсем другое. Камни выросли до невообразимых размеров; я видел призрачные лица и фигуры. Лишь кое-где мерцали искорки ночесветок, им трудно спорить с лунным светом. Рыбы исчезли. Когда над горизонтом поднимается луна, рыбаки знают, что сети вернутся пустыми.

Эпилог
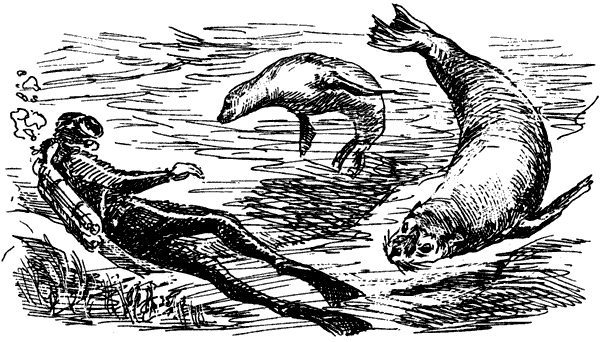
— И что это вас так тянет в море? — спрашивают нас практичные люди.
Джорджа Меллори спросили как-то, почему ему так хочется влезть на Эверест. Он ответил: «Потому что он существует!» Пусть эти слова будут и нашим ответом. Нам не дают покоя ожидающие изучения океанские толщи. На суше большая часть флоры и фауны сосредоточена в слое, толщина которого чрезвычайно мала — меньше человеческого роста. Жизненный простор океанов, при средней глубине в двенадцать тысяч футов, в тысячу с лишним раз превышает объем наземной биосферы.
Я рассказал, как мы начали нырять просто из любопытства, а потом увлеклись физиологией и техникой подводного плавания и постепенно пришли к аквалангу. Теперь нас влекут в глубины еще и проблемы океанографии. Мы стараемся открыть человеку доступ в колоссальную гидросферу, так как предчувствуем близость эры морей.
Издревле находились смельчаки, которые пытались проникнуть в подводный мир. Сэр Роберт Дэвис установил, что каждая эпоха расцвета в истории человечества рождала, в частности, проекты дыхательных аппаратов, позволяющих свободно передвигаться под водой. На ассирийских барельефах мы видим подводных пловцов с запасом воздуха в мехах; на деле этот способ не годится. Несколько проектов — увы, неприменимых — разработал Леонардо да Винчи. Хитроумные ремесленники времен Елизаветы пытались создать кожаные водолазные костюмы. Они потерпели неудачу потому, что тогда исследование морей не было экономической необходимостью, какой было, скажем, появление паровоза Стефенсона или летательного аппарата братьев Райт. Но человек, несомненно, придет в подводный мир. Это просто неизбежно. Население земли растет так быстро и наземные ресурсы исчерпаны до такой степени, что нам придется искать средств к существованию в этом великом роге изобилия. Море может поставлять жизненно важные «мясо» и «овощи». А о роли минеральных и химических ресурсов моря красноречиво говорит острая политическая и экономическая борьба за нефтяные месторождения на материковой отмели. И ведь нефть есть не только у берегов Техаса или Калифорнии.
Наши лучшие образцы автономного снаряжения позволили нам пройти лишь половину пути до нижней границы материковой отмели. Только когда научно-исследовательские центры и промышленность всерьез обратятся к этой проблеме, мы сможем добраться до грани шельфа, которая проходит на шестисотфутовой глубине. Для этого потребуется гораздо более совершенное снаряжение, чем наш акваланг — примитивный аппарат, недостойный современного уровня науки. Но мы верим, что покорители материковой отмели отпразднуют победу.
Жак-Ив Кусто,
Джемс Даген
Живое море

Jacques-Yves Cousteau with James Dugan
THE LIVING SEA
Hamish Hamilton, London, 1963
Глава первая
На грани
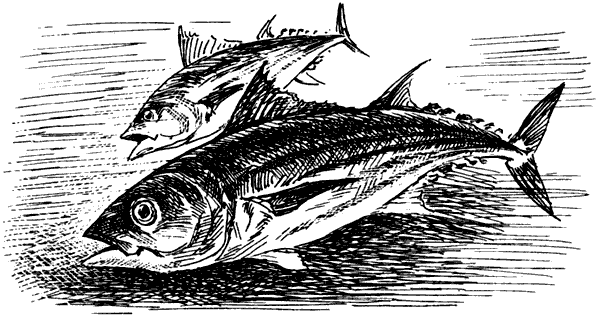
Декабрь 1951 года. Тихий предрассветный час в Красном море у берегов Саудовской Аравии… Фредерик Дюма и я готовимся начать программу нашей первой настоящей научной подводной экспедиции. Мое новое исследовательское судно «Калипсо» стоит за грядой коварных фарасанских рифов. В полумраке можно различить зеленые палатки берегового отряда на пустынном острове Абу-Латт.
Добродушно ворча, брашпиль проглотил якорную цепь. С носа прозвучал голос боцмана Жана Бельтрана: «L’ancre est haute et claire!» Якорь поднят! На мостике мой старый товарищ по военно-морской службе капитан Франсуа Саут бурчит:
— Погода слишком хороша. Если переменится — только к худшему.
— Брось, это не твой любимый мыс Горн! — отвечаю я.
Впрочем, я только доволен, что Саут так печется о нашем драгоценном судне. Тем более что нас и впрямь со всех сторон подстерегают опасности. Десять миль плохо изученного фарватера, рифы и коралловые глыбы отделяют «Калипсо» от внешней Фарасанской банки, где сегодня состоятся погружения.
Заработали оба мотора; я поднимаюсь на высокий наблюдательный мостик над рулевой рубкой. Отсюда, сверху, «Калипсо» кажется достаточно маленькой, чтобы суметь пробраться между наполовину скрытыми преградами. Ориентируюсь по приметным образованиям на берегу, которые мы назвали «Авианосец», «Малый термитник», «Шотландская пирамида». Наконец рифы позади, и Саут берет курс строго на запад.
В штурманской рубке внизу моя жена Симона, надев наушники, следит за эхолотом. Она сообщает его показания стоящему на крыле мостика бородатому арабу в тюрбане, он передает их Сауту и мне. Правда, араб не настоящий, это прикомандированный к нам на время плавания лейтенант Жан Дюпа, владеющий арабским языком.
В отсеках корабля под моим насестом просыпается команда «Калипсо». Вот появился белый колпак Фернана Анена: наш кок несет на мостик горячий кофе. Затарахтели пущенные старшим механиком Рене Монтюпе компрессоры, которые зарядят баллоны воздухом для сегодняшних погружений. Всеобщая побудка! На корме, на водолазной палубе наши земноводные кинооператоры Дюма, Бельтран и Жак Эрто приготовили трехбаллонные акваланги и накрыли их мокрыми дерюгами, чтобы защитить от солнечных лучей.
Словно из пушки, выскочило солнце, грозя сжечь кожу. Я глубоко-глубоко вздохнул… Сегодня большой день, начинаем исследовать девственные рифы Шаб-Сулейм, ограждающие с моря Фарасанские острова! Будем погружаться на двести футов, собирать пробы прикрепленных форм с разнотипных участков, запечатлеем риф на цветную пленку при искусственном освещении. Мы надеялись также определить мощность слоя живых кораллов, наметить в основных чертах рельеф дна.
Сбывается моя давняя мечта: поставить на службу океанографии легководолазное снаряжение и ручные подводные фотокамеры.
Шаб-Сулейм — длинная, узкая цепочка рифов, протянувшаяся с юго-востока на северо-запад; коралловый венец здесь поднимается так близко к поверхности, что волны, рожденные неугомонным ветром, рассыпаются белыми цветками. У северо-западной оконечности Шаб-Сулейма я отыскал голубой проток достаточной ширины, чтобы «Калипсо» могла стать на якорь.
Спустили на воду плоскодонный алюминиевый катер и впятером подошли к рифу. Дюма и я, надев маски, пересекли вброд кишащие жизнью, изборожденные пустотами коралловые массивы и подплыли к краю подводного обрыва. В голубой хрустальной толще под нами, куда ни глянь, неторопливо скользили в подводном балете величественные серые и бурые акулы.
Мы вернулись к катеру, чтобы посовещаться с Эрто и профессором Пьером Драшем. Этот румяный, коренастый человек, знаток прикрепленной фауны, первым из океанографов овладел для своих исследований аквалангом.
— По-моему, надо нырять спиной к склону, — сказал Дюма. — Легче будет следить за акулами, наполовину сократится опасная зона.
— Я прибыл сюда собирать пробы, — возразил профессор Драш, — а не вертеться и следить за акулами.
И он прочитал нам лекцию на тему «Исследовательские работы под водой», словно мы находились в одной из аудиторий Сорбонны, а не на раскаленной сковороде пустынного рифа среди кишащих акулами вод. Профессор называл основные формы мадрепор, альционарий, асцидий, известковых водорослей. А я думал о том, что он очень мало нырял. Драш первым из ученых прошел далеко не легкий курс в школе подводных пловцов Тулонской группы подводных исследований военно-морских сил, но сложных погружений почти не совершал и лишь однажды побывал на глубине двухсот футов, на которой нам предстояло работать сегодня.
Дождавшись конца лекции, я сказал:
— Мне кажется, лучше всего такой порядок: Дюма и я будем телохранителями Драша. Профессор сможет всецело заняться сбором проб. Эрто пусть фотографирует, Бельтран останется в лодке следить за нашими пузырьками, чтобы в случае чего немедленно прийти на помощь.
Мои товарищи приступили к работе. Но я замешкался и поймал себя на том, что проверяю свое снаряжение с таким тщанием, словно совершаю священный обряд. Я не боялся предстоящего погружения, просто интуиция настойчиво подсказывала мне, что оно будет для меня особенно важным. Отсюда это необычное, индивидуалистическое настроение.
Но вот и я вошел в воду — такую теплую, что кожа почти не ощущала ее.
Надводный мир перестал существовать. Внизу, над пышными зарослями на склоне, ожидая меня, висели, будто марионетки, мои товарищи. Я присоединился к ним, и мы вместе подплыли к краю уступа. Прямо в бездну обрывалась отвесная живая стена. Дюма нашел удобное укрытие — уходящую вниз расщелину, и мы стали погружаться вдоль нее. Из мглы внезапно появлялись подводные странники: здоровенные каранги, бониты с ярко-голубой чешуей, серебристые сардинеллы. Подойдя к стене и кокетливо покружившись возле нас, они возвращались на свое морское приволье. Лениво пульсируя, плыли большие прозрачные медузы. У рифа их перехватывали и разрывали в клочья угольно-черные рыбки.
Замигали фотовспышки Эрто. Профессор Драш то и дело останавливался — отломить своей «отмычкой» колонию, сделать запись на пластмассовой табличке и опустить образец в подвешенную к поясу веревочную сетку. Идя вниз лицом к рифу, он впервые видел живыми существа, которые до сих пор изучал только по книгам или обезображенным, обесцвеченным формалином экземплярам. Кругом был биотоп, одновременно знакомый и незнакомый ему. И он забыл обо всем на свете. Озабоченный этим, я жестом указал Дюма на профессора. Мы обменялись выразительными взглядами: надо тщательно присматривать за Драшем.
Но рядом с этой хрупкой и в то же время такой величественной стеной трудно оставаться просто телохранителем. Кораллы были самых неожиданных форм и оттенков. Мы видели черепа карликов и великанов; султаны цвета охры и фуксина перемежались с окаменелыми розовато-лиловыми кустиками и красными сотами кораллов-органчиков. Великолепные акропоровые зонты простирались над мирно отдыхающими рыбами изумительной красно-золотой расцветки. Сквозь этот опрокинутый набок лес пробирались, петляя, горбатые морские улитки. В расщелинах рифа было столько тридакн, что хватило бы сделать купели для всех христианских церквей на свете. Приоткрытые створки обнажали сочное тело моллюска, напоминающее цветом крашеные губы вульгарной женщины.
Коралловые балконы, извилистые кулуары, несчетные трещины изрытого течениями рифа Шаб-Сулейм кишели статистами, ожидающими своего выхода на сцену. Я сунул голову в грот — испуганные рыбки сбились в кучу, прижались к стенкам; вооруженные шипами ощетинили спинные плавники. Маленькие пещеры были внутри «оштукатурены» яркими пятнами асцидий, гидроидов, известковых водорослей.
Впереди меня стаи рыб словно всасывались в риф. И тут же появлялись вновь: испещренные желтыми крапинками груперы, рыбы-бабочки в золотистую и голубую полоску, серые «единороги» с длинным горизонтальным «рогом», торчащим из ничем не примечательной головы. Плоские, как блин, рыбки с гордостью несли длинный ус; пятнистые спинороги в профиль напоминали Фернанделя. Словом, местные жители щеголяли в своих лучших нарядах.
Из трещин, устрашающе скаля зубы, сердито смотрели консьержи подводного поселения — мурены, но гуляющие ничуть их не боялись. Мой взгляд остановился на странном предмете, неподвижно повисшем в воде. Какой-то комок из бело-черных перьев… Вдруг комок взорвался колючками — это были острые шипы львиной рыбы. Я поднес палец к ядовитым иглам, остерегаясь коснуться их. Рыба даже не вздрогнула, она вполне полагалась на свою защиту.
Я двинулся дальше, иногда останавливаясь, чтобы прижать маску вплотную к поверхности рифа — так дети смотрят в окно кондитерской… Каждый квадратный фут представлял собой целый микромир: черви, крохотные волосатые крабы, пестрые моллюски, прожорливые паразиты. На глубине шестидесяти футов я вступил в царство альционарий. Вертикальный луг порос гибкими растениями, напоминающими сельдерей, и у каждого стебелька — свой оттенок. В висячем саду стояли высокие коралловые зонты, воронки губок, простирались полупрозрачные веера горгонарий. Ниже радужного сельдерея торчало из скалы переплетение десятифутовых черных нитей — жесткие, сучковатые виргулярии, словно небрежно разбросанные на голубом ковре электрические шнуры.
И после этого невиданного зрелища внезапно на глубине ста тридцати футов — знакомые картины, в точности напоминающие столь привычный для нас подводный ландшафт у Кассиса или Риу в Средиземном море. Те же узкие лоджии вдоль безжизненных стен, беспорядочное переплетение асцидий и водорослей, то же запустение. Недоставало только омаров, которые в наших водах любят занимать такие балкончики, да хорошо известных ювелирам красных кораллов; они, как ни странно, отсутствуют в «коралловых» морях.
И все время в поле зрения ходили акулы.
Чем глубже, тем быстрее они двигались. От старания уследить за ними у меня рябило в глазах. В любом направлении — одна-две хищницы. Круг смыкался… То одна, то другая устремлялась с тупым видом ко мне, чтобы в последний миг свернуть в сторону.
Сто пятьдесят футов. Я поглядел вверх. Больше десятка живых торпед сновало на фоне зеленеющего «потолка». Глянул вниз. В пятидесяти футах подо мной — светлые силуэты акул над песчаным откосом. Поймал взглядом забытых было товарищей. Обнаженные, вдали от лодки, в окружении красноморских акул, о повадках которых нам ничего не известно… Я вдруг остро ощутил нашу беззащитность.
 От снующей взад и вперед стаи отделилась самая крупная акула, длиной около двенадцати футов, и пошла к профессору, словно что-то задумала. Я был в тридцати футах от Драша, акула приближалась к нему на уровне его лодыжек. Душа переворачивалась смотреть, как человек ласкает глазами риф, а в это время акула присматривается к его ногам. Громко рыча в загубник, я бросился к ним, далеко не уверенный в исходе своего маневра. Драш ничего не слышал. Подпустив меня на десять футов, акула круто свернула и поплыла прочь. Я тронул Драша за плечо и попробовал знаками объяснить ему, что случилось. Он строго поглядел на меня и снова повернулся к рифу. Профессор не желал, чтобы ему мешали.
Невозмутимость ученого передалась мне. Почему-то все страхи прошли, и я продолжал погружаться, спокойно изучая окружающее. На глубине двухсот футов скалу сменил выстланный серым илом откос крутизной в 45°. Обидно: после такого великолепия вдруг унылое, безжизненное дно. Но, приглядевшись, я обнаружил, что откос уходит в глубину всего на пятьдесят футов. Дальше — новый обрыв и загадочная голубая мгла. А склон, над которым я парил, был свалкой, здесь веками копился мусор из кипящего жизнью поселения вверху.
Я помедлил, созерцая нижний порог. Широко раскинув руки и ноги, жадно вдохнул густой, вкусный воздух. Сквозь сипение легочного автомата слышался тихий скрип и бульканье пузырьков: надо мной были другие люди. Обыденный звук их дыхания вдруг приобрел для меня непомерно большое значение. Подкрадывалось глубинное опьянение. Я знал его и не боялся: проверим, насколько я еще управляю собой!
Серый откос на глубине двухсот футов — рубеж рассудка, дальше начинается безумие. Я упивался сознанием опасности. В висках стучало. Вытянув руки, словно лунатик, я заработал ластами и пересек границу потустороннего мира.
Из уходящей в умопомрачительную глубь стены торчали сотни белых морских перьев. Я медленно погружался вдоль колонии причудливых созданий. На меня таращились головы чудовищ. Поверх бледных студенистых выростов сидели огромные губки, заплетенные паутиной. Насколько проникал в пучину мой взгляд, всюду к стене лепилось множество всяких организмов. Они были недосягаемы для меня. На глубине двухсот пятидесяти футов я остановился.
Издалека донесся механический «вздох»: кто-то из моих спутников включил «запасной воздух». Пора собирать товарищей и выходить наверх, к солнцу и воздуху, подчиняясь законам, которые управляют моим родом. Пора? Почему пора?
Я выкроил еще минутку, держась за морское перо и жадно глядя вниз. И тут я почувствовал, что еще встречусь со вторым рифом. Я дал себе клятву придумать, создать и освоить аппараты, которые откроют мне доступ к подводным грядам мира безмолвия.
От снующей взад и вперед стаи отделилась самая крупная акула, длиной около двенадцати футов, и пошла к профессору, словно что-то задумала. Я был в тридцати футах от Драша, акула приближалась к нему на уровне его лодыжек. Душа переворачивалась смотреть, как человек ласкает глазами риф, а в это время акула присматривается к его ногам. Громко рыча в загубник, я бросился к ним, далеко не уверенный в исходе своего маневра. Драш ничего не слышал. Подпустив меня на десять футов, акула круто свернула и поплыла прочь. Я тронул Драша за плечо и попробовал знаками объяснить ему, что случилось. Он строго поглядел на меня и снова повернулся к рифу. Профессор не желал, чтобы ему мешали.
Невозмутимость ученого передалась мне. Почему-то все страхи прошли, и я продолжал погружаться, спокойно изучая окружающее. На глубине двухсот футов скалу сменил выстланный серым илом откос крутизной в 45°. Обидно: после такого великолепия вдруг унылое, безжизненное дно. Но, приглядевшись, я обнаружил, что откос уходит в глубину всего на пятьдесят футов. Дальше — новый обрыв и загадочная голубая мгла. А склон, над которым я парил, был свалкой, здесь веками копился мусор из кипящего жизнью поселения вверху.
Я помедлил, созерцая нижний порог. Широко раскинув руки и ноги, жадно вдохнул густой, вкусный воздух. Сквозь сипение легочного автомата слышался тихий скрип и бульканье пузырьков: надо мной были другие люди. Обыденный звук их дыхания вдруг приобрел для меня непомерно большое значение. Подкрадывалось глубинное опьянение. Я знал его и не боялся: проверим, насколько я еще управляю собой!
Серый откос на глубине двухсот футов — рубеж рассудка, дальше начинается безумие. Я упивался сознанием опасности. В висках стучало. Вытянув руки, словно лунатик, я заработал ластами и пересек границу потустороннего мира.
Из уходящей в умопомрачительную глубь стены торчали сотни белых морских перьев. Я медленно погружался вдоль колонии причудливых созданий. На меня таращились головы чудовищ. Поверх бледных студенистых выростов сидели огромные губки, заплетенные паутиной. Насколько проникал в пучину мой взгляд, всюду к стене лепилось множество всяких организмов. Они были недосягаемы для меня. На глубине двухсот пятидесяти футов я остановился.
Издалека донесся механический «вздох»: кто-то из моих спутников включил «запасной воздух». Пора собирать товарищей и выходить наверх, к солнцу и воздуху, подчиняясь законам, которые управляют моим родом. Пора? Почему пора?
Я выкроил еще минутку, держась за морское перо и жадно глядя вниз. И тут я почувствовал, что еще встречусь со вторым рифом. Я дал себе клятву придумать, создать и освоить аппараты, которые откроют мне доступ к подводным грядам мира безмолвия.

Глава вторая
«Калипсо»

История «Калипсо» начинается в 1944 году, когда в освобожденном от оккупантов Париже кинотеатры показывали мой фильм о погружениях с аквалангом. Фильм был документальный, в четырех частях и назывался «Эпаве» («Затонувшие корабли»). Он понравился не только зрителям, но и Главному управлению французского кино, через которое правительство помогало киноработникам. И я задумал снять под водой художественный фильм, надеясь, что ссуда от Управления позволит также построить исследовательское судно; до тех пор мы либо работали на траулерах, либо арендовали суда.
Много лет Филипп Тайе, Фредерик Дюма и я вынашивали замысел идеальной конструкции, учитывающей все, что мы знали о подводной фотографии и водолазных платформах. Инженер-судостроитель Андре Морис превратил наши наброски в чертежи семидесятипятифутового судна. И вот, захватив эти чертежи, а также смету на строительство и эксплуатацию, я отправился в Париж добиваться государственной поддержки. Главное управление кино приняло меня хорошо и рекомендовало «Кредит Насьональ» утвердить мое предложение о съемке художественного фильма; банк не возражал, но на корабль средства дать не мог.
Полагая, что исследовательское судно, приспособленное для аквалангистов, должно заинтересовать океанографов, я обратился в министерство просвещения, которому подчинены университеты и государственные лаборатории. Меня выслушали с должным вниманием. И ответили: «Исследование моря? Это дело военно-морских сил. Только они могут позволить себе завести исследовательское судно».
А что, ведь неплохой совет! И почему мне, военному моряку, самому не пришло это в голову? Когда я в 1944 году, минуя промежуточные инстанции, обратился к начальнику штаба ВМС адмиралу Андре Лемонье и попросил его распорядиться, чтобы укомплектовали нашу Группу подводных исследований, он тотчас дал команду. Теперь я пошел к адмиралу М., председателю комиссии, которая заведовала изысканиями в океанах и приморских областях. Одобрительно кивая, он выслушал мой рассказ о наших работах и участии в испытаниях первого батискафа Огюста Пикара.
— Наш отряд идет впереди в освоении человеком подводного мира, — заключил я. — В интересах государства — помочь нам сохранить ведущее положение, создать судно нового типа для подводных исследований.
— Вы всего лишь капитан-лейтенант, с таким званием у вас ничего не выйдет, — ответил адмирал. — Нужно включить судно в наш бюджет, провести через Национальное собрание… Мой совет вам — продолжайте служить на флоте! Дослужитесь до звания адмирала! Тогда вам, быть может, удастся получить судно.
Он искренне хотел помочь мне.
Я обратился к адмиралу П., начальнику кадров ВМС.
— Нет, — сказал он, — военно-морские силы не могут предоставить вам судно.
Перелистал мое личное дело и строго добавил:
— Из восемнадцати лет службы вы семнадцать провели на море. Это намного выше нормы. Вам давно пора на берег, в штаб.
Я обратился к начальству, желая еще более активно работать на море, а мне сулят берег! Вот так штука… Я вытянулся в струнку.
— Разрешите доложить: у меня теперь одна цель — дать моей стране судно для подводных исследований. Прошу о трехмесячном отпуске для устройства личных дел.
Адмирал согласился, но добавил, покачав головой:
— Кусто, это бесполезно. Вы только испортите себе карьеру.
Я ушел, не представляя себе, как осуществить свое громкое обещание.
Дома, в Санари, Дюма, Симона и я за обедом стали обсуждать неутешительный исход моего обращения к властям.
— Кого еще мы знаем? — спросил Диди.
Я открыл свою адресную книгу и вслух прочел первую фамилию на «А».
— Он-то нам и нужен! — воскликнула Симона.
Я закрыл книгу.
— А кто он? — поинтересовался Диди.
Симона объяснила:
— Мы познакомились в ресторане во время войны. Мне страшно хотелось курить, а табак достать было невозможно. Рядом со мной у стойки сидела женщина, она достала из сумочки сигарету. Я молчу. Вдруг она говорит: «Давайте разделим ее? Все равно последняя». Поделили сигарету пополам и познакомились. Жак целую ночь проговорил с ее мужем о море. Помнишь, что он ответил, когда ты сказал о своей мечте завести себе судно после войны?
— Верно, — подхватил я. — Он сказал, чтобы я, когда придет это время, обратился к нему.
— Так поехали! — воскликнула Симона.
Мсье А. не забыл о встрече военных лет. Он познакомил нас с одним англичанином, энергичным человеком, в душе которого мои планы тотчас встретили отклик. Сам старый моряк, англичанин посоветовал мне:
— Незачем строить новое судно. Для ваших целей достаточно переоборудовать списанный «фейрмейл».
Речь шла о патрульном судне береговой охраны, их в годы войны выпускали целыми сериями.
— На Мальте продают много «фейрмейлов», — продолжал он. — Я оплачиваю покупку и переоборудование.
Потрясенный такой щедростью, я поспешил возразить:
— Но я не знаю, когда смогу расплатиться с вами!
— Забудьте об этом, — ответил он.
Мы условились, что судно будет принадлежать некоммерческой организации «Французское океанографическое товарищество».
Вместе с инженером-судостроителем Анри Рамбо я вылетел на Мальту. Но «фейрмейлы» нам не понравились. И тут мне попалась на глаза «Калипсо» — минный тральщик водоизмещением 360 тонн, длиной 140 футов, построенный в США в 1942 году для английских военно-морских сил. После войны он перевозил людей и грузы между Мальтой и Гоцо. По мнению Рамбо, деревянный корпус тральщика был в отличном состоянии.
Нас приятно удивила цена. Щедрая субсидия англичанина покрывала и стоимость судна, и полное переоборудование. Прежний владелец сдал «Калипсо» на Антибскую судоверфь, а я вылетел в Париж для новой встречи с адмиралом П.
— Судно есть, — доложил я. — Прошу официально прикомандировать меня на три года без сохранения содержания к океанографической экспедиции «Калипсо».
— Что это за океанографическая экспедиция «Калипсо»? — спросил адмирал.
— Экспедиция, которую я организую.
— Послушайте, молодой человек, — сказал адмирал, — военно-морские силы не могут командировать людей на службу к самим себе. Но вы можете получить отпуск, предоставляемый офицерам, которые хотят перейти в коммерцию.
— Я не собираюсь продавать носки или радиоприемники, — возразил я. — У меня задуманы исследования, не рассчитанные на прибыль.
Это нужно было подчеркнуть, потому что упоминание о бизнесе в моих отпускных бумагах могло бы сбить с толку организации, к которым я хотел обратиться за поддержкой. Адмирал П. оформил мне трехлетний отпуск «в интересах национальной обороны»; в итоге я мог рассчитывать на моральную поддержку военно-морских сил.
Но на этом наш разговор еще не кончился.
— А если случится так, — спросил я, — что министерство просвещения согласится субсидировать мои экспедиции?
— Вряд ли, — ответил адмирал. — Но если это произойдет, приходите ко мне. Обещаю, что тогда отпуск будет вам заменен официальной командировкой.
(Четыре года спустя министерство просвещения приняло шефство над «Калипсо». Адмирал П. сдержал свое слово. Правда, средств от ВМС я не получал, но они не раз выручали меня другими видами помощи.)
Рене Монтюпе занял должность моего старшего механика, и я начал набирать команду «Калипсо». Боцманом стал Жан Бельтран, бывший квартирмейстер Группы подводных исследований; на должность механика я взял Октава Леандри; в состав команды вошел также молодой фотограф Жак Эрто.
На судоверфи корпус разоренного тральщика постепенно обретал вид, отвечающий новому назначению судна. Мы сделали каюты просторнее, установили на корме кран и создали три совершенно новых приспособления, задуманных в те вечера, когда Филипп, Диди и я оборудовали наш будущий корабль еще в мечтах.
Во-первых, водолазный колодец, пронизывающий корпус судна. Колодец открывался в камбуз; это позволяло пловцам входить в воду в наиболее устойчивой средней части судна. В плохую погоду они были избавлены от поединка с волнами, разбивающимися о борта. Поработав в холодной воде, пловцы попадали сразу в теплый камбуз. И, наконец, колодец позволял, если нужно, незаметно совершать погружения и выходить на поверхность. Вода в колодце держалась на уровне ватерлинии, снизу его перекрывал люк, который установили только для того, чтобы не нарушалась обтекаемость корпуса.
Вторым нашим изобретением был высокий наблюдательный мостик, перекинутый над капитанским мостиком «Калипсо». Он установлен на двух полых алюминиевых стойках, которые служат такжевентиляционными трубами. С высокого мостика несколько человек могут одновременно наблюдать за поверхностью моря и направлять движение судна.
Но главное, в носовой части, в восьми футах ниже ватерлинии, мы оборудовали обсерваторию для подводных наблюдений. Чтобы не ослаблять форштевень, стальную камеру вместе с входной шахтой поместили снаружи. Прямо с носа уходила вниз на двадцать пять футов тридцатидюймовая труба с трапом внутри. Мы соединили трубу болтами с форштевнем и накрыли на уровне палубы водонепроницаемым люком. Выпуклая камера торчала наподобие тарана древнегреческих боевых галер. В камере лежал матрац для наблюдателя; впрочем, могли разместиться и двое, если они ладили между собой. В распоряжении наблюдателей было пять круглых иллюминаторов: два обращены вперед, один — вниз, под углом сорок пять градусов, и еще по одному с обеих сторон. В днище камеры помещались датчики гидролокатора, посылающие импульсы вперед и вертикально вниз. Камера была снабжена принудительной вентиляцией и связана с мостиком телефоном. Когда мы устанавливали ее, подводные обсерватории были новостью; теперь ими оснащены многие исследовательские суда. Неожиданно камера улучшила и мореходные качества «Калипсо». Торчащий выступ и закругленный форштевень случайно оказались сходными с конструкцией Майерформа, позволяющей судну лучше входить в волну. Подводная обсерватория увеличила на пол-узла крейсерскую скорость «Калипсо».
Широкая открытая кормовая палуба, рассчитанная на работу с громоздкими приспособлениями для траления мин, стала отличной платформой для подводных пловцов, здесь было вдоволь места для подводного снаряжения. Фальшборт отсутствовал, и ничто не мешало погружениям людей и спуску в воду приборов. На кормовом подзоре мы в двух футах от ватерлинии установили подъемную платформу. На станциях платформа опускалась; переносный трап с поручнями уходил под воду, а вверху доставал до палубы. К юту примыкало помещение, где пловцы готовились к погружениям; тут стояли станки, хранилось снаряжение. Возле двери выходили штуцеры труб, по которым из машинного отделения подавался сжатый воздух, нагнетаемый двумя компрессорами.
Изменилась окраска судна: на смену «форменному» серому цвету пришел радостный белый. Оборудование нам дарили или одалживали предприниматели, заинтересованные во всестороннем испытании его; от ВМС мы получили судовую радиостанцию и другое снаряжение на то время, пока не обзаведемся своим. И в заключение «Калипсо» надела «чепчик» — у нее появилась обтекаемая труба с черной каймой вверху и эмблемой: на зеленом поле белая нимфа Калипсо из Гомеровой «Одиссеи», плывущая вперегонки с дельфином.
У меня не хватило терпения подождать с пробным рейсом, пока все доведут до конца. В июне 1951 года Симона и я пригласили нескольких более или менее сведущих в мореходном деле друзей и составили из них команду для прогулки на Корсику. «Калипсо» держалась превосходно, но я убедился, что нужно раздобыть денег и набрать профессиональную команду. Оставив на руле маркиза де Тюренна, я спустился в свою каюту в средней части судна, подошел к правому иллюминатору и залюбовался луной. Мгновение спустя луна почему-то оказалась с другого борта…
А осенью 1951 года «Калипсо» была уже готова выйти в экспедиционный рейс. Мы давно решили, что первое плавание совершим в Красное море. Оно было фактически не изучено, находилось сравнительно близко, отличалось прозрачной водой, пользовалось славой «ванны, полной акул», и было богато кораллами… Кликнули клич — кому из ученых нужны подводные пловцы и фотографы для работ в Красном море? Наше предложение произвело сенсацию. Впервые исследовательское судно искало ученых, а не наоборот!
Мы познакомились с океанографами сразу после войны, когда Жак Буркар, профессор морской геологии при Сорбоннском университете, был направлен в Группу подводных изысканий, чтобы наладить сбор образцов донных отложений. Мы ждали его с любопытством, в нашем представлении ученый был премудрым существом с назидательно-унылой физиономией и крахмальным воротничком. Рабочее место Буркару отвели на непритязательном и довольно валком тендере ВП-8.
Профессор оказался экспансивным плечистым брюнетом в шортах. Выйдя в море, Тайе бросил якорь и обратился к Буркару:
— Maintenant, Monsieur le Professeur, á poil.
Другими словами: «Приступайте к делу».
В конце дня мы окружили профессора и обрушили на него град вопросов. Буркар очень увлекательно рассказывал нам о морской геологии и своей специальной области — науке об осадках. Это был настоящий человек, труженик, к тому же знающий о море немало такого, о чем мы и не подозревали. Такое же впечатление произвели на нас биологи в лице профессора Пьера Драша. Вооруженные приборами, банками и химикалиями, ученые могли многому научить нас; в свою очередь, они высоко ценили наши знания о поведении морских обитателей и о морфологии дна, которого сами никогда не видели. Друг без друга мы бы далеко не ушли.
Драш очень обрадовался возможности поработать в Красном море и собрал целую группу. И в ноябре 1951 года ожило наконец видение, которое воодушевляло нас в мрачные дни оккупации.
…«Калипсо» ждала команды к выходу из Тулона. Треволнения и предстартовая суета вымотали из меня все силы. В таком состоянии я шел по набережной, глядя, как мой белый корабль сверкает в лучах прожекторов. На палубе кипела жизнь, служители науки помогали команде грузить запасы и снаряжение. Поднявшись на борт, я встретил Симону. Вместе мы гладили лакированное дерево и белые переборки. Глаза ее сияли. Взглянув на меня, она сказала:
— Твои глаза сияют.
Остались за кормой огни Сен-Мандрье, мы устремились в тихую ночь. Чуть ли не все втиснулись в рулевую рубку; потом это стало традицией, которой мы отмечали каждый выход «Калипсо» в новое плавание. Инженер-оптик Жан де Вутер д’Опленте, отвечающий за работу гирокомпаса, стереокамеры и всех точных приборов, нажал тумблер автонавигатора. Никто не стоял на руле, «Калипсо» начинала свою исследовательскую карьеру как корабль-робот, чертя безупречную прямую на поверхности Лигурийского моря. Я включил эхолот, и мы услышали голос «Калипсо»: глухое гудение «сонара», мелодия, которая сама писала свою партитуру — профиль морского дна на бумажной ленте.
Все, что было до сих пор в нашей подводной жизни, — пора юности. Впереди — зрелые годы, большие дела.
В первом же плавании на борту «Калипсо» утвердился жизнерадостный дух, который с тех пор не оставляет ее. С самого начала я постановил, что все на борту, независимо от занимаемой должности, — равноправные участники нашей увлекательной затеи. Никакой офицерской столовой, ели вместе. Веселье и шум царили за столом, мы обсуждали наши планы, принимали решения, учились друг у друга. Никто не отдавал громогласных приказаний, не было ничего похожего на форму. У нас развилось собственное тщеславие, сложились свои обычаи. Появилась не совсем приличная песенка калипсян; мы постоянно соревновались, кто придумает головной убор попотешнее; приветствовали друзей кличем, который звучал примерно так: — Хуууууу! (фальцетом) Хуп! (горловой звук). (В подражание крику одной из птиц островов Фиджи. Но нам эту идею подарил марсельский барк «Ху-Хуп», который иногда присоединялся к «Калипсо» на наших станциях.) Друг друга мы титуловали «профессор» или «доктор», исключая тех, кто действительно носил ученое звание; к ним обращались «мсье». Нашим покровителем был наполеоновский маршал Пьер Камброн, портрет которого мы повесили в кают-компании. Выбор пал на него за его ответ на предложение Веллингтона старой гвардии сдаться во время битвы при Ватерлоо. — Merde[6], — сказал Камброн. Мы вовсе не были националистами, просто ответ этот хорошо выражал наш подход к предстоящим передрягам. Сам я не причастен к этим причудам. Больше того, первая же моя попытка ввести новую моду немедленно потерпела крах. У французов принято пожимать друг другу руку каждое утро и каждый вечер. Я предложил ограничиться одним рукопожатием с утра, мои товарищи уныло согласились. Под вечер я встретился с фотографом; мы уже в этот день здоровались. Его руки были спрятаны в «рукав» для перезарядки кассет. Он протянул мне руку, не вынимая из «рукава», и я машинально пожал ее. Конец моим реформаторским вожделениям… Вообще, что касается корабельных традиций, то «Калипсо» во многом отличается от прочих судов. Так, у нас нет крыс. Ни единой! Правда, однажды на корабле объявили «крысиную тревогу». Мы вернулись в Тулон из плавания в Индийском океане, все сошли на берег, Анри Пле остался один на борту. Откуда-то из-под палубы доносились звуки, выдающие работу грызуна. Идя на шум, Анри Пле спустился в нижний трюм и обнаружил виновника: большой красный краб грыз плетушку на бутылке с шампанским. Краб проплыл с нами пять тысяч миль, с самых Сейшельских островов. В пути он съел шесть плетушек, но не смог прогрызть стекло, чтобы запить их… На борту «Калипсо» установили винную цистерну из нержавеющей стали, емкостью в одну тонну. Это неизменно приводило в восторг иностранных океанографов; некоторые из них ходят на удивительных судах, где им не перепадает ни капли вина. Калипсяне пьют сколько влезет; средняя суточная норма потребления на человека около пинты. Мне хотелось, чтобы «Калипсо» была международным исследовательским судном, а французы составляли бы только костяк команды. Первым американским участником наших экспедиций был Джемс Даген. Затем работой калипсян заинтересовался доктор Мелвилл Белл Гросвенор из Национального географического общества США, закаленный моряк. Комиссия по исследованиям и изысканиям этого Общества постановила субсидировать экспедиции «Калипсо»; это решение подтверждалось ежегодно на протяжении десяти лет. Компания «Эдо» (ведущая фирма США в области морской и авиаэлектроники) предоставила в наше распоряжение отличную гидролокационную аппаратуру; президент компании Ноэль Маклин распорядился об этом, прочитав «В мире безмолвия».
Наша программа работ в Красном море, впервые предусматривавшая участие подводных пловцов в океанографических исследованиях, делилась на три традиционные линии. Драш возглавлял отряд биологов. Геологами руководил специалист по вулканам Гарун Тазиев, ему помогали Владимир Нестеров и Жан Дюпа, чье знание арабского языка оказалось очень кстати в «Исламском» море. Во главе гидрологического отряда (он изучал химический состав и другие свойства воды) стоял энергичный молодой ученый, быстро оценивший все преимущества легководолазного снаряжения, доктор Клод Франсис-Беф. Его помощниками были Бернар Калам и Жаклин Занг, вторая женщина на борту. У нас не хватало денег набрать полную команду, но гости с удовольствием вызвались делать черную работу. Они стояли вахты, скребли и драили. Застав одного доктора философии за чисткой котла, Дюма тотчас окрестил это занятие научной работой; так мы и стали называть дежурство по кухне. Симона была завхозом, медицинской сестрой, помощником повара и оператором эхолота. Обязанности штурманов исполняли судовой врач Жан-Лу Нивелло де ля Брюньер и де Вутер. Воодушевленные перспективой увлекательных приключений, все с готовностью брались за любую нужную работу. Один ученый, помня о скуке, царящей на пассажирских лайнерах, захватил с собой на борт серсо. В первый же день плавания я увидел его возле рубки весело распевающим с малярной кистью в руке. А обручами упоенно играл Скаф — такса Симоны. На третий день погода испортилась. Сперва налетело несколько шквалов, затем подул сильный норд-ост, так называемый мелтем, штормовой ветер с Балканского полуострова, окаймляющего Ионическое море. В обед «Калипсо» качало как следует. Мы заранее предусмотрели это и просверлили в столе сотни дыр, в которые воткнули деревянные палочки — упоры для тарелок. Этакая игра для взрослых деток. «Калипсо» нырнула в ложбину, графин с вином перескочил через частокол и разлетелся вдребезги, забрызгав половину кают-компании. Вот появился в дверях Тазиев. Он важно шагнул через порог — прямо в лужицу подливки! Одновременно судно накренилось на левый борт, и мы увидели, как некое тело, прокатившись по полу, вылетело в противоположную дверь, которая тут же захлопнулась. Вулканолог вошел снова, уже не столь чинно, но он по-прежнему, увы, ступал не в лад с качкой. Его швырнуло на Нивелло, тот слетел со стула, и вдвоем они снесли еще шестерых. Человеческая лавина обрушилась на правую переборку. Мы стонали от злорадного хохота.
 Такие чаплинские импровизации не раз оживляли трапезы на «Калипсо». Только кок Анен никогда не терял равновесия и неизменно выдавал великолепные блюда из бездонных котлов.
В ту бурную ночь мы прошли над самой глубокой точкой Средиземного моря, Матапанской впадиной, с отметкой 14 500 футов. Эхолот Симоны показал 16 500. Трудно было поверить, что наши предшественники ошиблись на две тысячи футов, но, вернувшись потом на то же место, мы убедились в точности ее промера.
К утру нос корабля обнажался в ложбинах между волнами до противокачечных килей, врезаясь в гребни подводной обсерваторией. Я побаивался за нашу камеру. Но на то и испытание, чтобы узнать, что по силам «Калипсо». И мы продолжали идти крейсерской скоростью.
Из машинного отделения позвонил Монтюпе:
— Засоряются нефтепроводы и фильтры. Наверное, в цистернах накопилась грязь, а качка ее растрясла.
— Как хочешь, а моторы чтоб работали, — ответил я.
Ветер не унимался, «Калипсо» проваливалась в двадцатифутовые ложбины. Снова звонок. Монтюпе докладывает:
— Нефтяной насос отказал. Придется включать моторы поочередно.
— Только не давай им обоим заглохнуть, сам видишь, какое волнение, — сказал я. — С одним мотором нам несладко придется…
Я еще плохо знал «Калипсо» и считал наше положение серьезным.
Нельзя допустить, чтобы нас развернуло бортом к волне. На тот случай, если откажут оба мотора, я попросил Саута вызвать всех наверх и приготовить аварийный плавучий якорь, — ляжем в дрейф. А зеленые гребни уже захлестывали главную палубу. На прыгающей корме Саут, Дюма, Бельтран и двое ученых — Гюстав Шербонье и Нестеров — принялись мастерить из тяжелого спасательного плота, досок и рангоута плавучий якорь. Работа шла медленно, ведь надо было помнить о старом правиле: «Одной рукой работай, другой держись».
Стали оба мотора.
А плавучий якорь еще не готов. Теперь мы беспомощны. Сейчас судно развернет, и начнется… «Калипсо» стала принимать волны с борта. Я крикнул бригаде Саута, чтобы немедленно все бросили и получше держались. Глядя, как на нас наступают валы, каждый искал, за что бы покрепче уцепиться. Чудовищная волна накренила «Калипсо» на сорок пять градусов. Судно отряхнулось от воды и легко выпрямилось. Один за другим катили могучие валы. Всякий раз «Калипсо» шутя выравнивалась. Мы с капитаном улыбнулись друг другу.
— Ей все нипочем! — крикнул Саут.
«Калипсо» дрейфовала так, что сама себе создала защитную зону. С удивлением и гордостью мы с Саутом любовались тем, как она выдерживает испытание штормом. При малом волнении наше судно развивало неприятную качку, зато легко справлялось с большими валами. Возможно, то, что мы убрали с главной палубы тяжелый груз — орудия и траловую лебедку, улучшило мореходные качества «Калипсо». Монтюпе и Леандри выходили один мотор и поддерживали в нем жизнь, пока Крит не заслонил нас от ветра.
Вошли в Суэцкий канал; наши механики работали как звери, прочищая нефтяные насосы. В Суэце мы с Дюма отправились навестить французского консула. Возвращаясь от него на судно, издали приметили встревоженные лица. Монтюпе лежал навзничь на столе кают-компании без сознания. Наш доблестный старший механик до того замотался на работе, что не заметил, как рукав комбинезона захватила шпонка на валу генератора. На его правой руке зияла длинная рана. Нивелло, усыпив Монтюпе, проверял, прежде чем зашивать, не пострадал ли лучевой нерв. Симона раздвинула края раны двумя вилками.
— Но ведь у нас же есть полный набор хирургических инструментов! — воскликнул я.
— Мы не могли до них докопаться, я прокипятила вилки, — ответила она.
Нивелло решил, что нерв еще оживет. Монтюпе проснулся так же, как и заснул, — без единого стона. Его заботило только одно: не задержал ли он плавание.
Первое знакомство со знаменитым Красным морем разочаровало нас: в Суэцком заливе вода была мутной и беспокойной. Я зяб от норд-веста и спрашивал себя, уж не очередной ли это миф — все, что нам говорили о чистых, теплых красноморских водах. А проснувшись на следующий день в проливе Губаль, мы увидели кругом прозрачную глубокую синеву. Слева, вдали на фоне розового неба багровело пятнышко — гора Синай.
«Калипсо» дебютировала в коралловом раю, куда ей в последующие годы предстояло возвращаться вновь и вновь.
Такие чаплинские импровизации не раз оживляли трапезы на «Калипсо». Только кок Анен никогда не терял равновесия и неизменно выдавал великолепные блюда из бездонных котлов.
В ту бурную ночь мы прошли над самой глубокой точкой Средиземного моря, Матапанской впадиной, с отметкой 14 500 футов. Эхолот Симоны показал 16 500. Трудно было поверить, что наши предшественники ошиблись на две тысячи футов, но, вернувшись потом на то же место, мы убедились в точности ее промера.
К утру нос корабля обнажался в ложбинах между волнами до противокачечных килей, врезаясь в гребни подводной обсерваторией. Я побаивался за нашу камеру. Но на то и испытание, чтобы узнать, что по силам «Калипсо». И мы продолжали идти крейсерской скоростью.
Из машинного отделения позвонил Монтюпе:
— Засоряются нефтепроводы и фильтры. Наверное, в цистернах накопилась грязь, а качка ее растрясла.
— Как хочешь, а моторы чтоб работали, — ответил я.
Ветер не унимался, «Калипсо» проваливалась в двадцатифутовые ложбины. Снова звонок. Монтюпе докладывает:
— Нефтяной насос отказал. Придется включать моторы поочередно.
— Только не давай им обоим заглохнуть, сам видишь, какое волнение, — сказал я. — С одним мотором нам несладко придется…
Я еще плохо знал «Калипсо» и считал наше положение серьезным.
Нельзя допустить, чтобы нас развернуло бортом к волне. На тот случай, если откажут оба мотора, я попросил Саута вызвать всех наверх и приготовить аварийный плавучий якорь, — ляжем в дрейф. А зеленые гребни уже захлестывали главную палубу. На прыгающей корме Саут, Дюма, Бельтран и двое ученых — Гюстав Шербонье и Нестеров — принялись мастерить из тяжелого спасательного плота, досок и рангоута плавучий якорь. Работа шла медленно, ведь надо было помнить о старом правиле: «Одной рукой работай, другой держись».
Стали оба мотора.
А плавучий якорь еще не готов. Теперь мы беспомощны. Сейчас судно развернет, и начнется… «Калипсо» стала принимать волны с борта. Я крикнул бригаде Саута, чтобы немедленно все бросили и получше держались. Глядя, как на нас наступают валы, каждый искал, за что бы покрепче уцепиться. Чудовищная волна накренила «Калипсо» на сорок пять градусов. Судно отряхнулось от воды и легко выпрямилось. Один за другим катили могучие валы. Всякий раз «Калипсо» шутя выравнивалась. Мы с капитаном улыбнулись друг другу.
— Ей все нипочем! — крикнул Саут.
«Калипсо» дрейфовала так, что сама себе создала защитную зону. С удивлением и гордостью мы с Саутом любовались тем, как она выдерживает испытание штормом. При малом волнении наше судно развивало неприятную качку, зато легко справлялось с большими валами. Возможно, то, что мы убрали с главной палубы тяжелый груз — орудия и траловую лебедку, улучшило мореходные качества «Калипсо». Монтюпе и Леандри выходили один мотор и поддерживали в нем жизнь, пока Крит не заслонил нас от ветра.
Вошли в Суэцкий канал; наши механики работали как звери, прочищая нефтяные насосы. В Суэце мы с Дюма отправились навестить французского консула. Возвращаясь от него на судно, издали приметили встревоженные лица. Монтюпе лежал навзничь на столе кают-компании без сознания. Наш доблестный старший механик до того замотался на работе, что не заметил, как рукав комбинезона захватила шпонка на валу генератора. На его правой руке зияла длинная рана. Нивелло, усыпив Монтюпе, проверял, прежде чем зашивать, не пострадал ли лучевой нерв. Симона раздвинула края раны двумя вилками.
— Но ведь у нас же есть полный набор хирургических инструментов! — воскликнул я.
— Мы не могли до них докопаться, я прокипятила вилки, — ответила она.
Нивелло решил, что нерв еще оживет. Монтюпе проснулся так же, как и заснул, — без единого стона. Его заботило только одно: не задержал ли он плавание.
Первое знакомство со знаменитым Красным морем разочаровало нас: в Суэцком заливе вода была мутной и беспокойной. Я зяб от норд-веста и спрашивал себя, уж не очередной ли это миф — все, что нам говорили о чистых, теплых красноморских водах. А проснувшись на следующий день в проливе Губаль, мы увидели кругом прозрачную глубокую синеву. Слева, вдали на фоне розового неба багровело пятнышко — гора Синай.
«Калипсо» дебютировала в коралловом раю, куда ей в последующие годы предстояло возвращаться вновь и вновь.

Глава третья
Красное море — Зеленый риф

Красное море волновало мое воображение еще в юности, когда я зачитывался книгами Анри де Монфреда о ловцах жемчуга, пиратах, рабах и контрабандистах. Этот узкий глубокий водоем, с которым связано столько библейских мифов, кишит морскими организмами и коварными рифами. И его окаймляют самые негостеприимные в мире берега. Официальные лоции Красного моря оказались куда более захватывающим чтением, чем повести Монфреда со всеми их страхами. Наши навигационные справочники советовали не сходить на берег; исключение делалось лишь для нескольких портов. Правда, у одного залива на карте было написано: «Здесь туземцы более приветливы», но эта пометка только усиливала впечатление, что нужно быть очень осторожным.
Мы вели «Калипсо» по главной трассе, будто по рельсам, в одном ряду с другими кораблями. Преобладали могучие нефтевозы; одним курсом с нами шли пустые танкеры, а на север, навстречу нам — предельно нагруженные ископаемым горючим, предназначенным для другого полушария. На полторы тысячи миль протянулись вереницы кораблей, и Красное море казалось продолжением Суэцкого канала. Наша «Калипсо» была словно мотороллер в потоке огромных автоцистерн. Ночью мы удваивали число вахтенных: надо было уступать дорогу великанам, которые шли напролом, ни на румб не меняя курса. Высоко в воздухе, сияя огнями, скользили мимо целые города, возведенные на цистернах с нефтью…
Мы охотно свернули бы с этой магистрали, но карты Красного моря не вдохновляют на такой шаг, глубины показаны почти исключительно вдоль главного фарватера. В стороне от него вам грозит встреча с коралловой банкой, а то и с островом, не обозначенным сигнальными огнями. Сколько судов уже напоролось на рифы вдоль этого пути!
Много раз побывав потом в Красном море, мы узнали, что оно далеко не однородно. Северная окраина неинтересна для подводного пловца: вода мутная, рыбы мало, кораллы плохо развиты. Зато в средней части, у берегов Саудовской Аравии и Судана, — изобилие всяческих организмов на живописных коралловых отмелях, которые протяженностью уступают только Большому Барьерному рифу, а красотой, пожалуй, превосходят его. У самых бесплодных и пустынных берегов, какие можно себе представить, — чистейшая вода, ослепительные краски и богатая фауна.
А на юге — снова разочарование. Погружаясь у берегов Йемена, мы увидели следы недавней трагедии. Под водой на сотни ярдов тянулись серые кружевные руины, кругом были разбросаны ветки мертвых кораллов, которые еще не успели рассыпаться и превратиться в песок. Настоящее коралловое кладбище… Человек тут был ни при чем; видно, вдруг изменилась соленость или что-то отравило воду. Океаны часто поражаются местными «заболеваниями», которые мы еще не умеем определять. Над мертвым дном мы плыли среди множества рыб, в том числе акул; они напоминали диких обитателей прерии, озадаченных степным пожаром, опустошившим их пастбища.
Если не считать редких песчаных бурь — величественное зрелище! — почти весь год в средней части Красного моря господствует умеренный норд-норд-вест, нагоняющий небольшую волну. В сильный шторм наш судовой колокол сам звонит; здесь эта автоматическая сигнализация ни разу не сработала, и все-таки качка была неприятна.
Когда в этих водах идешь южным курсом, попутный ветер уравновешивает встречный поток воздуха и палубу совсем не продувает. Стоит невыносимая жара, и каждый прячется в тень, избегая солнечных лучей как огня. Зато когда рокот якорной цепи возвещает очередную станцию, обнаженную кожу приятно освежает ветерок. Совсем другое дело идти на север, против ветра, тут чувствуешь себя словно в кондиционированной пустыне. Красное море — самое теплое из морей Мирового океана, но я еще нигде на свете не находил морской воды, которая была бы достаточно теплой для меня.
Многие из моих воспоминаний о Красном море связаны с верхним мостиком. Я придумал эту конструкцию под влиянием одной из книг Монфреда. Он шел на сомалийской дау[7], и в это время за ним погнались пираты. Послав на мачту мальчика, чтобы он высматривал рифы, Монфред провел свою дау через коралловый лабиринт, а пираты не отважились войти туда. Наше «воронье гнездо» в тридцати футах над главной палубой позволяло спокойно вести «Калипсо» между неизученными рифами. Саут и я научились «читать» с мостика коралловый фарватер. Бурое или белое пятно — опасность, риф у поверхности. Разные оттенки зелени отвечали различной глубине. Синий цвет означал, что можно плыть, ничего не боясь.
В конце концов я настолько уверовал в свою способность ориентироваться, что отважился на самом малом ходу подойти к кипящим бурунами рифам Шаб-Дженаб. Увы, оттенки подвели меня, и «Калипсо» уткнулась носом в кораллы. Несколько человек нырнули, чтобы проверить, крепко ли мы засели; остальные уже прикидывали, надолго ли нам хватит наших запасов воды и провианта. Подводные пловцы вернулись с хорошими новостями: нос цел, только чуть-чуть касается рифа. Саут дал задний ход и записал в вахтенном журнале: «09.40. „Калипсо“ пощупала риф».
Ободренный благополучным исходом, я задумал проникнуть в лагуну на западном берегу Абу-Латта. С верхнего мостика наметил извилистый курс через природное «минное поле», образованное сотнями коралловых глыб. Солнце светило сзади, и его лучи показывали мне подводные преграды. В одном месте мне показалось, что мы зашли в тупик. Судно задело риф левым бортом, и мы поспешили опустить кранцы, чтобы защитить обшивку. Похоже, придется отказаться от мысли войти в лагуну… Я поглядел назад — где бы развернуться? Но теперь солнце светило в глаза, и его лучи отражались от поверхности воды, мешая что-либо различить. Развернуться нельзя, стоять в этой ловушке опасно. Оставалось только пробиваться вперед. Солнце уже садилось, когда «Калипсо», протиснувшись сквозь узкий проход, вошла в лагуну. Нервы изменили мне, и я уже считал, что мы попали в западню, однако решил пока ни с кем не делиться своими опасениями. А утром солнечные лучи, проникнув в подводное царство, осветили выход, и мы легко выскользнули на свободу.
Геология причудливых подводных сооружений и низких, голых островов Фарасана была для нас загадкой. Взять, скажем, Абу-Латт, этот клочок пустыни шириной в милю и длиной три с половиной мили. Южный мыс острова — изборожденное складками плато, средняя часть — пустынная равнина, а северную оконечность венчает безупречный стофутовый конус, как бы модель новорожденного вулкана. Но островок весь сложен из кораллов, только на берегу к ним примешивается крошка из раковин. Вывод один: Абу-Латт — не что иное, как поднятый над водой древний коралловый риф.
Ходить по Абу-Латту не так-то просто. Острые, шершавые обломки, всюду торчат коралловые шипы, осколки древних — им около полумиллиона лет — раковин, которые только и ждут случая пропороть ваши сандалии и пустить вам кровь. Смотрят в небо раскрытые створки огромных ископаемых тридакн, блеклые подобия живых чудовищ, которые постоянно «зевают» в голубой толще моря.
В отличие от этого мнимого вулканического острова есть на юге Красного моря настоящие лавовые острова. Например, Бразерс и Зебержед, лежащие к северу от Фарасана, — твердые скалы, окаймленные коралловым поясом. Загадочно происхождение Дедала, одного из самых коварных столовых рифов у главного фарватера. Его плоская «крышка» чуть-чуть не достает до поверхности моря, и кажется, что установленный на рифе маяк плавает на зеленом пруду с темно-синими берегами. Когда мы осторожно подошли на «Калипсо» к Дедалу, эхолот показал, что на тысячу футов вниз уходит почти отвесный склон. Мы ныряли на двести футов вдоль этого природного столба, боком протискивались в узкие щели, и баллоны наших аквалангов, ударяясь о кораллы, звенели, будто легендарные колокола затонувшего города Из.
Возможно, Делал — каменная колонна, облицованная кораллами. Чтобы точно определить его строение, нужно бурить или же нырять с аппаратами более совершенными, чем обычный акваланг.
Вдоль берегов Судана протянулся сплошной ряд рифов; в проливе за ними плавать безопасно. Здесь, в средней части Красного моря, расположен залив Мерса-Бела, в который мы возвращались снова и снова. Берег тут пустынный, зато под водой вам открывается замечательное зрелище. Я с первого же погружения влюбился в это место. Стены великолепных подводных пещер украшены седыми мшанками, мясистыми оранжевыми и розовыми асцидиями, пурпурными губками. Сквозь отверстия в сводах пробиваются солнечные лучи, освещая красочные картины. На пути через гроты извиваются живые нити. Нам часто встречались канделябры миллепоры — «огненного коралла», от которого на коже появляются волдыри похуже, чем от ядовитого сумаха. Плата за вход — болезненный зуд на пораженной части тела. В таких местах мы пробирались, словно босые мальчишки через крапиву.
Однажды, придя в Мерса-Белу, мы увидели на внешнем рифе покинутый командой трехмачтовый парусник. «Калипсо» вошла в залив; в тот же миг два грузовика сорвались с места и стрелой умчались в пустыню, оставив на берегу гору корзин и две лодки, охраняемые негром с винтовкой. Мы пригласили его на борт и посадили за стол, надеясь узнать что-нибудь о паруснике, о грузовиках и о нем самом. Он ничего не сказал. Похоже было, что мы застигли врасплох пиратов или современных мародеров.
А на рифах южнее Порт-Судана «Калипсо» едва не постигла судьба разбитого парусника. Здесь к барьерному рифу с внешней стороны примыкает целый рой плохо изученных островков и коралловых глыб. Нас привлек участок, который на карте был назван Зеленым Рифом. Пометка предупреждала, что риф опасен для судоходства. Мы пошли туда, собираясь днем понырять и еще до захода солнца вернуться на глубокую воду. Но хитроумные коралловые сооружения затормозили наше движение. Войдя наконец в бирюзовую лагуну, мы увидели, что поверхность воды рассекают черные плавники. Два подводника спустили на воду ялик и пошли в разведку. Лодка двигалась медленно, а наше время истекало. Солнце уже приготовилось нырнуть в море, когда они вернулись и доложили, что обнаружили стаю мант. Но мне было не до мант. Сумерки застигли «Калипсо» в коралловой западне.
Саут занял пост на высоком мостике, я стал у эхолота, и мы вдвоем направляли действия рулевого. Чтобы ускорить маневрирование, я непосредственно отдавал команды вахтенному у машинного телеграфа. Глубина возросла с двухсот до трех тысяч футов, но самописец эхолота подскакивал, вычерчивая не нанесенные на карту выступы. Светлые пятна на воде, которые высматривал Саут, выдавали присутствие столбов, превосходящих высотой Эйфелеву башню. Моя душа разрывалась: внутреннему взору рисовались подводные башни, и в то же время меня точила тревога: чем кончится вся эта безрассудная затея? Колонны обрывались на разной глубине, — одна в восьмистах футах под нами, следующая всего в двенадцати. Новый промер: пятьсот футов. И тут же крик Саута: «Прямо по курсу риф!» Одновременно кривая самописца подскакивала вверх, и, обливаясь потом от испуга, я командовал: «Оба полный назад!»
Два часа мы провели в страшном напряжении, прежде чем вырвались из этого затонувшего стобашенного города. Я поклялся больше никогда не входить вечером в лабиринт красноморских рифов, какими бы заманчивыми они мне ни казались. Но вот нервы успокоились, и я стал размышлять над загадкой строения этих башен. Самые короткие из них намного не дотягивались до зоны фотосинтеза. На таких глубинах рифообразующие кораллы не могут развиваться. Я проверил данные по другим участкам Красного моря. Профиль, показанный самописцем в районах Дедалуса и Фарасана, очень напоминал бастионы Зеленого рифа. Высота выступов различна, но в общем очертания сходны: плоская верхушка, отвесный спад на четыреста — шестьсот футов, потом еще на тысячу пятьсот футов вниз идет сорока-, пятидесятиградусный склон. Точная копия горы Сен-Мишель, с поправкой на вертикальный масштаб.
Как возникли эти «морескребы»? Геологи говорят, что рост кораллового острова начинается, когда его строители обосновываются на скале, достигающей зоны фотосинтеза, где для них есть питание. По мере того как скала погружается все глубже, крохотные организмы, живущие за счет света и тепла, наращивают ее сверху своими скелетами. Скорость строительства зависит от скорости погружения. И когда опускание земной коры прекращается, полипы завершают свой труд. Под водной гладью таится риф — потенциальный коралловый островок.
Видимо, дно Красного моря колебалось очень неравномерно, одни участки опускались быстрее других, так что полипы не поспевали надстраивать их, Попав в холодные, темные глубины, они прекращали свой труд, а соседний столб еще продолжал расти. Наше открытие едва не стоило нам жизни.
Из всех этих рифовых сооружений самое дикое место — Фарасанская банка, которая протянулась на триста пятьдесят миль и достигает в ширину тридцати миль. Рифы и островки занимают площадь в шесть миллионов акров у побережья Хиджаза и Йемена. Невообразимый хаос выступов, мелей, окутанных пеной рифов и других притаившихся взломщиков корабельных днищ создан колониями крохотных тварей, которые видоизменяют лик нашей планеты куда более заметно, чем это до сих пор удавалось человеку.
Северные Фарасаны, область кипучей подводной жизни, очень мало изучены гидрографами. Внутренняя часть представляет собой белое пятно, на котором картографы написали: «Эта зона, опасная для навигации, испещрена рифами, и проходов фактически нет». До середины XX столетия здесь, рядом с великим водным путем, сохранился неизведанный, опасный уголок земного шара. «Калипсо» и ее катера снова и снова вторгались в пределы этого белого пятна, соблюдая только одно ограничение: мы следили за тем, чтобы ночь не застигла нас среди рифов. В освещаемой солнцем толще Мирового океана трудно найти более увлекательное для подводных пловцов место, чем Фарасаны.
Здесь мало кто бывал и почти никто не нырял. Разве что арабы иногда наведываются сюда в поисках жемчуга. А чтобы хоть немного изучить богатейшую фауну и замечательные «постройки» северных Фарасанов, нужно не один десяток лет поработать под водой! Внешний барьер составляет извилистые рифы, присыпанные горсткой песка, который дает им право называться островками. Посмотришь издали — острова будто обрамлены жемчужным ожерельем. А вблизи оказывается, что жемчужины — всего-навсего перегоревшие электролампочки; их выбрасывают с проходящих мимо танкеров.
Гладкое, без единой морщинки море, великолепный риф и легкие подводные кулисы приманили «Калипсо» к самому крупному во внешней цепи острову Мармар. Крутой берег с промоинами был отличной пристанью. Автомобильные шины смягчили удар деревянного борта о риф; торчащие глыбы коралла заменили нам швартовые тумбы. Один сонный калипсянин, проснувшись оттого, что смолк баюкающий гул машины, глянул через борт, увидел у самой поверхности воды кораллы и ворвался на мостик с криком:
— Как это вы ухитрились посадить судно на мель?
Симона указала на бугор за промоиной:
— Ничего не поделаешь, теперь нам до конца жизни сидеть вон там и дистиллировать воду.
А я показал ему эхограмму: под килем пятьсот футов. Два дня «Калипсо» спокойно отдыхала в коралловом доке, пока мы исследовали подводные склоны Мармара.
Пляжи Фарасанского архипелага кишат длинноногими квадратными крабами-привидениями грязно-желтого или розового цвета, под стать песку. Глаза на длинных стеблях — настоящие перископы. Сойдешь на берег — десятки «длинноглазых» крабов мчатся к тебе, петляя среди электролампочек, как «Калипсо» среди рифов. Сделаешь угрожающий жест — тотчас прячутся, только глаза торчат из песка. Или юркнут в воду и выставят свои перископы. Наш Скаф часами играл с ними в «салки». Смотришь, уже опять роет лапами песок; да разве до них доберешься!
 Тазиеву крабы-привидения показали себя с другой, совсем не смешной стороны. Однажды он решил переночевать на островке, покрытом тощим кустарником, и отправился на берег, захватив маленькую палатку. А утром вернулся на борт совершенно измученный и поклялся, что никакие силы не заставят его повторить этот опыт. Ночью тысячи «длинноглазых» осадили его палатку, и он, вместо того чтобы спать, до утра жег костер, держа круговую оборону.
Нам попадались признаки того, что люди все-таки навещали бесплодные Фарасанские острова. На песчаной косе Малату мы увидели могилы, обложенные скелетами морских черепах. Коралловые могильники были обращены в сторону Мекки. И в других точках внешнего барьера нам встречались мусульманские захоронения, украшенные черепаховыми костями или раковинами. Что за суровая секта избрала для последнего убежища столь дикий край, где только птицы, крабы да черепахи оплакивали покойных?
А в Порт-Судане мы выяснили, что это вовсе не были добровольные отшельники. На африканском берегу собирались полчища паломников, готовых отдать все свое земное имущество в уплату за перевоз из Порт-Судана и Суакина в Джидду, через которую проходил единственный путь в Мекку. И тут чернокожие мусульмане узнавали, что Саудовская Аравия взимает в Джидде с паломников дань, превышающую многолетний заработок большинства из них (эту дань отменили только в 1955 году). И в Судане возникали огромные лагеря застрявших богомольцев.
Находились «благодетели», которые тайком знакомили паломников с владельцами заруг, предлагавшими высадить их в укромном уголке, подальше от сборщиков дани. Маленькие суденышки шли через Красное море, битком набитые благочестивыми мусульманами, и многие пассажиры умирали в пути. Держать на борту покойников нельзя, а хоронить их в море не положено, Коран не позволяет. Вот и появились могилы на Фарасанах.
Мы использовали официальные «ворота» паломников, Джидду, как базу, через которую к нам прибывали припасы и почта, а также новые научные сотрудники, сменявшие своих товарищей. Однажды утром я отправился в местное отделение Индокитайского банка, чтобы обменять аккредитив на наличные для уплаты жалованья команде «Калипсо». Француз-управляющий отпер дверь своей конторы, и тотчас туда ворвалась целая гурьба местных дельцов. Все кричали и тянули его к себе, но особенно неистовствовал четырнадцатилетний парнишка, который, по словам управляющего, в день совершал сделок на сумму до десяти тысяч долларов серебром. В Джидде признавали только серебряные монеты, и требовались мощные грузовики, чтобы перевозить деньги, иначе мог застопориться весь бизнес. Получив мешок денег — месячный фонд зарплаты «Калипсо», — я попытался было поднять его. Куда там!
Наряду с серебром высоко ценятся в Саудовской Аравии черные кораллы, из которых делают четки для богатых. В Красном море мы находили черные кораллы на глубине от восьмидесяти до двухсот футов и, ныряя за ними, поняли, почему их считают редкостью.
Эта разновидность горгонарии представляет собой напоминающие тамариск бурые кусты высотой от шести до девяти футов. Ствол черного коралла — толщиной в руку, густые ветви покрыты слоем липкой слизи. Мы часто находили на ветвях жемчужницы, но сорвать бурую горгонарию нам оказалось не под силу.
Найдя заросли черного коралла на глубине ста футов у маяка Бразерс, Дюма вооружился пилой и нырнул туда. Кончился двадцатипятиминутный запас воздуха, а ствол был перепилен только на одну треть. Отдохнув, Дюма нырнул снова, я пошел вместе с ним. Пока трудился этот настойчивый лесоруб, я решил прогуляться. Когда я вернулся, Дюма пилил сук, на котором сидел, — совсем как герои известной притчи, с той разницей, что Фредерик, управившись с упрямым суком, не упал.
Он доставил свой трофей на поверхность и потом два дня счищал с него слизь. Впоследствии мы тащили добытые образцы на буксире за кормой «Калипсо», и море само смывало с коралла липкий покров. Калипсяне принялись строгать и полировать разрезные ножи, ручки для кинжалов, мундштуки. В Джидде мы показали наши изделия докерам-мусульманам. Узнав по запаху черный коралл, они прижимали поделки к сердцу и ко лбу.
В черном коралле есть что-то магическое. Как-то раз Симона, я и наш друг Луи Легу навестили в Канне Пабло Пикассо и подарили ему кусочек черного коралла. При этом Симона объяснила, что для приверженцев ислама это святыня. Пикассо повертел коралл в руках, разглядывая его, потом спрятал в карман своих мешковатых вельветовых брюк. Мы провели у него весь этот вечер, и время от времени хозяин вынимал из кармана черный коралл, чтобы посмотреть на него. На стене висели картоны с деталями фрески, которую Пикассо сделал для здания ЮНЕСКО в Париже. Я показал на знаменитую фигуру человека, летящего вниз головой, и спросил, что она означает. Пикассо лукаво взглянул на меня и сказал:
— Искусствоведы исписали тонны бумаги, объясняя символику этой фигуры. Одни говорят, что это падение Икара. Другие — низвержение Люцифера с небес.
Он наклонился ко мне и вполголоса произнес:
— Только между нами, Кусто: я просто хотел изобразить ныряльщика.
Когда я год спустя снова встретился с Пикассо, он все еще носил в кармане черный коралл. Маленький кусок горгонарии был отполирован до блеска самой творческой рукой на свете.
Тазиеву крабы-привидения показали себя с другой, совсем не смешной стороны. Однажды он решил переночевать на островке, покрытом тощим кустарником, и отправился на берег, захватив маленькую палатку. А утром вернулся на борт совершенно измученный и поклялся, что никакие силы не заставят его повторить этот опыт. Ночью тысячи «длинноглазых» осадили его палатку, и он, вместо того чтобы спать, до утра жег костер, держа круговую оборону.
Нам попадались признаки того, что люди все-таки навещали бесплодные Фарасанские острова. На песчаной косе Малату мы увидели могилы, обложенные скелетами морских черепах. Коралловые могильники были обращены в сторону Мекки. И в других точках внешнего барьера нам встречались мусульманские захоронения, украшенные черепаховыми костями или раковинами. Что за суровая секта избрала для последнего убежища столь дикий край, где только птицы, крабы да черепахи оплакивали покойных?
А в Порт-Судане мы выяснили, что это вовсе не были добровольные отшельники. На африканском берегу собирались полчища паломников, готовых отдать все свое земное имущество в уплату за перевоз из Порт-Судана и Суакина в Джидду, через которую проходил единственный путь в Мекку. И тут чернокожие мусульмане узнавали, что Саудовская Аравия взимает в Джидде с паломников дань, превышающую многолетний заработок большинства из них (эту дань отменили только в 1955 году). И в Судане возникали огромные лагеря застрявших богомольцев.
Находились «благодетели», которые тайком знакомили паломников с владельцами заруг, предлагавшими высадить их в укромном уголке, подальше от сборщиков дани. Маленькие суденышки шли через Красное море, битком набитые благочестивыми мусульманами, и многие пассажиры умирали в пути. Держать на борту покойников нельзя, а хоронить их в море не положено, Коран не позволяет. Вот и появились могилы на Фарасанах.
Мы использовали официальные «ворота» паломников, Джидду, как базу, через которую к нам прибывали припасы и почта, а также новые научные сотрудники, сменявшие своих товарищей. Однажды утром я отправился в местное отделение Индокитайского банка, чтобы обменять аккредитив на наличные для уплаты жалованья команде «Калипсо». Француз-управляющий отпер дверь своей конторы, и тотчас туда ворвалась целая гурьба местных дельцов. Все кричали и тянули его к себе, но особенно неистовствовал четырнадцатилетний парнишка, который, по словам управляющего, в день совершал сделок на сумму до десяти тысяч долларов серебром. В Джидде признавали только серебряные монеты, и требовались мощные грузовики, чтобы перевозить деньги, иначе мог застопориться весь бизнес. Получив мешок денег — месячный фонд зарплаты «Калипсо», — я попытался было поднять его. Куда там!
Наряду с серебром высоко ценятся в Саудовской Аравии черные кораллы, из которых делают четки для богатых. В Красном море мы находили черные кораллы на глубине от восьмидесяти до двухсот футов и, ныряя за ними, поняли, почему их считают редкостью.
Эта разновидность горгонарии представляет собой напоминающие тамариск бурые кусты высотой от шести до девяти футов. Ствол черного коралла — толщиной в руку, густые ветви покрыты слоем липкой слизи. Мы часто находили на ветвях жемчужницы, но сорвать бурую горгонарию нам оказалось не под силу.
Найдя заросли черного коралла на глубине ста футов у маяка Бразерс, Дюма вооружился пилой и нырнул туда. Кончился двадцатипятиминутный запас воздуха, а ствол был перепилен только на одну треть. Отдохнув, Дюма нырнул снова, я пошел вместе с ним. Пока трудился этот настойчивый лесоруб, я решил прогуляться. Когда я вернулся, Дюма пилил сук, на котором сидел, — совсем как герои известной притчи, с той разницей, что Фредерик, управившись с упрямым суком, не упал.
Он доставил свой трофей на поверхность и потом два дня счищал с него слизь. Впоследствии мы тащили добытые образцы на буксире за кормой «Калипсо», и море само смывало с коралла липкий покров. Калипсяне принялись строгать и полировать разрезные ножи, ручки для кинжалов, мундштуки. В Джидде мы показали наши изделия докерам-мусульманам. Узнав по запаху черный коралл, они прижимали поделки к сердцу и ко лбу.
В черном коралле есть что-то магическое. Как-то раз Симона, я и наш друг Луи Легу навестили в Канне Пабло Пикассо и подарили ему кусочек черного коралла. При этом Симона объяснила, что для приверженцев ислама это святыня. Пикассо повертел коралл в руках, разглядывая его, потом спрятал в карман своих мешковатых вельветовых брюк. Мы провели у него весь этот вечер, и время от времени хозяин вынимал из кармана черный коралл, чтобы посмотреть на него. На стене висели картоны с деталями фрески, которую Пикассо сделал для здания ЮНЕСКО в Париже. Я показал на знаменитую фигуру человека, летящего вниз головой, и спросил, что она означает. Пикассо лукаво взглянул на меня и сказал:
— Искусствоведы исписали тонны бумаги, объясняя символику этой фигуры. Одни говорят, что это падение Икара. Другие — низвержение Люцифера с небес.
Он наклонился ко мне и вполголоса произнес:
— Только между нами, Кусто: я просто хотел изобразить ныряльщика.
Когда я год спустя снова встретился с Пикассо, он все еще носил в кармане черный коралл. Маленький кусок горгонарии был отполирован до блеска самой творческой рукой на свете.
На Абу-Латте, в зеленом палаточном лагере, который просуществовал дольше всех наших красноморских лагерей, ученые убедились, что здешний край только кажется безжизненным. Пустынный с виду остров был населен полчищами «длинноглазых» крабов, крыс, скорпионов, змей и тучами мошкары, и все они обходились без растительности. Фарасаны — огромный птичий заповедник. Множество краснопегих олушей гнездится на голом месте; пропеченные солнцем островки кишат пушистыми белыми птенцами. Дюма ловил плавающих молодых птиц за ноги, подкравшись к ним под водой. В проливах между островами важно скользили пеликаны. Взлетали они тяжело, но, поймав в воздухе восходящие течения, эти причудливые птицы кружили, словно ископаемые крылатые ящеры. Ежедневно в четыре часа над островком Северный Гольдшмит можно было наблюдать высший пилотаж в исполнении птиц, которых мы за их пунктуальность прозвали «хронометрами». Хвост «хронометра» состоял всего из одного длинного белого пера. Взмыв высоко в небо, опьяненная скоростью и привольем, стая выписывала невообразимые петли и издавала ликующие крики. Закончив свои упражнения, они исчезали до следующего дня. Фарасанские кулики, колпицы, цапли и удоды были куда более сдержанны. Они собирались группами на мысах и выступах, где до них трудно было добраться. Мы с Дюма заходили в ялике с наветренной стороны, ложились на дно и дрейфовали по ветру: только так нам удалось сделать несколько снимков. Правда, одна белая цапля оказалась похрабрее; она смело приходила к нам в лагерь, заглядывала в палатки, всюду совала свой нос. За что и получила прозвище «Инспектор». Вечером, как стемнеет, появлялись совы, а также огромные стаи «духов ночи» — угольно-черных качурок, которые днем отсиживались в трещинах или зарывались в песок. Как-то утром мы нашли качурку на палубе «Калипсо». Ее отнесли в темный уголок, и она просидела там до позднего вечера. Но нас больше всего привлекал богатейший подводный мир Фарасанов. Чтобы увидеть его, даже не надо было нырять, здешние рыбы сами выходили из воды. Длиннорылые сарганы выскакивали над поверхностью и, рикошетом отталкиваясь от воды, пролетали свыше трехсот футов. От них не отставали полурылы. Эти рыбы прыгали на высоту до пятнадцати футов; для такого прыжка нужна начальная скорость около двадцати узлов. Верхний слой воды у самого берега был битком набит прозрачными рыбками поменьше сардин, молодью вида, название которого нам не удалось определить. Мы назвали их плексигласовыми рыбками. Они собирались вместе в таких количествах, что из-за них подводники ничего не видели. Благодаря этим тоннам живого продовольствия прибрежные воды были как бы круглосуточной столовой для пернатых и плавающих хищников. Но они, как это заведено почти во всех морях, выходили на промысел только два раза: утром и вечером. В эти часы море буквально кипело. Спинные плавники бонитов и карангов стремительно рассекали поверхность. Перепуганные насмерть жертвы взмывали в воздух и сыпались обратно в море. Голодные каранги, преследуя добычу, с разбега выскакивали на песок и бились на берегу, пока их не смывала волна. И мы собирали на пляже четырехфунтовых карангов. Летающие над полем битвы олуши камнем падали вниз. Над самой водой они складывали крылья и ныряли без единого всплеска. Бросок под водой — и добыча в клюве, можно нести ее птенцам. Пеликаны и тут сохраняли свою степенность. Плавая по бурлящей воде, они окунали только огромный клюв и длинную шею, но редко промахивались. Гастрономическая драма длилась с полчаса, затем наступало всеобщее перемирие, и поверхность моря опять становилась зеркально гладкой. Много раз я пытался незаметно войти в воду и подсмотреть разгул рыбьих страстей, и все напрасно. Только погружу маску хотя бы под прикрытием кораллов, как все прекращается. Прозрачные рыбешки окружали меня кольцом, а каранги стояли настороже поодаль, выжидая, когда уйдет чужак. На островке, расположенном по соседству с Абу-Латтом, был наш омаровый заказник. Плавая под водой, мы не видели ни одного омара, и, однако, здесь они буквально заполняли наполовину залитуюводой пустоту в кораллах. Забрав в Джидде моего одиннадцатилетнего сына Филиппа (он прилетел туда самолетом), мы поручили ему помогать коку. Не замочив ног, Филипп быстро наполнял ялик омарами. Они не линяли, не метали икру — что их привлекало в эту яму?.. Омары на суше, птицы под водой, летающие рыбы — этим не исчерпывались чудеса девственных морских джунглей. Мы еще познакомились с шишколобой рыбой. Представьте себе сжатую с боков рыбу длиной четыре фута, весом больше шестидесяти фунтов, с сильными плавниками, с мощными челюстями, попугаячьим клювом, огромной — с нос Сирано — белой шишкой во лбу, и вы поймете, как мы удивились, когда впервые увидели этих скаров, которых назвали шишколобами. Целая стайка рыб, штук пятнадцать, кружила около нас, поблескивая сине-зелеными и оранжевыми боками, и серьезные рыбьи глаза изучали нас. Они напоминали косматых буйволов и особенно потешно выглядели в профиль. Мы ежедневно встречали шишколобов. Они забирались в такую мелкую воду, что не могли даже плавать как следует. Севернее Абу-Латта мы однажды застали на пастбище сразу около двухсот этих рыб. Над водой торчали широкие, переливающиеся синью плавники. Может быть, они нерестились? Мы подошли ближе, чтобы проверить, — они тотчас ушли. Ни динамитные капсюли Дюма, ни гарпун Дюпа не смогли добыть нам шишколоба. И почему-то я всегда был безоружен, когда встречался с этой странной рыбой, и всегда вся лента уже была снята. На островах Бельтра в последний день де Вутер и я, засняв под водой целую пленку, возвращались к катеру. Вдруг де Вутер увидел двух крупных шишколобов на глубине трех футов. Осторожно, чтобы не спугнуть их, мы подошли ближе. Рыбы заметили нас, но, видимо, поняли, что мы настроены миролюбиво, и подпустили нас вплотную, позволяя рассмотреть, чем они заняты. Они плавали бок о бок в лучах солнца, останавливались, наклонялись и, сильно взмахнув плавниками, бодали коралловые глыбы, да так, что был слышен звук. Одновременно клюв отламывал кусок коралла величиной со страусовое яйцо. Рыбы растирали коралл жевательными пластинами, которые помещаются у них в глотке; клюв при этом уже не двигался. Морские бизоны брели через каменное пастбище, бодали свой корм лбами и рвали его клювами. И мы слышали рокот, словно от камнедробилки… Судя по тому, как прилежно и деловито пасутся шишколобы, каждый из них поглощает в год не одну тонну кораллов. Органического вещества в коралловых глыбах мало, вот рыбы и вынуждены трудиться, чтобы выжить. Время от времени шишколобы выделяли облачка белой пыли, которые наполняли мутью около пятидесяти кубических футов воды. В первый миг это зрелище показалось нам таким потешным, что мы чуть не наглотались воды от смеха. А ведь если разобраться, что тут смешного? Куда-то должно деваться все, что глотает шишколоб! Я подплыл к расходящемуся облачку и подставил ладонь. На ней осел чистейший коралловый песок, такой же, какой покрывал подводный склон, не мельче и не грубее. Так сказать, живая пескомойка. Обычная рыба-попугай, которая размерами сильно уступает шишколобу (они родственники), тоже перемалывает кораллы. Возможно, этим занимаются также черви и моллюски. Так что запасы морского песка созданы не только приливами и волнами, дробящими камень и коралл. Наверное, тут немало поработали рыбы. Нашим первым долгом было, конечно, помогать ученым. Мы облавливали сетью лагуны со стоячей водой, где глубина не превышала двух футов, ходили вдоль барьеров, отделяющих заливы. В таких местах можно поймать самых разнообразных обитателей лагун и открытого моря. И старались не только заполучить по одному представителю каждого вида; местами мы вообще вылавливали все подчистую, чтобы изучить взаимоотношения подводных жителей. Профессор Драш занимался преимущественно прикрепленными организмами рифов; лейтенант Дюпа и геолог Владимир Нестеров добывали рыб для доктора Шербонье. Дюма специализировался на точных микровзрывах. Нырнет, подложит, где нужно, динамитный заряд, а после взрыва собирает все особи со дна; тем временем кто-нибудь еще вылавливал всплывшую рыбу. При взрывах на поверхность всплывает только одна пятая оглушенной рыбы, а то и меньше; вот почему, как ни широко применяют этот способ биологи, от него мало проку, если некому проверить дно. Дюма уверял Шербонье, что ничего не пропускает, поставляет полные собрания всех обитателей изучаемых участков моря. Он устраивал на пляже своего рода рыбный рынок; биологи разбирали улов и раскладывали образцы по банкам — ни дать ни взять рабочие какого-нибудь рыбоконсервного комбината. Калам и Занг брали с разной глубины пробы воды, чтобы определить температуру, соленость, содержание кислорода, процент нитратов и фосфатов. Стремясь проследить даже небольшие температурные колебания, Калам часто нырял с высокочувствительным термометром. Тройки и четверки подводных пловцов непрерывно сменяли друг друга под водой, и боцману Бельтрану приходилось трудиться с рассвета до заката, заряжая баллоны аквалангов. Глубина вокруг Абу-Латта небольшая, от пяти до ста футов. Тут и там однообразие белого песчаного дна нарушают коралловые сооружения самых различных размеров и очертаний. Здесь и приземистые каменные кусты, и высокие готические соборы. Мы нашли даже великолепный коралловый фонтан десяти футов в поперечнике, украшенный посредине длинным пучком зеленых водорослей. Кораллы были домом для пурпурных, оранжевых, зеленых, голубых, черных и белых рыбок. Обычно мы заставали их парящими у входа в свои «квартиры». Заметив человека, они скрывались, и коралловая глыба напоминала закрывающийся на ночь цветок в замедленном фильме. Биологи мечтали переписать всех обитателей кораллового дома, но «квартиры» были чересчур малы для подводных пловцов. Мы нашли выход: отрывали ото дна все сооружение и поднимали его на «Калипсо». Рыбки отсиживались в своих убежищах до последней минуты, покидая их уже, когда глыба оказывалась на борту. И на палубу словно выливался поток оживших драгоценных камней. Энергичный молодой океанограф доктор Клод Франсис-Беф договорился с владельцем четырехместного самолета, что тот поможет нам поддерживать связь с Джиддой и провести аэрофотосъемку Абу-Латта. К сожалению, самолет прочно застрял в Бенгази из-за какой-то неисправности. Но тут мы неожиданно встретили в аэропорту Джидды Тони Бесса из Адена. Я знал его отца Антуана Бесса, который представлял собой редкое сочетание дельца и гуманиста. В ведении Тони были пароходство, универмаг, автотранспортное агентство и судоверфь, на которой строили незамысловатые арабские дау. Грузовики Тони работали в Эфиопии; через его руки проходила большая часть мирры и ладана, экспортируемых из Йеменского имамата. Он свободно говорил по-английски, по-французски, по-арабски. И вот Тони Бесс на несколько дней предоставил в наше распоряжение свой маленький самолет и пилота-шведа, а сам вызвался поработать подводным пловцом. Первым делом надо было расчистить на Абу-Латте площадку. Самый подходящий для аэродрома участок был усеян острыми обломками коралла, а посредине стоял могильник. Вооружившись кирками и лопатами, мы дружно взялись за дело и срезали все выступы, только могилу не тронули. Симона даже подмела посадочную полосу. Прилетев к острову, Тони увидел сверху большие белые буквы: «Абу-Латт», а чтобы он знал направление ветра, мы подожгли паклю, которую принесли из машинного отделения «Калипсо». Тони показал себя простым и искренним парнем, спокойно и умело действовал под водой, не чурался никакой работы. Летчик-швед между разведочными вылетами молчаливо восседал на корме водолазного катера, вооруженный целым набором удилищ, катушек и крючков. Покидая Абу-Латт, мы оставили там горючее для самолета, который нанял Франсис-Беф. Машину отремонтировали, и он вместе с Занг и пилотом Ивернелем завершил аэрофотосъемку района наших работ. Потом они улетели в Аддис-Абебу, Взлетая с тамошнего аэродрома, они не учли особенностей разреженного горного воздуха, самолет разбился, и все трое погибли. Французская океанография до сих пор не оправилась от потери Клода Франсис-Бефа — блестящего и неутомимого исследователя. Когда мы работали в Фарасанских водах, Симона как-то раз увидела идущий прямо к «Калипсо» новехонький траулер с флагами Швеции, Саудовской Аравии и Организации ООН по вопросам продовольствия и сельского хозяйства (ФАО); большинство калипсян в это время было занято своими исследованиями на рифе. Необычный корабль остановился по соседству с «Калипсо», и Симона приветливо помахала рукой капитану. Он производил впечатление уроженца Востока, а команда была арабская. Капитан обратился к Симоне по-немецки. Не умея говорить на этом языке, она ответила по-английски. Капитан не понял ее и перешел на тагалогский. Симона ответила по-французски. Тут бы и кончилась их беседа, но Симона решила еще испытать японский, и капитан ответил ей на том же языке. Выяснилось, что он филиппинец, специалист по рыбному промыслу, назначен командовать шведским траулером, зафрахтованным ФАО, чтобы помочь арабам наладить рыбную ловлю. Японский он изучил в войну, когда его родина была оккупирована. А Симона в детстве училась в монастырской школе в Японии. …Мы продолжили наше плавание и, идя на юг, увидели ночью Южный Крест. А утром «Калипсо» подошла к островам Зебаир, которые называют также Семь Апостолов. Несколько вулканов вздымают здесь свои бесплодные макушки со дна Красного моря в виду покрытых зарослями босвеллии берегов Йемена. От черных Апостолов на нефритовое море падает зловещая тень. Нас особенно занимал остров Джебель-Теир, который в отличие от своих соседей некогда был обитаем. Почти сто лет назад, в пору расцвета Оттоманской империи один французский подрядчик соорудил на нем маяк для турок. Тогда это был самый важный маяк к северу от Адена. Сойдя на берег, мы чуть ли не на четвереньках пробирались по лавовым глыбам Джебель-Теира. С трудом вскарабкались к заброшенному маяку и по ржавой лесенке поднялись до фонаря. Окна и линзы были разбиты, вокруг башни метались птицы. Моя душа моряка сжалась от боли — ведь этот маяк не одно судно уберег от столкновения с Семью Апостолами. Поздно вечером «Калипсо» простилась с вулканами Зебаир. Экран нашего локатора был исчерчен помехами: лайнеры и танкеры тщательно прощупывали ночь своими радарами, Кому нужен турецкий маяк в век радара? Скоро его развалины будут забыты навсегда.
В Красном море мы впервые испытали подводную наблюдательную кабину. «Калипсо» шла со скоростью десяти узлов мелкими проливами в коралловом лабиринте. Дюма и де Вутер спустились в «обсерваторию», и на их лицах заиграли зеленые блики света, отраженного от песчаного дна, придавая обоим вид каких-то чудовищ. Видимость достигала шестидесяти футов. Из мглы впереди возникали коралловые стены и колонны, чтобы через четыре секунды снова пропасть в тумане. Завидев огромную пятиглазую стальную морду, рыбы бросались врассыпную. Да и другие обитатели рифа испуганно вздрагивали и спешили укрыться в своих норах. Когда глубина возрастала, у Дюма и де Вутера было такое ощущение, точно они летят на самолете над сумеречным голубым краем. Вскоре дно снова поднималось, и прямо по курсу вырастали башни, заставляя наблюдателей съеживаться от испуга. Но тревога оказывалась ложной, препятствия проходили в десяти футах под ними, и когда друзья наконец вышли наверх, они так упоенно рассказывали о виденном, что возле люка, ведущего в «обсерваторию», тотчас выстроилась длинная очередь. Во время ночной стоянки возле скалистого острова Зебержад я спустился в кабину. Мои товарищи погрузили в воду яркие фонари, и вскоре на свет собрались полчища всякой мелочи — совсем как мошки, слетающиеся к лампе. Рачки, черви, личинки, крохотные мальки затеяли буйные пляски перед иллюминаторами. Мелюзга продолжала прибывать и совсем заслонила фонари, я видел лишь световой ореол. Я поглядел туда, где кончался свет. Там скользили крупные силуэты подводных жителей, которые не отваживались выйти на авансцену. Я опознал только карангов, остальные слишком быстро проносились мимо. Возможно, эти верзилы ждали, когда погаснет свет, чтобы наброситься на беспечную мелюзгу, устроившую танцы в ночном клубе. В открытом море «обсерватория» редко привлекала наблюдателей. А я любил эти часы, любил без помех отдаться созерцанию. Словно сверкающие мечи, проплывали мимо, опасливо озираясь на корабль, чопорные макрели. А один раз я увидел изумительное зрелище: это шли переливающиеся всеми цветами радуги корифены, самые лучезарные обитатели пучины. Самки корифен великолепны, а при виде самцов просто дух захватывает. На них будто надеты карфагенские шлемы, усыпанные изумрудами, сапфирами, рубинами, алмазами. Корифены очень решительно посматривали на иллюминаторы кабины, даже подплывали вплотную, как бы подчеркивая свое бесстрашие. Я знал, как упорно они сопротивляются, попав на крючок, и как блекнут, умирая. Насколько же приятнее видеть этих изумительных пловцов в их родной стихии! Сквозь верхний иллюминатор я наблюдал косяк рыбы, идущий на глубине около фута. Похоже, сардины… Вдруг они исчезли в вихрях сверкающих брызг. Я не сразу сообразил, что «Калипсо» спугнула косяк летучих рыб. Я лежал в кабине, когда мы через Баб-эль-Мандебский пролив вышли из Красного моря в Индийский океан. Было сильное волнение, и «Калипсо» резвилась вовсю. Меня кидало, точно игральную кость в стакане. Валы вздымали вверх форштевень, вжимая меня в резиновый матрац. Затем нос нырял в ложбину, наступала невесомость, и я ударялся о стальные стены. Иллюминаторы то вырывались на воздух сквозь ослепительно белую пену, то вновь погружались в голубую толщу. Рыбы не показывались даже в те короткие мгновения, когда кабина была под водой. В этом странном состоянии, напоминающем небытие, мне почудилось, что я заточен в собачьем ящике на пьяном корабле. Я поспешил выбраться на палубу и подошел к рулевому. Он был совершенно трезв и от души наслаждался схваткой с расшалившимся проливом.

Глава четвертая
Загадка урн

В солнечный и ветреный летний день «Калипсо» подошла к цепочке неприступных белых островков, таких же пустынных, как Фарасаны, хотя всего десять миль отделяет их от Марселя, второго по величине города Франции. В узком проливе между Риу и его меньшим соседом Гран-Конглуэ мы стали на якорь. В этот глухой уголок нас привели заманчивые сведения, полученные Фредериком Дюма.
Когда Дюма работал в Группе подводных изысканий в Тулоне, он помог спасти от кессонной болезни аквалангиста-любителя Гастона Христианини, который зарабатывал на жизнь, охотясь на омаров и поднимая со дна всякую всячину. Христианини пришлось расстаться с пальцами на ногах, но он остался жив.
Дюма навестил его в госпитале, и одинокий искатель кладов решил поделиться с ним своими секретами.
— Мне все равно не нырять больше, — сказал он. — Расскажу-ка я тебе про места, которые разведал.
Никто лучше Христианини не знал этот район, поэтому Дюма достал записную книжку и приготовился слушать.
— Я тебе расскажу, где водится много омаров, — продолжал незадачливый пловец. — Во-первых, в затонувшем корабле возле Иль-Мер. И во-вторых, у Гран-Конглуэ, рядом с каменной аркой, там еще лежит на дне груда старинных кувшинов.
Старинные кувшины! Это же амфоры, транспортная тара древних, которые перевозили в них вина, растительное масло, зерно, красители, руду, духи, мозаичную плитку — все, что могло пройти через горлышко диаметром пять дюймов.
Мы много лет проработали под водой, прежде чем усвоили, что означает груда амфор на дне моря. На заре наших подводных изысканий Дюма и я расспрашивали старых водолазов об их находках. Они говорили, в частности, и о «старинных кувшинах», но никто из них не подозревал, какую тайну скрывают сосуды. Помню, один водолаз рассказал, как он увидел вереницу амфор, торчащих из донного ила. И он заключил:
— Видно, на берегу была гончарная мастерская и оползень увлек ее под воду.
Но теперь-то мы хорошо знали: груды старинных сосудов — признак того, что здесь затонул древний корабль.
И вот мы у Гран-Конглуэ, пришли взглянуть на амфоры, найденные Гастоном Христианини. Мы давно мечтали раскопать древнее судно. С нами вместе на борту «Калипсо» был профессор Фернан Бенуа, начальник Отдела древностей области Прованс.
Марсель Ишак (кинооператор, исследователь Гималаев), Фредерик Дюма, наш новый боцман Альбер Ро, я и профессор Бенуа сели на катер. Ро запустил мотор, и мы подошли к северо-западному мысу, такому же крутому, как все берега этого острова. Здесь Дюма надел трехбаллонный акваланг, шагнул за борт, помедлил, проверяя плавучесть, потом согнулся в пояснице и нырнул в прозрачную толщу. Я повел катер за пузырьками, которые лопались на поверхности.
Иногда я поглядывал на нависающие сверху складки меловой скалы. Мотор вспугнул чаек, и они с криком метались в воздухе. Небо сулило шторм. А место опасное… Истекли двадцать минут, в толще воды показалось светлое пятно. Морщась от усталости, Дюма влез в катер; маска обвела его нос и глаза белым овалом.
— Арку нашел сразу, — доложил он. — Осмотрел дно по обе стороны от нее, но никаких амфор не увидел.
Если уж зоркие глаза Дюма ничего не приметили, то скорее всего там ничего и нет. Но мне очень не хотелось отменять поиски, смириться с тем, что доверительный рассказ Христианини — всего лишь очередная рыбацкая басня. Надо погружаться самому. Выразительное молчание профессора Бенуа и скептическая искорка в его глазах окончательно убедили меня. Ро подвел катер к северо-восточному мысу. По манометрам я выбрал те из наших баллонов, в которых было больше воздуха, надел их и скользнул за борт.
В тот год (1952) мне почти не довелось нырять летом, и я был не в форме. Проходя пятидесятифутовую зону, в которой евстахиевы трубы нетренированного пловца особенно дают себя знать, я удивился тому, что не ощущаю никакой боли. Вода была на редкость прозрачная, и, спускаясь вдоль скальной стены, я заново пережил возбуждение наших первых подводных «полетов», точно никогда раньше не погружался. Позади остались раздробленные рябью солнечные лучи, теперь свет обтекал меня со всех сторон. Мир без теней… Вдоль уступа, поросшего унылыми желтыми водорослями, я подплыл к обрыву и внизу, в рассеянном мутном свете увидел склон, усеянный каменными глыбами, на которых примостились горгонарии. Поищем среди камней.
Какой-то привкус у воздуха — машинный, что ли… Мысли начали путаться. Я поднес к маске руку с глубиномером. 70 футов… Все-таки перерыв сказывается. Понадобилось усилие, чтобы мыслить последовательно: «В правой стороне — юг». Я посмотрел туда: в пределах стофутовой видимости — никаких амфор. «Срок пребывания на этой глубине только десять минут. В левой стороне — север». И я поплыл туда над камнями, задумав в оставшиеся минуты обогнуть северо-восточный мыс. «Мои товарищи проследят за моими пузырьками при любой волне. Помни: избегать лишних усилий, не спешить, не перенапрягаться». Я старался не частить, согласуя работу ног с глубокими выдохами; моя голова вращалась из стороны в сторону подобно антенне радара.
В северном направлении не видно никаких изделий человеческих рук. Глаза устали рыскать по серому откосу… Внезапно я приметил какой-то продолговатый темный предмет. «Это еще глубже. Идти туда? Вдруг это амфора». Я сделал выдох и плавно пошел вниз без помощи ног. Таинственный предмет прятался под париком из водорослей. Я сорвал их… Обыкновенная глыба известняка. На глубиномере — 240 футов. «Балда! Немедленно вверх!» Глубокий вдох, сильный толчок ногами — и я взлетел на глубину 170 футов, сопровождаемый стайкой больших серебристых карангов.
Обогнул мыс и увидел, что здесь серый склон начинается выше, вровень со мной. Подача воздуха уменьшилась. Я включил запасной клапан, который давал мне отсрочку на пять минут. Похоже, зря искали. Большая часть оставшегося воздуха понадобится мне для декомпрессионных остановок. Поднимаясь вдоль склона, я вдруг перед самой маской увидел изящные контуры наполовину занесенной илом амфоры. «Нельзя уходить, не оставив приметы». Собрав оставшиеся силы, я извлек амфору из грунта и воткнул ее в ил стоймя.
Усилие сбило меня с дыхания. Сделав глубокий вдох, я продолжал медленно подниматься. Впереди во мгле показалась какая-то площадка. Все ближе, ближе… Рядом со мной — курган из песка и гальки и целый каскад черепков. Никогда еще я не видел такого огромного «захоронения» древнего корабля. Он лежал наклонно вдоль откоса, верхним концом упираясь в основание острова.
Сонная кошачья акулка недовольно подвинулась, пропуская меня. Я отделил от груды три чаши, напоминающие кубки.
А теперь вверх, вверх вдоль стены. Я всплывал словно во сне, сердце давало перебои. В десяти футах от поверхности уцепился за горгонарию. Надо сделать выдержку для декомпрессии, сколько хватит воздуха. Я прижимал к груди кубки; катер взбивал пену, терпеливо дожидаясь меня, но мне было не до него. Кончился воздух. Я вынырнул, держа кубки в поднятой руке. Седой Бенуа, взлохмаченный мистралем, увидел руку с дарами моря.
— Кампанийские чаши! — крикнул он.
Я лег на дно катера и закрыл глаза. Археолог продолжал:
— Эти кубки напоминают кампанийские изделия, которые мы находили при раскопках в Провансе. Уже по ним видно, что корабль не моложе второго века до нашей эры.
— По-вашему, здесь стоит произвести основательные раскопки? — спросил Дюма.
— Безусловно! — воскликнул профессор Бенуа.
Новость облетела всю «Калипсо» от машинного отделения до мостика, и в кают-компанию набились желающие посмотреть находку.
Марсель Ишак благоговейно поднял кубки.
— Их клали так, чтобы ручки смотрели в разные стороны, — сказал он, разделяя кубки. — Эти предметы двадцать два столетия назад укладывал специалист по упаковке.
В самом деле! Кубки были изготовлены и упакованы живыми людьми, искусство которых перебросило мостик к нам через два тысячелетия… Мы добудем со дна не только музейные экспонаты, но и сведения об этих умельцах, узнаем, как их хрупкие изделия попали в воды Галлии. А главное (во всяком случае, для нас, моряков), мы много узнаем о самом корабле и мореплавании той поры. Что это за судно? Как оно построено? Кто на нем ходил? На дне лежат ответы на все эти вопросы.
Мы освободим затонувший корабль от вековых геологических и биологических напластований. Снимем не дошедший по назначению груз, стараясь не повредить погребенное судно, а затем извлечем и корпус, поднимем все до последней крошки. Бенуа мечтал все поместить в одном хранилище — в своем музее «Борели» в Марселе, где знатоки этого периода смогут тщательно изучить останки древнего грузового судна. Они восстановят корпус, может быть, даже надстройки и снасти. Это будет немалым вкладом в молодую науку — морскую археологию, которая пока не очень богата открытиями такого рода, да и то большинство их сделано на суше: извлеченные из болот первобытные лодки, захороненные вместе с вождями суда египтян и викингов, увеселительные галеры времен Калигулы, попавшие в руки ученых после осушения озера Неми в Италии в 30-х годах.
Только четыре древних корабля, лежавшие на дне моря, были предметом частичных раскопок. В 1901 году возле Антикитира у берегов Греции водолазы подняли бронзовые изделия и мраморные скульптуры. Затем у Махдии (Тунис) Альфред Мерлин обнаружил римский корабль, также груженный украденными в Греции статуями; в 1948 году Дюма, Тайе и я работали там. Возле Альбенги итальянское спасательное судно «Артильо II» добыло своим ковшом редкие экспонаты, но искрошило сам корабль, затонувший в первом веке до нашей эры. Столь же древнее судно нашли у Антеора (Франция), его частично обследовали Дюма, Филипп Тайе и аквалангисты подчиненной мне группы военных моряков, которая работала на «Эли Монье».
Кампанийские кубки свидетельствовали о том, что наш корабль старше всех найденных ранее. И ведь ни один из них не удалось поднять со дна моря целиком, как это собирались сделать мы.
Я отвел два месяца на то, чтобы осуществить эксгумацию судна, погребенного на глубине ста тридцати футов под килем «Калипсо». Сколь наивным кажется теперь этот график! Пять лет упорного труда и одна человеческая жизнь — вот цена, которую мы заплатили. Затонувший корабль заставил нас устроить на острове первое в его истории поселение и довел нас почти до полного разорения. Да, этот корабль был упорным противником…
Он стал также школой мужества. Из нашего отряда подводных пловцов он, можно сказать, выковал настоящее орудие для океанографических работ, вынудил нас создать центр по изучению и развитию подводной техники — ОФГС (Центр подводных исследований), опроверг дилетантские представления и привил нам трезвое понимание, что такое работа под водой.
Но в тот день, когда произошло открытие, мы еще ничего этого не знали и на обратном пути в Марсель лихо разрабатывали планы. Кампанийские кубки сразу воодушевили начальника Отдела древностей министерства просвещения, и он выделил нам щедрое ассигнование из своего скромного археологического бюджета. (Увы, эти деньги покрыли лишь малую часть всех наших расходов по раскопкам.) Нам дали средства Национальное географическое общество США, префектура Буш-дю-Рон, марсельский муниципалитет. Портовое управление и Торговая палата Марселя помогли снаряжением и рабочей силой. Особенно же нас ободряло и волновало то, что со всех концов Франции приезжали добровольцы, большинство — опытные подводники, и все без исключения энтузиасты. Среди них был и сын моря Альбер Фалько из деревни Сормиу под Марселем. Но хотя Альбер, можно сказать, с детства рос под водой, строгие правила социального страхования помешали ему получить свидетельство матроса первого класса, без которого мы не могли зачислить его в штат аквалангистов «Калипсо». Дело в том, что, работая после войны по очистке гаваней от немецких мин, он потерял три пальца на левой руке.
Я привел Фалько к врачу отдела социального страхования торгового пароходства. Врач нашел, что Альбер во всех отношениях представляет собой образчик физического здоровья, и только в последнюю минуту, когда уже хотел подписывать документ, обратил внимание на покалеченную руку.
— К сожалению, мсье… — начал он.
— Но это же смешно, — возразил я. — Придумайте какой-нибудь выход.
Врач выдал свидетельство, разрешающее Фалько работать на «Калипсо» и рыболовных судах побережья. (Теперь Альбер — командир подводной лодки, которая ходит на глубинах до тысячи футов.)
Фалько порекомендовал мне еще одного хорошего подводного пловца — рабочего Санитарного управления Марселя Армана Давсо. Отцы города прикомандировали Армана к «Калипсо», сохранив ему прежнее жалованье. До тех пор Давсо преимущественно очищал городские улицы от пустой посуды. У нас он начал собирать древнюю посуду со дна моря. Он и сейчас работает с нами, стал знатоком подводной техники.
Располагая отличным судном и бригадой энергичных пловцов, мы вернулись к Конглуэ и приступили к разработке плана операции. Сначала мы с Дюма сделали рекогносцировку. Сверху «курган» придавили камни, скатившиеся с острова на протяжении столетий. К счастью, вода смягчила их падение, и они не повредили корабль; глыба весом не меньше двух тонн упала прямо на амфоры, не разбив ни одной. Первым делом надо было убрать эти камни. Франсуа Жюнье из службы маяков прислал работягу-тендер «Леонор Фреснель». Мощные лебедки спустили стропы, с их помощью мы стащили глыбы с места и скатили вниз по склону. С камнями поменьше справилась «Калипсо». Только самый большой обломок, весом около тридцати тонн, у нижнего конца корабля не поддался.
Уже во время этой операции мы начали понимать, какую задачу на себя взвалили. Кругом — разбитые амфоры, черепки кубков, чаш и мисок, засыпанные песком, перемешанные с камнями и ракушками… Работать придется как раз на пределе нашей безопасной зоны: верхняя часть корабля лежит на глубине 125, нижняя — 140 футов, чуть дальше начинается область глубинного опьянения. А по мере раскопок мы углубимся еще дальше.
Как разобраться в этом хаосе, чтобы осмысленно приступить к делу? Первым ключом оказались амфорные горлышки, которые торчали дюймов на десять над «мусорной кучей». Они выстроились в ряд, позволяя представить себе направление продольной оси погребенного судна. Мы вооружились маркированным линем. Но откуда мерить? Мы прикидывали и так и сяк, наконец примерно определили: длина — девяносто три фута, ширина — двадцать семь. (Позднее наши измерения полностью подтвердились.) Это был один из крупнейших кораблей древности, на десять тысяч амфор.
Мы повесили в кают-компании «Калипсо» план участка, пометив на нем точки важных или характерных находок. Чтобы легче было ориентироваться, условно обозначили нос и корму, правый и левый борт, после чего приступили к раскопкам. Начали с тех амфор, которые можно было извлечь из грунта руками. За первые две недели подводные пловцы подняли триста амфор; одновременно они расчищали площадку от камней и черепков. Это была пора опытов и ошибок, и она продлилась дольше, чем мы рассчитывали, так как непрошеные мистрали все время относили «Калипсо» от острова. К тому же мы допустили серьезный тактический промах. Вместо того чтобы работать систематически — начать с верхней оконечности (мы назвали ее кормой) и оттуда идти вниз — мы запутали археологическую картину, собирая материал одновременно по всей площади. Эту ошибку мы исправили, а вот с мистралем ничего не могли поделать.
Этот неистовый сухой ветер с воем вырывается из холодной долины Роны и мчится над морем, жадно впитывая тепло. Бушующие валы обрушивались на «Калипсо», и она натягивала «вожжи», порываясь прижаться к острову. Мы представили себе наше новенькое исследовательское судно лежащим поверх двухтысячелетних обломков… Черт дернул нас заняться этими раскопками!
Мистраль налетал внезапно. Приходилось вызывать со дна очередную смену, и начинался упорный поединок со стихиями. Наши лодки впрягались в якорные цепи и пеньковые канаты и тащили «Калипсо» прочь от беснующегося прибоя. В такие часы мы невольно думали о тех, кто много веков назад проиграл битву при Гран-Конглув. Почему-то во время этих авралов нам доставляло утешение смотреть, как профессор Бенуа нервно мерит шагами палубу, твердя про себя:
— Это ужасно, ужасно…
Чтобы помочь нам бороться с мистралем, Жюнье снова прислал «Леонора Фреснеля», и тот поставил в двухстах пятидесяти футах от острова швартовую бочку, которая могла бы обуздать и линкор. Мы не подозревали тогда, что эта бочка окажется причиной большой беды.
В ту пору на «Калипсо» было двадцать коек; людей собиралось до тридцати пяти. Постоянные опасности только взбадривали участников экспедиции, никто не жаловался на скудное питание и тесноту. Бывало, за день уходило под воду в общей сложности шестнадцать пловцов. Наши правила разрешали каждому не больше трех погружений в день; рабочая смена длилась в среднем пятнадцать минут. Между погружениями люди, насколько позволяло место, отдыхали три часа, чтобы восстановить силы и дать крови очиститься от азота. Двойки непрерывно чередовались на дне; дежурный подавал сигнал на выход, стреляя из винтовки в воду. В десяти футах от поверхности пловцы останавливались на три-пять минут для декомпрессии.
Выстрелы, закладывающий уши рев компрессоров, плеск волн, вой ветра, свист сжатого воздуха, стук нашей старенькой дизельной лебедки, голоса, состязающиеся с бурей, крики чаек — шум стоял одуряющий, но дело подвигалось туго…
Соблазн, который привел в этот глухой угол подводных пловцов, манил и зевак. Барки, парусные лодки, яхты и даже теплоходы шли к Гран-Конглуэ. Однажды явился необычный экскурсант: граф Ренуар де Донг сам проплыл все десять миль от Марселя, вооруженный гарпунным ружьем, с каким-то свертком за спиной и бутылкой вина за пазухой гидрокостюма. Когда он собрался в обратный путь, мы настояли на том, чтобы подбросить его на «Калипсо». В полумиле от острова Риу наш гость прыгнул в воду и поплыл к пустынному берегу. Вечером его доставили в Марсель рыбаки. Граф привез кролика, которого подстрелил на Риу гарпуном.
Рыбаки, проходя мимо гомонливого табора, облюбовавшего место, которого до сих пор опасались все суда, могли представить себе только одно объяснение: «Богатейший клад. Все трюмы золотом набивают». В каком-то смысле они были правы: мы и впрямь нашли сокровище, но ему не было цены. Пловцы добывали со дна моря не самоцветы и не слитки, а свидетельства о пропавшем в древности судне, которому было суждено стать в наше время сенсацией дня.
Сначала мы поднимали амфоры, привязывая по десять — двенадцать штук к тросу, выбираемому лебедкой. Некоторые из них срывались, подвергая опасности работающих внизу людей. Пробовали складывать кувшины в сеть, но тогда они лопались. Всем понравился способ, который предложил Пьер Лабан. Взяв под воду воздушный шланг, он повернул амфору вверх дном и направил внутрь струю сжатого воздуха. Кувшин, извиваясь, всплыл к поверхности, где его выловил сидящий в лодке Ро. Но побитые амфоры так наверх не отправишь, а треснувшие рассыпались в пути. В конце концов мы приспособили проволочную корзину емкостью в двенадцать кувшинов — как раз столько двое тренированных пловцов обычно успевали собрать за смену.
Влажные амфоры ложились на палубу, сверкая на солнце. Но пурпурная и золотистая биоинкрустация, высыхая, быстро тускнела, темнела, и лишь белый известковый налет да пятна йода оставались там, где на кувшинах прежде сидели моллюски. Сотрудники Марсельского университета, биологи Жак Пикар и Роже Молинье набрасывались на только что поднятые амфоры и снимали с них живой покров для исследования. Они открыли неизвестный науке вид и несколько новых сообществ прикрепленных форм. Их коллега Жан Блан прямо на погибшем корабле изучал напластования, измерял содержание кислорода в иле и воде. Молодые ученые сразу прониклись калипсянским духом. В субботние и воскресные дни, когда судно стояло в Марсельском порту, они по собственному почину приходили в док, помогали команде драить и красить.
Часы трапез на борту протекали оживленно. Мы совещались, как лучше наладить работу, без конца спорили о возрасте найденного нами судна. Бенуа датировал его третьим веком до нашей эры. Его помощники Анри Медан и Фердинанд Лальман считали, что это еще не доказано; по их мнению, корабль затонул в первом веке до нашей эры. Осторожный Дюма присоединился к ним. Я плохо разбирался в археологии, но надеялся, что прав Бенуа, — ведь все изученные до сих пор останки античных судов относились к первому веку до нашей эры, который явно был роковым для мореплавателей. Находки с серого откоса приносили нам все новые сведения. Это был оживший увлекательный исторический детектив.
Расчистив поверхностный слой, мы стали докапываться руками до следующего пласта. Здесь изделия были словно вмазаны в цемент; сколько ни дергай амфору за ручки, все напрасно — либо сдашься, выбившись из сил, либо сломаешь сосуд. Нужно было сперва удалить отложения, которые накопились между кувшинами. Только через месяц после начала работ мы придумали действенный способ. К мощному насосу присоединили гибкий металлический рукав длиной двести футов, диаметром пять дюймов; с ним был связан воздушный шланг, конец которого входил снизу в рукав. Струя сжатого воздуха с ревом мчалась вверх, увлекая с собой все, что могло пройти через горловину рукава.
Надо было с учетом глубины точно рассчитать диаметр и жесткость трубопровода, количество воздуха для «подводного пылесоса». Мы приобрели компрессор производительностью 4 тысячи кубофутов сжатого воздуха в час, способный поднять на поверхность 400–500 кубофутов материала. Такой «земснаряд» буквально вгрызается в дно. Глотает ил, песок, раковины, черепки, рыб, камни с кулак и больше. Если вы зазеваетесь, прижметесь к рукаву, он высосет из вас кровь.
Наверху ревущий «пылесос» извергал захваченный материал в металлическое сито, и археологи изучали «высевки» — скрепленные дубовыми штифтами куски дерева, железные и медные гвозди, блестящие десятидюймовые бронзовые нагели, испещренные зигзагами медных заклепок фрагменты помятой свинцовой обшивки, а также рыболовные крючки и грузила поздних времен. Однажды мы увидели в сите бронзовое кольцо; я назвал его «капитанским» и несколько дней носил на пальце, прежде чем отдать Бенуа. Теперь мы могли быть уверены, что даже самые мелкие предметы не ускользнут от нас.
На палубе все привыкли к названию «подводный пылесос». Но для того, кто держал рабочий конец рукава, он скорее был взбесившимся лохнесским чудовищем. Работа была трудная, увлекательная и опасная.
Пловцы по двое сходили в воду по водолазному трапу и погружались вниз головой в голубую толщу, часто продувая уши. На глубине ста футов уже видно внизу корабль и свернутый в кольцо рукав, который словно притаился для броска на жертву. Первый пловец брался за обе рукоятки латунного наконечника и подавал его туда, где предстояло работать. Трубопровод был тяжелый, гнулся с трудом — мы ведь нарочно избрали большой диаметр и жесткость, соответствующую нашим требованиям к производительности снаряда. Убедившись, что второй пловец не стоит перед горловиной, оператор включал сжатый воздух, и начиналась скачка. Труба дергалась, словно шея дикого мустанга. Мало укротить его, надо еще и накормить… Пожирая песок и ил, рукав на глазах изменял топографию дна.
Но чаще всего наконечник упирался в твердую выпуклость амфоры: ведь «курган» представлял собой сплошную глыбу керамики. Тогда мы осторожно погружали конец рукава в ил между амфорами и очищали изящные кувшины — так в руках вдохновенного мастера глина сама принимает нужную форму. Увы, эти творческие мгновения длились недолго; наконечник поминутно давился чересчур крупными кусками — то попадется большой черепок, то конкреция. Так присосет, что не оторвешь. Приходилось разбивать кусок молотком, но чаще всего мы просто выключали воздух. Перекроешь шланг — и сразу поток материала затормаживается, камешки медленно оседают вниз, рев смолкает, слышно только, как стучат, катясь обратно, черепки. Рукав смущенно рыгал, и конец его становился совсем тяжелым. Наконец «кость» выскакивала из горловины.
Раз очередная двойка поднялась на поверхность в подозрительно веселом настроении, ни дать ни взять напроказившие школьники. Сито уличило их: в нем лежали тысячи мелких черепков изделий, которые были только что разбиты. Лальман опустил руки в сито и вскрикнул — из груды черепков он извлек чудесный кампанийский кубок для вина. Хрупкое изделие все вынесло — долгое плавание, столкновение судна с островом, толчки о дно, удары падающих сверху камней и молотка подводного пловца, даже путь вверх по рукаву. Но другие кубки пали жертвой нашей неосторожности. Мы не предусмотрели, что мелкие изделия, которые проходили в горловину, были обречены на гибель в трубопроводе, и только случайно уцелевший образец открыл нам глаза. Впрочем, можно ли упрекать пловцов? Накануне, борясь с рукавом, я сам испытал глубинное опьянение.
Этот случай заставил нас пересмотреть наши планы. Мы уже знали, что придется поднять тысячи тонн отложений, но это нас не пугало — рукав работал отлично. И вот оказалось, что трубопровод сводит на нет старания аквалангистов, уничтожая, может быть, самые важные находки. Как же быть? Продолжать по-прежнему, не считаясь с потерями, лишь бы уложиться в график — или же сбавить темп, работать с предельной щепетильностью, чтобы сберечь тонкие кампанийские изделия? Мы решили не торопиться, делать дело как следует, пусть это будет сопряжено с большими расходами и продлит наши страдания. Так и сказали всем подводным пловцам.
Работа предстояла огромная, даже страшно подумать, но нас окрыляло то, что удалось выяснить уже в самом начале раскопок. Древний корабль вез амфоры двух видов. В верхнем пласте мы находили более стройные кувшины, это был палубный груз. (Сходные сосуды подняли со дна моря у Альбенги и Антеора, их Бенуа относил к «Магна Грециа», периоду греческой культуры в Италии.) На ободе длинного горлышка помещалась выдавленная в глине метка «SES» вместе с изображением трезубца или якоря.
С одной стороны судна, у самого края кургана, мы нашли второй из двух преобладавших типов — пузатые кувшины с коротким горлышком и очень красивыми ручками. Они были сделаны более искусно, обличая греческое влияние, если не происхождение. «Греческие» амфоры, видимо, стояли в трюмах под удлиненными «римскими»; они высыпались наружу, когда развалилась деревянная обшивка правого борта.
Вдоль гребня «кургана» кучками лежали мелкие предметы, которые были размещены между горлышками амфор. Перейдя на более осторожный способ сбора, мы подняли сотни изделий сорока различных видов: киликсы — кубки для питья с двойными ручками, миски и чаши разной величины, тарелки и блюда, в том числе для рыбы, с желобом посредине для соуса, флаконы для духов, горшочки для мазей и румян, чудесные миниатюрные амфоры, в которые древние собирали человеческие слезы. Вся посуда была выполнена в одном стиле, напоминающем современный лиможский обеденный сервиз. Глубже нам стали попадаться изделия с пятнами черного лака, с цветочным или лиственным узором на дне. Лальман мечтал о неповрежденной чернолаковой кампанийской посуде. Дюма намазал черной ваксой облупившуюся чашу и подбросил ему.
— Она! — восторженно вскричал ученый, схватил чашу и… испачкал руки ваксой.
Впрочем, скоро мечта Лальмана сбылась. В глубине трюма лежали тысячи блестящих чернолаковых тарелок.
На затонувшем корабле у Антеора мы находили амфоры, закупоренные вулканическим цементом — пуццоланом. У Гран-Конглуэ мы проработали довольно долго, прежде чем нам попались нераспечатанные винные кувшины. Увы, амфоры были пусты. И у каждой в горлышке просверлена дырка. Уж не моряки ли покушались на груз?
— Небось потому и ко дну пошли! — заметил Дюма.
В одном кувшине мы под пуццолановой затычкой обнаружили вторую, надежно замазанную липкой смолой, и внутри булькала жидкость… Наконец-то мы добрались до «винного слоя»!
Я даже встревожился:
— Как бы «Калипсо» не захмелела, забрав на борт тысячи галлонов вина!
В кувшине оказалось всего около квартыпрозрачной розовой жидкости.
Я не устоял, очень уж хотелось отведать двухтысячелетнего вина. Глотнув замогильного напитка, я словно вкусил возраст нашего древнего мира. Спирт давно улетучился, но соль не проникла в амфору. Один из моих товарищей спросил, глядя на мою мину:
— Что, вино плохого урожая?
На дне сосуда скопился пурпурный смолистый осадок. В древности амфоры изнутри конопатили смолой, чтобы содержимое не испарялось сквозь пористую глину. Это придавало вину смолистый привкус.
Количество поднятых нами сосудов измерялось тысячами, однако среди них не было больше ни одного с вином. Трюмы корабля были наполнены кувшинами красного вина, но море все выпило, оставило нам только одну амфору…
Давление водной толщи и всесильное время распечатали кувшины. Во многих из них мы нашли черепки и ракушки, а затем обнаружили и жильцов — скользких, блестящих осьминогов. Это они собрали ракушки и черепки, чтобы закрыть вход. Благородные сосуды стали жилыми кварталами головоногих.

Глава пятая
Порт-Калипсо

Мистрали дули все сильнее, и к концу второго месяца подводных раскопок я стал побаиваться за «Калипсо»: судно стояло у самого берега, каких-нибудь тридцать футов отделяли корму от скалы. В дополнение к трехтонной бочке установили новые швартовные тумбы из бетона. А Фалько и Давсо закрепили на каменной арке цепь; за нее тоже можно было швартоваться.
Нелепая история — мы так старались получить океанографическое судно для исследования морей, и вот теперь оно приковано к могиле древнего корабля, которая может стать могилой и для «Калипсо». Это работа для баржи. А может быть, перейти на остров? Мы решили обосноваться на этих угрюмых скалах, а «Калипсо» выпустить на волю. Устроим на Гран-Конглуэ базу для подводных археологов. Установим на скале движок, организуем пост погружения и всплытия. И чем скорее, тем лучше, не то не успеем до зимы оборудовать нашу необычную базу.
Гражданские власти Марселя, разные учреждения, клубы и фирмы и тут вызвались нам помочь. Шестеро солдат под командованием молодого офицера инженерных войск, работая по пояс в воде, за три дня поставили платформу, на которой разместились лебедка и баллоны для сжатого воздуха, заряжаемые на «Калипсо». Роже Гари раздобыл где-то восьмидесятипятифутовую мачту от парусника, и мы сделали из нее грузовую стрелу, с помощью которой опускали на дно корзину и шланг. Верхний конец трубы мы перебросили через выступ скалы; из него пульпа попадала в фильтр, а мутная вода стекала в море в стороне от раскопок.
В начале ноября неистовый мистраль запер «Калипсо» в старой гавани Марселя; скорость ветра превышала 30 метров в секунду.
Как раз в эти дни два веселых молодых крепыша — Жан-Пьер Сервенти и Раймон Кьензи — пришли к нам на борт и попросили взять их подводными пловцами. Они только что демобилизовались из военно-морских сил, а перед тем два года провели на театре военных действий в Индокитае.
— Сожалею, — ответил я, — но мы не можем вас нанять, у нас нет денег.
— Ничего, капитан, это не страшно, — сказал Сервенти. — Мы еще не истратили выходное пособие. Поработаем месяц у вас без жалованья, потом подыщем себе работу на берегу.
Я был только рад принять опытных водолазов, которые пришли в такую пору, когда у наших добровольцев-студентов кончились каникулы, а почти все деньги шли на строительство базы Порт-Калипсо. Как только унялся ветер, мы пошли к острову, захватив с собой наших новых помощников. А добравшись до Гран-Конглуэ, обнаружили, что швартовую бочку снесло на пятьсот ярдов к востоку. Без этой бочки мы не могли ничего сделать ни на берегу, ни под водой. Что за сила могла сдвинуть с места такую махину? Надо нырнуть и проверить, в чем дело.
Новым подводным пловцам не терпелось доказать свое умение, и я отправил их на катере вместе с Фалько. Мы с Саутом, не решаясь стать на якорь, держались на «Калипсо» по соседству с бочкой. Пробыв под водой полчаса, Сервенти и Кьензи поднялись и доложили, что показала разведка. Пройдя вдоль якорной цепи до дна, они обнаружили, что ее заклинило в трещине. Под напором шторма лопнуло одно звено, и половина цепи, соединенная с якорем, легла на дно, а вторую половину бочка тащила за собой, пока она не зацепилась. Друзья считали, что теперь цепь держится крепко, не сорвется. Мы пошли обратно в Марсель. За обедом мы обсуждали, как решить задачу, и частенько вспоминали «Леонора Фреснеля» с его могучей лебедкой.
— Я хорошенько рассмотрел конец цепи, — сказал Сервенти. — Он оставил глубокий след в иле на пути к камням. Мы легко найдем оторванный конец с лопнувшим звеном.
— Там трудно работать, — возразил я, — глубоко, футов двести — двести тридцать.
— Так точно, капитан, — ответил Сервенти. — Но мы можем работать поочередно. Три или четыре человека, каждый ставит указательный буек, прежде чем выходить. Я предлагаю пробковый поплавок, леску и грузило. Кончились силы — ставь буек и выходи. Следующий спустится вдоль лески и пойдет по следу дальше. Уверен, за два-три погружения мы легко найдем якорь.
Что ж, неплохо придумано.
— Ладно, — ответил я. — Если завтра погода позволит, мы попробуем.
— Я пойду первым, — сказал Сервенти.
Вечером мы приготовили несколько указательных буйков по его рецепту. На следующий день, 6 ноября, погода была сносной, и «Калипсо» пошла к Гран-Конглуэ. Саут был выходной, людей на борту не хватало, и я решил рискнуть — стать на якорь между Гран-Конглуэ и Риу. Вся команда насчитывала одиннадцать человек, из них большинство будет занято подводным поиском, маневрировать просто некому.
Я спустился в катер вместе с Ро, Фалько и новыми ребятами, которые за несколько дней успели стать полноценными членами нашей группы. Возле швартовой бочки Сервенти взял трехбаллонный акваланг, надел на руку часы и глубиномер, укрепил на поясе указательный буек.
— Не забудь, — напомнил я ему, — не больше десяти минут. Устанешь раньше — ставь буек и выходи. На глубине десяти футов — декомпрессия, три минуты.
— Есть, капитан, — ответил Сервенти.
Загубник на место, и — пошел в воду. Мелькнули и скрылись ласты; он погружался вдоль якорной цепи. Мистраль еще не совсем унялся, и море было изрыто волнами. Я стоял на носу, следя за пузырьками. Фалько — его очередь была следующей — проверил акваланг и стал рядом со мной. Мы всегда следим особенно внимательно, когда море беспокойно и грозит стереть единственный признак, по которому можно судить о положении работающего под водой пловца.
Отойдя от бочки ярдов на триста, мы начали сомневаться, не обманывают ли нас пузырьки? Крикнув сидевшему на руле Ро, чтобы он тоже смотрел, я взглянул на часы. Уже восемь минут прошло. Курс прежний, а где же ровная цепочка пузырьков? На десятой минуте у меня пересохло во рту. Еще через полминуты мне пришлось напрячь все силы, чтобы не поддаться панике. Честное слово, случилась беда! Десять минут… Я распорядился:
— Фалько, ты сам все понимаешь. Пошевеливайся, если хочешь поднять его живым.
Фалько, не говоря ни слова, ушел под воду.
Опыт подсказывал мне: нам не спасти Сервенти. Слишком глубоко он работал. Пока еще мы его найдем… Я прогнал страшные картины, которые теснились в моем мозгу; дальше я действовал автоматически.
— Ро! Пока Фалько ищет, идем скорей на «Калипсо», нужны еще люди.
Боцман примчал катер к судну, и я еще снизу крикнул Иву Жиро и Жаку Эрто, чтобы они поскорее приготовились.
Пока они надевали акваланги, я взбежал на мостик. Там меня встретила слегка побледневшая Симона.
— Только подумай, — воскликнула она, — якорь сорвался, и нас понесло на скалы. Я подоспела сюда как раз вовремя, велела пустить машину и развернуться носом против ветра.
Молодец, Симона! Я поблагодарил ее взглядом и повел «Калипсо» к тому месту, где мы оставили Фалько. Он вынырнул и, хватая ртом воздух, крикнул:
— Он без сознания. Очень глубоко. У меня кончился воздух. Быстрей! Быстрей!
— Жиро, — сказал я, — поднимай его за ноги, головой вниз, может быть, удастся так освободить ему легкие от воды.
Последняя надежда… Жиро сделал, как я сказал, мы отнесли Сервенти в рекомпрессионную камеру и стали раскачивать ее, имитируя искусственное дыхание. В Марселе нас ждал на пристани вызванный по радио грузовик; мы погрузили камеру на него и поспешили к большой рекомпрессионной камере. Здесь доктор Нивелло применил все известные способы оживления. Несколько часов мы провели в страшном напряжении; в конце концов пришлось сдаться. Кьензи, Симона и я поехали к матери Сервенти.
Вскрытие показало, что у него не выдержало сердце. Жиро нашел его на глубине двухсот двадцати футов; судя по всему, смерть застигла Сервенти в тот миг, когда он хотел укрепить свою леску с поплавком на одной из бетонных тумб, которые спустили с «Леонора Фреснеля». Его похоронили в Йере. На могиле поставили одну из амфор, поднятых у Гран-Конглуэ.
Вот и пришел конец моим подводным дерзаниям. Я был словно оглушен, говорил и действовал, как автомат. Во рту держался отвратительный вкус, который я ощутил в начале той роковой десятой минуты. Вправе ли я подвергать риску людей ради старинных сосудов? Ответ может быть только один: «Нет». Я сидел совершенно разбитый. Надо свертывать экспедицию, но меня сковала апатия. Принесли телеграмму. Я машинально развернул голубой бланк. Пришлось прочесть дважды, прежде чем до меня дошел смысл.
РАЗДЕЛЯЮ ВАШУ СКОРБЬ ПО ПОВОДУ ГИБЕЛИ СЕРВЕНТИ ПРОШУ ПОЗВОЛИТЬ МНЕ ЗАМЕНИТЬ ЕГО ДЛЯ ПРОДОЛЖЕНИЯ ВАШИХ РАБОТ — БЕССОНЯ передал телеграмму Симоне. Никто из нас не сказал ни слова. Слова были излишни. Мы знали: будем продолжать. Я отправил телеграмму Анри Бессону, прося его немедленно выехать. Он уже работал у Гран-Конглуэ по выходным дням и показал себя отличным подводным пловцом. У Бессона как раз начался месячный отпуск, когда до него дошла весть о гибели Сервенти, и этот мужественный человек немедленно предложил нам свою помощь. Его смелое решение спасло Океанографические экспедиции «Калипсо». На следующее утро «Леонор Фреснель» и «Калипсо» пошли к острову, чтобы воссоединить швартовую бочку с якорем. Протащив по дну острую кошку, мы поймали обрывок цепи. Он лежал на глубине двести сорок футов. Вода была холодная, и я надел гидрокостюм, который хоть и ограничивает подвижность пловца, но зато помогает сохранить тепло. Захватив с «Фреснеля» линь, я пошел вниз вдоль троса, на котором была укреплена кошка. Главное, не спешить и не перенапрягаться, помнить о глубине… На полпути вниз несильное течение натянуло мой линь, и на глубине двухсот футов пришлось сильно дергать его, чтобы можно было продолжать погружение. Что-то они там, наверху, слишком медленно вытравливают. Вот она, якорная цепь, футах в ста от меня. Я пошел туда, подтягивая линь. На душе стало легко: должно быть, сказывалось глубинное опьянение. Как ни старался я идти медленно, размеренно, дышать глубоко, энергия падала. А ведь я должен ее беречь… Сердце билось неровно, перед глазами мелькали картины: улыбающийся Сервенти, мертвый Сервенти. Я достиг цепи где-то посредине. От усталости ноги не слушались меня, и дальше я двигался, подтягиваясь руками. Задолго до цели силы иссякли. Я тщательно привязал линь за цепь, зажал рукой клапан выдоха в шлеме, напустил воздуха в костюм и пошел вверх, не чувствуя рук и ног. Выйдя из зоны глубинного опьянения, я с радостью подумал, что задача выполнена. В пятидесяти пяти футах от поверхности я отпустил клапан выдоха и восстановил нулевую плавучесть. Дальше надо всплывать не спеша, чтобы не проскочить декомпрессионную метку на глубине десяти футов. Выждав десять минут, я поднялся к поверхности. С борта «Фреснеля» на меня смотрел капитан Жан Жере. — Мы выбрали твой линь, — сказал он, — но цепи не было, ничего не подняли. Из последних сил я вскарабкался на «Калипсо». — Честное слово, — заверил я Фалько, — узел был вполне надежный. Передай на «Фреснель», что я отдохну три часа, освобожусь от азота и снова пойду вниз. Войдя в свою каюту, я повалился на койку. Симона орудовала утюгом. Она не стала задавать мне никаких вопросов, и я был ей благодарен за это. В полудреме я ворочался с боку на бок, пока не подошло время снова посыпаться тальком и влезть в гидрокостюм. На этот раз я не стал тянуть линь сверху, а взял с собой бухту троса, триста футов. Привяжу за цепь и подам конец наверх. Теперь под водой было еще хуже; примерно на полпути я попал в сильное мутное течение. До цепи я добрался в состоянии экстаза и предельной усталости. Но у меня еще хватило злости сделать тройной узел и хорошенько подергать его для проверки. Кто-то прошептал: «Ты говорил, что не стоит рисковать жизнью ради старинного сосуда. А сам, мой милый, рискуешь из-за какого-то дрянного якоря!» Я поддул воздуха в костюм и взлетел. «Леонор Фреснель» вытащил якорную цепь и поставил на место швартовую бочку. Калипсяне воспрянули духом. Пока я отдыхал, ко мне подошли Давсо и Бессон: им не терпелось совершить настоящее, хорошее погружение.
Весь декабрь вокруг острова бушевали штормы. Однажды ночью волны ворвались на платформу и смыли лебедку и стойку с воздушными баллонами. Борясь с прибоем, наши люди отстояли грузовую стрелу и рукав. А когда утихомирилось море, они подняли со дна лебедку и баллоны. Но хотя мы очень быстро залечивали раны, впредь нельзя было допускать таких перебоев. Мы построили более крепкую платформу подальше от воды, механизмы убрали в будку и укрепили на скале стальной трап, по которому можно было подняться на уступ в пятидесяти футах над морем. На этом уступе возник самый молодой поселок Франции — Порт-Калипсо. В Марселе нам удалось найти насколько списанных железных бараков, оставленных еще американцами после войны; с помощью военных инженеров мы сделали из этого материала дом, который выкрасили в желтый цвет. В этом доме разместилось пять коек и кухня-столовая с газовым холодильником. Благодаря заботам опекавшей нас Марсельской торговой палаты, у жителей острова была бесплатная радиотелефонная связь с Большой землей. Островитяне соорудили каменную террасу и украсили ее амфорами. Они составили ежедневное расписание и всю зиму ныряли. Наконец-то «Калипсо» освободилась от опасной связи с древним кораблем. Катера маячной службы забрасывали продукты и снаряжение в Порт-Калипсо, забирали оттуда археологический материал и время от времени привозили новую смену водолазов. В шторм, глядя сверху, как о скалу разбиваются двадцатифутовые валы, калипсяне представляли себе, каково было команде древнего амфоровоза, когда он врезался в Гран-Конглуэ… — Они были обречены с первой минуты, — говорили наши ребята. — На берег здесь не выбраться. В заключение первого года раскопок «Калипсо» приготовилась везти на остров мощный компрессор, который должны были установить в машинной будке, чтобы подводные пловцы могли обслуживать рукав без посторонней помощи. Только мы хотели выйти из Марселя, как новый шторм запер «Калипсо» в гавани. В сочельник мы устроили на борту праздничный ужин для команды и нескольких верных друзей, в числе которых был Ив Жиро. В полночь Давсо выглянул на палубу и сообщил: — Смотрите-ка, ветер стих. Не успел я и рта раскрыть, как Жиро воскликнул: — Теперь я знаю, зачем ты нас пригласил! — Он показал на тяжелый компрессор. — Тебе понадобилась даровая рабочая сила. Раздался дружный стон. Мы пошли к Гран-Конглуэ, и уже через час участники рождественского пира собрались в свете прожекторов на кормовой палубе для схватки с компрессором. С палубы он перекочевал на скальную полку, оттуда его на следующий день подняли лебедкой в будку. В канун Нового года я предложил островитянам отвезти их на Большую землю. Они ответили контрпредложением: привезти к ним в Порт-Калипсо родителей и невест! В украшенный цветами домик втиснулось двадцать человек. В самый разгар праздника Пьер Лабан воскликнул: — Нырнем, поднимем первую амфору тысяча девятьсот пятьдесят третьего года! Он и Кьензи надели гидрокостюмы и ровно в полночь нырнули в студеную воду. Сквозь черную толщу едва пробивался зеленоватый свет их фонариков. Приветствуемые тостами и возгласами одобрения, друзья подняли отличную амфору. …Когда мы пробились ко второму ярусу палубного груза, он оказался очень плотно сбитым, и работа сразу замедлилась. Корабль лежал с креном на левый борт, и здесь амфоры особенно крепко держали друг друга. Пришлось нам с другого конца пробиваться к затору в средней части судна. Мы сосредоточили все усилия на корме, которая лежала выше. В несколько дней углубились в трюм и подняли три слоя амфор. А под ними рукав вдруг открыл главную палубу «виновоза». И мы увидели доски, по которым ступали древние моряки… Хотя древесина размокла, она сохранила свою структуру. Радость нашего открытия умерялась сознанием того, что под палубой нас ждет главный трюм, где, наверное, амфор гораздо больше, чем уже поднято. В правой части главной палубы мы обнаружили листы свинца; до сих пор нам попадались только искореженные клочья. Видимо, обшивку сорвало, когда тонущий корабль скреб корпусом скалу. Медные заклепки были одеты свинцом — наши предки знали, как предотвратить коррозию, которая возникает, когда разные металлы соприкасаются в соленой воде. Возможно, судостроители не умели объяснить гальванический эффект, но они успешно боролись с ним. Мы подсчитали, что всего на обшивку пошло около двадцати тонн свинцового листа. Все новые находки прибавляли нам сведений о древних мореходах. Мы подняли тяжелую мраморную ступу, длинный брус грифеля, толстую плиту из обожженной глины, весельный противовес, небольшую печь, железный топор, очень прочную посуду, не похожую на черные кампанейские изделия. Значит, мы верно определили, где кормовая часть судна: моряки той поры стряпали и ели на корме. Здесь же мы нашли кружку, на которой корявыми буквами было начертано по-гречески: «Ваше здоровье». Рукав извлек на поверхность множество гладких вулканических камешков черного цвета величиной с горошину. Их никак нельзя было назвать характерными для грунта в этом районе. Следовательно, камешки попали сюда с кораблем. Может быть, они служили балластом? Или это остатки груза, который перевозился раньше, скажем, каких-нибудь мозаичных панно? А Лальман нетерпеливо ждал, когда рукав доставит на палубу монеты. И подскочил от радости, увидев их!.. Но они оказались современными, это Жиро, работая внизу, решил подшутить над ним. Старинных монет мы не нашли ни одной. Однажды наш судовой врач Нивелло, передав рукав сменщику, медленно поплыл вверх мимо великолепных красных горгонарий. В шестидесяти пяти футах от поверхности он увидел узкий карниз, на который раньше никто из нас как-то не обращал внимания. Здесь, прямо под нашей машинной будкой, лежал свинцовый якорный шток древнего корабля, окрашенный крохотными организмами в ярко-красный цвет. Видно, якорь зацепился тут, а когда корабль пошел ко дну, канат оборвался. Шток лежал как раз над носом погибшего амфоровоза. Позднее мы среди амфор возле носа нашли шток второго якоря. Судя по положению якорей, они в минуту катастрофы находились на носу корабля. Крушение произошло так неожиданно, что моряки уже ничего не могли сделать. Деревянные части якорей давно истлели, но мы знаем, как выглядел древний средиземноморский якорь, по убедительным реконструкциям, созданным итальянскими и французскими археологами. Веретено и лапы делали из твердой древесины, шток — из свинца, свинцовыми были и скобы, которыми лапы крепились к веретену. У тогдашних якорей, в отличие от современных, самой тяжелой была верхняя часть. Это и понятно, ведь у древних моряков не было якорных цепей, они пользовались канатами, и если бы не груз, сильный ветер срывал бы корабль с якоря. Разглядывая деревянные части корабля, мы восхищались искусством судостроителей. Для разных частей они применяли разную древесину; даже сложные соединения делали из дерева. На обшивку, настил, мачты, кили, шпангоуты, кницы, шпоны шла сосна, ливанский кедр, дуб. Другие виды пока не удалось опознать, потому что древесина разрушена влагой и червями. Даже сохранное на вид дерево стало настолько рыхлым, что на воздухе оно высыхало и крошилось. Но нам удалось придумать, как законсервировать секции корпуса. С приходом весны нашим островком завладели дикие цветы, птенцы чаек и восторженные молодые люди. Северная оконечность Гран-Конглуэ, где трудились подводные пловцы, всю зиму закрыта от солнца высокой кручей. Теперь солнечные лучи ворвались в Порт-Калипсо, озаряя белые утесы и желтоватые маки; на теплых камнях грелись ящерицы. И мы устроили весенний праздник. Стол на террасе был накрыт кампанийским сервизом, а водолазы облачились в хитоны. Это было задумано как трюк для фотографов, а вылилось во встречу с далеким прошлым. Весело чокаясь, мы чувствовали, что товар все-таки прибыл по назначению, это в самом деле посуда, а не музейные экспонаты. Части сервиза как бы сами поведали о своем назначении. Кто-то наполнил зелеными маслинами небольшую чашу, которая оставалась загадкой для знатоков. И тотчас стало ясно: конечно же это миска для маслин! А как великолепно выглядели на черных блюдах мясо, салат и фрукты!.. Наш никогда не унывающий фотограф Жак Эрто попросил разрешения сыграть в Порт-Калипсо свадьбу со своей невестой Мари-Жанной Эрцог, сестрой знаменитого альпиниста. Мне было очень приятно, что в нашем юном поселке состоится столь важный гражданский акт, и я доставил туда участников торжества на «Калипсо». Правда, водолазный трап не очень подходил для дам в длинных платьях и туфлях на высоких каблуках. А кроме него был еще только один путь: крутая расщелина в западной части острова. Островитяне втиснулись в этот желоб и втащили гостей наверх. Морис Эрцог, которому штурм Аннапурны стоил нескольких пальцев на руках и ногах, отказался от помощи и взбежал вверх по расщелине, точно серна. За ним, подобрав полы сутаны и явив всему свету голубые шорты, поднялся приглашенный для венчания священник. Роль чаши для причастия играл поднятый со дна моря черный киликс; его держал аквалангист Анри Гуара, которого попросили быть служкой. В руках у невесты был букет скромных местных цветочков. После венчания Мари-Жанна неожиданно подошла к обрыву и бросила свадебный букет в лазурные волны. Пятнадцатого мая 1953 года мы добрались до киля погибшего корабля. Он был сборный, из дубовых брусьев сечением двадцать на тридцать дюймов. А рукав продолжал добывать все новую информацию. Мы смогли даже примерно восстановить маршрут судна. В трюме стояли амфоры с острова Делос — видимо, корабль вышел оттуда. Палубный груз составляли римские амфоры и италийские гончарные изделия — значит, судно заходило в кампанийский порт. А целью плавания скорее всего был Марсель — в ту пору цветущая греческая колония Массалия, ворота, через которые эллинская культура и торговля вверх по Роне проникали в дикие дебри Галлии и Германии. Посуда, которую мы теперь поднимали, выделялась, по мнению археологов, своим единообразием. Так, на двенадцати чашах одного вида они нашли совершенно одинаковые круговые вмятины, которые не могли быть оставлены рукой гончара. Видно, на гончарном круге была установлена деревянная форма; за два столетия до нашей эры уже существовало массовое производство. Профессор Бенуа не был аквалангистом и не мог лично наблюдать за самыми важными раскопками в своей жизни. Центр подводных изысканий выручил его, призвав на помощь телевидение. Мы использовали телекамеру с высокой разрешающей способностью и линзой, которая рассчитана для работы под водой. На «Калипсо» изображение передавалось по коаксиальному кабелю. Искусственное освещение обеспечивали два рефлектора на одном кронштейне с лампами на шесть тысяч ватт, работающими с перекалом. Операторы подошли с аппаратурой вплотную к месту раскопок, и отряд Бенуа, удобно сидя в затемненной каюте «Калипсо», увидел древний корабль. Втайне от операторов инженер Анри Шиньяр вмонтировал в кожух телекамеры динамик. Только Жан Дельма взялся за ручки, вдруг под водой раздался голос Шиньяра: — Дельма! Дай резкость. Жан чуть не уронил камеру от испуга. Подаваемые сверху команды звучали, здесь, словно глас самого Посейдона. Дельма помог решить вопрос, которой горячо обсуждался во время наших обеденных дискуссий. Археологи соглашались, что корпус корабля был обшит свинцовым листом, но никак не хотели поверить подводным пловцам, будто подволоки тоже были защищены свинцом. Телекамера подтвердила правоту подводников. Профессору Бенуа не давало покоя клеймо «SES», выдавленное на краю многих сосудов. Что оно означает? Клеймо принадлежало владельцу, это очевидно, но кто такой этот Сес? Греки и римляне любили сокращения, вот почему профессор решил, что это первые буквы какой-то фамилии. Он обрыскал множество музеев и библиотек, изучая античные генеалогии и надписи на памятниках. И вот однажды профессор приехал к нам и, широко улыбаясь, сообщил мне: — Владельца корабля звали Маркос Сестиос. Он жил на Делосе. Поразительное решение сухопутной части нашей детективной загадки! Бенуа удалось разыскать записи о видном римском роде Сестиев, среди которых особенно выделялся богатый торговец и судовладелец по имени Марк. По сведениям римского историка Тита Ливия, Марк Сестий жил во второй половине третьего века до нашей эры — в тот самый период, к которому мы отнесли найденное нами судно. Ливий сообщал, что Сестий обосновался на греческом острове Делос и там, в священном городе, учредил транспортную контору. Профессор Бенуа видел также текст найденной на Делосе надписи, которая датировалась 240 годом до нашей эры и гласила, что Марк Сестий получил делосское гражданство (изополитена) и стал писать свое имя — Маркос Сестиос[8]. На втором году раскопок летом «Калипсо» прошла мимо Гран-Конглуэ и приветствовала подводных пловцов сиреной. Они ответили сигналом горна. «Калипсо» направлялась на греческие острова, в порт, где некогда жил Сестиос. Ясным теплым утром мы пришли на Делос и, обнаружив, что вход в гавань прегражден наносами, бросили якорь в открытом море. В первом веке до нашей эры Делос был захвачен Митридатом Евпатором, и с тех пор город не восстанавливался. Некогда здесь среди мраморных колонн и зеленых кущ чинно ступали паломники, прибывшие поклониться Аполлону. Теперь мы шли среди развалин и колючек, по жухлой траве, под жарким кобальтовым небом. Тут и там на желтых, безлесных склонах святой горы Кинт, которую в прошлом венчал храм Аполлона, виднелись обломки колонн и скульптур. Тридцать пять человек — все нынешнее население Делоса — работали на раскопках, которые ведут здесь сотрудники афинской Французской школы. Молодой начальник экспедиции, Жан Маркаде, предложил нам взглянуть на его коллекцию, — может быть, мы найдем еще что-нибудь о Маркосе Сестиосе? Вдоль стен дома, где хранились экспонаты, стояли точно такие же амфоры, какие мы находили под водой. Но ни на них, ни на тысячах черепков в коллекции не было надписей, которые указывали бы на Сестиоса. Он упоминался только в каменном «паспорте», уже известном Бенуа. Маркаде провел нас в римские торговые кварталы, где жил наш судовладелец. Несколько домов были раскопаны полностью, даже мозаичные полы расчищены. В просторной вилле мы увидели на мозаике морские волны и амфору. Вдруг Роберт Эджертон, юный американец, который участвовал в нашем плавании, воскликнул: — Смотрите сюда! Узор изображал дельфина, переплетенного с якорем, очертания которого напоминали клеймо «SES». — И сюда! А здесь — трезубец, похожий на «вилку» с наших сосудов. Даген что-то нарисовал на бумаге и протянул листок мне. Два рисунка… На первом — трезубец, схожий с римской буквой «Е», и между зубцами две закорючки в виде латинской «S». На втором рисунке закорючки были вынесены по обе стороны трезубца. Получилось «SES».
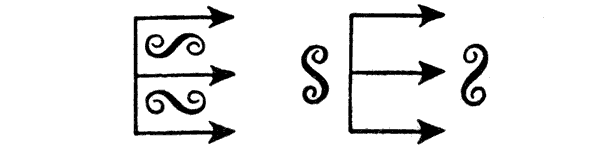 В пыли возле виллы я поддел ногой черные вулканические камешки — такие же, какие наш землесос поднял со дна моря у Гран-Конглуэ. Однако Маркаде лишь снисходительно улыбался нашим восторгам.
— У нас нет никаких доказательств, что это вилла Сестиоса, — сказал археолог. — Больше того, все говорит о том, что дом не был достроен.
— Может быть, Сестиос прогорел, когда потерял свой самый большой корабль, — возразил я.
Ученый скептик усмехнулся и пригласил нас к себе выпить чего-нибудь холодного.
Но что бы там ни говорила наука, кое-кто из нас покидал священный остров с твердым убеждением, что виденный нами дом так же несомненно принадлежал Сестиосу, как и затонувший корабль.
За пять лет упорного труда обитатели Порт-Калипсо подняли больше семи тысяч амфор и столько же иных гончарных изделий. Вместе с другими находками — части корпуса, рабочий инструмент, различные приспособления, свинцовая обшивка — все это весило около двухсот тонн.
Через десять лет после начала нашего археологического приключения профессор Бенуа издал толстый, щедро иллюстрированный научный отчет о работах у Гран-Конглуэ. Я просмотрел эту книгу в своей каюте, когда мы занимались биологическими исследованиями у восточных берегов Южной Америки. Все кубки и амфоры измерены, зарисованы, классифицированы; изучена структура древесины, изложены замысловатые теории; отчет о подводных работах изобилует ссылками на раскопки, произведенные на суше. Я был разочарован. В книге ничего не сказано о жизни, труде и гибели команды корабля Маркоса Сестиоса! Автор не сумел перебросить мост через века, соединить древних моряков с калипсянами.
Я закрыл глаза, и в мозгу стали возникать картины…
Беснуется мистраль, Средиземное море кипит… Невдалеке от Массалии терпит бедствие неуклюжий, пузатый парусник. Моряки с бессильным ужасом смотрят на маячащий среди бурных волн белый островок. Удар!.. Вдоль подводной стены, обросшей яркими, пышными горгонариями, корабль погружается в зеленую толщу, медленно поворачиваясь и кроша надстройку о скалу. И ложится на пологий склон в основании острова. Правый носовой якорь остался на карнизе над кораблем. Нос смотрит в сторону священного острова Делос, смятая корма зажата в расщелине. Часть палубного груза при толчке разбилась, и судно обволакивает пурпурное облако вина.
Корабль лег ниже зоны, куда проникали волны, и его частично защищали скалы, поэтому он не был окончательно разрушен. Черви точили деревянные части, свинцовая обшивка постепенно отставала. На судне поселились губки, водоросли, асцидии и морские ежи. Сидячие формы привлекли рыб. Приползли осьминоги, чтобы занять под жилье пустые амфоры.
Веками на корабль падал непрерывный дождь осадков — намолотого прибоем песка и смытой с острова почвы. В каждую щель проникали центурии окаменевших диатомей. Постепенно море поглощало произведение человеческих рук. Палуба не выдержала веса тяжелых «сугробов» и обрушилась на трюмный груз. Левый борт открылся, словно створка раковины, и по каменистому склону вниз покатились сосуды. А сверху мистраль сбрасывал огромные камни на «виновоз».
Еще несколько столетий, и на дне не осталось бы никаких видимых следов трагедии. Но тут появился искатель омаров Христианини, а затем пришла «Калипсо» и дала времени задний ход.
Теперь и корабль Маркоса Сестиоса, и Порт-Калипсо исчезли. Пустынные скалы снова стали вотчиной чаек. Если вы рискнете подойти к Гран-Конглуэ, то не найдете следов человека; разве что увидите ржавый трап на отвесном восточном мысу и рядом с ним — пластину с именем Жан-Пьера Сервенти.
В пыли возле виллы я поддел ногой черные вулканические камешки — такие же, какие наш землесос поднял со дна моря у Гран-Конглуэ. Однако Маркаде лишь снисходительно улыбался нашим восторгам.
— У нас нет никаких доказательств, что это вилла Сестиоса, — сказал археолог. — Больше того, все говорит о том, что дом не был достроен.
— Может быть, Сестиос прогорел, когда потерял свой самый большой корабль, — возразил я.
Ученый скептик усмехнулся и пригласил нас к себе выпить чего-нибудь холодного.
Но что бы там ни говорила наука, кое-кто из нас покидал священный остров с твердым убеждением, что виденный нами дом так же несомненно принадлежал Сестиосу, как и затонувший корабль.
За пять лет упорного труда обитатели Порт-Калипсо подняли больше семи тысяч амфор и столько же иных гончарных изделий. Вместе с другими находками — части корпуса, рабочий инструмент, различные приспособления, свинцовая обшивка — все это весило около двухсот тонн.
Через десять лет после начала нашего археологического приключения профессор Бенуа издал толстый, щедро иллюстрированный научный отчет о работах у Гран-Конглуэ. Я просмотрел эту книгу в своей каюте, когда мы занимались биологическими исследованиями у восточных берегов Южной Америки. Все кубки и амфоры измерены, зарисованы, классифицированы; изучена структура древесины, изложены замысловатые теории; отчет о подводных работах изобилует ссылками на раскопки, произведенные на суше. Я был разочарован. В книге ничего не сказано о жизни, труде и гибели команды корабля Маркоса Сестиоса! Автор не сумел перебросить мост через века, соединить древних моряков с калипсянами.
Я закрыл глаза, и в мозгу стали возникать картины…
Беснуется мистраль, Средиземное море кипит… Невдалеке от Массалии терпит бедствие неуклюжий, пузатый парусник. Моряки с бессильным ужасом смотрят на маячащий среди бурных волн белый островок. Удар!.. Вдоль подводной стены, обросшей яркими, пышными горгонариями, корабль погружается в зеленую толщу, медленно поворачиваясь и кроша надстройку о скалу. И ложится на пологий склон в основании острова. Правый носовой якорь остался на карнизе над кораблем. Нос смотрит в сторону священного острова Делос, смятая корма зажата в расщелине. Часть палубного груза при толчке разбилась, и судно обволакивает пурпурное облако вина.
Корабль лег ниже зоны, куда проникали волны, и его частично защищали скалы, поэтому он не был окончательно разрушен. Черви точили деревянные части, свинцовая обшивка постепенно отставала. На судне поселились губки, водоросли, асцидии и морские ежи. Сидячие формы привлекли рыб. Приползли осьминоги, чтобы занять под жилье пустые амфоры.
Веками на корабль падал непрерывный дождь осадков — намолотого прибоем песка и смытой с острова почвы. В каждую щель проникали центурии окаменевших диатомей. Постепенно море поглощало произведение человеческих рук. Палуба не выдержала веса тяжелых «сугробов» и обрушилась на трюмный груз. Левый борт открылся, словно створка раковины, и по каменистому склону вниз покатились сосуды. А сверху мистраль сбрасывал огромные камни на «виновоз».
Еще несколько столетий, и на дне не осталось бы никаких видимых следов трагедии. Но тут появился искатель омаров Христианини, а затем пришла «Калипсо» и дала времени задний ход.
Теперь и корабль Маркоса Сестиоса, и Порт-Калипсо исчезли. Пустынные скалы снова стали вотчиной чаек. Если вы рискнете подойти к Гран-Конглуэ, то не найдете следов человека; разве что увидите ржавый трап на отвесном восточном мысу и рядом с ним — пластину с именем Жан-Пьера Сервенти.

Глава шестая
«Тистлгорм»

Дождь поливал Порт-Калипсо. Мы проводили лето, а с ним и наших добровольцев. С каждым днем солнце чертило все более низкие дуги. Скоро тень совсем завладеет нашей стороной острова. В желтом железном домике Жан Дельма, Анри Гуара и Раймон Кьензи — ядро отряда подводных археологов — за обедом говорили о предстоящей зиме. Они были твердо намерены нырять во все дни, когда позволит мистраль. Календарь показывал 29 сентября 1953 года, приближались осенние штормы.
Через несколько недель «Калипсо» уйдет в порт готовиться на верфи к зимним плаваниям. Тогда подводные пловцы окажутся почти отрезанными от мира; только радио да вспомогательные суда будут нарушать их уединение. Убирая со стола, друзья обсуждали, как быть, если кто-нибудь из них будет серьезно ранен, а шторм не позволит судам выходить из Марселя. Дельма принялся мыть посуду. Коком в тот день был Кьензи; теперь он закурил трубку и стал бренчать на гитаре. Гуара выглянул в окошко и сказал:
— Дождь кончился.
Они вышли на площадку. Вдоль багровой полосы заката над Марсельвейром громоздились черные тучи, суля сильный ветер. Друзья с легким содроганием подумали о предстоящих месяцах. Вернулись в дом, взяли с полок по книге и легли, сберегая калории. Почитать, а потом вздремнуть хорошенько в каменной тиши…
По железной крыше забарабанил дождь.
— Послушайте, — сказал Кьензи, — кто-то кричит!
Они сели; откуда-то доносились голоса. Они схватили фонарики и выскочили под грозу. Крики доносились снизу, от подножия скалы. Друзья посветили туда и увидели шлюпку, а в ней двух моряков, которые кричали что-то по-итальянски. Дельма знаками показал им, чтобы они подошли к грузовой стреле. Гуара выбежал на самый конец стрелы и принял с лодки конец. Наши ребята помогли итальянцам подняться по трапу к домику, дали им сухую одежду, угостили бренди. Мешая французские и итальянские слова, моряки рассказали, что случилось.
Они были с теплохода «Донательо Д» из Реджио, который вечером вышел из Марселя и заблудился в плотной завесе дождя. Судно наскочило на «старшего брата» Гран-Конглуэ — остров Риу. Команда сошла на пустынный берег, а эти двое вызвались идти за помощью. И увидели огонек в окне Порт-Калипсо.
Дельма слушал их, сердито сверкая глазами.
— Ничуть не переменились, — сказал он, грозя кулаком Гран-Конглуэ и Риу. — У, стервы одноглазые! Погубили корабль Сестиоса и теперь суда губите.
Итальянцы не могли понять, над чем эти французы так смеются. Дельма попробовал вызвать Марсель, но шторм нарушил радиосвязь. Он предложил незадачливым морякам занять свободные койки, а сам не отходил от передатчика, пока эфир не очистился.
Под утро один марсельский радиотелеграфист принял его сообщение и передал на «Калипсо». Саут тотчас вышел в море. В нескольких милях от Риу калипсяне ощутили запах скипидара и вскоре подошли к «Донательо Д». Корма теплохода зацепилась на камнях, а нос погрузился в воду. Десять минут спустя стальной корпус «Донательо Д» заскрипел, застонал, судно опрокинулось на левый борт и отправилось вниз, к «виновозу». Один вельбот сорвался и попал под обстрел всплывающих обломков. Дождь прекратился, и на поверхности моря расплылись радужные разводы нефти, качались тюки хлопка, бочки со скипидаром, куски воска, подстилка для груза…
Как всегда, после ливня подул мистраль. На гребне Риу капитан Саут увидел людей, которые размахивали рубашками. Лавируя между обломками, он подвел «Калипсо» к берегу с другой стороны острова, спустил на воду катер и забрал команду «Донательо Д». Расстроенному капитану он отвел свою собственную каюту, а на острове оставил вооруженного винтовкой Гуара, чтобы тот стерег всплывшее имущество, пока не прибудет береговая охрана.
На следующее утро ветер стих, и Фалько вышел на своем барке «Ху-Хуп» проведать сторожа. Гуара продолжал восседать на престоле короля Риу. Они надели акваланги и ушли под воду, предвкушая первую в своей жизни встречу с только что затонувшим кораблем. Подводные пловцы нашли «Донательо Д» на глубине семидесяти пяти футов; судно лежало на левом боку. В смятении смотрели они на сияющий свежей краской новехонький корабль. Если бы не крен, можно подумать, что судно стоит в сухом доке, а не лежит на дне морском.
Обычно вид затонувшего корабля настраивает на грустный, задумчивый лад; этот потрясал своим сходством с мертвым телом. Он еще не слился с морем. В отсеках «Донательо Д» оставался воздух, и судно покачивалось, скрипя и постанывая, словно оплакивая свою судьбину. Фалько заплыл на мостик через открытую правую дверь. Гуара подошел снаружи к окну и увидел своего товарища за штурвалом корабля, которому не суждено было больше бороздить океаны. Гуара снял судовой колокол. Фалько проник в каюту капитана… и вздрогнул, увидев самого себя во весь рост в высоком зеркале. Затем подводные пловцы покинули «Донательо Д», чтобы больше никогда не возвращаться на него.
Разделенный несколькими сотнями ярдов и двумя тысячелетиями, здесь лежал самый древний и самый новый из виденных ими погибших кораблей.
В тот летний день 1956 года, когда «Андреа Дориа» пошел ко дну у Нантакета после столкновения со «Стокгольмом», я был за тысячи миль оттуда, в экваториальной части Атлантики. Знай я, что два калипсянина, Луи Маль и Джеймс Даген, задумали киноэкспедицию для съемок затонувшего лайнера, я охладил бы их пыл. Слишком опасно с импровизированным снаряжением во время осенних штормов погружаться в открытом море на глубину 160 футов — и слишком мало надежд на успех.
Даген зафрахтовал небольшой водолазный бот «Сэмюэль Джемисон», принадлежащий Джону Лайту, и Фредерик Дюма вылетел в США, чтобы возглавить отряд подводных пловцов. Скверная погода на шесть недель задержала в порту «Джемисон». Когда калипсяне наконец вышли в море, они приготовились к тому, что искать придется не один день. На их счастье, море было как зеркало, и Дюма повел бот вдоль извилистой дорожки, которую начертила на поверхности нефть, сочившаяся из «Андреа Дориа». Уже под вечер Дюма зацепил кошкой затонувший корабль.
До темноты оставалось время лишь для одного разведочного погружения. Маль зарядил камеру высокочувствительной черно-белой пленкой и вместе с Дюма пошел вдоль линя вниз. Надо было заранее определить экспозицию на предстоящие четыре съемочных дня. Они достигли сверкающего белизной правого борта лайнера, радуясь удивительной прозрачности воды. Маль навел камеру на Дюма, и тот проплыл над верхней палубой, мимо пустых давитов, потом подобрал на палубе пепельницу. После этого они вернулись на бот. Пока Маль проявлял пленку, Дюма рассказывал:
— Там голова совсем не варит от глубинного опьянения. Соображаешь ровно столько, сколько нужно, чтобы не утонуть. Глубина больше, чем кажется по эхограмме.
Маль вышел из фотокабины ликующий: кадры получились отличные.
Как только стемнело, «Сэмюэль Джемисон» вывесил сигнальные огни — ведь они стояли на одном из самых оживленных фарватеров мира. Якорную цепь нарастили пеньковым канатом и приготовили топор: если какое-нибудь судно пойдет прямо на «Джемисона», можно перерубить канат и отойти. А среди ночи внезапно разыгрался шторм, пришлось и в самом деле рубить якорь и возвращаться в Нантакет.
Шесть дней штормило; за это время истек срок фрахта «Сэмюэля Джемисона». Владелец не мог продлить его, он уже обещал бот другому клиенту. Тогда Даген одолжил у одного огайского банкира двухмоторный спортивный катер. Эхолот катера не работал. Подойдя к месту гибели корабля, они обнаружили, что буй снесло ветром. Дюма присмотрелся к нефтяным разводам, сплюнул в воду маслину из коктейля и сказал:
— Здесь.
И зацепил «Андреа Дориа» второй кошкой.
Но если первый раз вода была на диво прозрачной, то теперь Дюма и Маль увидели, что корабль словно обволакивается густым черным кофе. Пробиваясь сквозь темную жижу, они попали в сильное течение, которое чуть не оторвало их от линя. Там, где их должен был встретить белый борт «Андреа Дориа», они ничего не нашли. Может быть, из-за шторма судно сдвинулось или провалился борт? Оттого и эта бурая муть… Продолжая погружаться, Дюма вошел в зону глубинного опьянения.
Двести пятнадцать футов. Дюма остановился. Прямо под ним в мутной воде медленно извивался огромный хвостовой плавник. Кит или гигантская акула? Он потрогал плавник ногой. Это была бронзовая лопасть винта, от нее во все стороны расплывалась муть. Они очутились под кормой «Андреа Дориа».
Винт был опутан тросами. Друзья еще не совсем утратили способность соображать и поняли, что здесь недолго и самим запутаться. Снимать в такой тьме было невозможно. Они пошли наверх. Любитель экспериментов Дюма достал пакет, призванный, по замыслу изготовителей, увеличивать плавучесть аквалангиста и ускорять всплытие. Он дернул рычажок, чтобы пакет наполнился углекислотой, но «спасательный пузырь» не хотел надуваться. Наружное давление было слишком велико. Лишь когда Дюма поднялся выше, пакет раздулся.
Взобравшись на катер, Маль сорвал с головы резиновый шлем, и все ахнули — на щеке у него запеклась кровь. Барабанная перепонка не выдержала большой глубины. Так кончилась «Экспедиция Дориа». Результат — подводный фильм на восемнадцать секунд.
Дюма подвел итог:
— Теперь «Дориа» прочно принадлежит морю. Это уже самый настоящий затонувший корабль, первый слой водорослей затянул краску. Его никогда не поднимут. И вряд ли подводным пловцам удастся проникнуть в самые важные помещения — канцелярию начальника интендантской службы и банк первого класса. Они находятся с правого борта, возле большой пробоины, и прижаты ко дну.
Нантакетские отмели — знаменитая могила кораблей. А в древности такую же роль, несомненно, играли воды между островами Греции и Турции, где проходили торговые пути и разыгрывались морские бои. И летом 1953 года «Калипсо» отправилась на археологическую разведку в Эгейское море. К юго-западу от острова Занте в Ионическом море наш эхолот нащупал впадину глубиной 13 тысяч футов. Чтобы нанести впадину на карту, нужно было взять пеленг, и мы пошли к южному мысу Занте, где обозначен маяк. Мыс нашли, а маяка не было. — По карте все правильно, — сказал я Сауту. — Засеки мыс, и пойдем обратно к впадине. Проработав в море два дня, мы подошли к острову Антикитира, чтобы начать наши археологические изыскания. Здесь мы узнали, что на Занте было землетрясение и маяк обрушился за несколько часов до прихода «Калипсо». Увлеченные морскими делами, мы иногда пропускаем важные события на суше. Антикитира — засушливый, бесплодный островок, примечательный только тем, что он был колыбелью подводной археологии. В 1901 году греческие военные моряки и ловцы губок подняли здесь со дна моря бронзовые и мраморные скульптуры, затонувшие около восьмидесятого года до нашей эры вместе с римским кораблем, который увозил награбленное добро из Греции. Корабль лежал под утесом в удивительно прозрачной воде — такой мы еще никогда не видели в Средиземном море. Через стекло маски сверху было отчетливо видно аквалангистов, которые ползали, словно жуки, по дну на глубине ста семидесяти двух футов. Мы с Дюма пошли вниз, чтобы приблизительно определить размеры и положение погибшего корабля. Дюма обошел вокруг «погребения», подобрал черепок, поднялся футов на пятнадцать, обозрел место сверху, снова спустился, чтобы взглянуть поближе на какое-то изделие, и жестами обрисовал предполагаемые контуры судна. Мы опустили на дно воздушный шланг и отрыли неглубокие ямы; они подтвердили его догадку. Но мы не стали возобновлять раскопки — на этот раз мы выступали всего-навсего в роли паломников. Было очевидно, что водолазы собрали все, что лежало сверху, однако в грунт по-настоящему не зарывались. Потом мы в Афинском музее увидели их находки: знаменитый бронзовый эфеб и целые тонны мраморных богов, нимф, аллегорических фигур, коней. Мрамор был источен моллюсками — значит, скульптуры лежали на дне открыто. Их просто подняли на канатах. Очень может быть, что антикитирский подводный курган еще хранит греческие изваяния. Мы разыскивали затонувшие корабли вдоль древних торговых путей. Любой коварный на вид риф или мыс мог быть роковым для судов той поры. Мы уходили под воду и неизменно обнаруживали остатки по меньшей мере одного, а то и двух-трех античных кораблей. А возле одного особенно грозного рифа мы увидели повторение истории, которая произошла у Гран-Конглуэ и Риу: прямо на амфорах лежал небольшой пароход. Станешь на якорь и отправишься вечером поплавать с маской — под тобой на камнях лежат черепки гончарных изделий. Но на таком мелководье спасательным командам делать нечего. Волны давно разбили корабли вдребезги о скалы. У Крита Фалько за одно погружение побывал в четырех тысячелетиях. На глубине 125 футов ему попалась груда сферических византийских амфор, в пятнадцати футах ниже по склону — сосуды еще более ранней эпохи. Сто пятьдесят футов — бронзовые блюда. Он не стал их трогать, чтобы не путать картину археологам, которые будут здесь работать. На глубине 170 футов Фалько нашел пузатые амфоры, такие же, какие сэр Артур Эванс раскопал в Кноссе. За полчаса — от «Калипсо» до бронзового века! Поистине, для археологов в Эгейском море открыты поразительные возможности. Профессор Бенуа попросил меня поднять затонувший корабль, датируемый первым веком до нашей эры. Его открыли в 1959 году у Сен-Рафаэля на глубине 115 футов. Профессор боялся, как бы судно не было ограблено, прежде чем успеют поработать археологи. Я ответил ему: — «Калипсо» — экспедиционное судно. Я не могу привязывать ее к одному месту с археологическим заданием. Но вы возьмите на два месяца «Эспадон». Так называлось наше новое исследовательское судно, бывший траулер, переоборудованный для обслуживания марсельской лаборатории. Бригада нашего Центра подводных исследований отправилась к Сен-Рафаэлю. Техническое руководство осуществлял Алексис Сивирин, водолазами руководил Анри Гуара, археологов представлял Ж. М. Рукетт. Дюма научил их, как действовать, чтобы как можно быстрее узнать как можно больше. Сперва подводные пловцы собрали черепки, рассортировали их и сложили в кучки рядом с судном. Судя по очертаниям, корабль был средних размеров, на полторы тысячи амфор. Потом опустили воздушный шланг и с его помощью углубились на тринадцать футов в средней части судна. Они поднимали только уникальные и типовые образцы, а дубликаты складывали на дне. За два месяца отряд Центра подводных исследований закончил всю работу, сделав много фотографий и зарисовок. Сен-рафаэльский корабль дал новые ценные сведения о том, как работали древние судостроители. Государство выделяет мало денег на морскую археологию, поэтому Бенуа пришлось довольствоваться отчетом Сивирина и оставить затонувшее судно на произвол охотников за сувенирами. В наши дни, через двадцать лет после создания первого акваланга, трудно найти на Ривьере ресторан или виллу, интерьер которых не украшала бы по меньшей мере одна античная урна, добытая со дна моря. Однажды я получил телеграмму от голливудского антиквара, который просил меня назначить цену за триста амфор. Коллектомания грозит погубить будущее подводной археологии прежде, чем те, кто мог бы ее поддержать, поймут, какие возможности пропадают. Когда «Калипсо» зашла в Бизерту, командование французской военно-морской базы в Тунисе спросило нас, не можем ли мы осмотреть подводную лодку, затонувшую к югу от островов Керкенна во время второй мировой войны. Мы ушли под воду втроем: Дельма, я и мой тринадцатилетний сын Филипп, у которого к тому времени был уже девятилетний стаж подводного плавания. У трапа я предупредил мальчика: — Погружение серьезное. Лодка лежит на глубине ста футов. Обещай все время держаться около меня. Он заверил меня, что будет делать все, как положено. Вода была мутная, и Филипп устоял против соблазна изобразить молодого дельфина. Он плыл возле меня, стараясь работать ногами, как Дюма, — размеренно и плавно. У самого дна видимость стала лучше, и мы увидели подводную лодку. Она разломилась надвое перед боевой рубкой. Носовая часть представляла собой мешанину стального листа, кабелей и труб, среди которых росли и веселились сотни десятифунтовых груперов. Они бесстрашно подплывали к нам и шутя хватали нас за ласты. Филипп что-то прогудел и показал рукой вниз: там на песке лежала разорвавшаяся торпеда. Вот и ответ на вопрос военно-морских сил, что случилось… Задняя часть лодки — боевая рубка и центральный пост — была цела. Люки задраены; значит, немало подводников осталось внутри. У кормы толпились серые спинороги, и одновременные взмахи их плавников словно отбивали такт траурного гимна. Я посмотрел на свои часы и взял Филиппа за руку: пора выходить. Дельма немного задержался. Вернувшись на судно, он бросил на палубу колокол, который подобрал на песке в двадцати футах от лодки.
Нашей давней мечтой было обследовать корабль, затонувший на большой глубине в коралловом море. До сих пор нам в Индийском океане попадались только жертвы рифов, наполовину торчащие из воды. Например, у острова Провиденс, где мы в полой грот-мачте погибшего корабля увидели крупных груперов. Или у Фаркуара, где волны ободрали пароход так, что ржавый котел и машина казались всплывшим из голубого моря доисторическим чудовищем. Плавать среди таких обломков было опасно. Того и гляди, белопенный прибой швырнет тебя прямо на искореженные листы. И как только постоянные жители этих мест — «тигровые» терапоны в продольную желтую и черную полоску — могли так непринужденно чувствовать себя среди бушующих волн! После Провиденса и Фаркуара мы еще сильнее стали мечтать о большом корабле на большой глубине. Однажды, идя на юг через Суэцкий залив, мы с Дюма обвели на морской карте красным карандашом заманчивые объекты. Правда, эти данные не очень достоверны; помечая затонувшие корабли, картографы подчас ошибаются на много миль. Особенно привлекло нас судно, лежащее на глубине 103 футов на плоском дне у Синайского полуострова. Лабан начертил крупномасштабную карту с полярными координатами, сходящимися у выступа на внешнем рифе Шаб-Али. Здесь мы поставили катер с радиолокационной мишенью, которую «Калипсо» могла засечь с расстояния семи миль. И начали ходить зигзагами, каждые полминуты определяя расстояние по радару и пеленг по гирокомпасу, чтобы точно знать свою позицию на концентрической карте Лабана. Шесть человек занимались поиском под моим руководством. Анри Пле, уткнувшись в черный резиновый колпак радара, выкрикивал дистанцию и направление на мишень. Саут, стоя на телеграфе, передавал эти данные Лабану в штурманскую рубку. Дюма дежурил у эхолота. Я отдавал команды рулевому Морису Леандри. Несколько часов «Калипсо» ходила так взад-вперед; иногда приборы замечали на дне какие-то бугорки, но все они были слишком малы. Изображенное картографом гладкое дно изобиловало глыбами коралла. — Если корабль пометили как представляющий угрозу навигации, — сказал я, — он должен достаточно близко подходить к поверхности. Дюма на лету уловил мою мысль. — Ну, конечно! — воскликнул он. — Надо, чтобы кто-нибудь спустился в подводную кабину. Его можно заметить оттуда. — Хочешь пойти туда? — спросил я. — А я подежурю на эхолоте. Дюма нырнул в люк. В динамике послышался его голос: — Приступил к наблюдению. Видимость около шестидесяти футов. — Прозевать невозможно, — отозвался я. Через пятнадцать минут самописец эхолота вычертил крутой и высокий пик. — Дюма, ты видишь что-нибудь? — крикнул я в микрофон. — Нет. — В стальной коробке его голос звучал глухо. — Только цвет воды изменился на несколько секунд. Будто снизу шел какой-то свет. — Это должно быть здесь, — сказал я. — Смотри внимательно. Возвращаюсь параллельным курсом. На этот раз Дюма опередил прибор: — Вон он. Вижу стеньгу. Лабан торжествующе начертил на карте красный кружок, и мы сбросили указательный буй. «Калипсо» несколько раз прошла над судном, чтобы можно было по эхограммам определить его размеры и положение. Корабль оказался больше трехсот футов в длину. Судя по всему, он сохранился хорошо. Мы стали на якорь рядом с ним. Солнце совсем ушло в Египет. До темноты успеем совершить лишь одно погружение. Дюма и Фалько надели акваланги. — Сейчас нужен только общий осмотр, — сказал я, — чтобы решить, стоит ли нам поработать здесь на обратном пути. И они спустились по водолазному трапу. Мы собрались на корме, ожидая новостей. Через двадцать минут разведчики вынырнули и, освободив рты от загубников, дружно расхохотались. Что их так насмешило?.. Они вскарабкались по трапу, продолжая смеяться, прошли мимо нас и начали снимать снаряжение. — В чем дело? — спросил я. — Ну-ка, рассказывайте. Они еще громче захохотали. Наконец Фалько вымолвил: — Эта штука! Огромная! — Это видно по эхолоту, — сказал я. — Что же тут смешного? — Да нет, не корабль, — сказал Дюма. — Рыба огромная! И, видя, что мы готовы лопнуть от нетерпения, он приступил к рассказу: — Верхний такелаж цел. Судно стоит почти прямо, с маленьким креном на левый борт. На баке стоят товарные вагоны. — А корму вы осмотрели? — спросил я. Взрыв хохота! Фалько еле выговорил: — Нет, капитан! Рыба нас не пустила. — Что, акула? — В том-то и дело, что не акула, — ответил Дюма. И мы услышали, что произошло. Разведчики проплыли над рубкой к корме. Там вся палуба была разворочена взрывом. Они пошли вниз, чтобы осмотреть ее поближе. И тут увидели чудовище. Огромная плоскобокая рыбина, будто живая темно-зеленая стена, буквально преградила им путь. Дюма и Фалько оторопели. Они в жизни не видели ничего похожего. — На палубе стояли армейские грузовики, — продолжал Дюма. — И когда рыбина поравнялась с ними, она показалась нам не меньше грузовика. В длину она была самое малое футов двенадцать — пятнадцать, в высоту футов семь-восемь. Верно, Фалько? — Если не больше, — отозвался тот. — Громадная рыбина, чешуя — с мою ладонь. Когда нас разделяло пятнадцать футов, она повернулась ко мне. — И пошла прямо на него, — подхватил Дюма. — Мы скорей отступили в коридор, чтобы она до нас не добралась. — Это как же понимать? — спросил я. — А так, — ответил Дюма, — что рыба была слишком велика, ей не протиснуться в коридор. — Она подплыла вплотную, — сказал Фалько, — и мы увидели, что губы у нее как спасательный круг. А как грозно она глядела на нас из-под век! Пока друзья оторопело разглядывали великана, их время истекло, и они поднялись на поверхность, обуреваемые чувствами, которые вызвала в них эта встреча. Мы подняли якорь; надо было идти дальше. После обеда я пригласил Дюма и Фалько к себе и вытащил все справочники и определители морских рыб. Они задержали взгляд на большом красноморском шишколобе. — Нет, — сказал наконец Фалько, — не совсем то. — Силуэт похож, — добавил Дюма, — но это был не шишколоб. И ведь мы никогда не встречали шишколобов больше четырех футов в длину. Он отложил в сторону определитель и задумался. — Не знаю, может, это смешно, но рыба-грузовик похожа на губана, — сказал он. (С чьей-то, легкой руки к чудовищу пристало название рыба-грузовик.) — И мне так кажется, — подхватил Фалько, — только я еще не видел губанов больше трех футов. — Значит, отпадает, — заключил Дюма. — Рыба-грузовик, и все тут. — Она вела себя так, словно это был ее корабль, — сказал Фалько. — Ладно, вернемся и еще потолкуем с ней, — подвел я итог. Три месяца спустя мы благодаря карте Лабана с первого захода нащупали эхолотом «синайский» корабль и стали на якорь. Я выделил три дня на исследование и съемку судна. И рыбы-грузовик, конечно. Кое у кого на борту упоминание о ней вызывало ехидную улыбку, к немалой досаде Фалько и Дюма. Мы с Дюма составили одно звено; норма — три погружения в день. И как ни занят я был разными маневрами — выбор угла съемки, кадрирование, панорамы, наезды, которые так удобно делать в море, — я не мог налюбоваться зрелищем, вот уже двадцать лет доставляющим мне неизменное наслаждение: человекорыба Дюма во всеоружии своего опыта и искусства… Вот он приближается к нашему новому объекту… повис над носом, прижав руки к бокам… и размеренно пошел над окаменевшим судном. Могучий брашпиль на баке превратился в сад, острые грани кулачков сгладила мягкая бахрома. Сразу за шпилем на обросшей плотным слоем мшанок стойке висел бронзовый судовой колокол. Прямо на нем примостилась великолепная жемчужница. Дюма стукнул по колоколу водолазным ножом. В толще воды расплылся звон, а из колокола выскочила синяя помакантида. Сквозь планктонную мглу мы различали кругом груды искореженного металла — колодец был загроможден железнодорожными цистернами, разорванными давлением воды. Грот-люк отсутствовал: видно, его снесло, когда судно тонуло. Диди оттолкнулся ногами от края и погрузился на тридцать футов в трюм; я шел за его пузырьками. Здесь тоже стояло военное снаряжение. Бампер к бамперу выстроились видоизмененные морем грузовики с мотоциклами в кузове, между грузовиками лежали крылья от истребителей. Куда ни посвети — всюду кораллы. За что ни возьмись — отовсюду выскакивают испуганные рыбки, будто крысы в заброшенном гараже. Дюма пошел вверх. Я последовал за ним, видя в свете фонаря его работающие ласты. Он остановился у мостика, отыскал дощечку с названием судоверфи, протер ее, и мы прочли:
Британское судно, построено в годы войны, только вошло в строй — и вскоре же погибло. На крыше рулевой рубки, охраняемый буйными и бесстрашными серыми морскими карасями, высился радиопеленгатор. Сквозь петли антенны порхали стайки коралловых рыбок. Двери рулевой рубки были затворены. Прямоугольные окна мостика рассыпались, но круглые иллюминаторы только лучились трещинами, словно от удара молотком. Дюма взялся за ручку правой двери. Неужели думает, что она откроется? Проржавевшие петли подались, и дверь медленно-медленно упала ему навстречу. Он уперся руками в края проема, и мы заглянули внутрь, как-то не решаясь проникать дальше в эту мрачную загадку. Вместо идеального порядка мы увидели картину страшного опустошения, произведенного сильным взрывом. Под потолком гирляндами висели провода, компас был разбит вдребезги, палуба усеяна хронометрами, секстантами, биноклями, коробками переключений, и все покрыто многолетним слоем «морской пыли». Здесь тоже были свои обитатели. В углах таились скорпены, через разбитые окна взад и вперед ходили груперы. Мы оттолкнулись ногами от двери и заплыли внутрь, не взбаламучивая ила. В задней переборке был ход в каюту капитана. Дверь тихо ушла в кромешную тьму, и опять мы остановились в нерешительности, будто дети у входа в дом с привидениями. А что, корабль, в котором обитает рыба-грузовик, вполне может оказаться пристанищем какой-нибудь нечистой силы! Светя фонариками, мы вошли в каюту. В обоих помещениях царил полный беспорядок. Среди густой тины лежали осколки фарфоровой посуды с флагом владельца и почерневшее столовое серебро. Кругом были разбросаны бутылки; некоторые из них, закупоренные и наполовину наполненные воздухом, всплыли к потолку. Мы разглядывали этот погребок, в котором вызревали вина; пузырьки воздуха из легочного автомата собирались наверху, и получилось кривое колышущееся зеркало, искажавшее наши черты. Дюма провел рукой по какому-то прямоугольнику, прикрепленному к переборке, и мы обменялись многозначительными взглядами. Взрыв все сорвал с места, но крепко привинченный сейф капитана уцелел. Покинув мостик, мы нырнули в бортовой проход, ведущий на корму. Палуба была буквально вымощена жемчужницами. Они облепили все поручни и снасти, причудливо изменив вид знакомых предметов. Невольно я вспомнил «жемчужных королей» — обвешанных перламутровыми пуговицами уличных торговцев, которых я мальчишкой видел в Лондоне. Мы прошли над зияющим отверстием от взрыва. Дюма раздвинул руки, изображая жестами крупный предмет, и я понял, что здесь они с Фалько встретили рыбу-грузовик. Сегодня ее не было видно. Часть кормовой палубы длиной в сто футов была изуродована до неузнаваемости. Взрыв рассек ее почти пополам, и скрученные стальные плиты напоминали водоросли. Тут и там валялись черные автопокрышки и резиновые сапоги, не тронутые ни огнем, ни морем, ни временем. Зато длинному четырехдюймовому орудию яркие букеты полипов придали совсем мирный вид. Кораллы прочно припаяли снаряды к шпигатам. Весь ют приподняло и наклонило влево. Пройдя над ним, мы перевалили за корму и увидели зарывшийся в серый песок могучий винт. Около него волнами кружили рыбы. Мы вернулись к фок-мачте и неторопливо поднялись вдоль нее, провожая взглядом ползущие вверх сплющенные пузыри выдоха. От бочки было всего пятнадцать футов до поверхности и «Калипсо». Звено за звеном уходило на затонувший корабль. В конце первого дня Маль и Луи Мерден встретили возле пробоины рыбу-грузовик. На этот раз великан не проявил любопытства Он ушел, прежде чем они успели сфотографировать его. Их наблюдения подтверждали наш первый вывод: это был губан-хейлинус (Cheilinus undulatus). Но с какой стати заурядная рыба вдруг выросла до таких неслыханных размеров? И в дальнейшем при появлении аквалангистов губан-великан отходил в сторону от корабля и кружил поодаль, ожидая, когда люди уберутся прочь. На третье утро очередное звено, вынырнув, сообщило, что к первому великану присоединилась еще одна рыба-грузовик. Правда, она была поменьше, всего восемь-девять футов в длину. Весь последний день мы видели, как вместе ходят «грузовик» и «пикап». Съемочные бригады по четыре человека — два аквалангиста несли светильники — снимали крупным планом органические покровы затонувшего транспорта. В заключительном эпизоде Дюма должен был прочесть его название. Мы навели свет на сверкающий розовыми кораллами судовой колокол. Дюма соскреб жемчужницу, кораллы, губки, и появилась надпись: «П/х Тистлгорм, Глазго». Позднее Мерден написал на верфь, прося сообщить сведения о «Тистлгорме». Томпсон и сыновья прислали отчет, составленный третьим механиком Бэнселлом, который был на судне во время взрыва, он остался жив. Пароход вез оружие для английской Восьмой армии и погиб 6 октября 1941 года. В то время Средиземное море контролировалось державами «оси», поэтому «Тистлгорм» направили из Англии в Египет окольным путем — мимо мыса Доброй Надежды и через Индийский океан. Пройдя вместе с двадцатью другими судами Красное море, «Тистлгорм» был вынужден в виду Синайского полуострова бросить якорь и ждать разрешения войти в Суэцкий канал. Немецкие самолеты с Крита совершили налет на их стоянку. Две бомбы поразили кормовую палубу «Тистлгорма» и взорвались в набитом боеприпасами кормовом трюме. Из сорока девяти человек команды девять погибли сразу, остальные попрыгали за борт. Я уже приготовился поднять якорь и идти дальше, когда ко мне обратился Дельма. — Ребята хотели бы поднять сейф капитана, прежде чем мы уйдем отсюда, — сказал он. Этого я боялся с той самой минуты, когда пальцы Дюма алчно коснулись стального ящика. Охота за сокровищами противоречила духу «Калипсо». Я не раз обсуждал этот вопрос с Дюма, Лаба и Дагеном, и они согласились со мной, что это только приведет к осложнениям. Но глаза Дельма горели предвкушением, и за ним стояли его приятели, нетерпеливо ожидая моего ответа. — У нас просто времени нет заниматься этим, — сказал я. — Все рассчитано и подготовлено, — ответил Дельма. — Мы управимся за полчаса. Уверенный, что им и полдня будет мало, я согласился: — Ладно, даю вам час. Потом снимаемся. Тотчас несколько человек прыгнули за борт; остальные размотали тросы и установили лебедку. В самом деле, все заранее продумали! Через двадцать минут сейф капитана был поднят. Они окружили его, облизываясь. Опять настал мой черед вмешаться. — Вы, конечно, помните о нашей ответственности, — сказал я. — Мы не пираты. Если мы вскроем сейф, наша обязанность — известить об этом военно-морское командование и доложить о наших находках. Потом придется подождать, пока суд присудит нам вознаграждение. Назначьте делегатов, пусть проследят, чтобы все было честь по чести. Они выбрали комиссию во главе с Анри Пле и условились разделить вознаграждение поровну. Вооружившись зубилом, Рене Робино принялся вскрывать сейф. Ящик был покрыт черной зловонной грязью, и Робино весь вымазался. Но вот дверца сорвана, и Пле, протиснув руку между головами любопытных, извлек из сейфа рулон намокшей бумаги. Он снял обертку и увидел карты с океанографическими данными. Искатели сокровищ нервно захихикали. Дальше Пле достал небольшой ящичек. В нем лежал прогнивший кожаный бумажник. Дрожащими пальцами Пле вытащил капитанское удостоверение и квитанции расчетов за портовые услуги. В последнем отделении бумажника лежал канадский двухдолларовик и английский фунт стерлингов. Больше ничего в сейфе не было. — Ну вот, теперь пишите заявление, — сказал я. — Если вам присудят положенные пятьдесят процентов, сможете разделить между собой восемнадцать шиллингов. Пле положил мокрые бумажки на лабораторный столик и разгладил их. Наутро он увидел, что они рассыпались в прах.Джозеф Л. Томпсон и Сыновья, Лтд.
СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ВЕРФЬ НОРТ-СЭНДС. № 509
Менор Кей Уокс, 1940, Сандерленд.

Глава седьмая
Пульс океана

На Средиземном море вечером быстро темнеет. В этот вечер «Калипсо» шла на восток вдоль Иль-де-Леванта. В миле к югу от маяка Титан, который гладил своими лучами зеркальную поверхность моря, я остановил машину и сказал в микрофон:
— На корме. Машина остановлена. Глубина три тысячи футов. Приготовиться к станции номер двенадцать.
Самописец эхолота жирной чертой обозначил дно, а выше было несколько линий потоньше. Как и каждый вечер, они поднимались. Эти подвижные линии представляли собой океанологическую загадку века.
Я вышел на крыло мостика. Темная гладь осветилась сверкающими брызгами. Полчища каких-то комочков выскакивали на несколько дюймов из воды и с шелестом падали обратно. Этакий восходящий дождь… Скорее всего, это были детеныши кальмаров или осьминогов. Ночью они идут к поверхности за кормом, а с рассветом снова погружаются в пучину. Задачей двенадцатой станции, как и всех предыдущих, было раскрыть смысл суточных вертикальных перемещений морских организмов. На ленте эхолота эти перемещения выглядят как биение пульса одушевленного океана.
В годы второй мировой войны, когда во всех флотах мира распространилась гидролокация, стали отмечать наряду с основным сигналом, регистрирующим дно, скажем, на глубине шести тысяч футов, сигналы, отраженные «ложным дном» — на глубине, к примеру, пятисот, восьмисот или тысячи ста футов. Появился термин «рассеивающие слои» (PC); эти слои неожиданно возникали и исчезали в любой точке Мирового океана. Тщательные промеры показали, что PC ночью поднимаются выше, а днем уходят вглубь. Теорий было множество, доказательств никаких. Тем, кто считал, что звуковые импульсы рассеиваются из-за химической или температурной неоднородности воды, возражали биологи: рассеивающие слои колеблются ритмично и восприимчивы к естественному свету, — значит, они животного происхождения. В ясные дни PC пролегают глубже, чем в пасмурные. В полнолуние они прекращают свое восхождение раньше, чем при других фазах луны или в облачные ночи. Особенно увлеклись PC военные: отраженный от слоя сигнал часто оказывался настолько сильным, что скрывал от преследователей подводную лодку.
Приступая к изучению PC, я понимал, что аквалангисты, ограниченные глубиной в двести футов, тут ничего не сделают. В это время я участвовал в работах профессора Огюста Пикара над батискафом, в котором человек мог достичь средней глубины Мирового океана, равной тринадцати тысячам футов. Французские военно-морские силы заканчивали свой первый рабочий образец — ФНРС-3, а Пикар строил в Италии свой «Триест». Но тогда еще было вопросом, смогут ли эти неуклюжие и дорогостоящие глубоководные суда решить загадку рассеивающих слоев. И какой ценой — ведь человеку грозило чудовищное давление! Я считал, что прежде батискафов следует отправить в пучину фотоаппараты. Американцы уже погружали съемочную аппаратуру на несколько миль. Я заинтересовался этим вопросом и нашел ответ в Бостоне, в штате Массачусетс.
Мелвилл Гросвенор познакомил меня с Гарольдом Эджертоном, профессором кафедры электрических измерений Массачусетского технологического института. Эджертон много сделал для совершенствования фотовспышек, которые позволяли ему снимать боксеров в бою и колибри в полете. Он уже испытывал фотовспышку под водой. Наша первая встреча заложила основу для прочной дружбы.
В 1953 году «Калипсо» начала у Корсики охоту на таинственный PC. Профессор Эджертон, его сын Роберт, инженер Лабан и электрик Поль Мартен возились на кормовой палубе с глубоководными камерами. На металлической раме укреплены две стальные трубки; в одной трубке — импульсная лампа, преобразователь и батареи, в другой — камера, заряженная ста футами киноленты. Трубки располагались под углом друг к другу так, чтобы вспышка освещала толщу воды в шести футах от линзы. Затвор и вспышка были синхронизированы; запас пленки позволял снять восемьсот кадров с пятнадцатисекундным интервалом.
Как только Эджертон закончил свои приготовления, «Калипсо» подошла к точке, где до дна было шесть тысяч футов. Здесь эхолот зарегистрировал три рассеивающих слоя. Самый плотный был на глубине пятисот четырнадцати футов. Мы опустили камеру, следя за ней эхолотом. Когда она достигла глубины пятисот футов, мы остановили лебедку. Эхо от камеры совершенно растворилось в сигнале от PC. Подержав камеру полчаса на одном уровне, мы медленно опустили ее до следующего слоя рассеивания. Потом подняли на борт и извлекли ленту; проявлять будем уже на берегу, в надлежащих условиях.
В то лето мы между Сардинией и Грецией сделали семнадцать фотографических станций. Считая три тысячи футов пределом прочности своей конструкции, Эджертон погрузил для испытания одну камеру на эту глубину. Давление расплющило фотовспышку. Эджертон встретил неудачу улыбкой. Он разобрал изуродованное устройство и вытащил две щепки мягкого дерева, которые служили клиньями. Давление воды сделало их твердыми, как кость. Профессор постучал щепками и передал их в наш судовой оркестр, где они заменили кастаньеты. Мы прозвали неунывающих отца и сына «Папа Флеш» и «Пти Флеш».
Спускать камеры ночью очень интересно. Стоя у борта, мы видели вспышки света на глубине пятисот футов. А когда поднимали аппарат выше, в толще воды словно полыхали молнии. Любопытно, как воспринимают эти вспышки обитатели зоны вечного мрака?
После этого рейса Папа Флеш и я засели изучать тринадцать тысяч кадров — итог нашей первой разведки в гидрокосмосе. Один просматривал ленту и говорил, что видит, второй записывал. Мы не биологи, поэтому наши записи выглядели так:
«Пятая катушка, Матапан — Кадр № 427 — клопы». Или: «Волоски… Точечки… Виноградины… Медузы…»
Потом знатоки разберутся.
«Клопы» оказывались веслоногими рачками-копеподами, «волоски» — нитями сифонофор, «точечки» могли быть и икринками, и планктоном, и неорганическими частицами.
В PC мы нашли немало глубоководных монстров. Пусть это были всего-навсего маленькие серебристые рыбки-топорики Argyropelecus, но если отпечатать с большим увеличением эти телескопические глаза, ощерившиеся клыками челюсти и покрытое светящимися узелками брюшко, можно хоть на кого страх нагнать.
В каньоне Вильфранш одна PC-станция дала нам поразительные данные с глубины тысячи футов. Подсчет показал, что здесь в слое мощностью сто футов на каждый кубический ярд приходилось по красавице медузе. На вечерних снимках все они шли вверх, на утренних купола медуз смотрели вниз. Их сопровождали ракообразные, черви и множество других неопознанных тварей, которые участвуют в непрестанном колебании слоев жизни.
Еще глубже круглые сутки царит мрак; казалось бы, здесь не может быть такого количества организмов. Между тем, погрузив камеры Эджертона в черную пучину, мы узнали, что ниже PC, на глубине 2800–8500 футов, плотность планктона возрастает, хотя эхолот этого не отмечал. На снимках кишели белые комочки: таким выглядит космос в мощный телескоп. Я вспомнил, что только два человека — доктор Уильям Биб и Отис Бартон — своими глазами видели этот слой из батисферы Бартона. Они сообщили, что плотность микроорганизмов увеличивается с глубиной. Наука прошла мимо этих поразительных данных. А наши камеры подтвердили их.
Конечно, далеко не все эти белые точки представляют собой живые организмы. Тут и слинявшие панцири креветок, и экскременты, и скелеты диатомовых, и просто мусор; они лишь немногим тяжелее воды и оседают на дно месяцами. Бактерии превращают все это в питательные соли, а плуги морей — восходящие токи воды — возвращают их в жизненный цикл.
Нас с Эджертоном огорчало, что на снимках со средних глубин почти не было более крупных организмов. В Индийском океане я получил объяснение этому факту. Однажды вечером эхолот зарегистрировал очень мощный рассеивающий слой на глубине четырехсот футов. Я остановил «Калипсо» и опустил за борт камеру Эджертона. Самописец показывал, как трубки, качаясь, уходят вглубь. Вот уже подошли к PC — и тотчас пропала черта, отмечающая его. Я попросил опустить камеру еще глубже. PC на глубине четырехсот футов появился снова, и забил отраженный сигнал от камеры. Выходит, собравшиеся здесь животные при появлении чужеродного тела быстро отпрянули в стороны, а затем снова собрались вместе; вряд ли это были хлипкие медузы или пассивный планктон и сифонофоры. Видимо, они реагируют на вспышки. А может быть, слабое жужжание мотора камеры было для них все равно что сигнал тревоги. Или их настораживали вызванные движением камеры вибрации в толще воды. Как бы то ни было, мы убедились, что какие-то быстро движущиеся организмы, собираясь вместе, тоже образуют PC.
За зиму мы оборудовали на «Калипсо» фотолабораторию с кондиционированием, чтобы можно было прямо на борту проверить результаты съемки. В Бостоне Папа Флеш конструировал новое снаряжение. И когда «Калипсо» опять повела наступление на PC, он привез с собой камеру для съемки силуэтов, в которой трубки смотрели друг на друга, разделенные расстоянием в один дюйм. Профессор надеялся получить четкие контурные изображения микроорганизмов, которые окажутся в пределах этого маленького пространства. Мы опустили его устройство в густо населенный слой на глубине полумили. Сняли восемьсот кадров и получили изображение одного рачка и множества не поддающихся определению точек. В чем дело, черт возьми? Сумасшедшая догадка: может быть, эти крошки сторонятся нашего аппарата, потому что он напоминает им рыбью пасть?
Эджертон развернул трубки под прямым углом друг к другу, чтобы вспышка пересекала поле зрения короткофокусной линзы. Мы погрузили в море переделанную камеру и добыли уйму снимков маленьких организмов. А когда стали увеличивать, оказались перед новой загадкой. Многие точки были смазаны. Приглядевшись, мы нашли у них кометные хвосты. Значит, они двигались. Длительность электронной вспышки Эджертона не превышает трех тысячных долей секунды, расстояние от «клопов» до линзы было от одного до четырех дюймов. Профессор подсчитал, что они двигались со скоростью от трех до десяти футов в секунду! Наша камера не поспевала даже за карликами океана. Быстроходные микроорганизмы не хуже рыб умеют уходить от приборов, которые опускает в море человек. А некоторые океанологи хотят с помощью планктонных сетей представить себе картину жизни в темной пучине!
Несколько месяцев я ломал голову над тем, как перехитрить этих прыгунов. Наконец предложил Эджертону новую идею — «динамическую подводную съемку». Вместо того чтобы опускать камеры, которые извещают сами о своем появлении, мы будем подкрадываться к PC с заранее погруженной камерой на подводном планере, привязанном к «Калипсо». Институтская лаборатория Эджертона превратилась в фотографическую мастерскую; там изготовляли фотокамеры, стереокамеры и кинокамеры для экспериментов с «динамической вспышкой». В Центре подводных исследований капитан Жан Алина и Андре Лабан собрали планер — обтекаемое сооружение с мощной нижней тягой, оснащенное дощечками вроде углубителей на минрепах минных тральщиков. «Калипсо» могла буксировать это устройство со скоростью шести узлов.
Испытывая «фотопланер», мы получили множество пустых кадров, но иногда нам удавалось застать врасплох скопления креветок. Мы даже сняли на киноленту стаю кальмаров, расплывающуюся во все стороны в двенадцати футах от камеры. Наконец-то нам удалось подсмотреть в слоях рассеивания крупные подвижные организмы.
Затем мы опустили в море хитроумный прибор, измеряющий биолюминесценцию. Это был подводный батифотометр, сделанный доктором Джорджем Кларком из Гарвардского университета и его помощником Ллойдом Бреслау. Папа Флеш прислал их на «Калипсо», чтобы они испытали прибор в Средиземном море. Батифотометр подвешивался на фале с кабелями, по которым сигналы передавались на поверхность. Даже самое слабое свечение организма регистрировалось немедленно. В Атлантическом океане Кларк уже находил светящихся животных на глубине двух миль — средней глубине Мирового океана. Мы предоставили в его распоряжение «Калипсо» и «Винаретту Зингер», и он приступил к работе между Монако и Корсикой. Интересно было, стоя в штурманской рубке, смотреть, как самописец на приборе Кларка скачет вверх-вниз с разной частотой и амплитудой, в зависимости от глубины. Лента регистрировала поразительно много светящихся животных. Даже в самой скудной зоне «светящейся жизни», глубже шести тысяч футов, прибор почти каждые две секунды замечал вспышку.
Кларку хотелось также узнать, какие именно организмы устраивают фейерверк… Он установил на одном кронштейне свой батифотометр и камеру Эджертона. Они были сопряжены так, что свет от животного, попадая в прибор, тотчас включал затвор фотоаппарата. Светящиеся организмы сами снимали свой портрет.
Мы опустили это устройство в воду. Наверху шкала показывала, что перед батифотометром проносятся целые рои метеоритов. Бернар Марселлин, наш радиоинженер, который помогал Бреслау собирать замысловатый механизм, потирал руки, предвкушая интересные кадры. А когда мы проявили ленты, на снимках не оказалось ни одного сколько-нибудь крупного организма.
Чем объяснить такое несоответствие между показаниями батифотометра и тем, что видела камера? Мы продолжали опускать наше устройство, и всякий раз получали противоречивые результаты. Однажды ночью прибор буквально выходил из себя, регистрируя небывалую силу света. Несмотря на неприятную качку, все окружили прибор, чтобы посмотреть, как скачет стрелка. Судно накренилось, меня сильно тряхнуло, и одновременно догадка озарила мой мозг.
Сколько раз во время погружений я видел, как ночесветки и другие представители зоопланктона образуют настоящие созвездия вокруг моего тела. Малейшего прикосновения к ним, самой слабой вибрации достаточно, чтобы вызвать свечение. Так, может быть, устройство доктора Кларка регистрирует свет не только от спонтанно вспыхивающих организмов, может быть, оно само своим прикосновением раздражает светящихся животных? А сейчас, при сильном волнении, батифотометр еще и раскачиватся. Недаром же стрелка колеблется в лад с качанием корабля.
Чтобы проверить это, я в тихую ночь пришвартовался к пристани в Кальви и ушел под воду, подвесив батифотометр на подъемном кране. Крановщик стал покачивать прибор, имитируя движущийся корабль. Пока прибор висел неподвижно, вокруг него было почти совсем темно. Стоило ему начать двигаться, как кругом родились светящиеся туманности.
Когда исследуешь глубины приборами, управляемыми на расстоянии, сплошь и рядом сталкиваешься с такими вещами.
Накапливая данные о PC, мы стали замечать, что иногда поднимающийся слой расчленяется, словно разные виды собираются в стаи сообразно своей чувствительности к свету. Значительные вертикальные перемещения начинались не глубже 1500 футов. Казалось бы, на большей глубине, куда свет почти не проникает, нечего и ожидать каких-либо колебаний слоев рассеивания. Но возле Мадейры нам пришлось еще раз пересмотреть свои прежние воззрения. Для большинства приезжих Мадейра — очаровательный курортный остров. Для нас это была небольшая уединенная горная гряда среди моря, 350 тысяч жителей которой находятся, так сказать, на иждивении глубоководной рыбы Aphanopus carbo — или эспады, как ее называют островитяне. В непосредственной близости от Мадейры почти вся рыба выловлена, так что местные жители вынуждены выходить на более глубокие места, где они ночью и ловят эспаду. Четыре рыбака — трое взрослых и один мальчик, — с которыми мы подружились, взяли нас с собой на ночной лов на легком изящном паруснике. Отойдя от острова на три-пять миль (здесь глубина резко увеличивается с шести до десяти тысяч футов), они убрали паруса и опустили длинные, с милю, ярусы с каменными грузилами — один с кормы, другой с носа. На каждом ярусе были сотни крючков, наживленных кусочками кальмара на нижних 300 морских саженях. Надо было ждать три часа; чтобы время не пропадало даром, рыбаки зажгли факел и принялись ловить кальмаров впрок для следующего дня. На каждый ярус они взяли не меньше двадцати пяти эспад, в среднем по десяти фунтов каждая. У этой рыбы дьявольский вид — этакая черная барракуда с яркими блестками на коже, грозными клыками и огромными зелеными глазами. Эспада — единственная промысловая глубоководная рыба, и ловят ее только у Мадейры. Португальское правительство предлагало рыбакам попробовать наладить лов в Бискайском заливе и других местах, но из этого ничего не вышло. А у Мадейры, к счастью для островитян, Aphanopus carbo уже много десятилетий каждую ночь обеспечивает надежный улов. Мы ходили с рыбаками в безлунную ночь, и шкипер заметил: — При луне мы опускаем ярус на тысячу пятьсот футов глубже, чем сейчас. Но стоит луне скрыться за облако, и приходится поднимать снасть обратно до глубины одной мили, чтобы найти рыбу. Человек, который двадцать пять лет ловил эспаду, сообщил нам эту поразительную новость как нечто обыденное. А ведь его слова опрокидывали все наши представления о вертикальных перемещениях. Выходило, что здесь слабый лунный свет влияет на поведение рыбы на глубине одной мили. Но ведь он не может проникнуть так глубоко! И мы привыкли к тому, что куда более яркий солнечный свет действует только на глубину до полумили. Я терялся в догадках: откуда у эспады такая чувствительность? Может быть, восхождение рыбы вызвано своего рода цепной реакцией? Скажем, планктон в верхних слоях под влиянием лунного света движется то вверх, то вниз. На рубеже неосвещенной зоны следом за планктоном ходит рыба, которая им питается. А где-то еще глубже эспады, поедающие рыб второго или, скажем, третьего яруса, повторяют это движение в полном мраке… Температура тоже сильно влияет на вертикальное перемещение рыбы. В Средиземном море от Геркулесовых Столбов до Золотого Рога круглый год температура на глубине свыше тысячи футов неизменно равна 13 градусам. Гибралтарский порог на глубине тысячи футов образует как бы дамбу из воды с постоянной придонной температурой. Но температура верхних слоев сильно колеблется — от 4,5 градуса зимой до 26–27 градусов летом. На середину апреля приходится так называемый день гомотермии — явление внезапное и роковое. В этот день от поверхности до дна устанавливается однородная температура 13 градусов. В ночь накануне и после гомотермии обитатели глубин из второго и третьего ярусов поднимаются к поверхности. Здесь большинство из них гибнет от декомпрессии. И море усеяно крохотными «драконами», которые лишились жизни только потому, что природа на один день убрала предохранительные заграждения, обычно удерживающие их на безопасной глубине.

Глава восьмая
Наша кровь

Рано утром мы с Симоной вышли из каюты; палуба медленно качалась в лад длинным, ленивым валам Индийского океана. Зевая и потягиваясь, мы стояли у левого борта, глядя на обожженный голый берег Аравийского полуострова. «Калипсо» шла на восток вдоль Хадрамаута.
В каюте зазвонил телефон. Говорил Саут, и голос его звучал очень тревожно:
— Вы можете подняться на мостик?
Наш капитан нервно перебирал крупномасштабные карты.
— Никаких рифов…
— Что за рифы? — спросил я.
— Огромный риф. Прямо по курсу, вся вода белая.
Я метнулся в рулевую рубку и схватил бинокль. Вдоль горизонта впереди на несколько миль — пенный барьер!
— Не может здесь, на самой трассе, быть риф, — сказал я.
Риф почему-то колыхался… И, только подойдя на полмили, мы поняли, в чем дело. Буруны оказались играющими дельфинами. Четверть века мы с Саутом провели на море и никогда еще не видели такого огромного стада. Капитан позвонил в судовой колокол, вызывая всех на палубу. А дельфинье полчище развернулось, и прямо на нас устремился могучий вал, над которым живыми брызгами взлетали извивающиеся черные тела. Это было какое-то массовое дельфинье помешательство.
Дельфины — млекопитающие, они дышат легкими, и мы часто любовались их изящными легкими прыжками. Но сейчас они выскакивали из воды вертикально вверх, причудливо изгибаясь в воздухе. Соревнование в прыжках в высоту? Свадебные пляски? Или буйное ликование победителей в неведомой войне в глубинах? Мы забегали, заметались по трапам — скорей вооружиться фотоаппаратами, занять места на наблюдательном мостике и в подводной обсерватории!
Весь этот день курс «Калипсо» определяли дельфины, «летучая фаланга», которая заняла всю ширь океана от края до края. Я попробовал измерить высоту прыжков. Дельфины взлетали над водой на двенадцать — пятнадцать футов. Падая, они изгибались так, точно состязались: кто шлепнется в воду в самой некрасивой позе. Интересно было определить их число. Одновременно над водой находилось до тысячи животных; средняя продолжительность прыжка была около трех секунд. Но на каждого дельфина в воздухе приходилось, наверное, не меньше девятнадцати под водой. Двадцать тысяч дельфинов образовали этот живой риф…
Огромный, сверкающий на солнце гребень пены и летящих тел катился вдоль побережья Хадрамаута неведомо куда, движимый необузданным коллективным восторгом. Крича, как дети, мы спорили, чей дельфин прыгнул выше. Два десятка кинолюбителей соревновались, кому удастся заснять рекорд дельфиньих олимпийских игр.
Из подводной кабины открывалось потрясающее зрелище. Вода была прозрачная, видимость около ста футов, и все это пространство кишело быстрыми пловцами, которые легко поспевали за «Калипсо». Некоторые подходили вплотную к иллюминаторам поглядеть в упор на людей в «обсерватории». Наиболее энергичные тенями проносились вперед, пронизывая живую массу… Непрерывное движение перемешивало этот рой не только по горизонтали: снизу из пучины прямо вверх мчались дельфины, которые возле наших иллюминаторов включали «вторую космическую скорость» и с лета пробивали блестящий свод. Потом плюхались плашмя в воду, группировались и ныряли, оставляя в голубой толще белый след воздушных пузырьков, чтобы тут же с невидимых нам стартовых площадок начать новый полет к солнцу.
Естественно, кто любовался этим карнавалом в трех измерениях, не слышал умоляющих голосов сверху:
— Эй, хватит! Уступите место товарищам!
Уже смеркалось, когда стадо покинуло нас, и «Калипсо» снова стала почтенным судном, а не игрушкой дельфинов. Только появление звезд помогло определить, куда нас занесло.
В Атлантике и в Индийском океане мы часто встречали большие стада дельфинов, но ни одно из них ни численностью, ни буйством не могло сравниться с этими неистовыми хадрамаутскими легионами. Обычно дельфины шли правильным строем к какой-то своей определенной цели. Верные любопытству, отклонятся от своего курса, осмотрят «Калипсо» и ложатся на прежний курс. Высокие прыжки были очень редки. Куда они направлялись, неизвестно; часто мы одновременно наблюдали два отряда, следующих независимо один от другого в противоположных направлениях.
Дельфины любят играть вечером. Иногда они сопровождают нас и после наступления темноты. В этих случаях я без зазрения совести завладеваю наблюдательной кабиной, и уж меня не выгнать. Блестки светящегося планктона усыпают путь подводных танцоров. Выгнут спину горбом — и словно привидение рассекает толщу воды, оставляя раскаленный след. На черном бархате в завораживающем ритме скользят желто-зеленые силуэты, и звучит аккомпанемент веселого оркестра: подводная кабина — отличный резонатор, она усиливает дельфиний щебет.
Возможно, дельфины переговариваются между собой. Но если то, что мы слышали через гидролокатор, гидрофон или в подводной обсерватории, и есть их речь, она не артикулирована, в отличие от человеческой. У дельфина нет ни гортани, ни языка, ни губ, необходимых, чтобы выговаривать слова; он издает резкие модулированные звуки. Известно по меньшей мере два района, где люди используют модулированный язык: в Пиренеях и на Канарских островах есть места, где жители переговариваются свистом, потому что его слышно гораздо дальше, чем голос. Стоя на скалах, канарские пастухи общаются свистом на расстоянии трех миль, и запас слов довольно велик. Возможно, что ту же технику применяют дельфины.
В стаде к обычным звукам дельфиньего чириканья примешивается отчетливое хрюканье и кваканье более низкого тона, не похожее на обычный дельфиний язык. Может быть, это импульсы звуковых локаторов?
Учитывая сложное поведение дельфинов и предполагая, что у них есть своя речь, некоторые исследователи готовы допустить, что у зубатых китов может быть и свой фольклор, традиция устного рассказа, из поколения в поколение передаются предания старины. Если дельфиний язык существует и нам когда-нибудь удастся его расшифровать, не исключено, что человек узнает кое-что новое из истории морей…
Будь вы калипсянином, вы не удержались бы от фантастических догадок о гидрокосмосе.
Ночью, в полный штиль, стоя на носу «Калипсо», я иногда слышу внезапный всплеск, затем футах в ста впереди вспыхивает светящееся пятно и прямо к судну протягивается трасса.
Я вижу танцующее привидение — дельфина, и со всех сторон мчатся еще и еще: «Калипсо» разбудила спящее стадо. Видимо, дельфин, как и многие дикие животные, спит вполглаза, остерегаясь нападения акул снизу. Сверху ему ничто не грозит. Днем этому стремительному пловцу никакой противник не страшен, но «в постели» он уязвим и включает чрезвычайно чуткую систему контроля. Должно быть, морским млекопитающим хорошо известно понятие «беспокойная ночь».
Молодой дельфин остается с матерью, пока не достигнет примерно половины ее размеров, после чего присоединяется к ватаге подростков. Эти юнцы полны энергии, они готовы всю рыбу истребить. «Калипсо» часто преследовала такие шайки — куда там, молодежь не любит играть с судами.
У Амирантских островов нам удалось подсмотреть редкие картины частной жизни дельфинов. С отрядом аквалангистов я шел на катере вдоль северной части острова Дарос; вдруг из-за мыса выскочили десятка два дельфинов-белобочек и затеяли возню вокруг катера. Мы надели свое снаряжение и присоединились к ним. Наше появление их ничуть не смутило, напротив — казалось, дельфины только рады случаю показать нам некоторые трюки. Разойдутся в противоположные стороны, будто дуэлянты, и мчатся навстречу друг другу, сворачивая в самый последний миг, когда столкновение кажется неизбежным. Другие лениво кружили рядом, оперевшись о плечи товарища, или просто нежились на отмели, или, повернувшись кверху брюхом, чесали спину о камни. Неутомимые гончие морских просторов явно проводили здесь свои отпуск…
В отлично организованных морских цирках Флориды и Калифорнии дельфины не только артисты, там ведутся важные исследования их психологии. Белобочка, афалина и еще несколько китообразных — единственные известные животные, мозг которых размером приближается к человеческому. Из трех компонентов, создавших человека — головной мозг, рука и речь, — у зубатых китов нет только рук (если согласиться с тем, что они умеют разговаривать). Они не могут пользоваться орудиями труда; иначе у человека был бы в море серьезный соперник.
Я установил большую акклиматизационную цистерну для дельфинов в Океанографическом музее в Монако и попросил Альбера Фалько добыть несколько животных, не раня их. Альбер изобрел гуманный гарпун: вместо острого наконечника — захват с мягкими поверхностями, который смыкается, когда гарпун поражает цель. Целый год Альбер выходил на «Эспадоне» на охоту. Он сделал около пятидесяти выстрелов и поймал «за хвост» двадцать семь дельфинов.
К захвату было прикреплено около трехсот футов линя с буйком на конце. После удачного выстрела «Эспадон» подходил к буйку, и гарпунер, надев маску и ласты, нырял вдоль линя. Спустится к дельфину и осторожно обхватит его руками. Чаще всего обходилось без силовой борьбы. Правда, пленники горестным щебетаньем оплакивали свою судьбу. Альбер надевал на дельфина строп, и осторожно, чтобы не повредить нежную кожу, улов поднимали на палубу, где помещали на надувной матрац и укрывали дерюгой от солнца.
Сотни часов провел Фалько на носу «Эспадона», высматривая дельфинов, и то, что он видел, заставило его полюбить их. Когда дельфины подходили к судну порезвиться, впереди всегда держался самый большой и сильный, остальные кувыркались по бокам вожака. Однажды Альбер поймал самку и потащил ее прочь от стада. Детеныш последовал было за матерью, но вдруг кинулся догонять остальных. Фалько уверен, что это мать приказала ему уходить. По мнению Альбера, дельфины усыновляют осиротевших детенышей; он часто видел по три малыша у одной кормящей самки.
Наблюдая как-то за стадом матерей с детенышами, Альбер заметил, как целый выводок малышей вместе с одной самкой пошел к «Эспадону». В пятидесяти футах от судна детеныши круто повернули и возвратились к стаду. Самка внимательно осмотрела «Эспадон» и тоже вернулась. Фалько много раз видел, как взрослый дельфин догонял привлеченного видом судна расшалившегося юнца и «вел» его обратно.
Раз Фалько поймал захватом малыша весом около двадцати фунтов и взял его на руки. Снизу к ним метнулась куда более увесистая мамаша. Альбер услышал чириканье, которое явно выражало тревогу. Он растерялся. Его руки заняты добычей, а прямо на него идет разгневанная мать. Но она не тронула Фалько, только с криком металась вокруг человека. Казалось, самка одновременно и сверху, и снизу, и со всех сторон… Она не угрожала, только звала к себе детеныша и умоляла Фалько отпустить его. Он не устоял. Выпустил добычу, снял захват и проводил взглядом мать и дитя, которые, радостно щебеча, нырнули в пучину.
Доставив живого дельфина в порт, Фалько вез его на грузовике в музей и выпускал в бассейн. Первым делом нужно было научить пленника остерегаться стенок. Когда дельфин смирялся с неволей, человек выходил из воды и оставлял его одного. Специалист-медик дважды в день проверял температуру, пульс, дыхание пленника. Прописывал антибиотики, витамины, даже делал энцефалограммы.
Некоторые дельфины, оказавшись в одиночестве, не выдерживали тоски и либо тонули, либо кончали жизнь самоубийством, ударяясь с разгона головой о стенку. Если же в бассейне было одновременно два-три пленника, они быстро осваивались и, попостившись дней пять-шесть, начинали принимать пищу. Ели они только свежие сардины — самую дорогую рыбу на рынке. Смотритель бассейна Этьен Гастальди награждал своих подопечных сардиной, когда они подбрасывали в воздух шар. (Мне почему-то казалось, что они делают это с вызовом, недовольные рабством.) Этьен предложил им вознаграждение подешевле — мерлана, но дельфины воротили нос от такого эрзаца. Гастальди показал пленнику сардину, тот подбросил головой шар в воздух и примчался за призом. Но смотритель ловко совершил подмену, и дельфин вместо сардины проглотил мерлана. Как он посмотрел на Гастальди! И ударом ластов обдал его с ног до головы водой.
 У этого самолюбивого белобочки Delphinus delphis есть бутылконосый родич, афалина Tursiops, который очень любит выступать на сцене и стал звездой океанариев. Белобочка нисколько не глупее афалины, но не хочет мириться с неволей. Поняв это, мы выпустили наших пленников в море. Больше всех радовался Фалько.
У этого самолюбивого белобочки Delphinus delphis есть бутылконосый родич, афалина Tursiops, который очень любит выступать на сцене и стал звездой океанариев. Белобочка нисколько не глупее афалины, но не хочет мириться с неволей. Поняв это, мы выпустили наших пленников в море. Больше всех радовался Фалько.
В зеркальных водах у Стромболи наш впередсмотрящий приметил плавающий у поверхности темный предмет. Как обычно, мы изменили курс — проверить, что это. Оказалось, дельфин; он судорожно бился, силясь держать дыхало над водой. Кьензи подплыл к дельфину. Животное сделало отчаянное усилие, чтобы уйти, но потом смирилось — будь что будет… Кьензи осторожно погладил дельфина и, поддерживая его, крикнул нам: — Он не ранен! Как будто все в порядке! Я вспомнил древние предания, греческие мифы о дельфинах, которые спасали тонущих моряков. Долг платежом красен. Присоединившись к Кьензи, я удостоверился, что у дельфина нет видимых повреждений. Мы сделали строп из одеяла, подняли пациента на палубу и поместили в наполненный водой катер. Доктор Нивелло приступил к медицинскому обследованию; «Калипсо» пошла дальше, превратившись в дельфиний госпиталь. Нивелло установил, что мы выловили молодую самку. Он ввел ей средство для стимуляции сердечной деятельности, сделал искусственное дыхание. Два часа спустя пациентка скончалась… Вскрытие показало: все органы невредимы, никаких следов болезни. Один из аквалангистов предположил, что сердце чуткого животного разбилось, когда его покинуло стадо. — Или от безответной любви, — сказал Нивелло. Близ Корсики мы настигли стадо дельфинов; я послал Фалько и Антонио Лопеса на катере, чтобы они заарканили одного. Лопес невелик ростом, но это очень храбрый человек, с юных лет посвятивший себя морю. Дельфины затеяли настоящие горелки. Подчиняясь сигналам стоящего на носу Фалько, Лопес выжимал весь запас мощности из мотора. Вдруг Фалько крикнул: — Лево руля, живо! В последний миг Лопес увернулся от черной блестящей громады, которую принял за скалу. Но «скала» обдала его скверно пахнущим дождичком и исчезла под водой! Среди стада дельфинов неожиданно вынырнул кит в три раза длиннее катера. А еще находятся биологи, которые называют Средиземное море «безжизненным»! Походили бы они со мной на «Калипсо»… Между Лазурным берегом и Корсикой мы часто встречали стада крупных китов, постоянно обитающих в этих водах. Полвека назад «князь океанографии» Альберт I Монакский приглашал представителей королевских домов Европы на бой китов, и гости редко возвращались без добычи. Вот одна из забавных сценок, какие можно наблюдать в нашем «безжизненном» море. Утром мы шли на «Калипсо» между Корсикой и Мессиной. Вдруг заметили спящее у поверхности стадо китов. Медленно приблизились к ним; я в это время стоял на носу. Киты проснулись, всполошились и нырнули, а вся вода вокруг стала красной! Мы нарушили их покой как раз после пира, когда они переваривали красных креветок. Появление «Калипсо» настолько напугало китов, что они опорожнили кишечник… Когда нам попадаются киты, мы не упускаем случая понаблюдать из подводной обсерватории за крупнейшим на Земле животным. И мы первыми изо всех подсмотрели плывущих китов в их родной стихии. Когда перед вашим окошком колышется хвостовой плавник величиной с банкетный стол, это внушительное зрелище… И кажется, мы выяснили, откуда берутся белые киты, о которых можно прочесть у многих авторов, от Мелвилла до Хейердала. Я тоже за свои годы на море много раз видел сверху белые силуэты в воде, но никогда не наблюдал альбиносов на поверхности. В ясный, тихий день «Калипсо», проходя мимо Липарских островов в Тирренском море, очутилась в окружении плавающих камней; на голубой глади словно извивались посыпанные гравием дорожки. Мы зачерпнули камешки ведром — это была пемза из вулканов поблизости. «Калипсо» продолжала идти своим курсом, вдруг с высокого мостика раздался крик: — Киты! Два кита длиной около шестидесяти футов плыли, не торопясь, как раз под струями пемзы. Они спокойно позволили «Калипсо» пристроиться между ними. Оба выпускали фонтаны, а в промежутке между вдохами погружались на несколько футов. Внезапно кто-то на носу закричал: — Один из них — белый кит! Я кубарем скатился в наблюдательную кабину. Оба кита были одинакового темного цвета, но под водой они кувыркались, играя, и показывали серо-белое брюхо. Так что белый кит, похоже, еще одно из ряда мнимых чудовищ (мурены, скаты, осьминоги), грозную славу которых уже развенчали аквалангисты. Но страхи не прошли совсем, они теперь сосредоточились на кровожадной косатке. Грозный «кит-убийца», он же косатка, — самый крупный из дельфинов. Он умен и подвижен, его наблюдают не так часто, и потому, должно быть, он сохраняет свою каннибальскую репутацию. В книгах о китобойном промысле можно прочесть описания страшных сцен, как косатки нападают на крупных китов и выгрызают у них язык, свое любимое лакомство. Такое и впрямь бывает, когда кит загарпунен и представляет собой легкую добычу. Но невредимый кит — синий или кашалот — вполне может отбить атаки косатки. Это подтверждено многими наблюдениями. Самые надежные свидетельства собраны в Антарктике инспекторами, которые летают над участками промысла низко и на малой скорости. Часто видели, как стаи косаток приближались к небольшой китовой семье — самец, самка и детеныш. Кит легко отгонял косаток, и стая прекращала преследование. А вот рассказы об уме косаток справедливы. Вдоль берегов Новой Зеландии вплоть до начала нашего столетия вели китобойный промысел. Завидев китов, рыбаки выходили на лодках, поражали добычу гарпунами и тащили ее к берегу для разделки. Окровавленная вода привлекала косаток, и китобои бросали им требуху, в том числе язык. Зато по ночам косатки ходили вдоль берега и, приметив кита, тотчас «лаем» принимались будить рыбаков. Получается, что косаткам, чтобы отведать китового мяса, приходилось обращаться за помощью к единственному в царстве природы подлинно кровожадному существу… Если бы «убийцы» отвечали своей репутации, они бы давно истребили всех китов на свете. Косаток не так уж много; должно быть, они как вид не очень преуспевают, в отличие, скажем, от акул, которые много миллионов лет буквально кишат в океанах. Для меня косатки — те же дельфины, только крупнее и красивее своих братьев. Самец достигает в длину двадцати пяти футов, у него мощные челюсти и большие зубы. Косатке ничего не стоит разорвать на куски пловца, но до сих пор такие случаи неизвестны. Марокканские ныряльщики, знакомые с «китом-убийцей», рассказывают, что косатки подходят к человеку, поплавают вокруг и, удовлетворив свое любопытство, удаляются. Словом, ведут себя как обычные дельфины. Южнее острова Сокотра в Индийском океане «Калипсо» настигла, как нам сперва показалось, стадо китов, но затем я по черным косым спинным плавникам опознал косаток — Orcinus orca. На расстоянии кабельтова от них «Калипсо» сбавила ход до шести узлов. Косатки плыли не торопясь среди тихо плещущихся волн. Вблизи мы смогли даже разглядеть белые пятна на черных боках. Самый крупный, самец, был около двадцати футов в длину. Четыре взрослые косатки поменьше, видимо, составляли его гарем. Двое детенышей, которые шли чуть поодаль, поспешили присоединиться к родителям. Появление судна заставило все стадо теснее сплотиться вокруг вожака. Я прибавил ходу. Вожак оставил стадо и пошел к «Калипсо». Я уже думал, что он сейчас начнет кувыркаться в воде у нашего форштевня, словно дельфин, но косатка занял позицию футах в ста впереди, повернул и поплыл от нас. Мы шли за ним, вдруг меня осенило: вожак уводил «Калипсо» прочь от своего семейства, которое следовало под углом к нашему курсу… Внезапно он нырнул. Нету, исчез… Мы минут пять изучали гладь моря, прежде чем вновь обнаружили стадо. Оно было милях в двух от нас. Так как детеныши плавают не очень быстро, «Калипсо» удалось опять настигнуть косаток. Вожак рассердился не на шутку. Он покинул семейство и пошел в другую сторону. Однако на этот раз мы его провели: стали преследовать не вожака, а стадо. Тотчас самки и детеныши нырнули, словно услышали его команду. На виду остался только его превосходительство. Он несколько часов водил нас за собой. Хитроумные маневры самоотверженного самца заставили нас совершенно потерять след самок и детенышей. И все это время в некотором отдалении поверхность моря рассекали плавники акул. Когда бы нам ни встречались морские млекопитающие, непременно по соседству ходят акулы.
В ста милях севернее экватора Саут зазвонил в судовой колокол, вызывая на палубу правоверных. Невдалеке от судна мы увидели косые фонтаны и длинные темные силуэты кашалотов. Трое животных шли нам наперерез со скоростью семи-восьми узлов. Мы повернули и пристроились к ним. Так начался день чудес и трагедий… Забравшись в подводную обсерваторию, Луи Маль смотрел, как кашалоты танцуют и резвятся в океане, кувыркаются, сверкая белым брюхом. Решив, что «Калипсо» подошла слишком близко, киты нырнули, но через десять минут вернулись к поверхности недалеко от носа нашего корабля. Мы видели могучие черные спины, исполосованные старыми рубцами. Около часа мы без конфликтов вместе бороздили океанский простор. Но вот киты после очередного погружения вынырнули очень близко и каким-то образом очутились перед самым форштевнем «Калипсо». Столкновение было неизбежно. Со скоростью десяти узлов «Калипсо» врезалась в бок двадцатитонного кашалота. Главный удар приняла на себя подводная камера. Маль пробкой выскочил из люка, испуганный, но невредимый. — Кабина цела, течи нет! — крикнул он. Несколько человек побежали вдоль палубы к корме посмотреть, что с китом. Надев наушники эхолота, я услышал тревожный мышиный писк. До столкновения кашалоты переговаривались между собой мелодичными модулированными нотами, теперь звучали нервные, полные боли крики кита, которого мы ранили, и пронзительные ответы его спутников. «Калипсо» сбавила ход. Два кита подошли к своему явно оглушенному товарищу и с обеих сторон плечами подняли его так, чтобы дыхало было над водой. Точно таким способом мать поддерживает новорожденного детеныша, обучая его плаванию; видимо, память китов сохраняет этот прием, и они применяют его, когда кто-то из них попадает в беду. Отовсюду по два, по четыре сходились другие кашалоты. Я поминутно выбегал на палубу, потом опять возвращался к гидролокатору, чтобы послушать разговор стада. «Голоса» стали более нормальными. Видимо, оглушенный кит оправился от удара. Всего возле «Калипсо» собралось тридцать семь китов, включая пять-шесть детенышей длиной около двенадцати футов. Мы без труда поспевали за стадом, так как его движение тормозилось медлительностью детенышей и раненого. Один шаловливый юнец пошел назад. Он захотел поближе взглянуть на черное брюхо «Калипсо» и очутился под судном. Вдруг из машинного отделения донесся сигнал тревоги, и почти сразу зазвонил телефон. — Правый мотор стал, — доложил Робино. Я поглядел назад. Кильватерная струя «Калипсо» окрасилась кровью. Детеныш попал под наши винты. — Пускай мотор, Робино, — распорядился я и напряг слух: будет ли вибрация? Нет, ни валы, ни лопасти винтов как будто не пострадали. Я круто повернул «Калипсо» назад. Маленький кит, фыркая кровью, пошел к стаду; наши бронзовые винты рассекли его кожу и белый жировой слой. Вернувшись в подводную обсерваторию, Маль увидел обтекающий иллюминаторы кровавый след — будто язык пламени за самолетом, подбитым зениткой. Наблюдая сверху, мы насчитали на теле раненого пять параллельных надрезов. Детеныш присоединился к стаду, и тотчас там началось всеобщее замешательство. Самый крупный кит невероятным усилием плавников на треть своей длины поднялся вертикально над поверхностью воды и смерил взглядом врага, который ранил двоих его сородичей. Затем так же вертикально погрузился, и в следующий миг все стадо исчезло, остался лишь смертельно раненный детеныш. С китобойной площадки на носу наш капитан метнул гарпун, затем, не выпуская из рук линь, поднялся на палубу и с риском для жизни побежал по левому фальшборту к корме. Малейшая конвульсия животного — и он очутился бы за бортом, где уже собирались акулы. Выстрелом в голову Дюма добил нашу жертву. С водолазной площадки на подзоре кормы матросы набросили петлю на хвост убитого детеныша, и мы попытались втащить его лебедкой на палубу. Морис Леандри стоял на площадке, и его обдала струя крови — теплой, как наша кровь… Все работали молча. Кит оказался чересчур тяжелым для наших талей, мы только чуть-чуть приподняли его из воды и выключили лебедку. Шестнадцатифутовый детеныш весил около полутора тысяч фунтов. Снизу над краем кормы высунулась голова Леандри: — Прямо подо мной бурая акула футов на десять. Акула неторопливо кружила у самой поверхности. Появилась еще одна, потом сразу две, и вот их уже штук двадцать, каждая длиной не меньше шести футов, а некоторые до двенадцати. К ним присоединилась великолепная тринадцатифутовая синяя акула, с длинным острым рылом, изящным телом и большими холодными глазами. Откуда они здесь, среди океанских просторов, где пять миль воды под килем? Что их привлекло? Запах крови? Вибрация от движений бьющегося кита? А может быть, они всегда следуют за китами, собирая крохи с их стола и выжидая случая напасть на больного или раненого? Акулы продолжали кружить возле нас. Все-таки похоже, что это постоянные спутники стада. Конечно, опасное для них соседство, но и заманчивое — как-никак пожива. Морские млекопитающие расправляются с акулами, с ходу тараня их; это доказали дельфины в океанариях. Должно быть, поэтому акулы держатся от китов в сторонке и так долго собираются с духом атаковать даже убитого. Нерешительность акул позволила нам приготовить к спуску «акулоубежище», зарядить съемочные камеры и акваланги. Дюма и Лабан вошли в клетку, и мы опустили их в воду рядом с китом. Спустя некоторое время их заменили Маль и я. Количество акул достигало уже тридцати — сорока, они стали смелее и подходили все ближе. Хотя железные прутья «акулоубежища» расположены достаточно тесно и акуле никак не протиснуться между ними, на душе было тревожно. Клетка висела на тросе, оборвется — поживей выбирайся через дверь, пока клетка не затонула ниже предела работы со сжатым воздухом. И плыви вверх среди акул! А они, как нарочно, вели себя все нахальнее. Здоровенные верзилы подплывали к клетке и тыкались в нее носом. На каждой акуле висело не меньше полудюжины прилипал, преимущественно вдоль нижней челюсти. И очень много было лоцманов. Эти полосатые рыбки так и просились в аквариум, среди кровавых струй они казались совсем не на месте. Прошло не меньше часа, прежде чем наиболее решительные акулы отважились подойти к киту вплотную — просто так, не пуская в ход зубы. Поначалу и наша клетка вызывала у них опаску. Почувствовав, что вот-вот начнется пиршество, я отворил дверцу, чтобы Малю было удобнее снимать. Разумеется, я был начеку и в случае опасности тотчас захлопнул бы ее. Хищницы раз сто или двести «погладили» рылом тело убитого кита, прежде чем первая из них осмелилась схватить кусок. Точно отрезали бритвой десять фунтов кожи и жира! Началась оргия, какой до нас не видел ни один человек. Всего несколько футов отделяло нас от этой сатурналии, и мы великолепно видели, как кусает акула. Считалось, что хищница непременно поворачивается кверху брюхом, чтобы укусить. Но это не всегда так. На глазах у нас они шли прямо на добычу и разевали пасть, изгибая нос вверх под острым углом. Капкан, оскаленный наточенными зубьями, оказывался впереди. Акула впивалась в китовый бок, сжимала челюсти, и все ее тело содрогалось, будто в конвульсиях: хищница действовала зубами, как пилой. Миг — кусок отпилен, акула отплывает прочь, а в боку кита зияет яма с ровным краем. Страшное зрелище… И отвратительное. Мы дали хищницам насытиться китовым жиром и мясом и захотели проверить, нельзя ли теперь заснять среди них подводного пловца? Фалько и Маль вооружились кинокамерой и спустились в клетке. Пиршество, по сути дела, кончилось, и заметно пополневшие акулы двигались совсем вяло. Футах в тридцати от клетки неподвижно застыла двенадцатифутовая хищница. Решив, что она дремлет, Фалько отворил дверцу и выплыл наружу. Маль встал у выхода, приготовившись снимать. Фалько шел прямо к акульей морде. Глаза хищницы следили за ним. В шести футах от акулы Фалько молниеносно оглянулся назад: почему не стрекочет камера? Маль жестом показал, что заело ленту. Акула двинулась к Фалько. Он метнулся в клетку. Маль захлопнул дверцу, акулья морда с ходу уткнулась в прутья. Да, как ни наелись акулы, подводному пловцу лучше не связываться с такими разбойницами…
 Калипсяне наблюдали с палубы, как шло уничтожение кита, и в них пробудилась столь естественная для моряков ненависть к акулам. Едва кончились съемки, команда забегала, вооружаясь для схватки. Все годилось: ломы, топорики, остроги, тунцовые багры. Вот матросы уже на водолазной платформе, бьют, рубят, цепляют баграми… Извивающиеся акулы как по конвейеру сыпались на палубу, где их добивали.
— Смерть синей! — вскричал Дельма и вытащил ее из воды.
Дюма бросился на убитую и выпотрошенную акулу и отрубил ей голову: ему нужны были ее челюсти. Тушу он выбросил за борт, и обезглавленная рыбина поплыла прочь!
Акулы часами бились в судорогах на палубе, проявляя поразительную живучесть. Между тем эта же хищница, попав на крючок, часто совсем не сопротивляется. И ее трудно сохранить в неволе. Как ни мощна мускулатура акул, они физиологически чрезвычайно уязвимы.
Во время нашей расправы с акулами прилипалы покинули своих хозяек. Через два дня мы пришли в порт, Кьензи случайно нырнул под «Калипсо» — и увидел десятки прилипал, которые прикрепились к днищу головными присосками, напоминающими ирисовую диафрагму.
Годом позже «Калипсо» в тот же день оказалась в той же точке Индийского океана. Мы встретили кашалотов всего в десяти милях от места предыдущей встречи. На этот раз их было не меньше сотни, они шли группами на запад со скоростью семи-восьми узлов. Всюду, куда ни взглянешь, — киты… И нам довелось наблюдать необычайное явление.
Время от времени вдали над спокойной гладью океана словно взмывали гейзеры, как при взрыве глубинных бомб. Какой-то природный катаклизм, но какой? И тут загадка разрешилась. Дюма и Фалько (они стояли вместе со мной на наблюдательном мостике) увидели «извержение» совсем близко от корабля.
— Вот оно! — вскричал Дюма.
Я в эту секунду смотрел в другую сторону; обернувшись на голос Диди, я заметил в нескольких стах футах какой-то выброс высотой с Триумфальную арку. И услышал гулкий всплеск.
— Ты прозевал! Это было так быстро! — сказал Диди.
На глазах у них шестидесятифутовый кашалот выпрыгнул из воды на высоту пятнадцати футов! И шлепнулся боком, разметав фонтаны брызг, которые я успел заметить.
Это был единственный случай, когда калипсяне непосредственно видели «полет» кита, но могучие всплески воды мы наблюдали и впредь. Может быть, киты были во власти того же возбуждения, которое заставило прыгать хадрамаутских дельфинов? Хотя вряд ли, ведь кашалоты прыгали по одному, остальные в это время держались спокойно. Брачный танец? Тоже маловероятно: у большинства самок были детеныши. У меня родилась другая догадка.
Известно, что среди китов глубже всех ныряют кашалоты. Находили погибшие особи, опутанные подводным кабелем на глубине мили; специалисты признают, что кашалот ныряет, во всяком случае, на три тысячи футов. Исследуя китовые желудки, обычно обнаруживают в них большие куски кальмаров, а то и проглоченных целиком головоногих. В кишечнике кита скапливаются десятки кальмаровых клювов. У Азорских островов князь Альберт загарпунил кашалота, который тут же отрыгнул огромный кусок белого мяса, принадлежавшего неизвестному до тех пор виду кальмара, с щупальцами длиной двадцать семь футов. Позднее этот вид назвали Architeuthis princeps. Часто китобои видят на теле пойманных кашалотов страшные рубцы, следы смертельных схваток с гигантскими кальмарами на глубине двух-трех тысяч футов. И я подумал: не с этими ли битвами связаны поразительные прыжки?.. Сражаясь в черной пучине, кит превышает назначенные ему самой природой сроки пребывания на такой глубине. Оставив кальмара и торопясь наверх, за воздухом, он развивает скорость двадцать — двадцать пять узлов и с ходу выскакивает из воды, но тут тяготение останавливает его полет. Если моя теория верна, то эти гейзеры всего лишь признак китовых трапез. Вот бы создать быстроходные глубоководные аппараты, чтобы последовать за кашалотами во время их отважных погружений и своими глазами увидать битву кита с Architeuthis princeps!
Работая в тропиках, мы всегда по соседству с китами наблюдали акулью свиту. И никогда не могли предугадать, как поведут себя хищницы. Мне надолго запомнилась одна встреча.
Надев только маску и ласты, я вместе с ученой троицей — Драшем, Нестеровым и Нивелло — плавал у рифов Шаб-Дженаб в Красном море. Мы любовались чудесным подводным пейзажем, который оживляло множество шишколобов, груперов и бонит. Вдруг я на пределе видимости, футах в семидесяти пяти приметил силуэт не очень крупной акулы Carcharhinus. В это же время акула увидела нас. Подумала и решительно, полным ходом пошла на меня. С чего бы это? Из нашего квартета я был наименее лакомым кусочком. И защищаться нечем. Но даже будь я вооружен, акула атаковала меня так стремительно, что я ничего не успел бы сделать. Нас разделяло меньше метра, когда хищница, шедшая со скоростью десяти узлов, резко повернула и устремилась назад, в открытое море.
Мы встречали тысячи акул, и все они были очень любопытны, но вели себя смирно. Почему именно эта оказалась такой дерзкой? И почему отступила, когда жертва уже была в ее власти? Стоит отметить, что акула увидела меня с такого же расстояния, как я ее: лишнее свидетельство того, что у этих хищниц, несмотря на менее совершенное строение сетчатки, отличное зрение. А как круто она повернула, опровергая все, что говорят о неуклюжести акул!
После этого столкновения мы стали куда более осторожно относиться к красноморским акулам. Они назойливее своих атлантических сестер, хотя виденные нами были меньше океанских. В Красном море акулы не превышали шести футов в длину, зато их было очень много, особенно на мелководье среди рифов, где мы работали. К подводным пловцам они относились по-разному. Некоторые безучастно проплывали мимо, от других невозможно было отделаться. Прикрикнешь на них — вздрогнут, но уходить и не думают. Угрожающий взмах рукой отпугивал их, но они тотчас возвращались. Повернешься спиной — подплывают к ногам. Решительно пойдешь на них (мы убедились, что это лучший способ) — на время отстанут, можно немного поработать. А затем все начинается сначала. В конце концов приходилось нам отступать — слишком велико их превосходство…
Пока «Калипсо» стояла у северного склона черного вулкана Джебель-Зебаир в Фарасанском архипелаге, Дюма и Фалько отправились на катере обследовать другую сторону острова. Бросив якорь возле узкой полоски черного пляжа, они нырнули на глубину шестидесяти футов. Дюма направился к скальному уступу, Фалько плавал по горизонтали над ним. Стало темнее, точно на поверхность воды пала тень от облака. Что-то заставило Фалько насторожиться, и, озираясь во все стороны, он увидел внизу идущую прямо на него акулу. Она шла очень быстро, раздумывать было некогда. Фалько юркнул в расщелину и приготовил свою «акулью дубинку» — четырехфутовую палку с гвоздями на конце. Акула последовала за ним. Фалько вытянул вперед руку с дубинкой и двинулся навстречу хищнице, чтобы оттолкнуть ее. Она развернулась. Альбер ткнул ее палкой в бок, и акула обратилась в бегство.
Он вышел из расщелины и посмотрел вниз. Дюма вертелся юлой, не сводя глаз с небольшой акулы, которая упорно кружила возле него. Фалько устремился к нему на выручку. Снизу к ногам Дюма шли еще две акулы; Фалько пригрозил им дубинкой, стараясь возможно больше шуметь. Хищницы поспешно ретировались. Аквалангисты пошли вверх, спиной к скале. Затем их окружил сразу десяток акул. Один пловец следил за хищницами, второй высматривал в скале щели, намечая путь отступления. Стая проводила их до самой лодки. Солнце скрылось за вулканом, и вся вода вокруг забурлила: наступил час вечерней трапезы.
В глубине лабиринта красноморских рифов акулы были поспокойнее. Однажды, работая под водой у Шаб-Сулейма, Дюма и Бельтран увидели поблизости несколько акул. Вдруг из рифа выскочил желтый спинорог весом не больше четырех фунтов. И что же: акулы тотчас растаяли в голубой толще. Это был далеко не единственный случай, когда у нас на глазах спинороги обращали в бегство акульи стаи.
У Мерса-Белы Фалько отправился на катере разведать риф. Вдруг двадцатипятисильный мотор заглох, а в воде вокруг катера расплылась кровь. Акула попыталась укусить винт…
Как-то под вечер возле островов Двух Братьев мы с Кьензи плыли под водой над склоном, поросшим мясистыми альционариями. Нам попался десяток молот-рыб, настолько робких, что мы никак не могли подойти к ним вплотную. Часом позже, когда солнце склонилось к горизонту и под водой стало совсем темно, в том же месте плыли Дюма и Фалько; Маль снимал их на кинопленку. Теперь акулы вели себя куда агрессивнее. Пловцы вернулись на борт, а около судна началась катавасия. Акулы словно взбесились. Десятки здоровенных Carcharhinus неистово метались вокруг, задевая борта «Калипсо» и хватая все, что бы мы ни спустили к воде. Только протянешь вниз багор, а уже на нем болтается акула. На палубе росла груда яростно извивающихся злобных хищниц. В этот миг из каюты, где готовились к погружениям пловцы, вышел наш гость — фотограф, в ластах, с аквалангом на спине и фотоаппаратом в руках. Он направился к водолазному трапу.
— Вы куда? — ахнул я.
— Я всю жизнь мечтал о таких кадрах! — ответил он, ступая на трап.
— Приказываю сейчас же вернуться на палубу! — сказал я.
Кажется, это единственный раз, когда мне пришлось говорить в приказном тоне на «Калипсо». Мы даже повздорили. Потом фотограф долго не хотел со мной разговаривать. Как же: я сорвал ему такие съемки, о каких можно только мечтать! Так он считал. Я считал, что спас его от верной смерти.
Калипсяне наблюдали с палубы, как шло уничтожение кита, и в них пробудилась столь естественная для моряков ненависть к акулам. Едва кончились съемки, команда забегала, вооружаясь для схватки. Все годилось: ломы, топорики, остроги, тунцовые багры. Вот матросы уже на водолазной платформе, бьют, рубят, цепляют баграми… Извивающиеся акулы как по конвейеру сыпались на палубу, где их добивали.
— Смерть синей! — вскричал Дельма и вытащил ее из воды.
Дюма бросился на убитую и выпотрошенную акулу и отрубил ей голову: ему нужны были ее челюсти. Тушу он выбросил за борт, и обезглавленная рыбина поплыла прочь!
Акулы часами бились в судорогах на палубе, проявляя поразительную живучесть. Между тем эта же хищница, попав на крючок, часто совсем не сопротивляется. И ее трудно сохранить в неволе. Как ни мощна мускулатура акул, они физиологически чрезвычайно уязвимы.
Во время нашей расправы с акулами прилипалы покинули своих хозяек. Через два дня мы пришли в порт, Кьензи случайно нырнул под «Калипсо» — и увидел десятки прилипал, которые прикрепились к днищу головными присосками, напоминающими ирисовую диафрагму.
Годом позже «Калипсо» в тот же день оказалась в той же точке Индийского океана. Мы встретили кашалотов всего в десяти милях от места предыдущей встречи. На этот раз их было не меньше сотни, они шли группами на запад со скоростью семи-восьми узлов. Всюду, куда ни взглянешь, — киты… И нам довелось наблюдать необычайное явление.
Время от времени вдали над спокойной гладью океана словно взмывали гейзеры, как при взрыве глубинных бомб. Какой-то природный катаклизм, но какой? И тут загадка разрешилась. Дюма и Фалько (они стояли вместе со мной на наблюдательном мостике) увидели «извержение» совсем близко от корабля.
— Вот оно! — вскричал Дюма.
Я в эту секунду смотрел в другую сторону; обернувшись на голос Диди, я заметил в нескольких стах футах какой-то выброс высотой с Триумфальную арку. И услышал гулкий всплеск.
— Ты прозевал! Это было так быстро! — сказал Диди.
На глазах у них шестидесятифутовый кашалот выпрыгнул из воды на высоту пятнадцати футов! И шлепнулся боком, разметав фонтаны брызг, которые я успел заметить.
Это был единственный случай, когда калипсяне непосредственно видели «полет» кита, но могучие всплески воды мы наблюдали и впредь. Может быть, киты были во власти того же возбуждения, которое заставило прыгать хадрамаутских дельфинов? Хотя вряд ли, ведь кашалоты прыгали по одному, остальные в это время держались спокойно. Брачный танец? Тоже маловероятно: у большинства самок были детеныши. У меня родилась другая догадка.
Известно, что среди китов глубже всех ныряют кашалоты. Находили погибшие особи, опутанные подводным кабелем на глубине мили; специалисты признают, что кашалот ныряет, во всяком случае, на три тысячи футов. Исследуя китовые желудки, обычно обнаруживают в них большие куски кальмаров, а то и проглоченных целиком головоногих. В кишечнике кита скапливаются десятки кальмаровых клювов. У Азорских островов князь Альберт загарпунил кашалота, который тут же отрыгнул огромный кусок белого мяса, принадлежавшего неизвестному до тех пор виду кальмара, с щупальцами длиной двадцать семь футов. Позднее этот вид назвали Architeuthis princeps. Часто китобои видят на теле пойманных кашалотов страшные рубцы, следы смертельных схваток с гигантскими кальмарами на глубине двух-трех тысяч футов. И я подумал: не с этими ли битвами связаны поразительные прыжки?.. Сражаясь в черной пучине, кит превышает назначенные ему самой природой сроки пребывания на такой глубине. Оставив кальмара и торопясь наверх, за воздухом, он развивает скорость двадцать — двадцать пять узлов и с ходу выскакивает из воды, но тут тяготение останавливает его полет. Если моя теория верна, то эти гейзеры всего лишь признак китовых трапез. Вот бы создать быстроходные глубоководные аппараты, чтобы последовать за кашалотами во время их отважных погружений и своими глазами увидать битву кита с Architeuthis princeps!
Работая в тропиках, мы всегда по соседству с китами наблюдали акулью свиту. И никогда не могли предугадать, как поведут себя хищницы. Мне надолго запомнилась одна встреча.
Надев только маску и ласты, я вместе с ученой троицей — Драшем, Нестеровым и Нивелло — плавал у рифов Шаб-Дженаб в Красном море. Мы любовались чудесным подводным пейзажем, который оживляло множество шишколобов, груперов и бонит. Вдруг я на пределе видимости, футах в семидесяти пяти приметил силуэт не очень крупной акулы Carcharhinus. В это же время акула увидела нас. Подумала и решительно, полным ходом пошла на меня. С чего бы это? Из нашего квартета я был наименее лакомым кусочком. И защищаться нечем. Но даже будь я вооружен, акула атаковала меня так стремительно, что я ничего не успел бы сделать. Нас разделяло меньше метра, когда хищница, шедшая со скоростью десяти узлов, резко повернула и устремилась назад, в открытое море.
Мы встречали тысячи акул, и все они были очень любопытны, но вели себя смирно. Почему именно эта оказалась такой дерзкой? И почему отступила, когда жертва уже была в ее власти? Стоит отметить, что акула увидела меня с такого же расстояния, как я ее: лишнее свидетельство того, что у этих хищниц, несмотря на менее совершенное строение сетчатки, отличное зрение. А как круто она повернула, опровергая все, что говорят о неуклюжести акул!
После этого столкновения мы стали куда более осторожно относиться к красноморским акулам. Они назойливее своих атлантических сестер, хотя виденные нами были меньше океанских. В Красном море акулы не превышали шести футов в длину, зато их было очень много, особенно на мелководье среди рифов, где мы работали. К подводным пловцам они относились по-разному. Некоторые безучастно проплывали мимо, от других невозможно было отделаться. Прикрикнешь на них — вздрогнут, но уходить и не думают. Угрожающий взмах рукой отпугивал их, но они тотчас возвращались. Повернешься спиной — подплывают к ногам. Решительно пойдешь на них (мы убедились, что это лучший способ) — на время отстанут, можно немного поработать. А затем все начинается сначала. В конце концов приходилось нам отступать — слишком велико их превосходство…
Пока «Калипсо» стояла у северного склона черного вулкана Джебель-Зебаир в Фарасанском архипелаге, Дюма и Фалько отправились на катере обследовать другую сторону острова. Бросив якорь возле узкой полоски черного пляжа, они нырнули на глубину шестидесяти футов. Дюма направился к скальному уступу, Фалько плавал по горизонтали над ним. Стало темнее, точно на поверхность воды пала тень от облака. Что-то заставило Фалько насторожиться, и, озираясь во все стороны, он увидел внизу идущую прямо на него акулу. Она шла очень быстро, раздумывать было некогда. Фалько юркнул в расщелину и приготовил свою «акулью дубинку» — четырехфутовую палку с гвоздями на конце. Акула последовала за ним. Фалько вытянул вперед руку с дубинкой и двинулся навстречу хищнице, чтобы оттолкнуть ее. Она развернулась. Альбер ткнул ее палкой в бок, и акула обратилась в бегство.
Он вышел из расщелины и посмотрел вниз. Дюма вертелся юлой, не сводя глаз с небольшой акулы, которая упорно кружила возле него. Фалько устремился к нему на выручку. Снизу к ногам Дюма шли еще две акулы; Фалько пригрозил им дубинкой, стараясь возможно больше шуметь. Хищницы поспешно ретировались. Аквалангисты пошли вверх, спиной к скале. Затем их окружил сразу десяток акул. Один пловец следил за хищницами, второй высматривал в скале щели, намечая путь отступления. Стая проводила их до самой лодки. Солнце скрылось за вулканом, и вся вода вокруг забурлила: наступил час вечерней трапезы.
В глубине лабиринта красноморских рифов акулы были поспокойнее. Однажды, работая под водой у Шаб-Сулейма, Дюма и Бельтран увидели поблизости несколько акул. Вдруг из рифа выскочил желтый спинорог весом не больше четырех фунтов. И что же: акулы тотчас растаяли в голубой толще. Это был далеко не единственный случай, когда у нас на глазах спинороги обращали в бегство акульи стаи.
У Мерса-Белы Фалько отправился на катере разведать риф. Вдруг двадцатипятисильный мотор заглох, а в воде вокруг катера расплылась кровь. Акула попыталась укусить винт…
Как-то под вечер возле островов Двух Братьев мы с Кьензи плыли под водой над склоном, поросшим мясистыми альционариями. Нам попался десяток молот-рыб, настолько робких, что мы никак не могли подойти к ним вплотную. Часом позже, когда солнце склонилось к горизонту и под водой стало совсем темно, в том же месте плыли Дюма и Фалько; Маль снимал их на кинопленку. Теперь акулы вели себя куда агрессивнее. Пловцы вернулись на борт, а около судна началась катавасия. Акулы словно взбесились. Десятки здоровенных Carcharhinus неистово метались вокруг, задевая борта «Калипсо» и хватая все, что бы мы ни спустили к воде. Только протянешь вниз багор, а уже на нем болтается акула. На палубе росла груда яростно извивающихся злобных хищниц. В этот миг из каюты, где готовились к погружениям пловцы, вышел наш гость — фотограф, в ластах, с аквалангом на спине и фотоаппаратом в руках. Он направился к водолазному трапу.
— Вы куда? — ахнул я.
— Я всю жизнь мечтал о таких кадрах! — ответил он, ступая на трап.
— Приказываю сейчас же вернуться на палубу! — сказал я.
Кажется, это единственный раз, когда мне пришлось говорить в приказном тоне на «Калипсо». Мы даже повздорили. Потом фотограф долго не хотел со мной разговаривать. Как же: я сорвал ему такие съемки, о каких можно только мечтать! Так он считал. Я считал, что спас его от верной смерти.

Глава девятая
Манящие острова

«Калипсо» шла курсом на Сейшельские острова, чуть ли не последний на земле неоскверненный уголок тропиков. В свое время генерал Гордон совершенно серьезно утверждал, что легендарный Эдем находился на Маэ, главном острове Сейшельского архипелага, лежащего вдали от всех материков, в экваториальной части Индийского океана.
На восьмой день после выхода из Бахрейна мы увидели на горизонте веера кокосовых пальм. Это был Денис, самый северный из островов группы, овеянный какой-то чисто полинезийской романтикой. Его жители, смуглые люди с грудными голосами и певучим французским произношением, выращивают кокосовые орехи и заготовляют копру. Молодой владелец плантации прибыл на «Калипсо» вместе со своей юной темноглазой женой, которой я бы ни за что не дал больше пятнадцати лет. Их сопровождал управляющий, рослый белокурый мужчина, с виду лет тридцати. Позднее мы узнали, что плантатору сорок один год, его жене двадцать девять, а управляющему сорок восемь! Вот уж подлинно острова неувядающей юности.
Но мы спешили дальше, и, когда настал час расставания, обитатели Дениса завалили палубу «Калипсо» кокосовыми орехами, бананами, зеленоватыми апельсинами. Принесли даже серенького поросенка, которого мы тотчас окрестили Артуром. Наш ныряющий пес Боннар пришел в бурный восторг, однако шокированный поросенок не принял его предложения устроить возню и затрусил прочь. Мы выручили Артура: оберегая его поросячье достоинство, заточили его в стоявшее на палубе «акулоубежище».
В нескольких милях от Маэ на «Калипсо» обрушился ливень, и мы даже обрадовались прохладному душу. Вдруг впереди открылась словно картинка из волшебного фонаря. В ярких лучах солнца — зеленая гора, а над ней сразу две радуги! Это было редкостное зрелище.
В тропических морях преобладают коралловые и вулканические острова, но Маэ сложен из красного и черного гранита. Могучие пики вздымаются со дна океана, с глубины двенадцати тысяч футов. Красиво обтесанные искусным ваятелем-ветром громады покрыты пышной зеленью. Тропическая растительность сочетается здесь с субтропической; почти круглый год держится ровная температура, около 24 градусов тепла.
Мы подошли к длинной пристани, и тотчас все население Виктории — беленькой столицы архипелага — высыпало на улицы. Казалось, тридцать тысяч жителей острова все как один мечтают побывать на «Калипсо». Набережная соединяла пристань с главной площадью, где стоит чугунный памятник королеве Виктории.
Обитатели Маэ любят веселую компанию, был бы предлог собраться, и появление «Калипсо» их очень обрадовало; нас возили с одного приема на другой.
Вскоре чуть не вся наша команда щеголяла в соломенных шляпах, какие носили моряки в прошлом столетии: в Маэ ими до сих пор снабжают портовую охрану. Приметив, как тепло встретила наших ребят женская часть населения, я решил, что лучше не задерживаться здесь, а то свадьбы пойдут. Угроза вполне реальная: три тысячи молодых сейшельцев были призваны на службу в британскую армию.
И мы взяли курс на Альдабру. Альдабра — группа из четырех островов, которые административно входят в Сейшельский архипелаг, хотя лежат от него в 800 милях на юго-запад. Благодаря прозорливости Чарлза Дарвина, убедившего английские власти не заселять Альдабру, островки до недавнего времени были необитаемы, да и теперь мы застали на них лишь нескольких смотрителей.
Задолго до того, как атоллы поднялись над горизонтом, мы узнали, что приближаемся к Альдабре: большие лагуны издали дают знать о себе ярко-зеленым отражением на голубом небе. Шумно хлопая крыльями, навстречу нам вылетели птеродактили, то бишь огромные фрегаты. «Калипсо» превратилась в машину времени: в воображении мы перенеслись в эпоху летающих ящеров и диплодоков…
Главный остров, именем которого названа вся группа, представляет собой сильно вытянутый атолл длиной двадцать две мили; ширина его — с учетом отмели площадью двадцать две квадратные мили — двенадцать миль. Большая лагуна занимает около двухсот квадратных миль. В отлив она усыхает почти на две трети. Через проходы в кольцевом рифе течет огромное количество воды;лагуна — сердце атолла, только вместо крови она перекачивает морскую воду. Приливная волна — зеленая от планктона и мельчайших водорослей. Отступая, вода окрашивает океан в серый цвет: она выносит из лагуны мертвые организмы — следы борьбы за существование. Четыре узких прохода соединяют внутреннюю лагуну с окружающими водами.
Похоже, Главный пролив достаточно глубок для «Калипсо»… К тому же мы слышали от сведущих людей, что в первую мировую войну здесь, спасаясь от преследования, прошел германский крейсер. Итак, курс на пролив! Под килем шестьдесят футов; ничего, что тесновато. Впереди до самого горизонта простерлась лагуна, окаймленная мангровыми зарослями. Еще дальше торчали макушки панданусов и пиний. А над водой, куда ни погляди, возвышались сотни коралловых глыб высотой до двадцати футов. Стоит ли рисковать? Я дал задний ход: поищем другое место для стоянки.
С наружной стороны атолла не совсем уютно, да что поделаешь. В полумиле от берега протянулся барьерный риф, но внешняя лагуна для стоянки не годилась, в отлив она почти совершенно высыхала. Вдруг мы заметили скользящую над отмелями пирогу. Она вышла из маленького поселения на Вест-Айленде, западном сегменте атолла. Вот лодка проворно перескочила через риф; мы разглядели четверых негров и одного белого. Он был босой, зато голову защищал тропический шлем, покрытый алюминиевой краской. Поднявшись на борт, человек в шлеме представился: Жорж Гуро, инспектор-смотритель атолла. Я предъявил ему полученные на Маэ бумаги, которые разрешали исследовательскому отряду под руководством профессора Шербонье месяц работать на Альдабре. Гуро (мы прозвали его «губером», ведь он был, так сказать, местным губернатором) сказал, что может выделить нам три домика. Наши лодки, доверху нагруженные снаряжением, поспешили к берегу, пока не начался отлив. Чернокожие лоцманы провели их через проход в рифе, и катера причалили к пляжу, сверкающему коралловым песком сахарной белизны.
Я решил, не откладывая, осмотреть основание рифа и увидел чудесные картины, подобные которым встречались нам только в Красном море. Действительно, рай — рай ныряльщиков! Прощупав дно эхолотом, «Калипсо» нашла себе место для стоянки за барьерным рифом.
Береговой отряд вселился в домики из рифленой жести; Анжелина — рослая улыбчивая женщина — согласилась быть стряпухой. Дельма приготовил из медицинского спирта и анисовой эссенции пастис, и лагерь «Калипсо» на Альдабре начал свое существование.
Но сама «Калипсо» устроилась далеко не так удобно. Всю первую ночь нас сильно качало. Было ясно, что на этом месте мы будем скверно спать, и это неизбежно отразится на работоспособности. А тут еще старший механик попросил обеспечить ему три спокойных дня для переборки одного из главных дизелей. Значит, надо снова попытаться проникнуть в лагуну…
На следующее утро мы вошли в Главный пролив и в широкой излучине бросили сразу три якоря — два носовых и один кормовой. Вскоре начался прилив. Зеленый поток грозил сорвать «Калипсо» с якорей и посадить на мель в лагуне. Монтюпе пустил обе машины, мы с Саутом маневрировали в помощь якорям.
Фалько вызвался проверить якоря. В маске, с дыхательной трубкой он спустился с катера в стремительный поток. Держась рукой за веревочную петлю, Фалько погрузил голову в воду и другой рукой стал подавать сигналы рулевому, направляя движение катера. Оказалось, что все три якоря лежат на твердом коралловом грунте, сглаженном приливно-отливными течениями. Доложив об этом, он снова окунул голову. Катер кружил, разыскивая неровное дно, но Фалько всюду видел только гладкий коралл.
Саут засомневался:
— Что-то не верится мне, чтобы этот германский крейсер…
Все-таки нам удалось удержаться на месте. А когда кончился прилив, мы поспешили нарастить тросы и цепи и разместили якоря на большой площади, чтобы противостоять отливу.
Как мы ни тревожились за корабль, к беспокойству примешивалось задорное чувство: если победим приливы и отливы, нас ждет вознаграждение! А победить очень хотелось, Альдабра с первого взгляда очаровал всех. Что-то сулит нам барьерный риф, кто обитает в громадных серых «грибах» в лагуне, в мангровых зарослях, под сенью панданусов? Судя по обилию птиц, здесь подлинный птичий заповедник.
Стаи олушей вылетали в море и возвращались с набитыми желудками, неся в клювах рыбу птенцам. Но огромные фрегаты, которые выжидательно парили в небесах, бросались на добытчиков, заставляя их уступить рыбу. Больше того, они преследовали олушей до тех пор, пока те не отрыгивали проглоченную пищу!
Якоря успешно противостояли отливу, но прилив все-таки вынудил нас вернуться на беспокойную стоянку за барьерным рифом. До наступления сумерек мы успели совершить несколько вылазок на катерах. Осмотрели большие коралловые «грибы»; одни были величиной со стог, другие — словно островки. Никто из нас не видел ничего подобного. Причудливые образования напоминали подводные колонны Фарасанского района, только поднятые на двадцать футов над поверхностью воды и подточенные снизу бурными течениями. В серую массу были вкраплены ветвистые белые кораллы. Под шляпками «грибов» вода выточила и устелила белым песком арки и гроты, в которых танцевали рыбы. В одном тоннеле в сорока футах от входа прорвавшийся сверху солнечный луч освещал восхитительный маленький пляж — как раз для влюбленной пары…
Симона, Дюма и я решили обследовать всю внутреннюю лагуну из конца в конец. Войдя через узкий проход в восточной части атолла, мы увидели на берегу заброшенную пальмовую хижину и рядом с ней огромную, футов двадцать высотой, кучу выбеленных солнцем костей морской черепахи. Течение увлекло нас к мангровым зарослям, которые на два фута ушли в соленую воду. Мы заглушили мотор, чтобы не пугать лесных жителей, и бесшумно заскользили по коридорам под навесом листвы. Качурки, олуши, цапли и фрегаты сидели в ряд на ветвях и узловатых корнях. Сейчас царило перемирие, но скоро опять начнется драка из-за рыбы. Из воды торчали остроконечные плавники: в тени, почесывая брюхо о теплый песок, дремали хищницы. Дом отдыха «Альдабра» обслуживал также и акул…
Как ни мала осадка нашего катера, мы сели на мель в лагунном лесу. Сразу вспомнили, что скоро начнется вечерний отлив. Ночевать в открытой лодке среди затопленных джунглей нам не улыбалось, и мы стали вслепую выбираться из зарослей, стараясь найти такие коридоры, которые привели бы нас к Саузерн-Айленд, самому крупному сегменту атолла. Выйдя на опушку, мы увидели его совсем близко, но путь преграждали многочисленные отмели. Отлив уже начался, и нам поминутно приходилось вылезать из лодки, чтобы столкнуть ее с мели. Уже смеркалось, когда мы втащили катер на песчаный бугорок. Три чахлые пальмы свидетельствовали, что этот клочок не затопляется приливом, и мы обмотали чалку вокруг ствола.
Собирая плавник для костра, Дюма вдруг выпрямился и жестом обвел мерцающую во мраке лагуну:
— До чего же здесь здорово!
Мы погрелись у костра, поужинали и легли спать на подстилке из шуршащих пальмовых листьев. Песчаный бугор и три пальмы — на таких островках художники-юмористы любят помещать жертвы кораблекрушений…
Утром, как только лагуну заполнила зеленая вода, мы через внутреннее море пошли обратно к «Калипсо».
Полчища морских черепах со всех концов экваториальной части Индийского океана плывут на Альдабру, чтобы отложить яйца в здешних дюнах. Лучшим на острове охотником на черепах был подвижный, атлетически сложенный негр Мишель. Он не раз выходил на своей долбленке в открытое море.
Вместе с Мишелем и его товарищем отправился на промысел один из членов нашей команды. Оружием Мишеля было гарпунное древко со стальным зубцом, к которому был прикреплен линь. Охотник вонзал это копье в панцирь, древко отделялось, и черепаха оказывалась на поводке. Вдвоем с товарищем Мишель выбирал линь и втаскивал добычу весом около трехсот фунтов в лодку, где рыбаки переворачивали черепаху на спину.
Поймав четырех черепах, они повели сильно перегруженную лодчонку обратно. Лучи вечернего солнца переливались на желтых пластинах брюшного панциря; из глаз жертв сочились крупные вязкие слезы. Скользнув через риф, долбленка по обмелевшей лагуне подошла к берегу. Две черепахи были тут же убиты, двух других поместили в небольшую заводь, где томилось в неволе два десятка их родичей. Приливно-отливное течение легко проходило сквозь ограду из расщепленного бамбука, освежая воду в садке.
Воздав должное гуляшу из черепахи с сельдереем, наши гурманы Дельма, Бесс и Даген спросили Анжелину, что же будет с пленницами.
— О, мсье, — ответила стряпуха, — они ждут судна, которое раз в год приходит сюда с Маэ. Там черепахи превратятся в консервированный суп. Его отправляют в банках прямо в Лондон. Только сама королева да мэр Лондона, Дик Уиттингтон, видят этот суп на своем столе.
«Губер» внес небольшую поправку в эту легенду.
— Иногда наш черепаховый суп подают на приемах, которые устраивает лорд-мэр Лондона, — сообщил он.
Нашим ребятам понравилось кататься верхом на черепахах. Они быстро усвоили, что лучше подкрадываться сзади: у морской черепахи грозный клюв. Утвердившись в «седле» и держась за передний край панциря, можно было рассчитывать на увлекательную, но, увы, чересчур короткую прогулку. Черепаха просто-напросто опускалась на дно и неподвижно лежала, пока всадник не оставлял ее в покое.
 Один молодой научный сотрудник пренебрег советом остерегаться черепашьих клювов и отважно нырнул в садок. В следующий миг мы услышали громкий вопль, и храбрец стрелой перемахнул через бамбуковую ограду. По бедру его текла кровь.
Один молодой научный сотрудник пренебрег советом остерегаться черепашьих клювов и отважно нырнул в садок. В следующий миг мы услышали громкий вопль, и храбрец стрелой перемахнул через бамбуковую ограду. По бедру его текла кровь.
На Альдабре нам очень пригодились наши электрические подводные скутеры. Эти тягачи аквалангистов, напоминающие тупорылые торпеды, работают от двадцатичетырехвольтовых батарей, которые питают мотор мощностью в одну лошадиную силу и обеспечивают на два часа тягу в двадцать восемь фунтов. Балласт рассчитан так, чтобы отрицательная плавучесть скутера под водой равнялась двум фунтам. Ныряльщик держится за две ручки в задней части тягача; в правой ручке находится единственный рычаг управления — комбинированный стартер и акселератор, включаемый нажатием пальцев. Для лучшей обтекаемости и чтобы струя не била ныряльщику в маску винт помещен в нижней части скутера. Если надо изменить направление, достаточно изогнуть тело или повернуть ласты; подводные крылья и рули не нужны. На одном скутере мы в носовой части установили 35-миллиметровую кинокамеру, а спуск ее вывели на левую ручку. Наши «торпеды» развивали скорость около трех узлов. Под водой это не так уж мало, напротив, ныряльщику такая скорость кажется большой. Но быстрота движения — не единственное преимущество электротягача. Всего важнее для ныряльщика увеличение радиуса действия и экономия сил, благодаря которой и воздуха хватает на большее время. Однако по-прежнему работа аквалангиста подчинена таблицам для погружения со сжатым воздухом. Сколько бы воздуха ни оставалось в баллонах, как только достигнут предел времени и глубины, нужно подниматься. Мы поочередно уходили под воду со скутерами, наслаждаясь скачками на электрических рысаках, которые легко скользили во всех трех измерениях. Бреющим полетом проносились над самым дном, мчались под зонтами кораллов, пронизывали извилистые проходы, вторгались в темные тоннели. Вонзались в завесы золотых рыб, которые тотчас словно таяли в воде. Выслеживали груперов и гонялись за ними. С «электрической рыбой» в руках мы сами чувствовали себя сильными и стремительными хищниками. Приметишь что-нибудь особенно занимательное, отпускай скутер — он плавно ляжет на дно — и подплывай ближе. Нагляделся — «Привет!», берись за ручки и мчись дальше. Рыбки встречали скутер совсем иначе, чем обыкновенного аквалангиста. Они спешили уйти в укрытие, и казалось, пышно цветущий риф сжимается на глазах. Поднявшись на поверхность после аквабатических трюков со скутером, мы еще долго слышали гул в ушах. Быстрая смена давления влияла на евстахиевы трубы и, вероятно, на кровообращение. Но когда снова наступает твоя очередь, ты мгновенно забываешь про все неприятные ощущения. Кто, откупоривая бутылку доброго вина, вспоминает последнее похмелье? Приметив среди рифов морских черепах, наши ребята вызывали их на состязание. Правда, — эти природные гребные суда могли поворачивать и стартовать так резко, что за ними никак не поспеть, но Дюма, Фалько и Дельма ухитрялись и здесь оседлать черепах. Незаметно подкрадутся, ухватятся за панцирь — и вот уже плывут наперегонки со скутером. Фалько наловчился даже управлять черепахами. Но они дышат легкими, поэтому игра довольно быстро заканчивалась тем, что пленница почти вертикально устремлялась вверх. Несколько раз Фалько ехал на черепахе до самой поверхности, потом отказался от этого удовольствия: очень уж больно ушам. Из четырех артерий альдабрской лагуны наиболее энергично перекачивал воду пролив Джонни — тесная, глубокая, извилистая расщелина длиной около пятисот ярдов. Скорость приливно-отливных течений, несущих жизнь рифу и пелагическим организмам, достигала здесь пятнадцати узлов. У «ворот» в ожидании прилива собираются тысячи рыб. По сути дела, пролив Джонни представляет собой двойной риф, и его стены, разделенные расстоянием от шести до десяти футов, — это подлинные коралловые «клумбы». Увидев сверкающие мириады рыб, вливающихся в лагуну, мы с Фалько решили присоединиться к ним. Попросили рулевого проследить за нами с катера на всем пути; я взял фотоаппарат, Фалько — акулью дубинку, и вот мы уже скользим под водой, наслаждаясь скоростью. Никаких усилий, поток работает за нас! Обычно аквалангист, чтобы не перегружать легкие и ноги, ползет со скоростью не больше одного узла. Здесь наша скорость многократно возросла. Мимо проносились великолепные кораллы, от которых при таком стремительном движении лучше держаться подальше. Вместе с нами, застыв в самых неожиданных положениях, живым потоком скользили рыбы. А как захватывало дух на подводных перекатах! Слегка ошалев, словно закружившись на роликовых коньках, мчались мы прямо на коралловую стену, и столкновение казалось неотвратимым. В широкой излучине мы попали в плавный водоворот и задержались в нем, чтобы посмотреть на рыб. Из грота напротив появился большой групер. Борясь с потоком, он пошел было к нам, но повернул обратно: видимо, мы показались ему слишком крупной закуской. Против течения с изумительной легкостью скользила тринадцатифутовая синяя акула. Для нее пролив Джонни был бесподобным пастбищем: пища сама плыла в разинутую пасть хищницы! Каранги, барракуды и причудливые коралловые рыбки тоже успешно боролись с водяной лавиной. Правда, иногда их все-таки сносило напором воды. Покинув свое убежище, мы с Фалько снова влились в поток. Одно за другим навстречу промелькнули три акульих рыла, так быстро, что ни акулы, ни мы не успели решить, как тут реагировать. Но вот течение замедлилось, снизу поднялось белое дно, впереди родилось лазурное сияние… Наши маски вынырнули над залитой солнцем гладью лагуны. Вот и катер спокойно ждет у грибовидного островка, облепленного фрегатами. Подводный слалом стал подлинной страстью калипсян. Подогнав катер к входу в пролив, мы ныряли двойками и упивались аттракционом. Словно одержимые, мы снова и снова совершали головокружительные полеты в подводном парке. Сперва нам показалось, что структура пролива очень проста — обыкновенный коридор, прорезанный приливно-отливными течениями. Лабан и Дюма обнаружили, что это не совсем так. Когда настала очередь Лабана впервые нырнуть в пролив Джонни, он не последовал за Дюма, а пошел вдоль другой стенки. И вдруг его увлекло в боковой ход, которого до тех пор никто не замечал. Дюма увидел, как ласты Лабана исчезают в расщелине, тотчас свернул туда и сам попал в грот. Ему удалось поймать Лабана за ногу; теперь они вместе скользили по сужающемуся ходу. Казалось, стенки вот-вот сомнут их, но Дюма вовремя ухватился свободной рукой за мангровый корень. Еще несколько футов, и Лабан напоролся бы на острые коралловые зубцы. Дюйм за дюймом, борясь со стремниной, он подтягивался к Дюма; наконец ему тоже удалось взяться за корень. Держись, коли хочешь быть жив!.. Катер ждал в конце пролива, аквалангисты не появлялись. Тогда рулевой пошел обратно против течения. Немало тревожных минут протекло, прежде чем с катера подали конец Дюма и Лабану… Скажите кому-нибудь из калипсян магические слова «пролив Джонни» — на вас обрушатся восторженные воспоминания о единственном месте, где аквалангисты плавали так же быстро, как рыбы! Удивительный живой памятник древности встретился нам на Альдабре по соседству с поселком: тысячи огромных — до пяти футов в длину — сухопутных черепах. Альдабра и Галапагосские острова — единственные на земном шаре места, где уцелели эти доисторические рептилии. Мы садились верхом на живые танки, но черепахи, сделав несколько шагов, ложились и втягивали в панцирь ноги и голову. А просто сидеть на буром валуне не так уж интересно. Усилиями этих травоядных все лужайки на острове были превращены в аккуратно подстриженные газоны. Никакие враги как будто не угрожали черепахам, трава и кустарники поставляли достаточно пищи. Живи хоть до ста лет. Если исключить болезни, им грозила только одна беда — упасть на спину в промоину и погибнуть от голода. По капризу судьбы черепахам поневоле приходится искать ямы с дождевой водой: они помногу пьют и любят купаться. Но оказалось, что у черепах на Альдабре есть опаснейший враг, способный совершенно их истребить. Об этом мы узнали во время вылазки на Саузерн-Айленд — покрытую почти непроходимой чащей коралловую гряду протяженностью двадцать миль. Расцарапав руки и изодрав ботинки, тяжело дыша, мы проникли в глубь зарослей всего на несколько сот футов. Чтобы расчистить бульдозером южный сегмент атолла, понадобилась бы не одна неделя. На Саузерн-Айленд черепашьи скелеты попадались нам уже не только в промоинах. Рептилии не выдерживали конкуренции с одичавшими козами, которые поедают редкую траву, а также листву на высоте до трех футов. Число коз на Альдабре росло очень быстро, и охотники ничего не могли поделать: пробейся сквозь эту чащу! Пока козы освоили только южный сегмент атолла, но «губеру» уже снились кошмары: козлиная чета переплывает через пролив на западный сегмент и сжигает его на медленном огне, причем пламя почему-то зеленого цвета… Альдабрские пляжи были своеобразной газетой; каждое утро они рассказывали нам, что происходило ночью. Широкие, точно трактор прошел, следы от панцирей — это крупные заголовки, сообщающие, где морские черепахи зарыли яйца в песок. Шрифт помельче — крабьи норы; знаки препинания расставляли песочные блохи, которые только и ждали заката, чтобы впиться в наши голые ноги. Были и кроссворды, начерченные когтями птиц — ночных охотников на крабов. Вдоль линии прилива рассыпан набор: отбитые от рифа и измельченные трением о дно обломки коралла. Здесь можно найти все буквы латинского алфавита как строчные, так и заглавные. Даген подарил нашему шкиперу литеры, из которых складывались слова: «Франсуа Саут», «Капитан», «Калипсо», «Тулон». Во время отлива из внутренней лагуны на внешнюю прилетали на промысел черные и белые цапли. Вечером с террасы лаборатории мы видели тысячи голенастых птиц, закусывающих с коралловых тарелок. Смотришь на этот пестрый риф, на эти полчища птиц и представляешь себе, как выглядел мир, когда его еще не наводнил человеческий род. С наступлением темноты, когда пляж в звездном свете казался заснеженным, выходили из своих убежищ ночные животные. Крабы-отшельники волочили тяжеленные раковины. (Один раз мы нашли двух таких крабов в развилке пандануса на высоте девяти футов над землей!) Заступали на смену уборщики: зеленые крабы-привидения. Кто-то из берегового отряда, бросив вечером на землю горящий окурок, вдруг увидел, как огонек побежал по берегу! Краб нес его, точно факел. Участникам экспедиции довелось наблюдать здесь совершенно небывалое зрелище. Ночью над атоллом появилась небольшая, но буйная грозовая туча, пошумела я ушла к Африке. В это время со стороны Азии над морем всплыла полная луна, и внезапно на фоне тучи зажглась радуга! Отчетливо выделялась бледная дуга, а прищурившись, можно было даже различить отдельные краски. Лунная радуга продержалась больше минуты. Мы восхищались чудесами Альдабры, а на душе копилась грусть. Увы, недолго еще существовать обаянию здешних мест… Сейшельские власти задумали срочно сдать Альдабру в аренду. До сих пор экономика архипелага опиралась на денежные переводы, которые слали домой три тысячи военнослужащих «Сейшельского батальона» британского саперного корпуса, размещенного в зоне Суэцкого канала. Эти деньги смазывали колеса бизнеса и компенсировали низкий уровень заработков. И вдруг переводы перестали поступать: Англия отправила батальон домой на расформирование. Один кандидат в арендаторы собирался наладить на Альдабре рыболовный промысел, вялить рыбу и засаливать мясо морских черепах. Другой предлагал устроить в лагуне ферму пекинских уток. Третий намеревался свести мангровые заросли и пустить дешевую древесину на сырье для картона. Появился даже зловещий проект создать на Альдабре курорт. Осуществление любого из этих замыслов обрекало на гибель первозданную природу атоллов. Мы так привязались к Альдабре, что воспринимали это как угрозу своей собственности. И мне пришла в голову мысль: почему бы нам не арендовать Альдабру? Превратим ее в заповедник, пригласим ученых мира сообща учредить тропический научно-исследовательский центр на острове, который почти не осквернен человеком. К тому же Альдабра — идеальное место для метеостанции, обслуживающей Восточную Африку. Я перебирал в уме десятки учреждений, к которым можно было бы обратиться. Отправившись на Маэ, я изложил свои планы сейшельскому губернатору, сэру Уильяму Эддису. Он выслушал меня сочувственно, но сказал, что время не терпит, он обязан незамедлительно найти применение атоллам. Я заполнил заявление об аренде на пятьдесят лет; цель — создание заповедника, исследовательские работы, учреждение метеостанции. Как только мы вернулись во Францию, я тотчас вылетел в Лондон, где представил свой проект в министерство по делам колоний. Беседовал о задуманном заповеднике с леди Черчилль. Выступил по телевидению с призывом к британскому народу спасти Альдабру, давал газетам интервью. Результаты были неутешительные, но, во всяком случае, я сделал все от меня зависящее, чтобы защитить коралловую святыню. В конце концов мое заявление вернули, отдав предпочтение дельцу, который собирался свести мангровый лес. Год спустя «Калипсо» снова пришла на Маэ. Сэр Уильям рассказал нам, что арендатору было предъявлено условие: не трогать Саузерн-Айленд. Чтобы хоть что-то спасти, южный сегмент атолла объявили заповедным. Конечно, черепахи не смогут противостоять козьему натиску, но другие представители животного мира получили отсрочку. Подойдя к Альдабре, «Калипсо» стала на якорь возле знакомого поселения. Мы увидели в бинокль десятки людей на белом пляже. Год назад в этот час на отмелях охотились полчища цапель; теперь их было совсем мало. С берега донесся звук гонга: столовая приглашала обедать. Фалько и Дюма помрачнели. Перемахнув через барьерный риф, к нам шла пирога: на веслах Мишель и еще трое негров, впереди добродушный викинг — «губер» в своем серебристом шлеме. Мы от души приветствовали его. «Губер» был совершенно убит, у него появились сотня дел и тысяча печалей. Заочный владелец заявлял, что продукция, которую поставляет остров, не оправдывает посылку за 1600 миль судна с припасами для островитян. Новые поселенцы недовольны отсутствием женщин, кино, кафе и пива. Постоянно не меньше десяти человек числятся больными: переломы, растяжения, ссадины… Днем и ночью «губера» вызывают спасать экскурсантов, застрявших со своими лодками на мелях в лагуне. Посадочной площадки для самолетов нет, проходы в барьерном рифе не расширены — арендатору это не по карману. Словом, положение отвратительное. Мы с растущим облегчением слушали печальную повесть. Конечно, жаль Гуро, но зато похоже, что остров сумеет отбить вторжение бизнеса! Поужинав в доме «губера», мы вышли погулять под знакомыми пиниями, которые выстроились вдоль белого пляжа. Дремали черепахи, тихо вздыхали облитые лунным сиянием деревья. Вот кладбище, на котором покоятся жертвы прежних попыток освоить остров. Свет луны падал на обветшалые кресты и каменные надгробья с китайскими и арабскими письменами. Рядом — пустые бутылки и банки, в которых некогда стояли цветы. Птицы, крабы и черепахи сновали по шуршащему ковру хвои на могилах.

Глава десятая
Риф Мирный
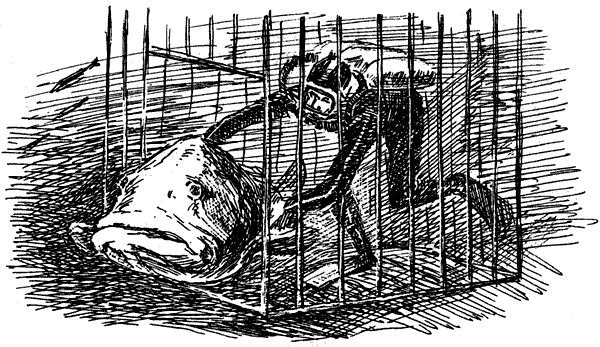
Теплая ночь, «Калипсо» идет на юг в Индийском океане, Луи Мерден и я беседуем на корме. Он мечтал понырять среди тропических рифов, сфотографировать побольше разных рыб.
Я показал на полоску в воде:
— Летучая рыба. Через день-два ты сможешь фотографировать их тысячами, и не надо нырять. Мы подходим к великому поясу летучих рыб, окружающему земной шар по экватору. Большие, как макрель, и до самого спардека долетают…
— Не разыгрывай, — ответил корреспондент «Нейшнл джиогрэфик». — Они взлетают самое большое на два фута. Я их в Карибском море столько повидал…
Мерден качнулся от сильного удара по голове. На палубе рядом с ним билась летучая рыба весом с полфунта. Я подвел Луи к зеркалу: на лбу у него была красная метина, прилипла рыбья чешуя. Мы еще смеялись, когда услышали дикие вопли из каюты Маля. Через открытый иллюминатор летучая рыба шлепнулась прямо в лицо спящему кинооператору.
На завтрак мы собрали на палубе десять фунтов рыбы. Посмотрите на только что приземлившуюся летучую рыбу, она выглядит совсем заурядно, если не считать характерного асимметричного хвоста. Но расправьте ее грудные плавники — и вы увидите словно длинные, прозрачные крылья, голубоватые, с оранжевыми переливами. Днем летучая рыба редко сталкивается с судном, напротив, она старается уйти от него. Похоже, что полет всегда вызван стремлением спастись от преследующего хищника. Какими же представляются ему летучие рыбы? Посмотрим из подводной обсерватории: вот они плывут у самой поверхности, и белое брюшко сливается с блестящим сводом. По тревоге летучая рыба набирает ход и под острым углом идет вверх.
Остальное хорошо видно с палубы. Высунувшись из воды, рыба тотчас расправляет «крылья» и поворачивает их, чтобы увеличить подъемную силу. Длинная нижняя лопасть хвостового плавника часто-часто колеблется — рыба набирает против ветра скорость для взлета. И вот уже парит над поверхностью моря. Летучая рыба не машет «крыльями», как птица. Она планирует, но при этом нижняя лопасть хвоста действует, как подвесной мотор. Мы не раз наблюдали полеты на расстояние свыше шестисот футов. Заключает полет маневр, призванный обмануть преследователя: прежде чем вернуться в воду, летучая рыба круто меняет направление, даже идет обратно по ветру.
Крылатые рыбы отлично преуспевают как вид, хотя их постоянно атакуют стремительные враги — днем каранги и корифены, ночью кальмары. Само умение планировать чревато для них опасностью: когда летучих рыб преследуют подводные хищники, над водой их подстерегают слетающиеся со всех сторон морские птицы.
Зимой 1955 года «Калипсо» шла из Диего-Суареса на Мадагаскаре к островам Альдабра. Переход был трудный, юго-восточный пассат изрыл волнами поверхность моря. Возле Ассампшена (самый южный остров группы) я решил остановиться часа на три-четыре — смыть соль с палубы и надстроек и дать измученным людям отдохнуть, прежде чем идти к главному атоллу, коварные рифы которого заставляют постоянно быть начеку. Карта показывала, что в западной части Ассампшена можно укрыться от пассата в заливе за песчаной косой; глубина для стоянки хорошая. Качаясь на пенистых валах, мы увидели впереди согнутые ветром высокие стволы филао. Наконец «Калипсо» вошла в тихий залив, над которым реял ласковый зефир. Белым полукругом изогнулся песчаный пляж.
Фалько, стоя на носу, перегнулся через поручни:
— Вода как стеклышко!
На корме зашипел сжатый воздух: Жан Дельма уже заряжал тройные баллоны. Бросили якорь у самого берега, где было 60 футов под килем, и я объявил всем, что мы постоим здесь немного, осмотримся, а под вечер пойдем к главному острову.
Первым ушел под воду Дельма. Ему открылись потрясающие просторы; в любом направлении видимость двести футов. Дельма знал сказочные рифы Красного моря, бывал на Антикитире и Альдабре, но все эти места не шли ни в какое сравнение с великолепием подводного ландшафта рифа Ассампшен. Кораллы невиданно роскошные, небывалое количество непуганой рыбы. Дельма окружили подводные обитатели, раскрашенные во все цвета радуги.
Сутулясь под весом своих доспехов, он вскарабкался по трапу на палубу и воззвал ко мне:
— Не пойдем на Альдабру, останемся здесь! Тут мы гораздо вернее подружимся с рыбами. Только скажи всем, чтобы не брали с собой под воду ружья и чтобы не плавали быстро, не делали резких движений. Никакого динамита! И знаешь что: попробуем подкармливать рыб. Посмотришь, что получится.
Не успел я ответить, как новоявленный Святой Франциск уже был в камбузе и делал рыбам корм из остатков завтрака. Со вторым звеном ушел под воду Мерден; он тоже сразу «заболел» Ассампшеном.
— Жак, это что-то невероятное! Здесь все наоборот! Хочу снять рыбу крупным планом — она подходит настолько близко, что не наведешь резкость! Отступаю назад — рыба за мной.
Третья двойка — степенные ветераны Дюма и Фалько — вышла на поверхность, захлебываясь от восторга. Потом они догадались все-таки вытащить изо рта загубники и заговорили членораздельно о бесподобном зрелище, которое предстало их глазам под водой. Добиться от кого-нибудь трезвого, делового отчета было невозможно. Надо погружаться самому.
Я ушел по трапу под воду и тотчас, не отходя от корабля, был покорен рифом Ассампшен. Поднялся на палубу и объявил во всеуслышание, что мы простоим здесь столько, сколько позволят наши запасы пресной воды.
— Давайте норму установим! — немедленно предложил кто-то. — Растянем запас подольше!
Альбер Фалько, Фредерик Дюма, Эмиль Робер, Луи Мерден, Жан Дельма, Анри Пле, Октав Леандри, Жан-Луи Тейшер, Луи Маль, Пьер Гупиль, Эдмон Сейшан, доктор Дени Мартен-Лаваль, Симона и автор этих строк были первыми подводными пловцами в водах Ассампшена. Остров представляет собой классическую коралловую структуру. На двести — триста футов от белого пляжа, переливаясь красками и солнечными бликами, протянулся мелкий барьерный риф. С внешней стороны он круто обрывается хаотическим нагромождением пронизанных гротами коралловых массивов; на глубине примерно двухсот футов от подножия обрыва в океан уходит покрытое серыми отложениями ровное дно. На внешней грани рифа каждый фут представляет собой несравненное зрелище, великолепнейшее собрание всех кораллов, какие только есть на свете. Вдоль этого барьера мы встретили едва ли не все виды рыб, знакомых нам по тысячам разных мест, и множество совершенно незнакомых. Некоторые были вообще неизвестны науке. Невмешательство и сосуществование были лозунгами этого мира, обитатели которого относились друг к другу с взаимным интересом и доверием. Словно тут отменили борьбу за существование и учредили Королевство Мира.
Сорок дней тринадцать подводных пловцов проводили в обществе рыб столько времени, что отощали до неузнаваемости. Обессиленные, карабкались мы вверх по водолазному трапу, когда наставала пора есть или спать, но каждый с нетерпением думал о новом погружении. Кожа покрылась незаживающими болячками. Невыносимо чесались места, обожженные кораллами или прозрачными сифонофорами. У Тонтона (прозвище Дельма) разыгралась лихорадка. Полежит несколько часов, стуча зубами и трясясь в ознобе, — и опять в воду. Судовой врач никак не мог определить болезнь; во всяком случае, это не была малярия. И мы назвали ее тонтонит. Вскоре все до одного были поражены тонтонитом. Должно быть, это какой-то вид аллергии.
Над ровной гладью серого дна тут и там торчали песчаные конусы высотой от шести до двенадцати дюймов — миниатюрные вулканы. Время от времени происходили даже извержения. Видимо, в грунте укрывались животные. Лежа на дне, Мерден терпеливо подстерегал извержение с фотоаппаратом. Как назло, облюбованный им вулкан всегда бездействовал, а кругом непрерывно происходили извержения. Так прошло несколько дней; наконец я спустился к Мердену посмотреть, чем это он так увлекся. Распластавшись на дне, фотограф мрачно глядел на очередной упрямый вулканчик. Я выбрал конус по соседству, прицелился указательным пальцем и щелкнул большим, словно курком. Конус выбросил облачко.
После погружения Луи умолял меня открыть ему мой секрет.
— Ну, что ты, — ответил я, — просто так совпало, что я прицелился как раз перед выбросом!
Мерден потратил еще много часов и все-таки добился своего — сделал снимок. Пытаясь обнаружить стрелка, мы разрыли несколько конусов. Тщетно. Очевидно, вулканический житель отступал в глубокие подземные галереи, до которых руками не докопаться.
Эмиль Робер, марсельский кондитер, ставший профессиональным подводным пловцом, был помощником, телохранителем и табельщиком Мердена, который никак не мог оторваться от уникального живого каталога рыб. Однажды Робер рассказал нам про какую-то совершенно необычайную рыбу, которая скрылась прежде, чем Луи успел ее сфотографировать. Тело рыбы было расписано правильными белыми и кирпично-красными квадратами, словно шахматная доска! Рассказ Робера был встречен ехидными замечаниями насчет глубинного опьянения. Наше недоверие возмутило Эмиля, и с того дня он упорно заставлял своих партнеров по погружениям вместе с ним охотиться на шашечную рыбу. Но она словно сквозь землю провалилась, и его совсем задразнили.
Как-то я снимал эпизод подводного кинофильма; яркие светильники освещали черную горгонарию, возле которой работали пловцы. Вдруг Робер что-то буркнул, и от его легочного автомата поплыли кверху огромные пузыри воздуха. Палец Эмиля указывал на черную ветку, а на ней пристроилась небольшая, около трех дюймов, рыба, будто выложенная квадратами пластика.
После этого случая я бы поверил, даже если бы мне сказали, что возле рифа под водой прогуливается осьминог в котелке, с сигарой в зубах. Потом мы рассказывали про необычную рыбку ихтиологам; никто из них не слыхал о такой твари.
Постепенно «Калипсо» стала своего рода островом-спутником Ассампшена со своим подводным населением. Когда смеркалось, появлялись стаи двухфутовых ханосов, которые правильным строем кружили около судна, высунув голову из воды. Человеческий голос, луч прожектора, плеск ластов — словом, малейшая неосторожность с нашей стороны, и полчища маленьких ртов и глаз мигом исчезали.
Во время скучных, но обязательных остановок для декомпрессии в десяти футах от поверхности мы приметили одинокую барракуду длиной около четырех футов. Она всегда плавала поодаль, словно сторонясь нас. Обратили также внимание на то, что нас не покинули три дюжины прилипал, поселившихся на днище «Калипсо», когда мы в двух тысячах миль от Ассампшена истребили их хозяек-акул. Вероятно, они питались крошками с нашего стола. Возвращаясь после погружения, мы устраивали поверку и каждый день недосчитывались одной-двух прилипал. — Куда они девались? Когда их осталось всего около десятка, Фалько решил непременно разгадать загадку. Он начал погружаться с утра пораньше и в конце концов был вознагражден зрелищем, какого никто из нас не видел за тысячи часов под водой.
Прямо из воды он явился к столу, за которым мы завтракали.
— Я видел, как барракуда схватила прилипалу! Шел футах в ста от корабля, вдруг она метнулась к корме. Быстро подплываю ближе, смотрю: перекусила прилипалу пополам, одну половину проглотила, а со второй половиной ушла.
Вот оно что! «Калипсо» обеспечила кров и стол барракуде. И мы нарушили наш уговор не убивать в водах Альдабры.
— Бери свой арбалет, — сказал я Фалько.
Он взял гарпунное ружье и одним выстрелом казнил барракуду.
Три причины вызывают отвращение к барракуде: злая, угрожающая морда, мерзкая привычка подплывать вплотную к ногам человека и плотно приставшая к ней слава людоедки. Правда, эта слава — лишь догадка, основанная на двух первых свойствах. И все же…
В начале нашей стоянки у рифа Ассампшен я однажды на шестидесятифутовой глубине снимал крупным планом обитателей роскошного кораллового отеля. Когда кончилась лента, я передал камеру ассистенту, чтобы он отнес ее на судно, а сам решил использовать оставшийся запас воздуха для экскурсии.
Проводив своего спутника взглядом, я повернулся и… увидел сплошную стену барракуд. Через маску, ограничивающую поле зрения наподобие шор, я поглядел вверх, вниз, в обе стороны. От самого дна до поверхности моря вырос барьер из барракуд среднего размера. Я был один, я был безоружен, и я невольно содрогнулся. До сих пор мы просто не обращали внимания на барракуд, я давно в печати объявил, что они не страшны подводному пловцу. В этот миг, оказавшись с ними лицом к лицу, я был далеко не уверен в правильности своего суждения. Почем знать, может быть, стадная психология такого косяка способна вдруг побудить хищниц на решительные действия…
«Перестань бояться! — велел я себе. — Укройся в рифе». Повернулся кругом — риф закрыт барракудами… Сердце отчаянно колотилось. Живая стена толщиной в три-четыре рыбы совсем заслонила поле зрения, без единой щелочки, вращалась вокруг меня. Я медленно опустился на дно «колодца», сберегая остатки воздуха. Высокий серебристый цилиндр сделал несколько плавных оборотов вокруг оси, образованной пузырьками моего выдоха, развернулся и превратился в удаляющийся на запад занавес, сотканный из хвостовых плавников.
Во время своего первого погружения Мерден встретил групера фунтов на шестьдесят, коричневого цвета, с меняющимся светлым мраморным узором. Увесистый здоровяк подплыл к Мердену, который приготовился снять его портрет, и потыкался носом в сумку с лампочками. Луи отступил назад, чтобы поймать его в фокус. Рыба следовала за ним, явно заинтересовавшись блестящими деталями. Продолжая отступать, Мерден в конце концов сумел сделать снимок и отправился искать другие объекты. Но групер никак не отставал от него, все обнюхивал фотографа и его аппаратуру. Только Луи наметил себе сюжет, как любопытный толстяк влез в кадр. Фотограф метнулся вбок и успел все-таки щелкнуть затвором. Вынул из рефлектора использованную лампочку — групер чуть не вырвал ее у него из рук…
Рассказ Мердена о своих похождениях настолько увлек Дельма и Дюма, что они тотчас отправились в королевство групера, захватив полную сумку мелко нарубленного мяса. Здоровяк сразу подплыл к ним. Пловцы кинули ему угощение. Групер распахнул огромную пасть, и кусочки мяса исчезли в ней, словно стая птиц в тоннеле. Тогда они попробовали кормить его с рук. Он брал мясо очень аккуратно, даже бережно. Во время первого же занятия Дюма и Дельма обучили групера акробатическим трюкам, вознаграждая его мясом. Они окрестили хитроумную рыбу Улиссом.
Улисс стал нашим неразлучным товарищем. Он неотступно сопровождал нас, почесывая бока о наши ласты. После очень глубоких погружений, когда мы, держась за мерный линь, останавливались для декомпрессии на глубине тридцати футов, Улисс скрашивал нам ожидание своими затеями. Потом, проводив нас к трапу, долго торчал у поверхности — совсем как мальчишка, которому невмоготу расстаться с приятелями, но их уже позвали домой ужинать… Улисс быстро усвоил наш водолазный график. С утра пораньше он ждал у трапа первую смену и спешил за нами, твердо зная, что его неуклюжие проказы будут вознаграждены мясом из парусиновой сумки.
Улисс был близким родичем меру, знакомых нам по Средиземному морю; правда, те за двадцать пять лет, как началась подводная охота, научились относиться к человеку с недоверием. Когда мы еще только осваивали акваланг, они, подобно Улиссу, подходили совсем близко поглядеть на нас, но гарпуны исключили возможность столь близкого общения в наших родных морях. Зато в водах Альдабры у нас уже был один знакомый групер, очень похожий на Улисса. (Уж не брат ли?) Он обитал среди ветвей большого черного коралла. Мы задумали взять этот чудесный коралл для коллекции. Групер внимательно следил за всеми нашими действиями. Набросив на «дерево» строп, мы вырвали его с корнем самой мощной лебедкой «Калипсо». Групер обеспокоенно плыл вдогонку за медленно скользившим вверх кораллом, несколько раз возвращался к тому месту, где прежде было его жилье. И когда оно исчезло над водой, физиономия групера вытянулась еще больше, чем обычно.
Улисс устроился удобнее, он занял расщелину в рифе. Правда, этот толстяк едва помещался в ней, но зато два выхода гарантировали ему безопасность. Нора находилась на глубине тридцати футов; перед ней была посыпанная белым песочком терраса. Дверные косяки были отполированы боками жильца. Не хватало только дощечки с фамилией…
Когда Улисс был в хорошем настроении (а он отличался переменчивым нравом), он каждому позволял гладить себя, чесать себе голову. Держа в руке мешочек с мясом, Дюма медленно кружился в воде на три счета. Улисс тянулся за приманкой и тоже включался в танец. Дюма принимался вальсировать в другую сторону — и Улисс за ним. Он двигался настолько плавно и ритмично, что нам удалось снять на кинопленку этот вальс.
Но иногда Улисс бывал не в духе. Мерден и Маль приготовят сцену для съемки, а он лезет в кадр и мешает. Его гонят прочь. И Улисс уходит, хлопнув дверью: так сильно ударит хвостовым плавником, что даже слышно «бум!». Особенно возмущался он, когда мы забывали прихватить мешочек с едой. Рассердится, отойдет футов на тридцать в сторонку и потом ревниво соблюдает дистанцию. А на следующий день, забыв все обиды, с утра ждет нас подле водолазного трапа.
Дельма разработал особые приемы кормления Улисса, так как процедура эта все-таки требовала осторожности. Едва из мешочка появлялся кусочек мяса, как огромная пасть спешиласхватить его. У групера нет настоящих зубов, но полость рта усеяна твердыми бугорками, от которых вашей руке может не поздоровиться.
Однажды утром Улисс сделал неожиданный выпад, вырвал мешочек из рук Дельма и проглотил целиком. После чего бесстыдно удалился, великолепно понимая, что больше угощения не будет. А на следующее утро он не пришел к трапу. Не было его и в нашей подводной студии. Под вечер пловцы отправились искать Улисса. Мы нашли его лежащим на песке у входа в свое жилище. Жабры вздымались часто-часто, точно грудь больного человека. На нас он не обратил никакого внимания. И еще один день Улисс провел в постели; проглоченный мешочек явно вызвал несварение желудка. Я пошел на консультацию к доктору Мартен-Лавалю. Врач сказал, что запор может оказаться для Улисса фатальным, и посоветовал нам наблюдать за больным. На третий день бедняга лежал на боку — видно, ему стало совсем худо. Выйдя наверх, я попросил доктора что-нибудь придумать. Это был совершенно необычный случай в практике Мартен-Лаваля. В операционную такого пациента не поднимешь, и врач решил делать операцию на дому. Приготовил наркоз, ланцеты, хирургические зажимы, а также кетгут и иглу, чтобы наложить шов, когда извлекут мешочек из воспаленных внутренностей Улисса. Подобрал себе трех ассистентов. Приготовления кончились уже затемно, и мы легли спать, надеясь, что Улисс дотянет до утра.
Едва рассвело, под воду ушла разведка. Улисса не было на его террасе. Пловцы рассыпались в разные стороны, продолжая поиски. Вдруг кто-то дернул Фалько за ремень сзади. Это Улисс пришел сообщить, что все в порядке! Он был веселый и голодный. Каким-то образом ему удалось избавиться от мешочка.
Мы до последнего оттягивали посещение острова Альдабра, но в конце концов пришлось отвести четыре дня на экскурсию к большому атоллу. Выходя из залива, встретили лодку, в которой сидел один из четырех жителей Ассампшена. Он показал нам свой улов: огромного групера фунтов на шестьдесят. Все ясно — Улисс… Переход до Альдабры превратился в траурное шествие. За столом было сказано немало гневных слов о губительном воздействии человека на природу. Какое-то проклятие тяготеет над нашим родом! Благодаря врожденному отвращению к рыболовным крючкам, Улисс вырос таким здоровяком. Но мы приучили его к людям, кормили его из рук, он утратил бдительность и в конце концов клюнул на коварную приманку.
Приподнятое настроение, с которым мы открывали Ассампшен, улетучилось, и с Альдабры мы возвращались к рифу унылые-преунылые. Без Улисса подводная страна чудес будет не та. «Калипсо» еще не успела бросить якорь, а Фалько, не выдержав, уже прыгнул с дыхательной трубкой за борт и поплыл к волшебному рифу. Над нашей киностудией он взмахнул ластами и ушел под воду. И выскочил на поверхность, словно ошалелый дельфин:
— Улисс жив!
Только мы спустили водолазный трап, как примчался наш друг, горя нетерпением возобновить игры. Улисс жил обособленно, но футах в ста от его квартиры с обеих сторон обитали еще два экземпляра, чуть меньше ростом, которые относились к людям довольно равнодушно. Работая в этом районе, мы приметили, что груперы никогда не нарушали границ соседа. У каждого было свое княжество. Если мы заплывали за пределы владений Улисса, он неизменно останавливался у незримого рубежа, и дальше нас сопровождал другой лендлорд. Нам ни разу не довелось наблюдать пограничных инцидентов, хотя мы подозревали, что без них не обходится. Впрочем, строгие правила не распространялись на двух других груперов, которые плавали где хотели. К подводным пловцам они относились когда как — чаще всего агрессивно, но иногда вполне уравновешенно. Мы решили, что это самки. Однажды мы застали обеих в обществе Улисса; они явно заигрывали с ним, причем все трое стали совсем белыми!
Мы пробовали подкармливать и других обитателей рифа. Они нисколько не возражали. Плывешь, разбрасывая кусочки мяса щедрым жестом сеятеля, и отовсюду собираются тысячи рыб. Особенно много было красивых желтых луцианов; они следовали за нами по пятам, подхватывая манну небесную. Улисс не мог без ярости смотреть, как мы кормим других. Он налетал на мешочек, кусал наши ласты, дергал нас за плавки и ударами могучего хвоста разгонял мелюзгу.
Мы задумали снять на кинопленку, как золотой рой луцианов скользит над рифом за человекорыбой, но Улисс все время срывал съемки. Торчит перед объективом, бодает камеру, светильники. Не хотелось без конца щелкать Улисса по носу и портить с ним отношения, и Фалько придумал способ обуздать проказника. Мы опустили на дно «акулоубежище». Улисс внимательно следил за тем, как желтая клетка ложится на дно и отворяется дверь. Дельма кинул в клетку приманку — групер заплыл внутрь. Тотчас дверь захлопнулась. Улисс попал в предварительное заключение. В воспитательных целях Дельма стал кормить стаю луцианов возле самой клетки. Групер мрачно наблюдал за ним. У поставщика двора не хватило духу долго мучить своего друга, и он решил, что узнику нужно особое угощение. Как раз в этот день Фалько казнил барракуду, которая уписывала прилипал. И мы задумали посмотреть, придется ли двадцатифунтовая барракуда по вкусу Улиссу; длиной она не уступала ему, но была, конечно, тощей по сравнению с этим толстяком. Мы отнесли истекающую кровью разбойницу к клетке и просунули ее голову между прутьями. Улисс мгновенно проглотил рыбину почти наполовину. Правда, ее хвост торчал из пасти групера, но это его ничуть не смущало. Вечером, когда мы прощались с Улиссом, треть барракуды еще была не проглочена. Зато утром от нее уже ничего не осталось. Как он ухитрился это сделать? Барракуда была твердая, как палка, она не могла сложиться в его желудке, наверное, ее голова упиралась прямо в кишечник Улисса. Видимо, желудочный сок групера постепенно растворял добычу вместе с костями. Освободится место — заглатывает дальше…
Три дня, пока мы снимали кормление прочих подводных жителей, Улисс сидел в клетке. Наконец ворота тюрьмы распахнулись. Групер внимательно посмотрел на нас, но не двинулся с места. Тщетно Дельма размахивал у него перед носом приманкой; кажется, нашему другу понравился тюремный стол и он решил не покидать клетку. Фалько вошел внутрь и вытолкал заключенного из камеры в шею. Улисс угрюмо поплыл прочь. Он двигался очень медленно — разжирел и утратил спортивную форму.
Когда истекла пятая неделя работ у рифа, наш кок Авен предупредил меня, что провиант на исходе. Он наотрез отказался отпускать Дельма и Дюма мясо для кормления рыб. Пришлось им тайком добывать для Улисса отходы с кухни, к которым они добавляли мясо моллюсков, в том числе тридакн. Голодные матросы палубной команды с недоумением глядели на двух безумцев, которые в камбузе готовили для какой-то рыбы драгоценный протеин.
Калипсяне отощали, их трясла «рифовая лихорадка», но никто не хотел расставаться с Ассампшеном. У нас еще оставалось на неделю пресной воды.
Через шесть дней Анен доложил мне, что мясо кончилось. Как ни крути, пора уходить. Я решил, что напоследок надо хоть поесть как следует, и попросил Дельма добыть рыбу фунтов на десять. Мы вместе ушли под воду; Улисс сопровождал нас, точно охотничий пес. Дельма облюбовал черного групера и нажал спуск гарпунного ружья. Дальше все произошло так быстро, что мы не сразу разобрались. Улисс одновременно со стрелой настиг добычу, и черный исчез в его пасти — остались торчать только хвост да четырехфутовая стрела! Дельма уперся ногой в голову Улисса и выдернул стрелу. А тот воспользовался случаем и заглотил добычу еще глубже. Вернувшись на «Калипсо», мы сообщили голодной команде, что наш любимчик съел обед калипсян.
Быстрота Улисса поразила нас с Дельма. Все эти недели он выглядел таким увальнем, и только сердитые удары хвоста да случай с мешочком позволяли заподозрить, какая в нем скрыта энергия. Теперь мы увидели, на что он способен! И лишний раз столкнулись с одним из главных законов подводных джунглей: поймать здоровую рыбу, свободно передвигающуюся в трех измерениях, трудно, но раненая — обречена…
На исходе шестой недели у Ассампшена мы представляли собой сборище изможденных пугал, трясущихся от тонтонита и покрытых болезненными язвами. Глаза пловцов по-прежнему загорались восторгом при мысли об очередном погружении, но в этом восторге было уже что-то от помешательства. Больше оставаться нельзя.
— Возьмем с собой Улисса, — предложил Дельма.
Эта идея вызвала бурное одобрение. Боцман вызвался сделать на корме бассейн из брезента. Но я воспротивился: во Франции Улисса ожидало пожизненное заключение в аквариуме. Правда, был еще один выход — выпустить там его в море. Но, во-первых, вряд ли он выживет в более холодных водах; во-вторых, Улисс настолько общителен, что окажется легкой добычей первого же подводного охотника. И когда зарокотал брашпиль, мы нырнули в последний раз, чтобы попрощаться с нашим другом.
Четыре года спустя, когда фильм «Мир тишины» успел прославить Улисса на весь мир, одно судно, совершая кругосветное плавание, нарочно зашло в залив Ассампшен, и несколько человек нырнули, чтобы познакомиться с ручным групером. Позднее нам сообщили: «Улисс жив-здоров. Его было очень легко узнать: он сразу подплыл к ныряльщикам».
Возможно, мы еще навестим его когда-нибудь. Эта рыба стоит того, чтобы ради встречи с ней объехать всю вселенную.
Дно моря вокруг Ассампшена кишит голотуриями, или морскими огурцами. Мы встретили здесь много таких видов, которые на Востоке считают большим лакомством. Их там собирают и сушат. Самые крупные достигают в длину двух футов; толстое бурое тело, напоминающее муфту, усеяно тупыми белыми шипами. Робер доставил одну голотурию на борт «Калипсо», но едва фотограф приготовился снять ее, как морской огурец выбросил из себя внутренние органы. Вместе с ними выскочили две тонкие рыбешки около фута длиной, которые отчаянно забились на палубе. Желудочный сок голотурии им ничуть не повредил. Они были не добычей морских огурцов, а компаньонами. Фиерасферы (или жемчужные рыбы) поселяются во внутренностях голотурии и живут с ней в симбиозе. У большинства выловленных нами морских огурцов был по меньшей мере один жилец. На дне морском мы наблюдали, как испуганный фиерасфер прячется в голотурию. Он поместил хвост в анальное отверстие голотурии и, извиваясь задом наперед, ушел в свое убежище. Морской огурец питается, заглатывая песок и отфильтровывая из него мельчайшие организмы. Вряд ли столь жидкой каши достаточно, чтобы еще прокормить одну-две рыбешки. Мы думаем, что фиерасфер днем отсиживается внутри голотурии, а ночью выходит на охоту. Фалько посчастливилось открыть удивительный ритуал средиземноморских голотурий, которые меньше своих сестер в Индийском океане. Ежегодно в определенный день апреля наш мастер подводного спорта рано утром погружается в море у Сормиу, чтобы на зеленых лугах посидонии проследить за странными повадками морских огурцов. Весь год голотурии лежат на дне, точно брошенные кем-то обломки труб, но в этот весенний день около полудня один морской огурец становится вертикально, вытягивается и начинает покачиваться взад-вперед, словно кобра, пляшущая под дудку факира. А затем и все остальные голотурии на лугу присоединяются к пляске. Становятся парами, вытягиваются вверх, делаясь все тоньше, тоньше, и вдруг из верхней оконечности выделяется молочного цвета жидкость. Она расплывается в воде, а голотурии падают. Через девяносто секунд снова встают и повторяют танец, завершая его белым фонтанчиком. Так продолжается около часа: видимо, за этот срок исчерпываются запасы белой жидкости. Должно быть, это брачная церемония. После этого целую неделю голотурии Сормиу ведут себя очень активно, жадно поедают водоросли, обломки ракушек, песок. А затем впадают в обычную для них апатию, которая длится, пока снова не настанет волшебный апрельский день. У скалистого берега Мадейры Фалько и Филипп Кусто увидели под водой интересное явление. Плывя над темным песчаным дном на глубине ста футов, они вдруг заметили множество бурых стеблей толщиной с карандаш, длиной восемнадцать дюймов, изогнутых наподобие вопросительного знака. На квадратный ярд приходилось в среднем двадцать стеблей. Сперва друзья посчитали их водорослями, но стебли двигались, как животные. Может быть, черви? Когда пловцы приблизились, странные твари ушли в песок. Фалько и Филипп подождали. Наконец несколько стеблей снова высунулись наружу. Фалько разглядел у них маленькие глаза и рот. Остальные тоже стали торчком, изгибаясь по течению. Гюнтер Мауль, хранитель музея Мадейры, не смог опознать животное по описанию Фалько и попросил доставить ему несколько особей. Мы попытались сорвать их руками, но они слишком быстро уходили в дно. Волей-неволей пришлось взорвать унцию динамита. Получив образцы, Мауль воскликнул: — Да это же угорь Heteroconger longissimus! За двадцать пять лет жизни здесь я видел только двух, их поймали у поверхности. — А внизу их миллионы, — ответил Филипп.
Тросы, на которых мы спускаем под воду фотокамеры Эджертона, оказались своего рода верительными грамотами — они помогли нам познакомиться со многими интересными обитателями моря. Однажды «Калипсо» дрейфовала в Тирренском море, ведя подводную съемку. Мы плавали в масках вдоль поверхности, видя около ста футов троса, который опустил камеру на глубину шести тысяч футов. Вдруг мы приметили поднимающееся снизу светлое пятно. Оно оказалось молодым полиприоном (Polyprion cernium) с толстыми, горестно опущенными вниз губами и живыми глазками. Этот вид совершает поразительные вертикальные миграции. Подводные пловцы подстреливали их на глубине ста футов, а Уо из батискафа сфотографировал полиприона на глубине двух тысяч трехсот футов! Моряки приметили, что полиприон любит прятаться под плавающими на поверхности досками и плетенками, и прозвали его «рекфиш» (английское слово wreck означает «разбитый корабль», «обломки»). Полиприон продолжал подниматься вдоль троса, который явно был чем-то необычным в его жизни. Фалько протянул руку к рыбе, полиприон стремительно атаковал его палец, но только для вида, ни разу не укусил по-настоящему. Гость из пучины играл с нами около получаса, проводил нас даже до трапа. Замените Фалько плавающей на воде пальмовой ветвью или корзиной, и вы скажете, что полиприон всего-навсего подтвердил свою верность привычке искать укрытия под каким-либо предметом. Но почему он поднялся к поверхности из таких глубин? Наши наблюдения в Центральной Атлантике проливают свет на эту загадку. «Калипсо» исследовала своими приборами подводную гору, вершина которой находится всего в шестистах футах от поверхности океана. Около нас кружило много крупных скатов-мант; у них болтались какие-то непонятные отростки. Мы решили взглянуть поближе на эти черные ковры-самолеты и спустились в подводную обсерваторию «Калипсо». Оказалось, что под каждой мантой прячется средних размеров полиприон, окрашенный так же светло, как брюхо ската, и плывущий синхронно с ним. И вот наше объяснение вертикальных перемещений полиприонов: они поднимаются, чтобы охотиться под крылышком манты. Скаты питаются планктоном, рыбы их не боятся, чем и пользуется маскирующийся полиприон. Получает ли манта что-либо от этого симбиоза, нам не удалось установить. Не исключено, что молодые полиприоны эскортируют и других крупных обитателей моря; но это еще нужно проверить. Пока нам известно, что они охотно объединяются в бригаду с плавающими предметами, мантами и Фалько. Правда, у взрослых полиприонов мы такой привычки не наблюдали. Не только для полиприона тросы «Калипсо» служили нитью Ариадны, выводящей из подводных лабиринтов в наш сложный мир. Во время одной из стоянок в Средиземном море Октав Леандри стоял возле борта, глядя на теряющийся в толще воды трос с батометром. И увидел что-то длинное, блестящее… На поверхности воды заиграли бурые и голубые блики. Леандри подозвал Фалько — тот всегда готов изучать таинственных гостей. Альбер мигом надел ласты и скатился вниз по трапу, на ходу натягивая маску. Подплыв к тросу, он очутился лицом к лицу с одним из самых красивых обитателей глубоководья. Это был король ремень-рыб Regalecus (он же сельдяной король). Король был шестифутовой длины, толщиной с дюйм, облаченный в мантию из серебряной фольги с оранжевыми и голубыми переливами. На плоском лбу торчал оранжевый султан. Некоторые авторы связывают с ремень-рыбой легенды о морском змее. И вот она в трех футах от маски Фалько, висит у троса, совершив непонятное восхождение из бездны к солнцу. Энергично извиваясь, рыба продолжала подниматься вверх, но поравнявшись с Альбером, вдруг столь же энергично дала задний ход и начала погружаться хвостом вниз. Пока ремень-рыба изображала лифт, Фалько вынырнул и крикнул Леандри, чтобы тот бросил ему гарпунное ружье. Он впервые видел сельдяного короля и справедливо посчитал его ценным экземпляром. Выстрел… яркая вспышка, сельдяной король взорвался облачком серебряной пыли. Выбирая шнур, Фалько видел, как тонут в голубой толще блестящие лоскутки. Никогда еще он не встречал столь хрупкой рыбы! А снизу шла вторая ремень-рыба. Подойдя к поверхности, она тоже стала дергаться вверх-вниз. Сменив мощное ружье на ручной гарпун, Фалько осторожно подцепил вновь прибывшего короля и доставил его в сохранности на борт. На воздухе мишурный змей тотчас поблек, его изумительный блеск потускнел, ярко-оранжевые узоры сменились голубыми крапинками на сером фоне. С тех пор не раз, и всегда в один и тот же весенний месяц, вдоль опущенных с «Калипсо» тросов с глубинными приборами всплывали ремень-рыбы. У нас уже стало привычкой во время океанографических станций дежурить на поверхности около троса и наблюдать за поведением великолепных рыб. Мы больше не убиваем их, а встречаем немым монологом… «Ты поднялся из мрачных глубин, чтобы встретиться с нами при свете дня. Когда-нибудь мы придем к тебе в твой мир без солнца».

Глава одиннадцатая
Золотые змеи

К началу 1954 года непредвиденные расходы на Порт-Калипсо и другие подводные работы довели меня почти до отчаяния. Все доходы от книг, статей, фильмов, лекций поглощали платежные ведомости. Мои письма в министерство просвещения с просьбой о финансовой поддержке ни к чему не приводили: только представят смету на утверждение правительству, а оно уже уходит в отставку. Я писал снова и снова, и всякий раз очередной правительственный кризис обрекал мои ходатайства на консервацию в архивах.
Сырой, дождливый марсельский вечер… Исчерпаны все возможности, видно, придется распускать нашу группу. Я был на берегу, старался найти хоть какой-нибудь выход. В это время на борт «Калипсо» поднялся строго одетый человек с черным зонтом. Он обратился к Симоне:
— Простите, мадам, как вы полагаете — возьмется капитан Кусто выполнить подводные исследования для Британской нефтяной компании?
— Войдите в каюту, прошу вас, — поспешила ответить Симона, — не стойте под дождем.
Она предложила ангелу-спасителю виски с содовой.
— Я слышала о Британской нефтяной компании, — продолжала она. — Ее глава Безил Джексон — мой родственник.
— Совершенно верно, — ответил посланец небес, — ее возглавляет Безил Джексон. Но ему ничего не известно о моем визите. Я представляю дочернюю компанию «Д’Арси иксплорейшн». Мой шеф читал книгу вашего супруга, и он полагает, что было бы неплохо, если бы капитан Кусто обследовал нашу концессию у берегов Абу-Даби.
— А где находится Абу-Даби? — спросила Симона.
— Это княжество на Оманском побережье Персидского залива, в той части, которую раньше называли Пиратским Берегом.
Симона провозгласила тост за здоровье пиратов. Гость осведомился, в каком родстве она состоит с сэром Безилом; она ответила, что у них общая ирландская бабушка.
Вернувшись в подавленном настроении на «Калипсо», я застал весело смеющуюся жену в обществе какого-то незнакомца.
Так «Д’Арси иксплорейшн» спасла «Калипсо». Мы запросили лишь малую долю того, что обычно берут за подобные работы. Я рассчитал, что за четыре месяца мы управимся с изысканиями и у нас еще останутся деньги на столь нужное нам снаряжение.
В Ормузском проливе я отклонился от маршрута, чтобы зайти в залив Эльфинстон, который называют самым жарким местом на земле. Это узкий фьорд, врезанный в голые известняковые утесы Аравийского полуострова. У входа в него мы совершили короткую подводную вылазку, и аквалангисты собрали полные корзины устриц с очень твердой раковиной. Не все виды устриц съедобны, и не во всякое время года, но это никого из калипсян не смущало. Лабан поднес мне для пробы устрицу на кончике ножа. Она оказалась превосходной. А между тем, кого мы здесь ни встречали, никто не знал, что в Персидском заливе есть съедобные устрицы!
Самое жаркое место и впрямь было жаркое, даже в феврале. Зайдя в глубь залива, «Калипсо» бросила якорь у песчаной отмели, над которой на тысячу футов вздымался утес. На берегу ютилась деревушка Сиби — глинобитные лачуги с шиферными крышами, и в них около сотни иссохших, тощих обитателей. Трудно представить себе более безотрадный уголок. Мы сошли на берег в сумерках. Ни женщин, ни детей не видно; лишь несколько смуглых, напоминающих привидения мужчин сидели на корточках на песке. На наши приветствия они не ответили. А ведь появление «Калипсо», несомненно, было здесь редким событием.
Ни зелени, ни пресных водоемов, ни домашних животных. Хоть бы одна паршивая собачонка… И так во всем заливе Эльфинстон. Только в Бахрейне мы узнали, чем пробавляются сибийцы. Зимой женщины ткут ковры из козьей шерсти, а мужчины ловят мелкую рыбешку и сушат ее на раскаленном берегу, чтобы затем продать на корм скоту в Бахрейне. Но летом даже местные жители не выдерживают зноя и всей деревней уходят в горы, к оазисам Хадрамаута, где собирают финики и запасают козью шерсть.
Утром следующего дня из густого тумана над фьордом донеслось хриплое пение, затем показались лодки. Жители Сиби пришли к «Калипсо» просить пресной воды. Мы поделились с ними, оставив себе ровно столько, сколько было необходимо на путь до Бахрейна. Лодочники выразительно провели ногтем поперек горла. Н-да, с этими головорезами лучше близко не соприкасаться… На всякий случай Саут и боцман вооружились баграми.
— Успокойтесь, — вмешался Ишак, — они просят бритвенных лезвий.
Арабы получили лезвия. Один из лодочников принялся горячо говорить что-то, показывая на кучу черного тряпья, лежавшего у его ног. Что ж, ветошь может нам пригодиться как обтирочный материал. Начали торговаться на пальцах. Он запросил семнадцать фунтов в австрийских серебряных талерах Марии-Терезы, единственной монете, которую признают в Аравии. Вдруг тряпье зашевелилось. Мы жестами потребовали показать, что в нем завернуто. Лодочник неохотно приподнял уголок тряпки, и мы увидели… две пары подведенных сурьмой испуганных девичьих глаз. До чего же подл человек… Две девушки за семнадцать фунтов. Мы онемели от отвращения к собственному роду.
— Поднять якоря! — распорядился я.
Сибийцы грозили нам сжатыми кулаками, пока туман не поглотил их лодки.
В нашем сознании Персидский залив был связан с ловлей жемчуга, но этот промысел переживает упадок. Луи Маль решил снять на киноленту одну из последних замбук, промышляющих жемчуг в районе Дюбе. Ныряльщики были пожилые изможденные люди. Перед тем как идти под воду, они надевали на нос зажимы, сделанные из акульих позвонков, и прикрепляли крючки на два пальца каждой руки. В корзины клали камни для балласта. Один облекся в черный «гидрокостюм», сшитый из нижнего белья. Накуда — капитан замбуки — объяснил, что костюм предохраняет от нападения акул.
Маль погрузился вместе с ныряльщиками. Их незащищенные глаза плохо видели под водой, но руки работали уверенно и быстро, нагружая корзины раковинами. Сотни раковин, собранные во время этого выхода, все оказались пустыми. Наши аквалангисты попытали счастья в стороне от обычных мест промысла и добыли одну-единственную жемчужину неправильной формы. Мы отдали ее сделать кольцо для невесты боцмана Ро, который собирался сыграть свадьбу, как только вернется домой.
В Персидском заливе нередки внезапные шамалы — сильные ветры, длящиеся по двенадцать часов, — и Саут был очень озабочен тем, как во время шторма удерживаться на стоянке и собирать подводных пловцов. Но чаще всего царило безветрие и море было гладкое, серо-синего цвета, точно свинцовый лист. В безлунные ночи во время затишья свечение воды здесь превосходило все, что нам доводилось видеть прежде.
Однажды ночью я вместе с Дагеном и австралийцем Аланом Ресселом, геологом «Д’Арси иксплорейшн», стоял на носу «Калипсо». Верхний тонкий слой воды был словно стеклянный экран, который внезапно вспыхивает ярким светом, если нажать выключатель. «Калипсо» шла в блистательном планктонном ореоле. Вот показалась во мраке светящаяся морская черепаха.
А струи от винтов рождали огненный водоворот, который протянулся на много сотен футов за кормой. Но не только наше вторжение вызывало биолюминесценцию. В глубине мы видели яркие вспышки света, точно тысячи фотографов одновременно щелкали своими фотовспышками. Удалось выловить виновника, какое-то медузоподобное существо, напоминающее лампочку.
— На «Калипсо» так интересно, что забываешь о времени! — воскликнул Рессел. — Этак проснешься однажды утром и вдруг обнаружишь, — что ты уже старик!
Мне кажется, он очень верно уловил, что вознаграждает нас за трудные битвы на берегу. Недели выключенного времени — вот главная добыча, которую мы извлекаем из моря.
«Британская нефтяная» поручила нам обследовать акваторию, которая площадью равнялась четырем департаментам Франции, — составить подробную карту аномалии силы тяжести на дне и собрать образцы грунта. Мы пользовались морским гравиметром. Большой аппарат, напоминающий видом колокол, подвесили к крану, который катился по рельсам, проложенным на палубе «Калипсо». Стрела крана выносит прибор за борт и опускает его на дно. Там он сам принимает нужное положение и передает показания на приемники, установленные на судне.
Аномалия в уровне гравитации — признак того, что под дном в этом месте где-то может быть нефтяной купол. Полезные сведения дают также образцы грунта. Если аномалия сочетается с определенного вида ископаемыми организмами периода эоцена, геологи делают себе пометку: здесь стоит произвести разведочное бурение. Компания просила нас сделать не меньше двухсот станций.
Придя на место, «Калипсо» была встречена жужжанием самолета компании «Шелл», который охранял невидимый пунктир, обозначающий границу между концессиями «Шелл» и «Британской нефтяной». В составе экспедиции «Шелл» были сотни людей, катера, баржи, даже плавучее общежитие с кондиционированием: бывший пассажирский лайнер «Шелл квест». Он пришел несколькими месяцами раньше нас и во время прилива стал на якорь на мелком месте. Под тяжестью людей, горючего и различных запасов «Шелл квест» зарылся в песок и очутился в западне. Жильцы общежития прилежно швыряли за борт пустую посуду; края песчаной ванны становились все выше и выше. Бутылочный риф непрерывно рос, подчиняясь закону Дарвина. Печальная судьба грозила «Шелл квест» превратиться в лагуну ржавого железа, окаймленную стеклянным атоллом.
Дюма и я отправились на лайнер с визитом; нас приняли очень сердечно. Люди «Шелла» предложили нам выверить наш гравиметр по их бую, поставленному в точке, где гравитация была замерена с предельной точностью. Рядом, на пустынном островке Халул, размещалась станция «Декка».
Потом мы выбрали время и навестили Халул. Было уже темно, когда «Калипсо» подошла к острову, но мы заметили свет и сошли на берег. Проковыляли по рытвинам к светящемуся окну и заглянули внутрь. В комнате, углубившись в книгу, сидел молодой человек с длинными русыми волосами. Дюма постучался. Молодой человек отворил дверь и ахнул.
— Вы Фредерик Дюма! — крикнул он, глядя на Диди. И показал нам свою книгу: она была открыта как раз на фотографии Дюма.
Книга называлась «В мире безмолвия».
— Тони Мулд, — представился хозяин домика. — Входите, прошу вас.
Мы переступили порог комфортабельной лачуги отшельника.
— Летом, — сообщил он, — здесь бывает пятьдесят пять градусов. Влажность девяносто процентов.
— Однообразная жизнь, наверное, — вздохнул Дюма.
— Несколько недель назад было очень оживленно, — возразил Мулд. — Подул шамал, и к острову причалила сильно поврежденная замбука с паломниками из Персии. Двести человек, пять дней без еды. Я вызвал по радио помощь, но никто не хотел выходить в такой шторм. Из своих припасов я кормил женщин и детей. Мужчины возмущались. Как это так: главы семейств оказались обойденными! Восемь дней спасателей ждали.
Мы пригласили отшельника пообедать на «Калипсо»; Лабан подстриг его. Аквалангисты, обступив со всех сторон кресло парикмахера, выспрашивали Мулда о подводной обстановке.
— Я никогда не занимался этим нырянием, — ответил он. — Но ловцы жемчуга хоронят на моем острове своих покойников. Я покажу вам кладбище. Двадцать два голубчика. Двоих, говорят, акула сгубила. Остальных — морские змеи.
Прежде чем производить станцию № 1, я отправился в Бахрейн — уладить вопрос со снабжением и выяснить, что это за морские змеи. Французский консул и несколько врачей заверили меня, что речь идет не о каком-нибудь мифе. Змей множество, некоторые длиной с кобру, и нет никакого противоядия от их укусов.
— Правда, — рассказал один специалист, — даже у семифутовой змеи пасть настолько мала, что она может укусить только складки кожи, например, между большим и указательным пальцами.
Удивляясь, почему природа создала убийцу со столь несовершенным оружием, я возвратился на «Калипсо». Всю дорогу мои пальцы непроизвольно пощипывали сухожилие, которому грозила такая опасность…
На первой же геологической станции мы снарядили трубку, чтобы взять пробы грунта. К огромной стальной «бомбе» весом около трети тонны снизу была привинчена трубка из твердой стали. «Бомбу» сбросили на глубину сорока пяти футов. Когда мы ее подняли, трубка отсутствовала. Аквалангисты нашли ее: вся искореженная, она лежала на плоском песчаном дне. Режущая часть была смята словно бумажная салфетка. Ныряльщики копнули песок; под дюймовым слоем обнажилась скала броневой твердости. Во время испытаний трубка на несколько дюймов вонзалась в известняк. Что же это за порода?
Мы поставили новую трубку и опять сбросили «бомбу». На этот раз трубку не сорвало, но удар изогнул ее зигзагом, и режущая грань была сплющена. Из четырех трубок две потеряны на первой же станции! Следующее звено подводных пловцов захватило с собой лом. Они сунули его в норку, проточенную моллюском, и отломили осколочки, которые никак не устраивали геологов. Дюма решил, что пневматическое долото поможет ему взять более крупный образец. Нашел ямку, воткнул в нее долото, включил сжатый воздух… и подскочил вверх футов на десять! Всякий раз, когда он пытался бурить скалу, его отбрасывало отдачей.
Дюма вернулся на поверхность, добавил себе грузов на пояс. Кроме того, мы спустили акулоубежище, чтобы он мог держаться за него. Диди удалось отколоть кусочки, но и они оказались малы. Неужели только взрывчатка способна одолеть эту броню? Но взрывать — затея долгая и дорогостоящая.
Тогда мы вооружили аквалангистов обычным долотом и кувалдой. Нужно немалое усилие, чтобы в среде, которая в восемьсот раз плотнее воздуха, да еще без опоры, взмахнуть кувалдой. Наши люди справились с этим. На ста пятидесяти станциях они добыли образцы.
В окаймленном пустынями море мы работали в шквал и песчаные бури. Вода была такая же холодная, как в Средиземном море зимой. А на палубе хоть загорай! Единственное развлечение в свободные дни — верблюжьи скачки в поселке Абу-Даби.
Акулоубежище служило лифтом для ныряльщиков; на дне оно играло свою обычную роль. Впрочем, его прутья с просветами в восемь дюймов не могли бы преградить путь морским змеям.
Правда, за первую неделю работ мы не встретили ни одной змеи. Зато когда пошли на следующую станцию, то по пути у самой поверхности гладкого моря увидели извивающиеся белые и желтые ленты. Змеи казались такими же нереальными, как их деревянные подобия, которые выскакивают из волшебных шкатулок индийских мастеров. Иные поспешили уйти от «Калипсо», но другие проплыли довольно близко. Ничего не стоило выловить их сетью, но почему-то никто не решился этого сделать. К нашему удовольствию, геологическая станция находилась за пределами скопления змей.
Захватив кинокамеру, я вместе с Дюма и Кьензи спустился в клетке. Видимость под водой была скверная — пятнадцать — двадцать футов. Лифт лег на дно, Дюма смел пыль с твердого ложа и принялся выискивать щель для долота. Тем временем Кьензи и я отправились знакомиться с немногочисленными местными жителями. Вокруг небольших горгонарий сновали бесцветные коралловые рыбки, которых не стоило снимать. Внезапно из мглы возникла наша первая морская змея. Она извивалась над самым дном, и удивительно маленькая голова ее с крохотным ротиком вовсе не казалась грозной. Змея скользнула мимо, не обратив на нас никакого внимания. А вот вторая, уже покрупнее, футов семь в длину. Она вяло покружила около нас, но глаза в булавочной головке были настолько малы, что по ним ее мыслей не прочесть. Я занял позицию с камерой перед ней и подал знак Кьензи, чтобы он плыл в поле зрения объектива. Он не понял моего жеста и взмахнул кувалдой, собираясь размозжить змее голову. Потешное зрелище: человек пытается поразить животное, почти такое же текучее, как сама вода! И все-таки Кьензи удалось нанести змее страшный удар чуть позади головы. Судорожно дергаясь, она, несмотря на смертельную рану, заскользила прочь. Я попросил ныряльщиков больше не трогать змей.
Прошел не один день, прежде чем мы снова увидели морскую змею. Они встречались довольно редко. Наши люди совершили в Персидском заливе несколько тысяч погружений, и ни один не подвергся нападению. Подозреваю, что это еще одно из незаслуженно оклеветанных «морских чудовищ».
Мы покидали Персидский залив, с гордостью глядя на черную доску, на которой было написано мелом: «Станция 400». Гравиметрических замеров сделано вдвое больше, чем нам заказали. На участке концессии во многих местах отмечены аномалии, подкрепленные свидетельствами образцов эоценовой эпохи. Опираясь на наши данные, «Британская нефтяная» отправила в этот район сперва сейсмографическую экспедицию, затем бурильщиков. А в июле 1962 года из Абу-Даби вышел первый танкер, груженный нефтью «месторождения Калипсо». Ежедневная добыча достигала сорока тысяч баррелей.
Едва мы завершили эту экспедицию, как перед нами неожиданно открылись радужные перспективы. Пришла радиограмма: Государственное управление научных исследований и министерство просвещения согласились помочь финансированию океанографических экспедиций «Калипсо». Государство обязалось покрывать примерно две трети наших ежегодных текущих расходов; взамен мы девять месяцев в году будем выполнять научные задания.
Четыре года мы ждали министра, который продержался бы достаточно долго, чтобы добиться от правительства поддержки нашей группе.
Пройдя испытание подводной нефтеразведкой, «Калипсо» и наш исследовательский центр впоследствии не раз выполняли задания промышленности. Мы отклоняем рядовые поручения, которые могут быть выполнены обычными водолазами или аквалангистами; нам по душе неизведанное и увлекательное. Проверяли устройства, которым предстоит работать под водой, помогали прокладывать электрический кабель в Лионском заливе. В числе наших самых удивительных заданий были поиски воды… под водой. Подобно многим населенным пунктам в наши дни, приморский город Кассис, лежащий восточнее Марселя, испытывал недостаток в питьевой воде. Между тем рыбаки и ныряльщики знали, что по соседству, возле Пор-Миу, из-под белого известнякового мыса вырывается в море поток пресной воды. Впервые это явление было отмечено еще в 1725 году. И «Эспадон», забрав тридцать пять ныряльщиков и техников, вышел в Пор-Миу искать подкрепление для кассисского водопровода. Подземная река вливается в море на глубине около сорока футов. Восемь двоек ныряльщиков попеременно уходили под воду, все дальше проникая в русло и укрепляя осветительную проводку вдоль свода. Пройдя сто пятьдесят футов, вдруг заметили дневной свет. Здесь был ход, который открывался на поверхности земли в пятидесяти футах над рекой. Это позволило намного укоротить электропроводку: генератор перенесли ко входу в шахту и оттуда спустили вниз провода. Главная пещера простиралась дальше почти горизонтально, причем река оказалась двухслойной — вдоль дна пещеры бежал внутрь поток теплой соленой воды, над ним устремлялась в море холодная солоноватая струя. Плоскость соприкосновения двух противоположных потоков была отчетливо видна, она напоминала глицериновую пленку. Просунешь голову сквозь нее, и тебя тянет в противоположные стороны; вверху холодно, снизу тепло. Для изыскателей двухслойность была очень кстати: внутрь они плыли вдоль дна, возвращались по поверхности. В трехстах футах от входа в своде оказалась небольшая полость, заполненная воздухом. А дальше опять — каменная труба с водой. Солемер все время показывал наличие соли в воде, но во многих местах ее было настолько мало, что не оставалось сомнения: поблизости есть пресноводные источники. Когда изыскатели ушли от входа на девятьсот семьдесят пять футов, ложе подземной реки резко опустилось, линия свода тоже пошла вниз. Глубина здесь достигала девяноста пяти футов. Дальше проникнуть было невозможно. Но анализ участков с наименьшей соленостью позволил нам подсказать властям Кассиса, где бурить сверху, чтобы добраться до пресной воды. Другое необычное задание мы назвали «Операция Красный ил». Алюминиевый завод в Гарданне, по соседству с Марселем, грозил похоронить окрестности под горами отходов. Как всегда в таких случаях, заводские инженеры вспомнили про море. Они предложили смешивать отходы с водой и по трубам выводить на материковую отмель. Рыбаки и биологи решительно восстали: красный ил погубит все донные организмы! Я был вполне согласен с ними, но обещал все-таки заводу придумать какой-нибудь выход. Сперва нужно проверить, как же выброс повлияет на дно шельфа. Будет ли пульпа оседать, или останется во взвеси, или ее унесет течением? Я нагрузил отходами тендер и вышел в море у Моргиу. Здесь чистая голубая вода, и на глубине пятнадцати футов типичное марсельское дно: песок и зеленое морское пастбище. Поместив под спущенный с тендера шланг кинокамеру с цветной пленкой, я распорядился выпускать отходы. Вниз устремился темный столб. Течение увлекло в сторону легкие частицы, крупные зерна посыпались на дно. Получилось нечто вроде опрокинутого атомного взрыва. Рыбы бросились наутек. Красное облако поглотило аквалангистов. Наш опыт показал, что такой способ избавляться от отходов погубит места промысла на континентальном шельфе. А если спускать их через длинную трубу в естественный контейнер — скажем, подводный каньон? В четырех милях от Кассиса мы отыскали заиленный каньон глубиной шесть тысяч футов. Здесь все равно не занимались ловом. Этот каньон мог вместить все отходы алюминиевого завода на сто лет вперед. Мы тщательно прощупали дно гидролокатором и наметили схему трубопровода с выходом на глубине тысячи футов; так глубоко трал не опускают. Это решение неожиданно оказалось полезным и для наших научных изысканий: оно позволяло вести наблюдение за отложением искусственных осадков, судить о поведении течений и распространении ила по абиссальной равнине. Самое крупное задание от промышленности «Калипсо» получила в 1958 году, когда буровые вышки обнаружили в Сахаре запасы природного газа. Месторождение Хасси Р’Мель оставляло далеко позади все известные до тех пор месторождения Европы и Африки. В отличие от США, где очень много природного газа, Европа зависит от коксогазовых комбинатов. Чтобы довести газ из Сахары до кухонь Стокгольма и заводов Триеста, его хотели транспортировать по трубам к Средиземному морю, там сжижать, на танкерах доставлять в европейские порты, после чего опять по трубам подавать потребителям. Но этот способ, влекущий за собой огромные расходы, все равно не мог ни использовать полностью возможности месторождения, ни обеспечить все потребности в газе. Генеральный инспектор компании «Газ де Франс» Жак де ля Рюль высказал смелую мысль: проложить газопровод по дну Средиземного моря. Отпадала надобность в установках для сжижения газа и в танкерах. Трубы он предложил класть через самую мелкую часть Западного Средиземноморья. Здесь глубина несколько превышает восемь тысяч футов, кратчайшее расстояние между берегами 115 миль. Но де ля Рюля тревожила даже не столько глубина, сколько крутые уступы материкового склона у берегов Африки и Испании. Он попросил «Калипсо» изучить обширные районы вокруг предполагаемой трассы, чтобы найти лучший грунт. Мы на шесть месяцев отказались от научных исследований и занялись заданием газовой компании. Пришлось применить все известные нам способы изучения дна и придумать немало новых. Трубопрокладчикам нужно было знать глубину с точностью до трех футов и географические координаты с точностью до пятидесяти футов. Требовалось замерить скорости течений в огромном вертикальном разрезе до самой поверхности моря, собрать множество проб грунта, определить содержание бактерий и процент кислорода, испытать материалы на коррозию, снять донную трассу на стереофото и кинопленку. Чтобы обеспечить нужную точность, на кормовой палубе «Калипсо» смонтировали шестидесятифутовую радионавигационную антенну типа «Декка». На нее поступали импульсы с двух береговых станций в Алжире и Испании. Мы установили очень точный гидролокатор и картографический стол. Картографы, работая посменно, воплощали в чертежи данные «Декки» и гидроакустические профили. Получились карты, которые точностью могли бы поспорить с самыми крупномасштабными картами генштаба. Через пять месяцев я смог представить де ля Рюлю объемный макет идеальной трассы для трубопровода от Мостаганема до Картахены. В качестве приложенияследовал полный грузовик обработанных проб грунта, кипы карт, множество цифровых данных с объяснениями, тысячи фотографий и кинолент, привязанных к определенным точкам карты. Получив все это, генеральный инспектор вышел в море и в разных местах трассы опустил на дно несколько миль экспериментальных секций. Первый межконтинентальный газопровод может сыграть для народов Африки и Европы не менее важную роль, чем сто лет назад сыграли первые трансокеанские телеграфные кабели. Вместе с де ля Рюлем я твердо верю, что прокладка трубопровода пройдет успешно; надсмотр и текущий ремонт можно осуществлять с подводных судов.

Глава двенадцатая
Морское дно
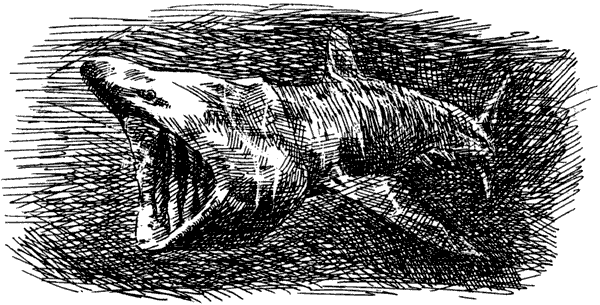
Мой отец Даниель заблаговременно пришел к инспектору таможни в Канне, чтобы уговорить его пропустить без задержки не подлежащее обложению пошлиной уникальное научное оборудование, которое должно было прибыть в тот день. Наконец появился лайнер, и с него на лихтере съехал на берег Гарольд Эджертон, везя с собой заветные ящики. Инспектор порядка ради указал на один ящик и спросил, что в нем лежит. Папа Флеш смущенно зарделся и поднял крышку. Внутри оказались банки с арахисовым маслом; без него наши американские друзья не могут жить.
Таможенник наугад ткнул пальцем в другой ящик. В нем лежал пищик — новое изобретение Эджертона. Желая убедить инспектора, что речь идет о самом настоящем научном приборе, профессор включил ртутный контакт, и пищик начал пищать. Инспектор решил, что это какая-нибудь особенная бомба, и задержал обоих. Только через шесть часов они получили свое снаряжение.
Пищик воплощал стремление Эджертона взять реванш за наши прошлогодние неудачи, когда мы впервые пытались снимать дно на большой глубине его камерой, сопряженной с электронной вспышкой. Установив резкость на восемь — десять футов, мы опускали камеру в море, и каждые двенадцать секунд щелкал затвор. Вся беда в том, что мы не могли проследить, выдерживается ли заданное расстояние. Камеру погружали до тех пор, пока она не касалась дна, потом немного поднимали — авось хоть несколько кадров получатся резкими. В итоге иллюминатор частенько оказывался залепленным илом, который интересовал только специалистов по донным отложениям.
В разгар этой мало обнадеживающей кампании мы зашли в Тулон и выпросили в Военно-морском арсенале магнитострикционный датчик — прибор, который крепят на корпусе судна, чтобы посылать и принимать акустические импульсы. Эджертон соединил его с герметичным осциллятором; получилось устройство, которое каждую секунду издавало звуковой сигнал. Этот сигнализатор установили на одном кронштейне с фотокамерой. От кронштейна вниз на трехжильном кабеле длиной восемь футов свисал ртутный выключатель.
Мы фокусировали объектив на восемь футов и погружали весь аппарат на дно. Надев наушники, я следил за сигналами эхолота. Как только они прекращались, я кричал машинисту лебедки «стоп!», и он поднимал камеру на несколько футов. Появление сигналов означало, что фотоаппарат поднялся на восемь футов над дном.
Однако на этом наши затруднения не кончились. Дно моря было неровное, аппарат задевал бугорки, а углубления оказывались не в фокусе. Сигналы прекращались и возобновлялись настолько неожиданно, что машинист лебедки не поспевал поднимать и опускать камеру.
Тогда Эджертон расположил источник звука на кронштейне так, чтобы импульсы шли не только вверх, но и вниз, где их отражало дно. Теперь можно было определить с корабля, на какой высоте над грунтом идет аппарат. Эта импровизированная конструкция, родившаяся на «Калипсо», и стала потом пищиком, который позволяет океанографам управлять приборами с точностью до одного фута.
С помощью пищика «Калипсо» сняла тысячи фотографий глубоководных ландшафтов в Атлантике, Средиземном море, Индийском океане. Аппарат смотрел вниз, как при аэрофотосъемке; в один заход экспонировалось до восьмисот кадров. Снимки, сделанные на глубине от полумили до трех миль, показали дно, изборожденное кратерами, конусами, извилистыми норами. И ни одного животного, которому можно было бы уверенно приписать авторство этих сооружений.
Папа Флеш собрал хитроумнейшую подводную камеру, а она, вместо того чтобы рассказать нам о жизни в царстве тьмы, только задавала новые загадки.
— Телеуправляемая океанография зашла в тупик, — сказал я ему.
Он улыбнулся. Эджертон из тех людей, которые способны выбросить в окно то, над чем работали всю жизнь, если будет предложено что-то лучшее. Что именно? Мы оба знали: в этом случае фотокамеры не могут соперничать с человеческим глазом. И Эджертон первым из ученых проник в загадочную пучину на французском батискафе.
Только пытливый глаз наблюдателя может опознать жителей грунта; шарящим наугад подвесным приборам это не под силу. Профессор Жан-Мари Перес ближе всех нас подошел к открытию обитателя океанского дна. Вместе с капитаном Жоржем Уо он погрузился на батискафе ФНРС-3 на глубину десяти тысяч футов в море у берегов Португалии. Они сели на илистый грунт, вдруг на дне вздулся бугорок, и какое-то животное, скрытое под илом, бросилось наутек, оставляя валик, словно крот.
В 1954 году мы решили с помощью камеры Папы Флеша исследовать у Коморских островов в Мозамбикском проливе обитель знаменитого «живого ископаемого» — целаканта. Среди известных нам рыб этот вид дольше всех сумел сохраниться неизменным. Современный целакант в точности похож на ископаемых, найденных в слоях, возраст которых определяют в шестьдесят миллионов лет. Его научное наименование — Latimeria chalumnae Smith. Коморцы выразительно называют целаканта «рыбина». Удивительный гость из прошлого, которого считали давным-давно вымершим, был опознан в 1938 году по гниющему экземпляру южноафриканским ихтиологом, профессором Дж. Л. Б. Смитом. Открытие Смита называют «самым поразительным событием века в области естественной истории».
Только в 1952 году в Коморском архипелаге был пойман второй целакант. Профессор Джемс Милло из Парижского музея естественной истории назначил вознаграждение в сто фунтов стерлингов за каждый следующий экземпляр; это двухлетний доход коморского рыбака. За живого целаканта выплачивалось вдвое больше. И когда Милло отправился с нами на «Калипсо», островитяне уже забросили все другие виды лова ради рыбины.
Добытые тщедушными коморцами экземпляры — их насчитывалось к этому времени шесть штук весом от 64 до 127 фунтов — были взяты ночью на глубинах от 500 до 1300 футов с утлых аутриггеров, едва вмещающих одного человека. Нас познакомили с Хумади Хассани, которому посчастливилось вытащить целаканта номер три, весившего всего на двадцать фунтов меньше, чем сам рыбак. На толстый железный крючок, привязанный к хлопчатобумажной леске в 3/32 дюйма и наживленный усачом, Хассани поймал своего целаканта на глубине 650 футов. Полчаса длился поединок между человеком и рыбой.
Рыбина — сильный хищник с твердой чешуей и своеобразными, напоминающими конечности плавниками, о которых Милло говорит, что они «пролили дополнительный свет на важнейшую анатомическую загадку — как плавники древнейших рыб могли развиться в конечности наземных позвоночных, в том числе в человеческую руку». А профессор Смит писал, что целакант — «ближайший родственник давно вымершей рыбы, которую считают предком всех наземных животных. Целакант — едва ли не часть ствола родословного дерева человека».
Зная, что рыбину ловят близко от берега, мы обошли все острова, чтобы провести эхолотную съемку крутых подводных склонов. Увидев, как мы опускаем в море фотокамеру, островитяне подумали, что мы хотим сфотографировать рыбину. Но вероятность такой удачи равна одной миллионной, и мы это знали; нашей целью было снять среду, в которой обитает целакант. Объектив запечатлел черные вулканические ландшафты, а термометр показал, что на глубине, где живет целакант, вода на двадцать пять градусов холоднее, чем у поверхности.
Однажды ночью два рыбака, Зема бен Саид Мохамед и Мади Бакари, выйдя на пироге в море, в миле от берега опустили на глубину 840 футов крючки, наживленные усачом. Только взошла луна, как кто-то резко рванул лесу. Похоже на рыбину… И друзья решили попробовать заработать двести фунтов, обещанные Милло за живой экземпляр.
Вот наконец добыча у поверхности. Это был пятифутовый целакант. Они подтянули отбивающегося здоровяка к пироге. Сунув руку в пасть рыбы, Зема убедился, что крючок сидит прочно. Все-таки лучше закрепить успех… Зема продел сквозь пасть и жаберную щель целаканта вторую лесу. Взнуздав строптивого пленника, рыбаки взялись за весла и потащили его к берегу. Правда, иногда рыба оказывалась сильнее и тащила их.
Все-таки люди одолели целаканта. На берегу его поместили в наполненный водой вельбот. Прибежавшие из деревни земляки Земы и Мади всю ночь пели и плясали вокруг рыбины. На всякий случай вельбот затянули сверху сетью. Впрочем, целакант явно смирился с заточением. Он медленно плавал, вращая грудными плавниками; второй спинной и анальный плавники играли роль руля. Окружившие лодку коморцы с почтением смотрели на светящиеся зеленовато-желтым огнем глаза целаканта.
 Когда взошло солнце, пленник стал прятаться в самых темных уголках лодки. Похоже было, что свет причиняет ему физическую боль. Вельбот накрыли брезентом. В полдень прибыл профессор Милло. Он залез под брезент и уставился как завороженный на живого целаканта. Рыба слабела у него на глазах и плавала все более вяло. Наконец она перевернулась брюхом кверху, судорожно забила плавниками и умерла. Милло с грустью заключил, что целакант погиб из-за фотофобии, то есть чувствительности к свету; вероятно, сыграла роль и резкая перемена температуры[9]. Зема и Мади получили двойное вознаграждение, и к местной целакантовой аристократии прибавилось еще два богача.
Когда взошло солнце, пленник стал прятаться в самых темных уголках лодки. Похоже было, что свет причиняет ему физическую боль. Вельбот накрыли брезентом. В полдень прибыл профессор Милло. Он залез под брезент и уставился как завороженный на живого целаканта. Рыба слабела у него на глазах и плавала все более вяло. Наконец она перевернулась брюхом кверху, судорожно забила плавниками и умерла. Милло с грустью заключил, что целакант погиб из-за фотофобии, то есть чувствительности к свету; вероятно, сыграла роль и резкая перемена температуры[9]. Зема и Мади получили двойное вознаграждение, и к местной целакантовой аристократии прибавилось еще два богача.
Пищик Эджертона преподносил нашим ученым немалые сюрпризы. Так было, в частности, с профессором Пересом, когда он изучал биологию шельфа между Сицилией и Тунисом. Подводные пловцы доставали ему образцы с доступной глубины; дальше приходилось опускать обыкновенную драгу. Мы подняли липкую желтую грязь с глубины двух тысяч футов, и Перес погрузил в нее руки по локоть, отыскивая признаки органической жизни. — Кажется, ничего нет, — заключил профессор и стряхнул ком грязи в банку. Потом понюхал ил, попробовал на вкус кончиком языка, не обращая внимания на наши гримасы. И продиктовал своему помощнику: — Станция десять, желтый ил. Грунт азойный — никакой жизни. Я давно уже с недоверием относился к драгам. — Как вы смотрите на то, чтобы проверить дно фотокамерой? — спросил я Переса. — Пожалуйста, — ответил он. — Да только лучше бы отойти в сторонку, здесь же ничего нет. Мы не стали никуда уходить, а опустили камеру Эджертона на «азойный» грунт. И получили на редкость живописные снимки богатой донной жизни. Перес немедленно потребовал, чтобы время пользования лебедкой, отведенное его группе, было увеличено вдвое. Он хотел на каждой станции, кроме драги, опускать фотокамеру. Наши матросы-аквалангисты безропотно работали на лебедке в любое время суток. Спуск и подъем океанографических приборов — нуднейшее занятие для матросов кораблей, где царит кастовый дух, где ученые обедают и спорят отдельно ото всех. На «Калипсо» исследователи сидят за столом вместе с матросами, и те не стесняются расспрашивать их. После десяти лет сотрудничества с учеными многие калипсяне стали неплохими подручными биологов и недурно разбираются в подводной геологии. Подводные пловцы добывают ученым достаточно полные коллекции в верхней, двухсотфутовой зоне, но дальше мы зависим от всяких подвесных приспособлений, которые причиняют нам немало мучений. Океанографы (дай им Бог здоровья!) — слепые нищие, ковыляющие на костылях из тросов. Все, что в наших возможностях — иногда бросить случайную монетку познания в их ладонь. Ведь мы сами бродим вслепую в этом мире чудес. Вот уже двадцать лет я пытаюсь избавиться от тросов и линей в подводных исследованиях. Акваланг позволил отказаться от воздушного шланга и сигнального конца, к которым привязан обычный водолаз, и «Калипсо» была оборудована как площадка для подводных пловцов. На смену подвешенным батисферам пришли независимые батискафы, и я всячески поддерживал развитие новой конструкции. И уговаривал океанографов перейти на приборы, свободно погружающиеся и автоматически возвращающиеся из пучины. Когда я получил «Калипсо», на ней была только одна якорная лебедка и катушка фортепьянной проволоки для замера глубины. Для подъема археологических находок и швартовки пришлось поставить вторую лебедку. Это был ненадежный, сильно потрепанный одноцилиндровый дизель, который мы по фамилии изготовителя называли «ломбардини». Чтобы завести его, мы бросали в цилиндр горящие сигареты и отскакивали в сторону, меж тем как два героя крутили ручку. «Ломбардини» долго изрыгал облака жирного черного дыма, разгоняя людей, прежде чем начать работать. Потом пришли ученые и принесли с собой свои драги и иные подвесные снаряды. Мощность «ломбардини» оказалась недостаточной, и мы выбросили его, а взамен поставили электролебедку. Но гидрологи потребовали себе персональную лебедку. И в итоге каждый раз, как «Калипсо» становилась зимой на ремонт, на палубе появлялись все новые лебедки и бухты троса; одновременно увеличивалась осадка судна. Из врага тросов я незаметно превратился в их раба. Главным правонарушителем был Гарольд Эджертон — он изготовлял все более хитроумные глубоководные камеры, против которых я не мог устоять. Как-то летом он явился на «Калипсо» с огромными мотками блестящего белого линя из нейлона. Линь был меньше четверти дюйма толщиной, а длиной три мили. — Сдается мне, это будет получше стальной проволоки, — сказал он. — Нейлон почти ничего не весит в воде. А этот к тому же покрыт воском, так что у него положительная плавучесть. Прочность на разрыв полторы тысячи фунтов, эластичность — около двадцати процентов. Испытывая синтетический линь у мыса Матапан (Греция), мы опускали на нем глубоководные камеры, даже использовали его как якорный трос для катера в точке, где под килем было четырнадцать тысяч футов. И тут родилась смелая мысль: что, если сделать из нейлона якорный трос для «Калипсо»? Бросим якорь на большой глубине и сможем, не сходя с места, получить сотни снимков, которые расскажут нам, что происходит на определенном участке. Вдруг нам удастся подсмотреть загадочных обитателей морского дна… Мы рассчитали прочность, толщину и упругость нейлонового якорного тросика длиной шесть миль и сдали заказ одной фабрике в Новой Англии. Каждая ступень длиной в тысячу шестьсот ярдов была окрашена в другой цвет; это помогало следить, сколько вытравлено. И вот настал самый постыдный для меня день в моей войне с тросами. Стоя на пристани в Абиджане (Берег Слоновой Кости), я смотрел, в какое чучело превращается моя изящная белая «Калипсо». Что нос, что корма — сплошная путаница блоков, проволоки и кожаных ремней, с помощью которых наматывали на тяжелые барабаны шестимильный разноцветный трос. Не корабль, а прядильная фабрика! Мы готовились бросить якорь на рекордной глубине. «Калипсо» вышла к самой большой в экваториальной части Атлантического океана впадине Романш. Ее глубина двадцать пять тысяч футов, ширина несколько миль; открыта она в 1883 году французским гидрографическим судном «Романш». От побережья Африки до впадины восемьсот миль, но мы не очень полагались на карту, потому что в этих широтах экваториальный облачный пояс затрудняет определение места по небесным светилам. И мы, идя ко впадине, приготовились не один день прощупывать дно эхолотом. На третий день «Калипсо» пришла в район впадины. Юго-восточный пассат гнал небольшие волны. В половине пятого утра я встал с койки и поднялся на мостик. Саут доложил, что из-за облачности не смог ночью определить позицию по звездам. Я заглянул в штурманскую рубку. Лабан уткнулся носом в самописец эхолота, точно надеялся уловить обонянием первый скачок глубины. Возле него стояли Симона и Филипп. Я принялся распутывать ярды бумажной ленты, уже прошедшей сквозь прибор. Позади остались однообразные просторы Восточной абиссальной равнины с глубиной тринадцать тысяч футов. Теперь мы шли над предгорьями Атлантического хребта; под килем было 9 тысяч футов. — Так! — воскликнул Лабан. — Пошла вниз. — Это впадина? — спросил Филипп. — Не спеши, — ответил мастер точной механики, — это была бы невероятная удача… Гляди-ка, продолжает идти вниз! Скрытое в абиссальном мраке дно продолжало опускаться. Одиннадцать тысяч футов… пятнадцать тысяч… На отметке двадцать четыре тысячи футов самописец остановился. Не определив позиции, Саут с первой попытки попал в игольное ушко. Мы ходили над впадиной шесть часов, промеряя эхолотом, пока окончательно не убедились, что находимся над центром. Настал час попытаться сделать то, чего до нас еще никто не делал: забросить якорь на глубину около пяти миль. Тридцатью годами раньше немецкое океанографическое судно «Метеор» опускало якорь на глубину 18 тысяч футов. С помощью нейлона мы собирались побить этот рекорд на одну милю. Синтетический материал привлек нас потому, что металлический трос такой длины пришлось бы делать очень толстым сверху, иначе он не выдержал бы собственного веса. Нейлон невесом, но это достоинство, в свою очередь, рождало новую проблему. Чтобы лапы якоря крепко зарылись в грунт, надо тащить его горизонтально. Обыкновенная якорная цепь ложится на дно и обеспечивает горизонтальную тягу. А нейлоновый трос будет висеть так, что якорь не зацепится. Здесь очень кстати пришлись знания, которые мы приобрели, раскапывая виновоз у Гран-Конглуэ. Ведь пеньковые канаты тоже были очень легки в воде. Древние мореплаватели крепили к верхней части деревянного веретена тяжелый свинцовый брус, и якорь ложился как нужно. «Калипсо» почтительно испила из источника древней мудрости. К стандартному двухсотфунтовому якорю мы добавили сто футов якорной цепи, чугунную чушку на триста пятьдесят фунтов и сто футов стального троса; только потом шел шестимильный нейлоновый линь. Дополнительный груз должен был дать продольную тягу. Чтобы нейтрализовать упругость нейлона, мы придумали двухступенчатое устройство для подъема якоря. Если прямо травить и наматывать линь, наш легкий барабан, сделанный кузнецами с Берега Слоновой Кости, может не выдержать сжатия всех витков. Мы установили здоровенный блок, сопряженный с главным валом лебедки. Пройдя через блок, линь вернется на барабан уже ненапряженным. Я стоял возле африканского барабана вместе с кудесником эджертонской магии. Ветер дул с кормы. Дежурный на эхолоте крикнул в рупор: «Двадцать четыре тысячи шестьсот футов!» — и мы начали. Саут взобрался на кормовой кран, пропустил через блок конец нейлонового линя и срастил его с ведущим стальным тросом. Пошел в воду якорь с грузами. Управляя стопором лебедки, Октав Леандри вытравливал нейлоновый линь. В голубую толщу уходили разноцветные секции. Трение воды тормозило грузы и трос, и Леандри было все легче на лебедке. Когда якорное устройство опустилось на две мили, оно с трудом тянуло линь. В микрофон я отдавал команды на мостик. При таком сильном течении и ветре в пятнадцать узлов приходилось все время маневрировать, чтобы якорь погружался отвесно. Через два с половиной часа после начала спуска стрелка динамометра застыла на месте. Якорь лег на дно. Он еще не зацепился за грунт, но нейлон уже доказал свою пригодность. Мы вытравили еще, чтобы линь провис и заставил лапы якоря зарыться. Я дал ход, пытаясь представить себе, каким будет рывок. Уже четыре часа, как мы начали спуск… Вдруг динамометр ожил. — Стоп машина! — крикнул я Сауту. Кажется, зацепились. Самое время — на барабане осталось всего пятьсот футов нейлона. Мы вытравили 29 500 футов, а с учетом растяжения — 31 860 футов, то есть больше шести миль. В наступившей тишине было слышно, как плещутся волны, облизывая борта. Море текло мимо нас, словно река. «Калипсо» превратилась в островок. Самописец эхолота чертил ровную линию на отметке 24 600 футов. Посреди океана мы забросили якорь на глубину четырех с половиной миль. Все прибежали на корму посмотреть на свисающую с хомута туго натянутую красную нить. Под аккомпанемент гитары (на ней играл Бейтс Литлхейлз из «Нейшнл джиогрэфик»), африканских цитр и тамтамов мы исполнили гимн «Калипсо». Потом Бейтс заиграл «Родное ранчо» — и зажмурился, услышав наши французские слова к этой мелодии. Я сплю очень крепко, но в эту ночь меня несколько раз будили доносившиеся с палубы лихие возгласы. Калипсяне били острогой больших красных кальмаров, которые поднялись из пучины полакомиться летучими рыбками. Громче всех кричал Филипп — его четырехфутовый кальмар оказался самым крупным. Утром «Калипсо» по-прежнему спокойно стояла на якоре — недвижимая точка среди струящихся вод Атлантического океана. Нагрузив свинцом куски пробки, мы бросили их с кормы. Пробка поплыла вдоль борта у самой поверхности; на носу мы засекли время по часам. Скорость течения оказалась равна 1,2 узла, направление — северное. Оно несло мимо нас ярко-голубых голожаберных моллюсков, пульсирующих медуз, планктон, ленивых рыб. Биолог Кристиан Карпен буквально лежал на поручнях, не отрывая глаз от этого парада морских жителей. А Эджертон готовился сделать первые снимки впадины Романш. Его новейшая камера, синхронизированная с электронной вспышкой, была заключена в два бокса из закаленной нержавеющей стали, рассчитанных на давление в пять с половиной тонн на квадратный дюйм. На том же кронштейне размещался мощный пищик, который позволял нам строго выдерживать девятифутовое расстояние между камерой и дном. Папа Флеш завел автоспуск так, чтобы он сработал через два часа, закрыл бокс и опустил все устройство в воду. Надев наушники эхолота, я следил за сигналами пищика. На глубине трех миль они прекратились. — Гарольд! — крикнул я. — Теперь мы слепы. Поднять камеру? Он подсчитал в уме и ответил: — Не надо. Поднять ее, проверить и снова спустить — на это уйдет семь часов. Рискнем так. Не останавливай лебедку. Мы продолжали опускать камеру наугад, пока не провис нейлоновый трос. Значит, легла на грунт. Затем мы три часа дергали ее вверх-вниз — авось хоть несколько кадров будут экспонированы с расстояния девяти футов и мы получим желанные снимки дна абиссали. Уже темнело, когда камера вернулась на борт. — Эй, — воскликнул Гарольд, — глядите на иллюминатор фотобокса! Полуторадюймовое стекло треснуло посредине. От давления или от удара — решить было невозможно. Эджертон вывинтил окошко и извлек фотоаппарат. — Совершенно сухой! Когда проявили драгоценную ленту, оказалось, что до повреждения иллюминатора было снято два кадра. Мы превзошли на полмили прежний рекорд глубоководной фотосъемки. Первый снимок впадины Романш показывал около девяти квадратных футов морского дна, изборожденного валами и совсем свежими на вид трещинами. Грунт был крупнозернистый, с редкой россыпью щебня. В трех местах можно было различить как будто крохотных светлых рыбок; они отбрасывали тень на дно. У одного животного было что-то вроде щупалец. Фотография доказывала, что подвижные формы обитают почти на две мили глубже, чем те виды, которых наблюдали из батискафа Уо и Вильм. На втором кадре дно было более ровное, усеянное разноцветным чистым обломочным материалом. Мы различили девять очень маленьких животных и нечто похожее на морскую звезду около четырех дюймов в поперечнике. Эти снимки свидетельствовали, что существуют подводные атлеты, способные переносить чудовищное давление. Геологов удивило отсутствие сплошного слоя осадков. Время, отведенное для фотографических опытов, истекло, и мы убрали камеру. Нам предстояло провести точную эхолотную съемку впадины Романш. Глубоководная якорная стоянка играла тут очень важную роль. Съемка началась утром третьего дня, когда мы, многократно взяв высоту солнца и звезд, определили координаты «Калипсо»: 0°10′ южной широты и 18°21′ западной долготы. На одном из катеров установили радарную мишень, и Саут перенес на него наш новый якорный трос. Получился стационарный навигационный знак, репер для нашего радара. «Калипсо» стала ходить поперек впадины, щупая дно эхолотом. В штурманской рубке мы с Эджертоном наносили на эхолотные разрезы позицию и курс и отмечали глубины на крупномасштабных картах. Ширина впадины по дну была от двух до пяти миль. Огромными ступенями поднимались склоны — северный под углом двадцать пять градусов, южный под углом тридцать градусов. На основе наших данных Карпен и Лабан лепили из гипса макет каньона. Подошел судовой врач и брюзгливо сказал: — Ну, бродяги, если кто-нибудь из вас сломает ногу, пеняйте на себя. Они стащили у него хирургический гипс. Радист вызвал меня из штурманской рубки и вручил личную радиограмму: из Нантакета сообщили, что Билл Эджертон погиб, испытывая водолазный аппарат. На мою долю выпала горькая обязанность рассказать об этом отцу. Горе ошеломило его; но как истинный ученый он не хотел срывать экспедицию. Я отвел его в каюту к Симоне, а сам пошел к радисту. — Свяжись с командиром военно-морской базы в Дакаре. Попроси выслать специальный самолет в Конакри, чтобы забрали профессора Эджертона и меня и перебросили в ближайший пункт, где можно пересесть на воздушный лайнер, идущий в Нью-Йорк. От радиста — к Сауту: — Подними катер. Собери на лебедку нейлоновый трос, подбери все приборы. Капитан взялся за рычаги и включил лебедку. — Натяжение сильное, больше обычного, — сказал он. — А потяну сильнее — лопнет, чего доброго. — Давай тяни, — ответил я. — Надо спешить, дело серьезное. Саут прибавил мощности. Видно было, как растягивается цветной нейлон у самого барабана. Трах! Словно выстрелило крупнокалиберное ружье. Трос лопнул, обрывок скользнул за корму. Пропал наш глубоководный якорь. — Пошли в Конакри, — сказал я. — Полный вперед.
После многих рейсов, получив десятки тысяч превосходных фотографий дна, мы с Эджертоном в конце концов вынуждены были признать, что результаты не отвечают нашим ожиданиям. От ям да от бугорков рябило в глазах, а животных, которые их соорудили, нигде не было видно. Нас огорчало и то, что очень редко удавалось снять плавающие организмы, хотя из батискафов наблюдатели видели множество подвижных форм на дне. Очевидно, фотовспышка распугивала животных на той небольшой площади, которую перекрывал объектив. А длинные тросы и кабели были словно якоря, с ними «Калипсо» не могла уйти далеко. Надо было придумать новый способ фотосъемки дна. — Пожертвовать камерой не жалко? — спросил я Папу Флеша. — Жалко? Не больше, чем правой рукой, — ответил он. — А что вы задумали? — Смастерим сани, протащим на них камеру. — Ладно, — сказал Эджертон. Мы взяли переносный водолазный трап, поручни которого загибались, как старинные санки. Эджертон приторочил к нему боксы с камерой и фотовспышкой, Саут сделал из доски стабилизатор, Ро подвесил цепь — вертикальный балласт, Симона привязала к саням флаг Национального географического общества, Жиро — искусственные цветы, Даген укрепил на санях знак «покойся с миром», Дюма отпел их. Первый образец невиданных «глубоководных фотосаней» был опущен в море у восточных берегов Туниса. Два часа мы медленно тащили их над подводной равниной. Трос был натянут так слабо, что мы боялись — уж не оторвались ли сани. Но вот включена лебедка, Саут подергал трос и улыбнулся: — Кажется, на месте. Да, сани были на месте. Мы извлекли всю конструкцию из воды в полной сохранности, даже флаг и цветы уцелели. Снимки вышли великолепно. Дно было вымощено маленькими морскими звездами, которые помахивали своими руками. Сани прошли над ними три мили, а так как снимки перекрывали друг друга, получилась первая непрерывная панорама морского дна. В Центре подводных исследований Алина и Лабан создали затем гораздо более совершенную конструкцию, которая могла обходить препятствия и выравниваться после крена. На трубчатой раме длиной двенадцать футов и шириной пять футов была установлена опора высотой в шесть футов. Сани двигались бочком, по-крабьи, чтобы взмученный ими ил не попадал в поле зрения объектива. Буксирный трос крепили в двух местах — сзади, потом впереди, причем для второго крепления брали просто веревку. И когда сани упирались в высокий бугор, трос рвал веревку и поднимал всю конструкцию за хвост. Испытывая наши новейшие изобретения на глубоководных санях, мы знали, что какие-то из них потеряем, и старались делать их подешевле — боксы для камер и фотовспышек собирали из обычных труб, соединяли части грубой сваркой. Мы смогли изготовить семь саней, из них трое с кинокамерами. Для буксировки саней требовался сплав мореходного и водолазного опыта. Нужно было вытравливать трос, когда менялись глубина и наклон дна, учитывать поверхностные течения, чтобы сани шли равномерно, со скоростью один-два узла. Вахтенный офицер был связан с дежурным на корме, который держал на буксирном тросе босую ступню и тотчас докладывал о малейших рывках, говоривших, что сани задевают дно. Динамометр показывал нам, когда они прочно застревали. В таких случаях «Калипсо» останавливалась, вытравливала трос и маневрировала, чтобы освободить наш подводный экипаж. И когда сани возвращались на борт, поливая палубу веселыми струйками воды, это казалось нам чудом. Первую серьезную задачу глубоководные фотосани выполнили в 1959 году, когда мы разведывали трассу трубопровода. Они принесли нам фотоснимки и кинокадры подходящего участка средиземноморского дна длиной 115 миль, сопряженные с точными эхолотными и радионавигационными данными. Никакой другой аппарат не справился бы с этим. Просматривая фильм, мы словно сами шли над дном со скоростью двух миль в час. Сани были, можно сказать, батискафом бедняка. Как это всегда бывает с новыми — удачными — приборами для изучения моря, сани чаще приносили нам загадки, чем ответы. Так, снимки, сделанные во время испытаний на глубине двух тысяч футов, показали, что дно исчерчено бороздами высотой до одного фута. Очень похожий след оставляют доски рыболовного трала, но на такой глубине в Средиземном море никто не ловит. Борозды тянулись поперек склонов, в точности как горизонтали на карте. В один из заходов киносани наконец засняли подводного пахаря. Рыба длиной с фут, наполовину зарывшись в ил, энергично работала хвостом и чертила им прямую линию. Но какой земледелец прокладывал более глубокие борозды? На этот вопрос сани пока не ответили. Не объяснили они и явления, запечатленного кинолентой на глубинах от двух до четырех тысяч футов. Здесь глаз камеры увидел свежие кратеры трех — шести футов в поперечнике и глубиной до четырех футов. Глядя на эти углубления, невольно представляешь себе крупных рыб, которые зарываются в дно для нереста или чтобы укрыться от врага, а может быть, для спячки. И опять фотографии говорили нам, что нужно создавать новые суда, которые позволят проникнуть в эту страну кратеров и побыть там достаточно долго, чтобы увидеть за работой загадочных землекопов. Почему-то мне казалось, что кратеры вырыты гигантской акулой. Каждый год в апреле можно видеть, как спинной плавник гигантской акулы медленно разрезает поверхность Средиземного моря. У этой рыбины огромная пасть и острые зубы, которыми она вовсе не пользуется, так как питается планктоном, отцеживая его через фильтры в жаберных щелях. Весной планктона много, и, отъевшись как следует, гигантские акулы в конце мая исчезают из Средиземного моря — все в один день. Ясно, что такие медлительные пловцы не могут внезапно уйти через Гибралтарский порог в Атлантику. По-моему, они уходят в абиссаль и, быть может, зарываются в дно, во всяком случае, на часть десятимесячного срока, когда их не видно на поверхности. В пользу этой гипотезы говорит любопытное открытие, сделанное Паркером и Буземаном в Северном море. Зимой они ловили гигантских акул, у которых не было жаберных тычинок. Исследователи заключили, что акула, нагуляв жир весной и летом, погружается на дно и проходит стадию «отдыха и непринятия пищи»; одновременно у нее отрастают новые фильтры для весеннего планктонного сезона. Интересные заходы совершили фотосани в Атлантике, когда мы шли с Канарских островов в Нью-Йорк. Мы протащили их по Великому Метеору — конусовидной подводной горе, плоская вершина которой не доходит до поверхности на 430 футов. Полагают, что Великий Метеор и другие подводные горы Атлантики некогда были островами; потом их сгладила эрозия, и они ушли под воду. Бермудские острова — пример надводной горы, которая может в будущем последовать за своим соседом, ставшим банкой Челленджера. С вершины Великого Метеора фотокамера принесла виды плато, покрытого невысокими густыми «зарослями»: кремневые губки, раковины, карликовые кораллы. Теория опускания островов подтверждается тем, что поблизости есть подводная гора Йер примерно такой же высоты. Ее вершина оказалась размытой до коренной породы. Сани прошли над трещинами, набитыми крупной рыбой. Однако было бы неверно судить по этому обо всей горе. Когда мы опустили сани и драги ниже, выяснилось, что на склонах есть богатая, разнообразная жизнь. На восточном и западном склонах — поля белых и желтых кремневых губок, растущих на помеченном тут и там рябью белом песчаном грунте. Южный склон сложен черным вулканическим шлаком, напоминающим металлургический. Редкие высокие горгонарии оживляли этот угрюмый ландшафт. Резкие геологические и биологические контрасты на сравнительно небольших участках подводного мира оказались главной неожиданностью, которую принесли нам санные операции. Основным предметом наших исследований в Атлантике был длиннейший в мире хребет — Атлантический; он извивается от полюса до полюса, деля океан на две котловины. Хребет расположен примерно посредине между Евроафрикой и Америками и в общем повторяет очертания этих материков, словно подтверждая старую, но живучую, несмотря на свою спорность, теорию Пенка и Вегенера о перемещении материков. Вершинами Срединного Атлантического хребта являются Азорские острова, остров Святого Павла и остров Вознесения. Гребень хребта почти во всю длину рассечен Срединной Долиной, к которой, вероятно, приурочены эпицентры океанских землетрясений. Стоило рискнуть санями ради того, чтобы заглянуть в эту загадочную долину. Эхолот «Калипсо» нащупал контрфорсы Атлантического хребта. Его профиль на ленте точно соответствовал описанию, сделанному видными американскими исследователями Морисом Юингом и Брюсом Хизеном. На гребне высота вершин достигала минус пяти тысяч футов. Дальше склон обрывался на десять тысяч футов до дна Срединной Долины. Идя по океанской глади, было как-то трудно представить себе, что в вечной ночи под нами вздымаются кверху иссеченные ущельями пики. Прежде чем отправлять сани на эти крутые горки, надо было из места с точными координатами над центром долины нанести на карту ее ложе. Мы забросили кошку на нейлоновой лесе длиной одиннадцать тысяч футов; прочность лесы на разрыв равнялась всего шестидесяти фунтам. Целый час понадобился кошке, чтобы достичь дна. Другим концом леса была прикреплена к маленькому пластиковому бую. На кормовой палубе матросы наполнили водородом большой шар, покрытый алюминиевой фольгой, усиливающей радиоэхо. Его отбуксировали на надувной лодке и привязали к бую. Шар взлетел и повис на высоте 150 футов. Вокруг неподвижного шара «Калипсо» провела эхолотную съемку на площади в десять миль, и оказалось, что Срединная Долина поразительно узка. Если бы не эхолотная карта, составленная с помощью водородного шара, нам ни за что не удалось бы выудить наши сани из этой расселины. Первые сани несли камеру для цветной стереофотосъемки. Мы тянули их очень осторожно, Морис Леандри все время держал ступню на тросе. Через пять часов мы извлекли сани с глубины четырех миль. И с трудом узнали их: желтая краска сошла, рама была испещрена метинами от множества столкновений. Но боксы с камерой и фотовспышкой не пострадали. Стереоснимки производили сильное впечатление. Характер дна менялся так резко и неожиданно, словно мы листали геологический справочник. Вот груды вулканических глыб с острыми гранями, на следующей фотографии — миниатюрная Сахара, а дальше — альпийский ландшафт, серая коренная порода припудрена, будто снежком, осадками. Масштаб невелик, а впечатление такое, как если бы видел горную страну или ее модель, созданную искусным японским садовником. Сани проходили над полями чистых белых осадков, которые накапливаются со скоростью три фута в десять тысяч лет, и тут же следовали откосы, заваленные вулканическим шлаком, словно от недавних извержений. Придонная вода была замечательно прозрачна; даже на снимках, сделанных с пятидесяти футов, мы различали подробности. На некоторых картах крутые склоны долины были исчерчены недавно скатившимися с вершин базальтовыми глыбами. В двух местах объектив запечатлел столбы вулканической породы с концентрическим узором на поверхности, как будто лава только что остыла, вчера излившись из кратера. Эти колонны настолько походили друг на друга величиной и формой, что можно было принять их за остатки какого-нибудь храма мифической Атлантиды. Мы снарядили киносани, чтобы снять поперечный разрез Срединной Долины. Сделали три захода, но всякий раз что-нибудь ломалось; либо камера, либо фотовспышка. В это время на горизонте появился немецкий пассажирский лайнер. С него заметили наш серебристый шар и свернули к нам, чтобы взглянуть на него поближе. На Бермудских островах мы взяли на борт одного ученого, потом отправились к банке Челленджера — плоской вершине подводной горы высотой минус 150 футов. Наш гость — опытный аквалангист — рассказал нам, что здесь еще никто не нырял, и мы предложили ему совершить первопогружение вместе с Фалько и Давсо. Бросили якорь вдали от всех берегов, я посадил тройку в акулоубежище и отправил вниз, предупредив, чтобы не отплывали далеко. В нескольких футах от дна Фалько нажал сигнальную кнопку, и клетка остановилась. Видимость сто футов, и куда ни посмотри — дно вымощено камнями величиной от сливы до апельсина. Только возле якоря «Калипсо» поблескивало какое-то инородное тело. Давсо поплыл туда. Ученый загудел, подавая сигнал бедствия. Ничего, Фалько поможет ему, решил Давсо, продолжая идти к загадочному предмету. Ученый показал на предмет, потом на свои баллоны. Фалько тоже начал гудеть. Давсо повернул назад. Они вошли в клетку, их подняли. На палубе ученый выдернул изо рта загубник и закричал: — Там лежит новехонькая торпеда с магнитной боеголовкой! Мои баллоны из стали. Еще немного, и мы взлетели бы на воздух, и корабль вместе с нами! — А у меня там стальной якорь, — сказал я. Я выяснил, где примерно лежит торпеда, и мы дали ход в другую сторону. Как только якорь оторвался от грунта, «Калипсо» обратилась в бегство. — Вот так, Давсо, — сказал я, — как ни велико море, люди везде набросали свои изделия. Дальше у нас было задумано опустить сани в самой глубокой точке Атлантического океана — впадине Пуэрто-Рико, с отметкой около 28 000 футов. Севернее Сан-Хуана мы под вечер забросили кошку на нейлоновой лесе длиной 30 000 футов и подняли шар с водородом. Дул очень крепкий ветер, и ночью шар исчез с экрана радара. Утром, сколько мы ни смотрели, нигде не было видно вашей океанографической планеты. Привязали другой шар; его стало сносить вместе с буем. Мы пошли вдогонку и перехватили линь. Оказалось, что он оборван на глубине тысячи футов. Мы поместили обрыв под микроскоп. Леса была гладко срезана с двух сторон. — Похоже, что не зубами, а клювом, — заметил Фалько. — Видно, здешние кальмары недолюбливают океанографов, — ответил я. Не только ветры, но и жители моря ополчились против нас. Нет, я не дам им больше играть шарами, будем опускать киносани так. Наша новая лебедка, самая большая, какую когда-либо приходилось тащить на себе бедной «Калипсо», была специально рассчитана на впадину Пуэрто-Рико; правда, мы еще не испытывали ее на такой глубине. Эластичный нейлоновый линь тут не годился, для саней у нас был конический стальной трос. Семь миль троса пришлось нам вытравить, прежде чем сани достигли дна. Они двигались очень медленно, и, когда мы стали выбирать трос, напряжение грозило раздавить барабан лебедки. Стали лопаться сварные швы, края барабана выгнулись наружу. Сражаясь с сильным ветром, мы через несколько часов все-таки подняли сани на борт. А на ленте — сплошь пустые кадры: нарушилась синхронизация затвора и фотовспышки. Тот, кто задался целью узнать что-то про океан, должен быть готов к разочарованиям. Мы вошли в порт Сан-Хуана; здесь американские военные моряки вернули нам хорошее расположение духа, быстро отремонтировав и укрепив нашу лебедку. Вторая атака на впадину состоялась в такую же скверную погоду, как и первая. Мы опустили сани на дно и потащили на буксире семь тонн троса и тонну оборудования. «Калипсо» зарывалась носом, а тут северо-западный ветер сменился западным, и нам стало еще труднее. Я решил рассчитать нашу истинную скорость. Оказалось, что мы не двигаемся с места. Сани превратились в якорь. Целый час мы боролись с ветром. И все без толку. — Поднять сани! — крикнул я на корму. Камера вернулась на борт, и мы облегченно вздохнули. Эджертон пошел проявлять пленку. На этот раз аппарат и вспышка работали согласованно. Мы получили снимки, сделанные на рекордной глубине 27 885 футов[10]. Дно впадины Пуэрто-Рико на фотографиях было ровное; в слое осадков мы увидели такие же ямки, норы или кратеры, какие всегда наблюдали на больших глубинах. Несколько кадров запечатлели двух рыб длиной около фута, плывущих над самым грунтом. Они пересекли поле зрения камеры много раз. Пока калипсяне трудились на взбрыкивающей палубе, извлекая из моря последние сани, я стоял на левом крыле мостика и, щурясь на заходящее солнце и слушая свист ветра, подводил итог. В девятидневной битвея поломал барабан лебедки, вхолостую протащил камеру, неожиданно для себя стал на якорь, потратил долгие часы, вытравливая и выбирая трос, потерял шар и 59 тысяч футов нейлона, был оставлен в дураках кальмаром, который не дал мне установить радарную мишень… И все это ради немногочисленных фотографий. Я поклялся страшной клятвой, что вырвусь из этой паутины тросов и покину беспокойную поверхность моря. Да, изучать глубины должны люди, сидящие в исследовательских подводных лодках.

Глава тринадцатая
В темной пучине

Под фонарем на кормовой палубе, тихо переговариваясь, подводные пловцы посыпаются тальком, чтобы легче было натянуть облегающий тело гидрокостюм. Ночь безлунная. «Калипсо» затемнена, если не считать сигнальных огней на грот-мачте. Высоко над нами светится окошко Порт-Калипсо, где-то во мраке кричат запоздалые чайки. Море тихое, и обычно грозная скала сейчас всего-навсего смутная тень, очерченная кривой полоской прибоя. Рядом с левым бортом в черную воду уходит свисающий с грузовой стрелы археологический рукав.
На палубе лежат толстый желтый баллон и два стеклянных пузыря, от которых тянутся кабели, — это наша новая телевизионная камера и прожекторы. Разрешающая способность иконоскопа намного выше, чем в коммерческом телевидении, и количество строк больше. Корректирующие линзы расширяют поле зрения объектива и устраняют влияние подводной аберрации. Камера отлично работает днем; ночью мы к тому же будем избавлены от дымки, возникающей от того, что взвешенные частицы рассеивают солнечный свет.
Кьензи, Гуара, Эрто и Давсо потянули для проверки воздух из загубников и ушли в воду. Октав Леандри и Поль Мартен опустили стофунтовую камеру и светильники, вытравили подвешенные на стеклянных поплавках черные коаксиальные кабели. Я попросил Мартена включить подводный светильник. Вспышка — «Калипсо» превратилась в трещинку в кристалле изумруда. Освещенные снизу волны облизывали белые скалы и словно тянули их к нам. Чайки подняли крик и бежали из Порт-Калипсо.
Стоя на корме, я смотрел, как ребята погружаются в прозрачную ночь. Колышущиеся волны причудливо искажали фигуры людей, то растягивая, то сжимая их. Потом свет рассыпался бликами, и аквалангисты пропали среди голубых и зеленых осколков. Скоро будут на дне. Я пошел в свою каюту; здесь Симона и техники смотрели на экран телевизора. Они видели место раскопок, плотно сидящие в грунте амфоры, рукав, напоминающий спящего удава. В кадре появился Давсо. Он взял конец рукава, включил воздух, и «пылесос» ожил. Давсо потащил рукав через ров к археологической линии фронта.
Меня занимали не столько амфоры, которые должен был отрыть Давсо, сколько качество телевизионного изображения. Взяв микрофон, соединенный с динамиком в боксе телекамеры, я сказал:
— Кьензи, вылезайте из ямы, покажите нам раскопки со стороны.
Оператор поднялся с боксом на склон и стал показывать оттуда. Испытание длилось двенадцать минут, я остался доволен.
— Ладно, Кьензи, выходите.
Камеру выключили, а светильники оставили, чтобы им было легче ориентироваться. Стоя на корме, я видел, как свет под водой становится все ярче. В десяти футах от поверхности — трехминутная декомпрессия. Но они почему-то задержались глубже. Прошло пять минут… В чем дело? Беды ни с кем не случилось, это ясно, иначе товарищи уже вытащили бы пострадавшего. Значит, происходит что-то интересное. Почему я сам не пошел с ними, вместо того чтобы наблюдать и судить сверху?
Ребята вышли, только когда кончился весь воздух в баллонах. Весело гикая и смеясь, они поднялись на борт. Над водой раскатился могучий баритон нашего щуплого Гуара:
— Капитан, это что-то неслыханное! Мы попали в косяк ставриды, дюймов по десяти каждая. Они пришли на свет и метались взад-вперед, будто ошалелые. Просто невероятно — тысячи ставрид! Из-за них мы друг друга не видели. Сотни рыб одновременно тычутся в тебя. Чувствуешь себя как лист бумаги, вставленный в пишущую машинку.
— Сожмешь пальцы в кулак, — подхватил Давсо, — а у тебя в руке рыба, если не две.
Гуара вдруг вскрикнул и шлепнул рукой по гидрокостюму.
— Помогите! — завопил он. — Скорей снимите с меня костюм.
Мы стащили с него гидрокостюм, и на палубу упала трепещущая ставрида. Видно, пробралась внутрь через отверстие воротника.
Чтобы согреть прозябших виновников паники в рыбьем царстве, мы открыли бутылку коньяку. В кают-компании стоял гул, все кричали наперебой; наконец мы условились, что четверка, отдохнув три часа, снова уйдет под воду, но с одними светильниками. Я решил присоединиться к ним. У меня был задуман один трюк.
Было уже за полночь, когда мы медленно пошли вниз вдоль рукава, поворачивая светильники в разные стороны, чтобы приманить ставрид. На глубине тридцати футов появились первые разведчики, а за ними — целый косяк. Мои товарищи ничуть не преувеличивали: эта чешуйчатая армада потеряла всякое чувство ориентации. В косяке все рыбы смотрят в одну сторону, но эти позабыли закон. Будто внезапно рассыпавшиеся колонны демонстрантов. Со всех сторон в меня тыкались крохотные рыльца. Я не мог разглядеть своих товарищей за барьером снующих рыб. В пяти футах от моего лица горела лампа в шесть тысяч ватт, но я видел только розовую просвечивающую плоть. Она переливалась, колыхалась, струилась — и не пропускала ни одного лучика прямого света.
Плыть сквозь этот косяк было все равно что ползти на животе по ожившей гальке. Пробившись между ошалевших ставрид, я рукой отыскал товарища и взял у него светильник. Потом нащупал рукав и направился вниз вдоль него, маня за собой рыб. Они пошли следом. Направив свет на отверстие рукава, я включил сжатый воздух. Все ставриды в радиусе одного фута были увлечены струей воздуха в рукав. Инстинкт, повелевающий плыть против течения, пробудил нескольких рыб от транса, и они затормозили на краю опасной зоны. Но на них со всех сторон напирали другие обезумевшие ставриды… Пять минут работал «пылесос», наконец я выключил воздух, а рыбы словно и не убыло вовсе.
Мы пошли вверх сквозь рыбий рой, я высунул голову из воды и услышал какофонию птичьих голосов. Чайки метались над светящейся водой, почти такие же возбужденные, как рыба. Одевшись, я отправился на остров. Корзина у верхнего конца рукава была полна, сотни ставрид высыпались из нее, соскользнули в море и теперь плавали кверху брюхом. Чайки жадно поглощали нежданный полуночный ужин.
На следующий день мы решили заснять это рыбье помешательство. Вечером ушли под воду и на глубине тридцати футов поманили светильником. Ни одной рыбы… Опустились до ста футов. Ага, вот и косяк, почти такой же плотный, как накануне. Однако теперь ставриды держали строй и не поворачивались на свет. Только три-четыре рыбы направились к нам, остальные сторонились нас, и мы никак не могли сбить их с толку. Я не знаю, чем объяснить столь резкую перемену. Нельзя не пожалеть рыбаков, благополучие которых зависит от таких аномалий.
Рыбный лов с огнями — лампаро — далеко не новость в Средиземном море; правда, прежде свет не погружали в воду и не применяли рукава со сжатым воздухом. В хорошую погоду тысячи шестидесятифутовых ботов, увлекая за собой на буксире лодки поменьше, выходят ночью из средиземноморских портов, чтобы приманить электрическими или ацетиленовыми фонарями сардину в свои сети. Увидишь такой флот в море — будто целый город переливается огнями. Лодки из Альмерии и Малаги идут к испанскому островку Альборан, расположенному к востоку от Гибралтара. Здесь на вершине горы, вздымающейся на 8250 футов над абиссальной равниной, стоит маяк. Рыбаки называют воды вокруг острова Альборанским морем.
«Калипсо» провела биологическую съемку Альборанского моря. Между погружениями Филипп Кусто, который участвовал в этом рейсе, прилипал к экрану эхолота, увлеченный картинами дна. Однажды прибор показал нечто совсем необычное. На глубине 150 футов — гладкий грунт, а в шести футах над первой чертой, совершенно параллельно ей — вторая, словно начерченная по линейке. Филипп побежал за Фалько, которого считал мастером разгадывать подводные тайны. Фалько посмотрел на ползущие по бумажному ролику параллельные линии.
— Может, это рыба? — спросил Филипп.
— Никогда не слышал, чтобы рыба так ровно стояла над дном, — ответил Фалько. — Не знаю, надо пойти вниз, посмотреть.
Саут и научный руководитель экспедиции согласились повернуть назад и отпустить Фалько и Филиппа на разведку. Войдя в воду, чтобы проверить свою плавучесть, Фалько поспешно ухватился за трап. Против такого течения не поплывешь! И они стали опускаться, крепко держась руками за якорную цепь.
На глубине ста футов аквалангисты различили внизу ровное желтовато-зеленое дно, над которым плавали тунцы, крупные лихии и здоровенная акула. Погрузились еще глубже и обнаружили… ковер из огромных листьев. Тысячи листьев, длиной до двадцати пяти футов, струились по течению. Подводные пловцы нырнули под них и очутились в полутьме среди тонких шестифутовых стеблей, растущих почти правильными рядами с интервалом в два фута. Зеленый свод колыхался от непрекращающегося «ветра» — атлантические воды со скоростью двух-трех узлов врывались в Средиземное море, неся океанских хищников и множество пелагических организмов. А в тиши под листвой процветала спокойная, мирная жизнь. Грунт покрывали ассоциации различных животных. Между стеблями степенно плавали меру. Морские ежи с короткими шипами, омары, морские звезды, скорпены превосходно чувствовали себя в этом подвале.
Филипп подтолкнул своего спутника и показал ему на крупную розовую скорпену, замаскировавшуюся под коралл. Довершая камуфляж, на голове скорпены сидел ветвистый гидроид. Затем аквалангисты обошли мурену, которая подстерегала добычу, обвив хвостом стебель и высунув голову над крышей.
Плыть в этой чаще было не просто. Растения запутывались в воздушных шлангах. Хорошо, что напарником Филиппа был Фалько, которого он слишком уважает, чтобы в его обществе позволить себе какие-нибудь проказы. Сверху приходили посмотреть на людей шестифутовые лихии. Очевидно, этих серебристых кочевников привлекали вырывающиеся из Альборанского леса пузырьки воздуха. Взяв ножи, наши разведчики аккуратно, чтобы не повредить стебель дюймовой толщины, вырыли из дна одно растение.
Бурая водоросль длиной в тридцать футов, которую Филипп и Фалько доставили на борт, поразила их товарищей. Ученые определили, что это ламинария вида, раньше не наблюдавшегося в Альборанском море. Вообще до того дня исследователи не встречали в Средиземном море ламинарий длиннее шести футов.
Узнав от Фалько и Филиппа об их приключении, я снарядил экспедицию на «Эспадоне», чтобы как следует изучить Альборанский лес. Мы пришли туда в безветренный день, но со дня на день могли разразиться бури, так что мы решили работать круглые сутки. Подводный шторм напомнил мне мой прежний волнующий опыт погружения вдоль якорной цепи. Войдешь в воду с подветренной стороны, борясь с течением, руки ищут надежной опоры. Стоит выпустить трос, и тебя может отнести на несколько сот ярдов, прежде чем выберешься на поверхность. Чтобы прожекторам «Эспадона» легче было отыскивать ночью тех, кого оторвет течением от троса, мы покрыли ласты и гидрокостюмы серебряной краской.
Я отправился в первую ночную прогулку по затопленному лесу и попал в какой-то зловещий черный мир. Кругом вспыхивали металлические переливы. Гуара и Кьензи, лихии, косяки сардин — все были в одинаковом серовато-голубом наряде. Под зеленым сводом мы нашли лужайку. Кьензи держал светильник, я снимал Гуара, и вдруг он потерял сознание. Занятый камерой, я не сразу заметил это, но Кьензи тотчас смекнул, в чем дело, бросил светильник, одной рукой подхватил Гуара, другой взялся за трос и стал подтягиваться вверх, ухитряясь при этом следить, чтобы у Гуара не выскочил изо рта загубник. В кромешной тьме, ошеломленный случившимся, я высунул голову и плечи над листьями. И тут меня, словно удав, обвила длинная ламинария. Сражаясь с ней во мраке, я старался не запутаться в других стеблях. Наконец вырвался из петли и опять погрузился в покой подводного леса. Постоял на месте, вспоминая, в какой стороне якорь. Пробираясь на ощупь между стеблями, которые так и норовили опутать мои баллоны, я наконец отыскал трос.
Хорошо, что Кьензи не растерялся и что у него оказались такие сильные руки, но повторять этот номер на бис нам совсем не хотелось. Вместе с Гуара — он очнулся еще под водой — мы придумали, как сделать путь в лес более простым. Чем спорить с Гибралтарским течением, лучше заставить его работать на нас. Мы подвели «Эспадон» к западной опушке ламинариевых джунглей и, нагрузив чугунными чушками тросы, забросили их так, что они на три фута не доставали до зеленого ковра. Получились своего рода пожарные шесты, по которым аквалангисты спускались вниз, неся с собой светильники и камеры. Не борясь с течением, а влекомые им, мы неслись над колышущимися ветвями, словно на воздушном шаре. Прыгнешь вперед, пройдешь немного под листьями, снова вынырнешь и ловишь трос. У восточной опушки подводного леса начинался пустынный песчаный откос; его появление было для нас сигналом: пора карабкаться вверх по тросу, проходить ступенчатую декомпрессию и подниматься на «Эспадон», чтобы возвращаться против течения и делать новый заход.
Выжидая в подвешенном состоянии под судном, когда ткани освободятся от азота, мы одновременно пополняли свои знания о морской биологии. Атлантический планктон, длинные прозрачные венерины пояса, низшие организмы шли плотно, как в часы «пик» люди в метро. Плывя в этой толкучке на восток, мы при свете фонарей рассматривали своих попутчиков. Некоторые из них напоминали мягкие кристаллы с радужными гранями. Мы были в окружении тысяч пятидюймовых сальп. Впервые мы увидели их в Персидском заливе; здесь они вели себя словно голуби-вертуны. Сальпы соединялись в длинные, до ста футов, цепочки, из которых Гибралтарское течение делало причудливые перевязи.
Однажды ночью, вися на тросе под «Эспадоном», я навел свой светильник на Фалько. Улыбаясь сквозь стекло маски, он поймал призрачную цепь из сальп и обмотал ими свой серебристый гидрокостюм. Словно подводный рыцарь в доспехах схватился с восьмидесятифутовым студенистым драконом… В подводной темнице, среди причудливо-жутких планктонных шаров мы радостно отмечали все, что напоминало нам наше привычное море: взлет пугливых летучих рыбок, нарядного румяного кальмара.
Ночные погружения привлекали нас прежде всего особо прозрачной водой и возможностью изучать психологию животных. Но самая плодотворная сторона этих погружений выявилась совсем неожиданно. Один из техников Центра подводных исследований собрал несложный и очень хороший водолазный фонарь с большим, превосходно отполированным рефлектором и мощными батареями. Мы испытали его днем на глубине двухсот футов и остались премного довольны, не подозревая, какой сюрприз он нам приготовил.
Ночью новый фонарь впервые был испытан у Сормиу, где Фалько наблюдал брачный сезон голотурий. Наши прожектора, связанные с поверхностью электрическими проводами, были очень уж громоздкими; зато они освещали большую площадь, как бы воссоздавая дневной свет. Однако новый фонарь не понравился Фалько — слишком узкий луч. Он далеко пронизывал мрак, но освещенный участок дна был чересчур мал. Приходилось подолгу искать одну голотурию за другой, а на это уходило много времени. И Фалько решил, что не стоит затягивать погружение, лучше вернуться и забраковать фонарь.
Острый луч осветил рыбу, небольшого белого морского леща. Морские лещи — робкие; завидев подводных пловцов, они спешат укрыться в трещинах. Но этот словно окоченел. Светя в глаза неподвижной рыбе, Фалько медленно подплыл вплотную к ней и тронул ее рукой. Лещ очнулся и удрал. Фалько стал наводить луч на других рыб. И на них свет действовал так же ошеломляюще. Когда он рассказал нам о своем открытии, я ответил:
— Это что-то новое. Конечно, нельзя использовать световой гарпун для боя рыбы, это будет то же браконьерство. Но ты, кажется, открыл неплохой способ отлавливать живые экспонаты для аквариумов.
Я помог Фалько и Клоду Весли организовать ночные вылазки на «Физалии», принадлежащей Океанографическому музею Монако.
…Двое уходят вниз вдоль отвесной скалы, превращенные светящимся планктоном в подводные призраки. Фалько светит в разные стороны фонарем. Весли несет серебряную паутину: сачок. Кругом, словно фаски на зеркале, блестят, переливаются сардины. Фалько заколдовывал рыбу, Весли ловко подносил к ней сачок, ощутив прикосновение, рыба бросалась вперед и оказывалась в западне.
Фалько ослепил барабульку, ощупывавшую дно своими усиками. Весли подставил сачок, и барабулька пошла прямо в него. Знай поспевай вытаскивать рыбу из воды! Они собрали полный комплект обычных для Средиземного моря рыб — лаврака, барабуль, морского леща, морского петуха, боопса и других. Только один вид не клевал на луч — красивый зеленый губан верада. Он поворачивался хвостом к опасному свету и стремительно уходил.
Всего увлекательнее было ловить крупных каменных окуней. Они на ночь забираются в нору и стоят там головой к выходу. Фалько направлял волшебный луч в глаза окуню, Весли держал наготове сачок.
— А потом засовывай руку внутрь, пощекочи окуню хвост, убирай фонарь и берегись, когда окунь кинется в сеть, не то оторвет тебе руку! — рассказывал Фалько.
Каменный окунь отчаянно отбивался. Чтобы добыча не порвала сачок, Фалько до самой поверхности держал ее под световым гипнозом.
Кончился первый опыт. Стоя на корме «Физалии», Фалько и Весли радостно смотрели на свой улов — полтораста рыб в садке, который плыл на буксире за судном. Пленники выглядели превосходно, барабульки выскакивали на ходу из садка. Ловцы накрыли его сетью.
А когда судно причалило к пристани, мы обнаружили, что несколько каменных окуней погибло; они лежали на боку или кверху брюхом. Очевидно, поднимаясь к поверхности под гипнозом, не смогли приноровить свои плавательные пузыри к меняющемуся давлению и стали жертвой декомпрессии. Да и наши подводные пловцы, совершив столько заходов от садка вниз и обратно, были не в своей тарелке. Меня это встревожило: как бы не поплатились здоровьем за потеху.
Фалько нашел выход. Отправляясь в следующий раз гипнотизировать рыбу, он захватил кипу полиэтиленовых мешочков. Теперь он помещал пленников в наполненные водой мешочки, которые привязывал к спущенному с «Физалии» линю. Закончил лов и поднял всех сразу, всплывая очень медленно. Все рыбы, включая неистовых окуней, остались живы.

Глава четырнадцатая
Подводная лавина

Я стоял на мостике исследовательского судна «Эли Монье», беседуя с экипажем батискафа ФНРС-3 — капитаном Жоржем Уо и инженер-лейтенантом Пьером-Анри Вильмом. Мы вышли в море под Тулоном, на кильватерной струе покачивалась привязанная на длинном тросе «подводная лодка», в которой два человека должны были опуститься на среднюю глубину Мирового океана — 13 тысяч футов. Настроение отличное — сегодня я впервые погружусь на батискафе, за который начал сражаться еще в 1948 году, когда Дюма, Тайе и я участвовали в неудачном испытании ФНРС-2. Название составлено из первых букв Фонде Насьональ де ла Решерш Сьентифик — это Бельгийский государственный научно-исследовательский центр, который финансировал строительство первого глубоководного судна профессора Огюста Пикара и вместе с французскими военно-морскими силами создавал наш батискаф.
Батискаф — подводный дирижабль, который состоит из металлической оболочки, наполненной для плавучести бензином, и герметичной кабины, укрепленной внизу на корпусе. Первый образец успешно выдержал погружение, но на поверхности неверно рассчитанную оболочку помяло волнами. Тем не менее Клод Франсис-Беф и я продолжали верить в идею батискафа. И мы сделали все, чтобы воплотить ее в новой конструкции. Нам удалось устроить соглашение между французскими ВМС и бельгийским фондом, и двухместную кабину от первого батискафа смонтировали с новым корпусом, созданным инженером Андре Темпом. Ценные новшества в первоначальную конструкцию внес Дюма. В батискаф 1948 года можно было войти только на борту плавучей базы. Дюма предложил соединить надстройку и кабину входной шахтой, пронизывающей весь корпус. Теперь можно было войти и выйти, не поднимая ФНРС-3 на палубу. Во время погружения шахта затапливалась, а после всплытия продувалась сжатым воздухом.
Новое судно еще не было как следует объезжено. Уо и Вильм недавно погружались в нем на 6890 футов, но из-за поломки эхолота не стали садиться на дно. Мы слышали, что батискаф «Триест» профессора Пикара при одном погружении зарылся кабиной в ил.
Уо и я задумали опуститься на глубину 4500 футов и пройти над грунтом; для этого на оболочке сверху было установлено два электрических двигателя. В пяти милях от берега «Эли Монье» остановился над Тулонским каньоном, нанесенным на карту профессором Жаком Буркаром. Вильм проводил нас на надувной лодке к батискафу. Он был очень расстроен — впервые пришлось уступить свое место другому.
Перейдя на надстройку батискафа, мы открыли входной люк. Уо показал мне на вершину Кудон, высящуюся над Тулоном.
— Мы погрузимся глубже этого, — сказал он.
Мы спустились по шахте вниз, и Уо замкнул нас в сфере, затянув шестнадцать болтов по окружности люка. Внутри поперечник сферы был всего шесть футов шесть дюймов. Все стенки облепили приборы. Я положил свою съемочную аппаратуру на тесный — не больше квадратного ярда — пол и опустился на колени, словно мусульманин, молящийся на Мекку. Снаружи аквалангисты готовили нас к погружению. Их задачей было снять семь предохранителей с электромагнитов, которые удерживали наружные батареи, тяжелый гайдроп и балласт. Под водой любая неисправность в электрической сети выключит магниты, балласт будет сброшен, и батискаф всплывет. Для полной уверенности подводные пловцы показали мне в окошко все семь предохранителей, да еще их пересчитал на поверхности Вильм.
Уо включил систему регенерации кислорода, и живительный газ зашипел, поступая в гондолу. Уо повернул ручку; в шахту хлынула вода. Ее веса было достаточно, чтобы ФНРС-3 мог погружаться, но батискаф не спешил — еще не весь воздух вышел через верхний клапан. В это время мы услышали в динамике рокочущий голос капитана «Эли Монье» Жоржа Ортолана.
— Под вами четыре тысячи двести пятьдесят футов…
И тут же его голос пропал: наша антенна ушла под воду. Качка прекратилась, кругом покой и безмолвие. Все связи порваны, мы подвластны другой среде. В могильной тишине мы с Уо говорили редко и негромко. Теперь особый смысл приобрели слабые звуки разных механизмов. Я жадно всматривался в окно, мечтая увидеть картины, недоступные подводному пловцу. Попросил Уо погружаться помедленнее, чтобы можно было хорошенько разглядеть население средних глубин.
Прозрачное море становилось все темнее, зеленый оттенок сменился синим.
— Триста двадцать восемь футов, — прошептал Уо.
Я никогда не бывал так глубоко. Включил наружный прожектор № 2, и вниз устремился ослепительно яркий луч. На глубине 525 футов мы вошли в метелицу крохотных организмов, которые были очень ясно видны на темном фоне.
— То самое, что мы с Эджертоном фотографировали вслепую, — сказал я.
Уо нажал кнопку электромагнита, и по кабине забарабанила железная дробь из балластного отсека. Залп был коротким, но этого оказалось достаточно, чтобы ФНРС-3 еще больше замедлил свой ход.
Защищенная пирексовым боксом, над моим иллюминатором снаружи висела одна из электронных вспышек Папы Флеша. Сквозь корпус проходил провод, соединяющий ее с моей ручной кинокамерой. Лампа была рассчитана на предельное давление, отвечающее глубине в одну милю; это лимитировало наше погружение. Если лампа лопнет, это будет равносильно взрыву небольшого заряда тола, могут пострадать оболочка или электропроводка.
Я приступил к съемке белых комочков. Большинство из них висело в воде неподвижно, но некоторые судорожно двигались.
— Гляди, Уо! Какая великолепная сифонофора!
За иллюминатором парил прозрачный организм с двухфутовыми нитями. Уо сделал запись в журнале о нашей встрече.
На глубине 850 футов батискаф почти остановился. Видно, вошел в слой холодной воды, потеряв при этом в весе несколько сот фунтов. Уо обратился к противоположному полюсу балластной системы: он выпустил через клапан немного бензина из оболочки, и наша подводная лодка возобновила свое погружение.
Тысяча двести футов. Я выключил прожектор. Привыкнув к темноте, я в голубых сумерках различил очертания креветок, какие-то подвижные комочки медленно плывущих маленьких медуз. Показались первые топорики — маленькие гротескного вида серебристые рыбки с полупрозрачными хвостами и выпученными глазами. Мелькали рыбы, напоминающие анчоусов, и похожие на угрей странные твари, которые без видимых усилий совершали вертикальные прыжки от трех до шести футов.
На глубине полутора тысяч футов мы прошли границу проникновения солнечного света. Батискаф падал в гидрокосмос. Снежинки становились крупнее. Стараясь не наступить на меня, Уо балансировал на своих длинных ногах — ему надо было вести журнал и все время регулировать балласт чуткими прикосновениями пальцев.
— В этой лодке чувствуешь себя надежно и уверенно, — заметил он.
— Великолепное судно, — отозвался я. — И ты молодец. Настоящий чемпион вертикали. Может, включим моторы?
— Включаю.
Послышалось мурлыканье электрических моторов, погруженных в заполненные маслом боксы.
— Почему же мы не двигаемся? — удивился я.
Уо рассмеялся.
— Ты куда-нибудь спешишь? Судно тяжелое его надо разогнать.
ФНРС-3 пошел по горизонтали.
— Вся эта мелюзга несется нам навстречу, — доложил я. — Выключай моторы, опустимся поглубже, лучше походим над грунтом.
Батискаф прошел еще немного вперед по инерции, потом возобновилось погружение.
Три тысячи триста футов. Комочков стало больше, и среди них мелькали как будто красно-белые рыбки длиной около пяти дюймов. Я включил свет — так это же креветки! Тело вытянуто, ножки шевелятся… А затем последовало вознаграждение за усилия, которые я приложил, чтобы батискаф стал действительностью: показалось животное, никем еще не описанное. Слева в поле моего зрения вошла рыба около двадцати дюймов в длину, по виду — в точности чертежный угольник, толщиной и цветом как алюминиевая фольга и со смехотворно маленьким хвостиком. Не успело скрыться это удивительное создание, как замелькали какие-то вспышки — след быстро движущихся животных.
Словно по мановению палочки волшебника, одна из вспышек вдруг обернулась великолепным красным кальмаром, который на долю секунды остановился в освещенном секторе. Мои глаза уловили лопатообразное тело и десять щупалец. Его длина была около восемнадцати дюймов. В следующий миг кальмар исчез, а на его месте я увидел облачко чернил. Они были белого цвета.
Известно, что кальмары и осьминоги выделяют бурые чернила. И я крикнул Уо:
— Кальмар выпустил белые чернила!
— Брось, — ответил он. — Просто у тебя глаза устали. Дай им отдохнуть.
Еще один кальмар явился и исчез, оставив белое облако. Я выключил прожектор. Облако светилось. Еще одно!..
— Дай мне поглядеть, — сказал Уо.
Я отодвинулся от иллюминатора, и капитан воскликнул:
— Один из них выбросил белое облако почти во весь иллюминатор!
Я поспешил снова занять свой наблюдательный пост, боясь хоть что-нибудь упустить.
— Четыре тысячи футов, — сообщил Уо.
Мое сердце забилось чаще. Мы приближались ко дну. Я смотрел вниз, туда, где во мраке терялся световой столб. В толще под ним что-то тускло светилось — это грунт отражал наш луч. Сейчас ФНРС-3 — впервые — совершит подводную посадку… В ста пятидесяти футах отчетливо вырисовалось чистое, ровное дно. Оно поднималось нам навстречу. Гайдроп коснулся грунта и отдал ровно столько веса, сколько было нужно, чтобы погружение прекратилось. Посадка была исключительно мягкой. На глубине 4240 футов ФНРС-3 замер в равновесии в десяти футах от морского дна.
— Акула! — крикнул я.
— Первый известный мне случай глубинного опьянения при нормальном атмосферном давлении, — отметил Уо.
— Еще одна!
— А случай-то тяжелый, — добавил Уо.
Я подвинулся, уступив ему половину окошка. Перед нами была необычно маленькая акула, всего около трех футов в длину. Она подошла вплотную к плексигласовому иллюминатору, понюхала его и медленно удалилась, так и не постигнув, что за циклоп вторгся в ее царство.
На свет пришли другие, более крупные акулы, длиной от восьми до десяти футов. От родичей в верхних слоях океана их отличали широкие плоские головы и белые, с зеленоватым отливом, глаза.
Зачем им вообще глаза здесь, в вечном мраке? Может, они выслеживают свою добычу по свечению? Какой-то предмет на дне отвлек меня от этих размышлений. Я присмотрелся: газета, даже буквы можно разобрать. Надводный мир и здесь не оставил нас.
— Попробуем опустить кабину на самый грунт, — предложил я.
— Давай.
Уо выпустил из оболочки немного бензина. Он расходовал драгоценную жидкость очень бережно, словно речь шла о вашей собственной крови. Батискаф плавно лег на грунт. Через иллюминатор — до дна всего три фута — я совсем близко видел маленьких животных. Кругом сновали креветки. Дно не было гладким. Повсюду торчали бугорки двухфутовой высоты, с выходным отверстием вроде кротовой норы. В подполье обитали какие-то неведомые животные.
Батискаф доставил меня к загадочным курганчикам, которые мы столько раз фотографировали, недоумевая — кто мог их сделать? У нас было задумано провести на дне четыре часа, и я прильнул к окошку, надеясь наконец-то узреть этих глубоководных подземных жителей. Камеры мои были наготове. Плосконосые акулы продолжали исполнять сарабанду. По четыре причудливых силуэта одновременно скользили в свете прожектора.
Уо нарушил тишину зловещим напоминанием:
— Если случится авария и мы не сможем всплыть, можно хоть утешаться тем, что батискаф выдержал испытание, идея оправдала себя.
— Если ты не против, — ответил я, — с меня вполне достаточно удовлетворения, которое я испытаю, когда мы вернемся на поверхность.
Раздался громкий рокот. Мы переглянулись.
— Просто гайдроп оторвался, — небрежно бросил Уо.
— Прожектора погасли, — доложил я ему. — Должно быть, батареи тоже оторвались.
— Но тогда мы должны всплывать, — ответил он немного погодя.
Снаружи стоял такой мрак, что невозможно было сказать, движемся мы или нет. Я поднял голову и поглядел на манометр. Стрелка стояла на месте. Я стукнул пальцем по стеклу.
— Судя по манометру, мы лежим на грунте, — доложил я.
Неприятно и непонятно. В чем же дело? В кабине свет горел, эти лампы питались от батарей, которые были размещены внутри. Самые различные догадки рождались в наших смятенных умах.
— А что говорит указатель вертикальной скорости? — спросил Уо.
Мы чуть не стукнулись лбами, одновременно повернувшись к прибору. Он показывал, что батискаф всплывает с предельной скоростью.
— Идем вверх! — воскликнул Уо. — Да как быстро!
Я снова посмотрел на манометр. Стрелка дернулась и догнала спидометр. Очень просто: прибор не сразу сработал.
Уо пожал плечами и достал из своей сумки еду и бутылку вина. Не успели мы проглотить по бутерброду и чокнуться, как ФНРС-3 уже пробил зеленый морщинистый свод. Никогда еще я не видел такого яркого солнца.
По-видимому, из-за какой-то мелкой неисправности выключились магниты и батискаф сбросил весь балласт. Выйдя через шахту наверх, мы услышали, как аквалангисты с «Эли Монье» шутят по поводу наших пустых балластных отсеков и пропавших батарей.
— Судно чересчур безопасное, — передал Уо на тендер.
Да, белоглазым акулам есть теперь что нюхать — ФНРС-3 оставил им гору металла.
Так закончилась последняя проверка перед решающим погружением на предельную расчетную глубину — две с половиной мили. Провожая в путь экипаж ФНРС-3, я пожелал успеха Уо и поздравил ликующего Вильма: он может снова занять свое место в гондоле.
Семнадцатого февраля 1954 года в 160 милях к юго-западу от Дакара мои друзья погрузились на глубину 13 287 футов. Это был рекорд и полное торжество глубоководного судна. На дне абиссали друзья увидели шестифутовую акулу с выпученными белыми глазами и великолепный сад из актиний.
Летом я на месяц оставил «Калипсо», чтобы вместе с Уо провести на большой глубине съемки аппаратами Эджертона. Папа Флеш создал новые усовершенствованные конструкции в своем институте и вместе с сыном приехал в Тулон, чтобы установить на батискафе две наружные камеры, сопряженные с электронными вспышками, которые нам подарили наши добрые дядюшки из Национального географического общества. Я прибыл на батискаф с двумя ручными кинокамерами и двумя фотоаппаратами. В кабине и так негде яблоку упасть, а у меня еще правая нога была в гипсе. Двадцать лет я не играл в теннис, когда же мой сын Жан-Мишель все-таки заманил меня на корт, я сломал ногу.
Стоя на коленях перед окошком, я обнаружил, что с гипсом даже удобнее — не так сводит ступню.
— Подумай о том, чтобы гипсовать своим пассажирам обе ноги, — предложил я Уо.
«Эли Монье» снова доставил батискаф к каньону профессора Буркара и остановился в точке, где под килем было 5300 футов. Уо запросил по радио:
— Буксир отдан?
— Так точно, капитан.
— Пусть покажут Кусто семь предохранителей с электромагнитов.
Аквалангисты выполнили команду, а Уо тем временем внятно и раздельно читал вслух золотые правила батискафщиков — двадцать предосторожностей, которые нужно соблюсти, чтобы не остаться внизу. Среди облаченных в черные гидрокостюмы аквалангистов ВМС я видел через иллюминатор обоих Эджертонов; они были в плавках. Проверяют свою камеру… Остановившись, Гарольд показал мне один палец, держа его в восьмидесяти дюймах от окошка: на такое расстояние наведена резкость камер. Я снял пробный кадр, запечатлев двух человекорыб. Радио донесло голос с «Эли Монье»:
— Алло, батискаф! Марсовые собрались в лодке. Сейчас заберем Эджертонов.
Пожелания доброго пути утонули в море — мы ушли в зеленое безмолвие.
На глубине тысячи футов была почти ночь. Прожектора высветили летящий кверху «снег»; только по этому можно было понять, что мы движемся. Я чувствовал себя словно в тихой комнате в Альпах ночью. Снова мы отметили большое скопление организмов на глубинах от 2000 до 3000 футов, снова из ничего возникали красные кальмары и пропадали, оставляя светящиеся привидения. Я прилежно щелкал затвором — авось хоть один из них окажется в фокусе. Конечно, вероятность успеха была очень мала; настоящая пора для съемок наступит, когда мы достигнем дна.
Нагнувшись надо мной в кабине, подходящей разве что для пигмеев, Уо манипулировал кнопками и ручками. Я взглянул на манометр: 4500 футов…
— Можно идти медленнее?
Уо вызвал ливень железной дроби, и скорость погружения упала до нескольких дюймов в секунду. Он посмотрел на эхолот.
— До дна двести футов.
Странно. Нацеленный вниз датчик нащупал дно гораздо выше того, что помечено на карте Тулонской впадины, созданной Буркаром после тщательнейших гидрографических съемок.
Свет прожекторов упал на какой-то неопределенный предмет желтого цвета.
— Ил, — сказал я. Прямо по носу облако ила. Мы уже на дне.
— Не может быть, — ответил капитан. — Эхограмма показывает, что у нас под килем еще двести футов. Прибор не ошибается.
Я тоже нерушимо верил в технику.
— Если это не дно, то что же это? Кальмар выделил облако с дом величиной? Или… или мы коснулись носом склона?
Тусклое желтоватое привидение осталось в стороне, лучи прожекторов пронизывали чистую черную воду. Далеко внизу родилось отражение.
— Оно становится ярче, — доложил я. — Вижу, как свет носовых прожекторов встречает дно футах в восьмидесяти под нами, оба световых круга перекрывают друг друга.
— Приборы показывают четыре тысячи восемьсот футов, — возразил Уо. — Это в самом деле дно? Похоже, мы пришли раньше времени.
Приближаясь к грунту, я увидел пять акул и большого ската, который взмахнул своими крыльями и улетел. Гайдроп коснулся дна. Его звон прогнал акул. ФНРС-3 приземлился на глубине 4920 футов.
Но по карте здесь должно быть на 380 футов глубже. Может быть, нас снесло в сторону? Я выглянул в окошко и доложил:
— Мы лежим на неровной илистой террасе, на краю обрыва.
Уо не поверил мне. Я предложил ему удостовериться. Он наклонился надо мной, посмотрел в иллюминатор, наконец с озадаченным видом подтвердил:
— Да, в самом деле терраса.
— И хочешь верь, хочешь нет, — продолжал я, — желтое облако появилось оттого, что мы задели склон.
Вода кругом была чистая. Сидя на своей крохотной палубе, мы держали совет. Конечно, виноват эхолот, которым снимали каньон. С глубиной звуковой луч расширяется и уже не может нащупать такие ступеньки, как эта. Прибор дает обобщенные показания, и создается ложное впечатление ровного склона. Развернем батискаф влево на девяносто градусов, снимемся с уступа и продолжим погружение.
Пока мы совещались, гондола легла на грунт, и гайдроп свернулся кольцом. Уо сбросил немного балласта, чуть поднялся и включил правый мотор на передний ход, левый — на задний, чтобы развернуться. Но гайдроп увяз, и ФНРС-3 сдвинулся всего футов на пять. Уо включил оба мотора на полный вперед. Батискаф дергал гайдроп — и не двигался с места. Кажется, мы стали на якорь…
В следующий миг произошло нечто неожиданное. Батискаф подскочил вверх. В иллюминатор я увидел, как с карниза под нами срывается огромный ком слежавшегося ила. Выросла будто шапка взрыва, которая медленно, как в кино, стала расползаться во все стороны. Свет прожекторов отражался от колышущейся, пухнущей желтой массы.
— Уо, мы сорвали лавину!
Мы натянуто рассмеялись. У меня в голове родилась неприятная мысль. Что, если мы вызвали мутьевое течение? Некоторые океанографы считают, что оползни в голове подводного каньона влекут за собой стремительные мутьевые течения, которые несутся над грунтом, сокрушая все на своем пути. Стиснутый в узком ложе каньона оползень набирает скорость и вследствие эффекта Вентури вырывается из подводной долины, проходя сотни миль, прежде чем осесть на дно. Если ФНРС-3 попал в такое течение, нам предстоит неприятная прогулка.
— Лучше не выключать моторы и поскорее уходить отсюда, — предложил я, и капитан охотно согласился со мной.
Двадцать минут мы медленно скользили над огромными облаками ила, которые поднимались все выше и выше. Мы надеялись, идя по компасу через каньон, все-таки найти участок, не затронутый оползнем. Пусть даже для этого придется пронизывать верхушки облаков.
Неприятный переход. За окошком то кромешный мрак, то грязно-желтые облака — будто кто-то накрывал иллюминатор снаружи картоном. И опять чистая вода, но впереди до предела видимости торчат желтые бугры.
— Как это один ком ила мог наполнить мутью весь каньон? — удивлялся я, глядя на скользящие за окошком частицы.
Вдруг они остановились. Я присмотрелся внимательнее. Стоят на месте. А моторы продолжают гудеть…
— Выключи моторы, — сказал я Уо. — Мы все равно не двигаемся.
Может быть, уткнулись в противоположный склон Тулонского каньона?
В мрачной тишине слышалось только сипение кислородной системы. Уо повернулся к заднему иллюминатору.
— Сплошной картон, — сказал он.
— Подождем, пока течение не унесет, муть, — непринужденно предложил я.
Капитан промолчал. Повернувшись спиной друг к другу, мы смотрели каждый в свое окошко. Снаружи тихо, в гондоле тихо; никто не хотел высказать вслух мысль, которая преследовала обоих: мы вызвали оползень и на этом склоне, и теперь батискаф погребен под илом. Я поглядел на глубиномер — стрелка словно прилипла к шкале.
— Знаешь, Уо, — заметил я, — этот каньон надо было промерить узким лучом. Буркар изобразил на карте ровный склон на той стороне, а мы нашли почти отвесные ступени.
— К тому же с нависающими карнизами, — отозвался капитан.
— Здесь тоже могут быть карнизы, — продолжал я.
— Ладно, отдохнем немного, пока ил не осядет.
Регенерирующая система обеспечивала нам кислород еще на двадцать часов. Мы сели поудобнее, разместив на крохотной палубе свои ноги и аппараты. На глубине одной мили мы негромко переговаривались между собой; в душе было полное смятение. В одном футе от моего иллюминатора снаружи на металлическом кронштейне висел крючок с наживкой для рыбы. Время от времени я поглядывал в окошко — не показался? Но наш глаз оставался незрячим. Одни в окружении моря…
За бессвязной беседой прошел час. Я откашлялся, боясь, как бы не сорвался голос, и сказал:
— Н-да, фотографировать на этот раз уже не придется. Может, пойдем наверх?
Уо привстал и нажал сразу обе кнопки балласта. Ни дать ни взять, жилец небоскреба, нетерпеливо вызывающий лифт. Из отсеков высыпалось несколько сот фунтов дроби.
Я не сводил глаз с манометра и вертикального спидометра. Стрелки не двигались.
Не двигались и частицы ила за моим окошком. Мы старались вести себя спокойно, действовать разумно, а в мозгу роились тревожные, путаные мысли. Наиболее чутким показателем движения батискафа был вертикальный спидометр. Мы оба смотрели на него. Хоть бы чуточку, самую малость сдвинулась эта стрелка… Но шкала была мертва, как фотография.
Столько груза сброшено, мы должны буквально лететь вверх, а ФНРС-3 недвижим, будто мошка в янтаре.
— Чего-то мы не учли, — сказал я.
И мы принялись перебирать все, что знали о батискафах. Кратко — физико-технические данные, пространно — маневры и операции. Ответ оказался чрезвычайно простым. За час, что мы ждали, когда осядет ил, бензин в оболочке остыл настолько, что это возместило вес сброшенной дроби. Уо опять нажал кнопки.
— Всплываем! — крикнул я.
Комочки грязи на окошке поползли вниз. Мы прошли восемьсот футов, прежде чем вырвались из облака, не встретив никакого мутьевого течения. Наконец очутились в прозрачной черной воде. В светепрожекторов я долго видел внизу желтые кучевые облака. Но вот они пропали, и цвет воды изменился: сюда проникал солнечный свет.
Когда мы вновь увиделись с Жаком Буркаром, я сказал ему:
— Помните Тулонский каньон, который вы так старательно засняли? Придется вам проделать всю работу сначала. Мы с Уо весь каньон разрушили.

Глава пятнадцатая
«Ныряющее блюдце»

На водолазной палубе оживление. Жан Моллар и Андре Лабан, забравшись внутрь большого желтого стального пузыря, укрепляют в разных точках приборы, которые покажут деформацию корпуса под давлением извне. Саут размещает груз — четыре тонны увлекут аппарат под воду. Диаметр корпуса шесть футов семь дюймов, высота пять футов; впереди два иллюминатора, вверху входной люк.
1957 год, «Калипсо» стоит на якоре в море у Кассиса, мы готовим к очередному испытанию первый вариант глубоководного аппарата, который я шесть лет назад поклялся создать. Работа над аппаратом началась, как только мы организовали Центр подводных исследований.
Сегодня мы погрузим пустой корпус на две тысячи футов, а дальше намечены еще большие глубины, вплоть до трех тысяч — предел, рассчитанный Эмилем Ганьяном (будем надеяться, что он не ошибся). Если «скорлупа» выдержит, установим рабочую глубину в тысячу футов: пусть у нашей исследовательской подводной лодки будет тройной запас прочности.
Плавно ушел под воду корпус вместе с грузами. Морис Леандри выдал лебедкой две тысячи футов троса. Выдержав аппарат в воде пятнадцать минут, мы начали подъем. Лабан доложил с кормы:
— Вижу лодку на глубине ста футов!
Он нахмурился: в воздухе пахло мистралем, и волны сбивали с ритма мотор лебедки.
— Помедленнее, Леандри! — крикнул Лабан. Опустил поднятую руку и скомандовал: — Стоп. Глубина пятнадцать футов.
Теперь нужно снять балласт, чтобы корпус всплыл и его можно было поднять на палубу. Захватив трос и крюк, Фалько пошел вниз по водолазному трапу.
Могучий вал подбросил корму «Калипсо», затем она упала в ложбину, подъемный трос провис и соскочил с блока. Тут же корма опять взметнулась вверх, и трос лопнул, будто скрипичная струна, хлестнув концом моториста. Фалько нырнул и увидел, как наше драгоценное золотое яичко уходит в пучину. А до дна здесь 3300 футов…
К счастью, трос только слегка задел Леандри. Анри Пле включил радар, по трем точкам на берегу засек координаты, и обескураженные калипсяне пошли в порт, потеряв первый образец нашего глубоководного аппарата и комплект дорогостоящих приборов. Тем временем в Марселе ребята из Центра подводных исследований, уверенные, что корпус № 1 выдержит испытание, готовили второй экземпляр. Но теперь, прежде чем продолжать работу, нужно было ухлопать уйму денег, чтобы поднять раздавленную оболочку и выяснить, какие точки оказались наиболее уязвимыми. Скрепя сердце я приготовился утвердить расходы на оба образца и специальную драгу, но сперва попросил Лабана провести с «Калипсо» точную эхолотную съемку дна на площади десять квадратных миль, с центром в месте катастрофы. Это было нужно для драгирования.
Разглядывая эхограммы, я заметил характерный след на всех лентах, которые привязывались к радарной засечке Пле. В тридцати футах от дна — черное пятно. Длина балластного троса тридцать футов… Значит… значит, первый образец не раздавлен, он цел и стоит на якоре на глубине почти 3300 футов! Проектный тройной запас прочности превышен, можно продолжать работу, не поднимая затонувший корпус. Показав пальцем на черное пятно, я сказал Лабану:
— Начальник, когда-нибудь мы на еще более глубоководном аппарате навестим наше незадачливое дитя.
Впоследствии «Калипсо» не раз промеряла дно в тех местах; когда писались эти строки, корпус № 1 все еще стоял на привязи под водой.
Конструктор Моллар и его товарищи по ЦПИ восемнадцать месяцев без устали работали над вторым образцом, чтобы он отвечал всем требованиям, которые я предъявлял к научно-исследовательской подводной лодке, предназначенной для изучения самой важной сегодня для человека части Мирового океана — континентального шельфа.
Шельф — затопленный морем край суши, материковая отмель, простирающаяся до грани, от которой спадает вниз континентальный склон и начинается собственно океаническая среда. Средняя глубина отмели — сто саженей, на ее долю приходится примерно восемь процентов площади Мирового океана, а это равно всей территории Азии. Шельф — арена рыболовного промысла, биохимической переработки водорослей и добычи нефти, природного газа, серы, алмазов. По сути дела, это еще один материк. Многие правительства объявили прибрежное царство своей территорией, но человек еще не покорил его. Раньше, чтобы аннексировать ту или иную землю, надо было ступить на нее и водрузить флаг своего государства. Теперь политики делают это одним росчерком пера. Но за этим не последовало ни захвата, ни освоения: военные подводные лодки тут не годятся, а использовать на столь малой, сравнительно, глубине батискаф — все равно что стрелять из пушек по воробьям.
Когда мы еще только замышляли конструкцию аппарата для покорения континентального шельфа, я говорил Лабану:
— Силовая установка и вспомогательные узлы должны, по возможности, располагаться снаружи. Таков главный урок, который нам преподал батискаф. О скорости не заботься. Она не важна для исследовательской лодки. Маневренность, подвижность, точная регулировка веса, способность парить — вот что нам нужно. И хороший обзор, да чтобы человек чувствовал себя удобно, не стоял на коленях, как в батискафе. Пусть лежит на животе на матраце. И заведем судовой журнал нового рода: фото- и кинокамеры с осветителями, магнитофон, клешня для сбора образцов. Забудь классический тип подводной лодки, исходи из того, что нужно нам.
Лабан и Моллар заразили весь ЦПИ своим воодушевлением. Жак Ру и Арман Давсо мастерили деревянные макеты корпуса в разных вариантах и испытывали их в аэродинамической трубе. Винтовой тяге предпочли реактивную, хотя водометные двигатели до тех пор не применялись на подводных судах. Когда было решено избрать для корпуса форму сплющенного сфероида, Алексис Сивирин сделал из папье-маше макет аппарата в натуральную величину, чтобы мы могли продумать, где и как разместить приборы и силовую установку. Увидев макет, мы дружно воскликнули:
— Да это же летающее блюдце из комикса!
Вот почему мы — удачно или нет — назвали свой аппарат la soucoupe plongeante, то есть «ныряющее блюдце», сокращенно НБ-2.
У нашего НБ-2 «передний ведущий мост»: трубы водомета огибают корпус с двух сторон, заканчиваясь впереди. Сопла вместе или врозь поворачиваются вокруг вертикальной оси; это позволяет всплывать и погружаться под любым углом, идти задним ходом. Помещенный на корме насос прокачивает воду сквозь гибкие пластиковые трубы, и чтобы сделать поворот, водителю достаточно уменьшить ток воды в одной трубе. Повернув вперед любое сопло, можно заставить «блюдце» вращаться. Ртутный балласт, который перекачивают с кормы на нос и наоборот, придает аппарату нужный наклон. Электроуправление сведено до минимума; вспомогательные механизмы управляются общим гидроприводом.
Силовая и гидравлическая системы размещены в наружном поясе и накрыты обтекателем из стеклопластика, который улучшает гидродинамические качества лодки и страхует ее от ударов. Впереди справа укреплена фотокамера Эджертона для глубинных съемок, синхронизированная с помещенной слева электронной вспышкой. Чтобы удобнее было менять кассеты, кинокамеру установили внутри и прорезали для нее окошко между двумя смотровыми иллюминаторами. Осветитель для киносъемок смонтирован снаружи на выдвижном гидравлическом поршне. Другая гидравлическая конечность с угольником и двумя пальцами захватывает и срезает образцы, которые затем прячет в «баул» с пружинной крышкой.
У «ныряющего блюдца» десять глаз. Три из них — монокулярные системы с полем зрения 180 градусов в куполе — позволяют видеть, что делается вверху. Впереди — по одному иллюминатору для водителя и наблюдателя и два «фотоглаза». И наконец, три датчика эхолота направлены вверх, вниз и вперед; с их помощью водитель следит за тем, что недоступно его зрению. Водителя окружают приборы, контролирующие давление внутри кабины, давление масла, глубину, напряжение тока, запас кислорода в баллонах, процент углекислого газа в воздухе. На приборной доске находятся также экран эхолота, гирокомпас и кнопки съемочной аппаратуры, осветителей, магнитофона.
Автоматически поступающий кислород и поглотители углекислоты обеспечивают двух человек воздухом на двадцать четыре часа. Аварийные системы управляются вручную, чтобы они работали даже в том случае, если откажут все источники энергии. Ручные рычаги отделяют подвешенные под днищем две пятидесятипятифунтовые чугунные чушки и четырехсотпятидесятифунтовый аварийный груз. Между водителем и наблюдателем помещается двенадцатигаллонный бак для балласта, которым можно очень точно регулировать вес аппарата, добиваясь нулевой плавучести. Если аппарат чересчур легок, в бак подпускают воду.
Моллар торопился завершить оборудование «ныряющего блюдца» к началу «Операции Подводная гора» — так мы назвали атлантическую экспедицию «Калипсо» 1959 года. Он продолжал наладку НБ-2 уже на борту. Мы опускали в море приборы или занимались вычислениями в штурманской рубке, а в душном кормовом трюме четверо одержимых — Моллар, Лабан, Жак Ру и наш радиоинженер Бернар Марселли — день и ночь трудились около удивительного желтого пузыря с большими серебристыми глазами. Они еще не управились, когда мы пришли в Нью-Йорк на Международный океанографический конгресс.
Здесь калипсяне получили увольнение на берег. «Подводный совет Эмпайр-стейт» выделил экскурсоводов, которые показывали «Калипсо» американским любителям подводного спорта. Стоя позади группы экскурсантов, обступивших «ныряющее блюдце», я вместе с ними слушал гида, офицера нью-йоркской полиции, описывавшего, как эта штука действует на глубине тысячи футов. Хоть бы он оказался прав! НБ-2 еще ни разу вообще не погружалось в воду…
Тревожное ожидание затянулось: мы заходили с визитами вежливости в различные порты США. В Вудс-Холе «Калипсо» пришвартовалась рядом со знаменитым исследовательским судном «Атлантис». Переходя по его палубе на пристань, я сказал Сауту:
— На счету этого океанографического судна больше миль и станций, чем у любого другого. Нам еще много надо поработать, чтобы догнать рекордсмена.
В Вашингтоне мы были гостями Национального географического общества. Газеты на первых полосах поместили фотографию «ныряющего блюдца», устроили шумиху вокруг аппарата, который еще не прошел испытания. Я чувствовал себя очень неловко, но винить некого: спрятать «блюдце» было невозможно.
Завершив наконец программу визитов, мы пришли к пуэрториканскому шельфу. Волны изрыли поверхность моря, вода была мутная, но мы не могли больше ждать и, найдя относительно спокойное место у западной оконечности острова, провели первое испытание НБ-2. Осторожно-осторожно на пятнадцать минут опустили его на тросе на глубину восьмидесяти футов, чтобы проверить прочность корпуса, подачу кислорода, поглощение углекислого газа, работу приборов и силовой установки. Если что-нибудь приключится, глубина небольшая, Фалько и Моллар выйдут наверх, и мы без труда поднимем аппарат.
Все обошлось благополучно; Фалько и Моллар вышли из люка, сияя от восторга.
— Никогда не думал, что будет вот так, — сказал Моллар.
— Как? — спросил я.
— Я ведь впервые побывал под водой!
В следующий раз НБ-2 погрузилось на сто футов. Но Фалько и я еще не решались дать «ныряющему блюдцу» полную волю. Из чистой перестраховки мы соединили его трехсоттридцатифутовым нейлоновым линем с плавающим на поверхности буйком. Программа предусматривала, что Фалько опустится почти на самый грунт, наладит нулевую плавучесть и немного походит, испытывая органы управления и силовую установку. Длительность погружения — сорок пять минут.
Калипсяне не сводили глаз с буйка. На исходе условленного срока он колыхнулся, но я отнес это за счет ветра и течения. Сорок пять минут — аппарат не показывается… Наши люди стали надевать ласты, проверять давление в баллонах аквалангов. Прошло еще несколько минут. Буек успокоился. Я мысленно отобрал людей для спасательного отряда и только хотел дать команду, как услышал с кормы возглас наблюдателя:
— Всплывает!
Один человек прыгнул в воду и закрепил подъемный трос. Мы извлекли НБ-2 из воды, уложили его в «колыбель» на палубе и обступили аппарат, нетерпеливо ожидая, когда откроется люк.
— Великолепная штука! — восторженно крикнул Фалько, высунувшись наружу. — Управляется легко! Кружится!
Он передал мне магнитофон, и я подключил устный судовой журнал первого плавания «ныряющего блюдца» к усилителю нашего радиоузла, чтобы все калипсяне могли послушать.
…Всхлипывают насосы, жужжат моторы, а вот и человеческие голоса. Немногословный обычно Моллар оказался на диво речистым, он бурно восхищался картинами, которые для Фалько успели стать обыденными. Альбер объяснял товарищу, что и как, время от времени диктуя в «журнал».
— Перекачиваю ртуть вперед… Идем носом вниз… Перекачиваю ртуть на корму.
Его перебил голос Моллара:
— Гляди! Что это за рыбы?
— Выровнялись, — продолжал «запись» Фалько. — Реакция на перемещение ртутного балласта хорошая. Это обыкновенные каранги. Теперь идем в трех футах от дна, скорость один узел. Эхолот работает хорошо. Прямо — высокие кораллы. Зажимаю правую струю, чтобы обойти препятствие…
— Лихой финт! — воскликнул Моллар.
Опять голос Фалько.
— Ложусь на песчаный участок. Легко, словно перышко. Делаю полный оборот. Перекачиваю ртуть вперед. Нос наклоняется. Песчаное дно в восемнадцати дюймах от иллюминаторов.
— Смотри, смотри! — кричит Моллар.
— Из песка высовываются маленькие головы, — сообщил Фалько. — Появляется серебристая рыбка, стоит торчком. Глядит на нас. Ишь ты, зарывается в грунт хвостом вперед! Исчезла. Опять показалась. Этот аппарат позволит нам подсмотреть такие повадки рыб, каких аквалангист никогда не увидит, — заключил Фалько.
НБ-2 пошло дальше.
— А это что за здоровенная рыбина? — допытывается Моллар.
— Групер… За ним! Он идет против течения. Мы тоже так умеем.
— Не хуже рыбы идем, — заметил Моллар.
— А для чего ты построил аппарат? — спросил Фалько. — Рули чуть туговаты.
— Я знаю, в чем дело, — ответил инженер. — Ночью исправим.
— Мы стоим на месте, — сообщил Фалько.
— Сопла выбрасывают воду, мотор работает как надо, — возразил Моллар.
Пауза, во время которой лента явственно воспроизвела жужжание мотора.
— Ясно, — заговорил опять Фалько. — Это линь, к которому мы привязаны, он зацепился за что-то.
Буйреп остановил «ныряющее блюдце». Вот тебе и страховка… Хотя Фалько знал, что мы, как только истечет контрольный срок, пошлем людей под воду, можно спокойно подождать их, он предпочел вернуться вдоль буйрепа и сумел отцепить его от кораллового сучка.
— Надо раз и навсегда избавиться от линей и тросов, — подвел итог Фалько.
Я согласился с ним. Мы допустили ошибку. Свобода от всяких линей — вот в чем гарантия безопасности.
Меня не устраивала мутная вода, и я принялся изучать карту Антильских островов, чтобы найти уголок, где можно было бы спрятаться от пассата, гулявшего над отмелями Пуэрто-Рико. Я остановился на проливе между Гваделупой и островком под названием Пиджов. Здесь как будто не должно быть ветра и глубины подходящие: от семидесяти до трехсот футов.
Мы стали на якорь на плато, где было семьдесят футов под килем. Все как один надели маски, чтобы взглянуть на обитателей карибского дна. Они были совсем не похожи на тех, которых мы знали прежде, но изобилием видов местные воды вполне могли сравниться с Красным морем. На белом песчаном дне у острова Пиджов росли высокие горгонарии, многие представители губок.
Мы наметили восемь пробных погружений, все в пределах досягаемости аквалангистов: мало ли что. Пусть Фалько как следует освоит машину, прежде чем идти глубже. Гваделупские воды стали испытательным стендом нового аппарата и школой его первого водителя. Под пристальным наблюдением человекорыб Альбер сделал две вылазки вдоль плато. Он быстро преуспевал в роли штурмана подводных дорог. Встретив слабое течение, Фалько пошел вверх и посадил НБ-2 на губке высотой шесть футов. Постоял так минуты две, потом пришпорил водомет и заскользил дальше.
Мы опасались, что шум моторов будет отпугивать рыб от НБ-2. Подводные пловцы знают, как чутки рыбы к звукам — их обращают в бегство даже низкочастотные колебания, вызванные резким движением ластов. Но они подходили совсем близко к «блюдцу»; стайки карангов и «креолов» кружили в двух-трех футах от него. Эти рыбы обычно сторонятся человека, чувствуя, что это опасное существо. А жужжащий желтый предмет, должно быть, казался им (как и нам) дружелюбно настроенным морским зверем с большими умными глазами.
Когда раздавался новый звук, рыбы вздрагивали, но не уходили, а продолжали кружить около «блюдца».
Северный край нашего лягушатника уходил вниз под углом тридцать градусов, сменяясь на глубине двести пятьдесят футов следующей ступенью. Туда мы перешли для дальнейших испытаний. Я с трудом подавлял искушение занять место рядом с Фалько. Но мне нужно было оставаться наверху, чтобы руководить операцией, если с НБ-2 что-нибудь произойдет. Еще успею принять участие в последнем спуске на глубину тысячи футов, а до тех пор мое место на палубе.
В третьем погружении участвовал Андре Лабан, начальник лаборатории, создавшей аппарат. А затем я сказал доктору Эджертону:
— Пойдете вниз?
— Вы серьезно? Конечно, пойду!
Он одним из первых участвовал в погружениях батискафа ФНРС-3 и конечно же заслужил честь быть пионером освоения «ныряющего блюдца».
Вот отчет Эджертона:
«Трос отцеплен, мы медленно погружаемся. В оптическую систему в куполе видим стоящую на якоре „Калипсо“, вода удивительно прозрачная. Фалько включает двигатель. Идем вперед. К краю рифа спускаемся, словно на самолете. Кислород поступает бесперебойно, дышать легко. В „блюдце“ чувствуешь себя почти как в автомобиле, с той разницей, что нам удобнее, мы возлежим на своих матрацах, подобно пирующим римлянам.
Фалько приметил над самым дном стайку кальмаров, они идут правильным строем — жаль только, что вне поля зрения наших камер. Он выключает двигатель, и аппарат медленно ложится в подводный сад, на хрустящие кораллы. Нас окружает множество разноцветных рыб. Замечательная красавица — синяя с желтым исабелита — проходит перед самой камерой. Я предпочел бы для съемки дистанцию чуть-чуть побольше, но ей непременно подавай крупный план. Так же бесцеремонно ведут себя остальные рыбы».
Секрет подвижности НБ-2 в нулевой плавучести. Перед каждым погружением мы очень тщательно взвешивали аппарат, записывая результаты на черной доске. На медицинские весы поочередно вставали Фалько и его спутник; потом следовали поглотители углекислоты, магнитофон, съемочные камеры и бутылки с вином. Сложив эту сумму с весом НБ-2, рассчитывали, сколько нужно воды для балласта, и заливали бак из нержавеющей стали. Снаружи к днищу лодки механически крепились две обтекаемые чугунные чушки весом по 55 фунтов; мы назвали их «спусковый груз» и «подъемный груз». Первый придавал НБ-2 отрицательную плавучесть и увлекал его на дно. Когда Фалько сбрасывал его, наступало равновесие. Второй груз Альбер отпускал, когда надо было всплывать.
Операция начиналась на палубе: экипаж «блюдца» изнутри задраивал крышку люка, и такелажники крепили к трем уткам сверху подъемную снасть. Приняв по телефону от водителя рапорт о готовности, «блюдце» спускали на воду. Этим, как и подъемом, занимался десятитонный гидравлический кран, установленный на корме справа (мы прозвали его Юмбо). Обычный подъемный кран не годился: качаясь на длинном тросе, НБ-2 колотил бы по кормовым надстройкам своей базы. И мы долго искали, пока не остановились на Юмбо, сконструированном для расчистки шоссе от тяжелых обломков после катастроф. Конечно, усовершенствовали его для использования на корабле, так что суставы Юмбо обрели гибкость и он мог, протянув свой хобот в кормовой трюм, извлечь «блюдце» оттуда без всяких тросов. Крепко удерживая НБ-2, кран опускал его в воду, послушный руке своего погонщика, Мориса Леандри. Затем ныряльщик в маске — марсовый — отцеплял тали; теперь только телефонный провод и нейлоновая чалка соединяли «блюдце» с «Калипсо».
Я запрашивал Фалько по телефону:
— Все проверено?
Получив ответ «да, капитан», отдавал команду марсовому. Он отделял провод и чалку и становился сверху на НБ-2, помогая своим весом погружению: для подводных аппаратов самое трудное — пройти границу между двумя средами. Из обтекателей, бурля, вырывался воздух. В помощь марсовому Фалько на секунду включал двигатель, чтобы вытеснить воздух также из пластиковых труб. Марсовый уходил все глубже в море — и вот уже он лежит на воде, глядя, как «ныряющее блюдце» тает в голубой толще.
Поначалу Фалько, идя вниз, не пускал водомет, предоставлял работать «спусковому грузу». Когда глаза и гидролокатор говорили водителю, что до дна осталось пятнадцать футов, он сбрасывал первую чушку. По инерции лодка следовала за ней и мягко ложилась на дно. Затем Фалько устанавливал нулевую плавучесть; если аппарат оказывался недогруженным, ручным рычагом подкачивали воду в центральный бак. От избыточного веса Альбер избавлялся, включая электрический струйный насос, откачивающий литр воды за двадцать секунд. Минуты, которые уходили на регулировку плавучести, окупались сторицей. Они позволяли НБ-2 четко маневрировать в трех измерениях.
Вот Фалько включил двигатель, повернул сопла вниз и снялся с грунта. Предельная скорость НБ-2 была полтора узла, но мы редко ходили так быстро: ни к чему, поспешность — враг наблюдения. От скорости никакого удовольствия, когда она не дает разглядеть окружающее, сжимает широкие просторы в почтовую открытку. «Ныряющее блюдце» — существо дотошное, медлительное, вдумчивое; оно воздает должное и величественным пейзажам, и маленьким сценкам. В нем мы могли по шесть часов кряду изучать — именно изучать — подводный мир.
Пока Фалько объезжал НБ-2, я вместе с другими калипсянами висел под сводом манежа, наблюдая за ним. Мы отчетливо различали гудение двигателей и дробный стук масляного насоса, который включался автоматически, когда давление в гидравлических системах падало до тридцати атмосфер. Вот выключился — значит, поднял до восьмидесяти. Сипит преобразователь электронной вспышки, а вот это жужжит кинокамера. Дух захватывало, когда Фалько мчался вниз вдоль тридцатиградусного откоса. И даже на глубине ста футов видно, как выдвигается пятифутовый держатель осветителя и яркий свет заливает дно. Сто тридцать футов, «блюдце» исчезло из поля зрения, но звуки сообщают, что погружение продолжается, да и глаз улавливает мигание электронной вспышки.
Я поневоле волновался, когда НБ-2 пропадало в толще воды. Оно уходило от «Калипсо» словно от матки детеныш, совершающий первые самостоятельные вылазки.
Фалько изучал все свойства «ныряющего блюдца» так скрупулезно, точно и не участвовал в его создании, а случайно нашел аппарат на берегу и теперь ставил опыты, постигая его устройство. Иногда он выключал моторы, чтобы понаблюдать в тишине, и настолько увлекался, что я, не видя и не слыша аппарата, вызывал с корабля спасателей. Но всякий раз звук включаемых моторов опережал команду приступать к поискам.
Во время двух заключительных погружений на мелководье Фалько уходил так далеко, что все звуки пропадали. Я посылал наблюдателей на высокий мостик: вдруг НБ-2 поднимется вдали от «Калипсо». Но куда бы ни забирался Фалько, способность ориентироваться под водой, которую он развил в себе за время несчетных погружений с аквалангом, неизменно приводила его обратно, хотя бы он возвращался совсем новым путем. Придет и выбросит соплами 25-футовые струи пенящейся воды.
— Есть фонтан! — кричали мы, приметив нашего «кита».
Благодаря этому трюку мы не сомневались, что найдем «ныряющее блюдце», даже если оно всплывет вдалеке от судна.
На девятое погружение были назначены киносъемки НБ-2 в работе. Мне помогал Жак Эрто. Сперва мы снимали на глубине 50 футов. Чтобы объясняться с Фалько, я захватил с собой белую тарелку и карандаш для грима: напишу на тарелке команду и поднесу к иллюминатору НБ-2. «Блюдце» тотчас выполняло задание, словно опытный киноактер. Мы так увлеклись, что я не заметил, как израсходовал весь воздух, и пришлось срочно подниматься за другим аквалангом. На глубине 75 футов я снова настиг НБ-2. Предстояло отснять последний эпизод — сбрасывание «подъемного груза».
Находясь возле носа НБ-2, я внезапно услышал гулкий звук взрыва. Метнулся к иллюминатору, но лицо Фалько исчезло из него. Моллара тоже нет на месте, и внутри — полный мрак… Сердце сжалось от страха. Неужели взорвался вспомогательный серебряно-цинковый аккумулятор в кабине?
В левом окошке появилось лицо Фалько. И рука. Большой палец указывает вверх — значит, они целы. Выразительной гримасой Фалько дал мне понять, что не может определить, в чем дело. (После Альбер рассказал, что сразу после взрыва он и Моллар одновременно повернулись к вольтметру, потому я и не увидел их в иллюминаторах.) Продолжая немой разговор с Фалько, я вдруг заметил вырывающиеся из обтекателей пузырьки газа. Все ясно: короткое замыкание в наружных никелево-кадмиевых аккумуляторах. Мне не пришлось писать на тарелке, Фалько и так смекнул, что надо делать. Он сбросил «подъемный груз», а я поспешил к поверхности, поглядывая вниз на все более обильные пузыри. Выйдя из воды, я бросился к рычагам Юмбо, марсовый мигом закрепил тали, и я поднял НБ-2 на палубу. «Блюдце» извергало клубы дыма. Матросы выстрелили по аккумуляторам углекислотой из огнетушителей.
— Стойте! — закричал я. — Дайте им сначала выйти!
Фалько и Моллар выскочили из «блюдца», но Альбер тут же, как был, босиком запрыгал по горячей оболочке аппарата, срывая обтекатели. Углекислая пена оказалась бессильной.
— Отойти от аппарата! — скомандовал я. — Опускаю в воду.
НБ-2 снова погрузился в море, и пожар прекратился.
Окружив «ныряющее блюдце», мы мрачно наблюдали, как Папа Флеш снимал с корпуса остатки сгоревшего аккумулятора. Беда серьезная: эти аккумуляторы (новая и очень дорогостоящая конструкция!) играли важную роль. Они были легче свинцовых и считались очень прочными; нас заверили, что короткое замыкание им не страшно. Мы поместили их в наполненные техническим маслом боксы из стеклопластика. Видимо, эти боксы плохо проводили тепло; в итоге нагретое аккумуляторами масло закипело.
Как же быть теперь? Предполагалось, что сразу после испытаний НБ-2 «Калипсо» перейдет в распоряжение профессора-биолога Жака Фореста для работ у островов Зеленого Мыса. Значит, идти во Францию сейчас нельзя. Я решил доставить злополучные боксы в Марсель на самолете. Пострадавшая подводная лодка осталась лежать в трюме, а Симона, Моллар и я вылетели с Гваделупы на родину. За три недели ЦПИ изготовил латунные боксы с отверстиями для выхода газов, и мы привезли их на острова Зеленого Мыса. В кормовом трюме «Калипсо» зажглись лампы; четверо несгибаемых инженеров, трудясь в изнуряющей духоте, установили на НБ-2 новые боксы.
Для испытания на глубине тысячи футов мы избрали Баиа до Инферно (Адская бухта) — один из заливов острова Сантьяго. Знакомые места: впервые я был здесь вскоре после войны. В 1948 году профессор Пикар по моему совету испытывал тут первый батискаф.
Сперва Фалько и Моллар совершили благополучное погружение на мелководье. Потом мы опустили аппарат без людей на 1500 футов. Тоже успешно.
— Теперь можешь идти на тысячу футов, — сказал я Фалько.
Он даже заулыбался от радости. Да и я тоже: наконец-то настала моя очередь занять место в аппарате рядом с ним.
Сберегая электроэнергию, мы погружались за счет силы тяжести. Затем водитель сбросил «спусковый груз» и на глубине 100 футов плавно посадил «ныряющее блюдце» на темно-серый песчаный грунт. Выкачал небольшой избыток водного балласта, включил двигатель, перегнал часть ртутного балласта в носовой бак, чтобы наклонить «блюдце» параллельно откосу, и повел аппарат вниз. Под днищем был стерильный вулканический пепел. Нигде не видно ни одной рыбы.
Двести шестьдесят футов. НБ-2 по собственному почину остановилось и замерло на месте, словно застряло в студне.
— Не подкачивай балласта, — сказал я Альберу. — Мы легли на термоклин — плотный холодный слой. Как только аппарат остынет, он снова пойдет вниз.
Мы надели свитеры.
— Дальше, — напомнил я Фалько, — мы можем полагаться только на себя. Если что, аквалангисты до нас не доберутся.
Он спокойно взглянул на меня. Его наша изоляция ничуть не смущала. Погружение возобновилось. На глубине 360 футов «блюдце» коснулось склона. Водитель тут был ни при чем, НБ-2 почему-то утратило положительную плавучесть и скребло грунт. Альбер и я прислушались, пытаясь определить, в чем причина. Снаружи кто-то икал. Потом будто закипел чайник.
— Опять батареи! — воскликнул Фалько.
— Возвращаемся на поверхность, — сказал я.
Он сбросил «подъемный груз», и «блюдце», опутанное гирляндами газовых пузырьков, оторвалось ото дна. Вольтметр бился в конвульсиях: короткое замыкание. В латунных боксах скопился газ, и они лопнули.
— Гляди, — сказал Фалько, — мы опять погружаемся.
В самом деле, планктон за иллюминатором скользил вверх. Положение критическое.
Но конструкторы предусмотрели и такой случай. Я сорвал печать с аварийного рычага и потянул его, сбрасывая подвешенный под днищем аварийный груз — 450 фунтов. И хотя мы не услышали удара о грунт, и без того было ясно, что груз отделился: «блюдце» наклонилось на 35–40 градусов и стало всплывать. Мы съели по бутерброду с цыпленком, выпили глоток вина.
Было очевидно, что наши усовершенствованные аккумуляторы слишком опасны, надо искать что-то другое. «Калипсо» пошла в Марсель. «Ныряющее блюдце» чувствовало себя под водой как дома, но предстояло еще основательно поработать, чтобы удержать его там.

Глава шестнадцатая
Мир без солнца

Мы заменили новейшие аккумуляторы менее совершенными и улучшили электрическую схему. На 2 февраля 1960 года назначили погружение «блюдца» на расчетную глубину 1000 футов в заливе Аяччо на Корсике. Эхолот показал, что материковую отмель и континентальный склон здесь украшает множество высоких каменных столбов — как раз то, что нужно для испытаний.
Фалько и я пункт за пунктом проверили готовность, потом задраили изнутри люк НБ-2 и сказали по телефону ответственному за операцию Жану Алина, что можно приступать. Мы спускались очень быстро, аппарат почему-то был заметно перегружен. На глубине семьдесят футов сильные волны начали бить НБ-2 о скалы. Опоясывающий весь аппарат резиновый бампер защитил силовую установку, и Фалько включил двигатель на полную мощность, чтобы уйти оттуда. Несмотря на лишний вес, «блюдце» сразу развило скорость и вырвалось из каменного плена. Фалько повел его вниз к песчаной площадке на глубине сто футов. Волны сюда не доходили, можно было приземлиться и отрегулировать водный балласт.
Я второй раз погружался в «ныряющем блюдце» и вполне полагался на искусство Фалько. Возле аппарата плавали калипсяне в легководолазном снаряжении. Я подумал: «Сейчас мы уйдем от вас далеко-далеко, в мир, куда вам не проникнуть с аквалангом. Вам надо скоро возвращаться на поверхность, да еще с остановкой для декомпрессии, а мы пойдем дальше вниз и будем дышать при нормальном давлении».
Фалько включил водомет и снялся со дна. Последний аквалангист, помахав нам рукой, пошел вверх; Альбер вздохнул:
— Наконец-то!
Мы еще не установили на НБ-2 гирокомпас, и успех решающего испытания всецело зависел от чувства ориентации Альбера. Погружение началось в северной части бухты, край материковой отмели находился южнее. На первых порах мы могли еще следить за пляской солнечных бликов на дне. Затем приметили характерный узор: увядшие листья и корни посидонии лежали на дне рядами в общем-то параллельно береговой линии. Значит, чтобы выйти на край шельфа, надо идти под прямым углом к ним. Еще глубже, где было совсем темно, нам встретился песчаный каньон, как будто тоже перпендикулярный северному берегу. Над светлым дном по обе стороны, словно церковные шпили вечером, возвышались каменные столбы, которые мы нащупали гидролокатором с «Калипсо».
Триста футов, песок сменился илом, кругом туман, и шпили еле видны. С начала погружения прошло полчаса; дневной свет почти не проникал на эту глубину, и мы включили ходовые огни. Фалько вел НБ-2 бреющим полетом, дно было ровное, с небольшим уклоном. Интересно, далеко ли мы ушли от «Калипсо»?
Пятнадцать минут мы шли над однообразным откосом, но вот впереди резко обозначилась горизонтальная черная линия.
— Конец шельфа, — сказал я. — Начало континентального склона. Глубина четыреста футов. Остановимся у края.
В двух футах от бровки шельфа Фалько посадил аппарат. Участок дна на грани между шельфом и склоном напоминал смятый лист бумаги. Вид края шельфа рождал трепет и легкое головокружение. На батискафе я погружался намного глубже, но то было все равно что ночной полет на воздушном шаре. Фалько еще никогда не бывал на такой глубине, освоенная им зона осталась далеко позади. И мы оба с радостью убеждались, что «ныряющее блюдце» с пучинами на «ты». Прежде чем прыгнуть с гребня, мы еще раз проверили все приборы и агрегаты — ведь нам предстояло впервые перешагнуть через барьер неведомого.
— Все в порядке? — спросил я Фалько.
— Да, начальник.
— Ладно, пошли.
Оторвав аппарат от дна, Фалько перевалил через гребень, подал вперед рычаг ртутного балласта, и «блюдце», наклонившись под углом 35 градусов, заскользило вниз. Луч света выхватил из мрака стайку розовых антигоний — мелькнули и исчезли, точно мы на машине обогнали запоздалых прохожих.
Однообразное илистое дно, и никакой растительности, только торчат, напоминая кактусы, красно-белые черви. Маневрируя водометом, Фалько вел «ныряющее блюдце» примерно в футе над грунтом. Вот слегка задел склон, и комья ила покатились под откос, кутаясь в медленно растущие серые облачка. Дно рыхлое, и, чтобы не испортить видимость, нужно быть очень осторожным: не касаться грунта днищем, не направлять сопла вниз. Мы еще обсуждали этот вопрос, вдруг путь нам пересек длинный катран. Он промчался в каком-нибудь дюйме над дном — и ничуть не потревожил ил! Чем наделена эта глупая акула, чего нет у нас? Должно быть, все дело в ее хвосте. Хвостовой плавник катрана почти лишен нижней лопасти, зато верхняя, напоминающая оперение реактивного самолета, позволяет рыбе плыть так, что завихрения воды вниз не распространяются.
Я заметил на пределе видимости какой-то прямоугольник. Море не терпит углов и граней — вероятно, это изделие человеческих рук.
— Поверни вправо, пятнадцать румбов, — попросил я Фалько.
Подошли и увидели прямоугольник размерами три на четыре фута, выложенный почти с идеальной точностью из белых камешков. Ограда! Значит, должен быть и хозяин? А вот и он: в углу, зарывшись в грунт так, что только большие глаза торчали над илом, прятался розовато-серый осьминог.
Фалько повел «блюдце» дальше, а я пытался разгадать загадку. На сотни ярдов вокруг нет никаких камней, голое дно. В чем смысл этой ограды, на которую потрачено столько усилий?
С начала спуска прошло довольно много времени, и хотя лежанки были удобные, я чувствовал себя йогом-любителем, который слишком долго простоял на голове. Мне стало легче, когда Фалько доложил, что мы скоро достигнем тысячи футов.
Наконец стрелка прибора коснулась заветного деления. Фалько выключил двигатель, и НБ-2 сел на грунт кормовым балластом. Аппарат выровнялся, все механизмы смолкли. Мы лежали в полной тишине, слыша собственное сердцебиение… Толчок!.. Другой!
— Merde! — выругался Фалько. — Опять эти аккумуляторы!
— Нет-нет, — возразил я. — Просто клапаны новых боксов выпустили газ. Эти толчки только показывают, что аккумуляторы в полном порядке.
15.30 — с начала погружения прошло два часа. Мы опять тщательно проверили все системы.
— Полный порядок, — сказал Фалько. — Еще много амперов в запасе.
Он включил две свежие секции поглотителя углекислоты. Я откупорил вино, мы чокнулись и поздравили друг друга с успешным погружением.
Погасили наружное и внутреннее освещение и очутились в объятиях вечной ночи. Но вскоре сквозь иллюминаторы заметили слабое свечение футах в двадцати пяти от аппарата. Свет не двигался. Животное? Нет, призрак какой-то. Зажгли прожектор — ничего.
— Пошли обратно, — сказал я, — и постараемся увидеть возможно больше.
Фалько перекачал ртуть на корму, развернулся и зигзагами повел «блюдце» вверх. Поднявшись на триста футов, мы снова встретили осьминожьи ограды, целую деревушку этих трудолюбивых тварей.
На пятисотфутовом горизонте опять появились шпили. Фалько был в ударе и решил показать свое водительское искусство. Включил максимальную тягу и, маневрируя соплами и ртутным балластом, повел аппарат прямо на каменную башню. В последний миг перескочил через нее и спланировал в узкую ложбину.
— Заметил, на поворотах «блюдце» заносит на несколько метров? — обратился он ко мне. — Но я придумал способ поворачивать круто.
Альбер снова повел НБ-2 на скалу, повернул на 180 градусов, кормовой кранец ударился о камень и толкнул нас в обратную сторону. Последовали повороты под все более острым углом, основанные на бильярдном эффекте. Меня по-настоящему увлекло это рикошетное движение на глубине пятисот футов.
От обилия впечатлений разбегались глаза. Я впервые попал в мир глубин, вдвое превышающих предел акваланга. Включил трехтысячеваттный юпитер, и мы увидели совсем новую для себя гамму красок. В аквалангах мы первые сто футов наблюдали зеленые, голубые, желтые тона. Дальше, до трехсот футов — граница погружений со сжатым воздухом — простиралась страна оранжевого, красного, коричневого цветов. «Ныряющее блюдце» подарило нам зрелище самых изысканных оттенков. В окраске живых организмов преобладали цвета розоватые, розово-лиловые, белые с переходом в лимонно-желтый. Царство ста саженей было оформлено с большим вкусом. Чуть ли не на каждом камне сидело по морскому ежу величиной с дыню, с пурпурными шипами, часто в окружении белых свадебных букетов из гидроидов.
Наконец осуществилась моя красноморская мечта — увидеть обитателей «второго рифа». Легководолазное снаряжение распахнуло человеку ворота в зону дневного света; «ныряющее блюдце» позволит почти так же легко увидеть новые красочные сообщества морских организмов.
И не надо спешить со всплытием. НБ-2 было не только ключом к шельфу; оно продлевало время наблюдения. Но надводный мир сам напомнил о себе. Идя вдоль основания скалы, мы увидели оборвавшиеся якоря и переметы, старые котелки. Волшебная страна кончилась. Между двумя камнями была целая свалка битой посуды, железок, черепков. Здешним осьминогам приходилось довольствоваться куда менее романтичным строительным материалом, нежели жителям аккуратных поселений в глубинах.
От жилья осьминога к церковным шпилям, от шпилей к каменной глыбе, от глыбы к ложбине, постепенно все выше и выше… Мы уже не глядели на глубиномер, ориентировались по освещенности и биотопу. В двухстах футах от поверхности Фалько причалил у каменной башни, и мы увидели знакомые омаровые террасы, ветви красного коралла. Он показался нам вульгарным после того, что мы видели внизу.
Мы перекусили, обсуждая эту перемену в наших восприятиях, и совсем позабыли о времени. Фалько пожаловался на головную боль; я достал индикатор углекислоты. Два процента. Неудивительно, что голова болит. Пора всплывать, не говоря уже о том, что Симона, Алина и все остальные скоро начнут волноваться. И в начале седьмого Фалько после долгого бескомпасного плавания в трех плоскостях вывел НБ-2 на поверхность рядом со своей плавучей базой. Мы поднялись на «Калипсо», и шампанское быстро вылечило его от головной боли.
Итак, испытания завершены. «Ныряющее блюдце» доказало свою пригодность. Теперь пусть служит науке.
И Фалько приступил к погружениям с биологами и геологами, которым «ныряющее блюдце» могло помочь в их работе.
Когда писались эти строки, НБ-2 уже выполнило шестьдесят научных заданий в Средиземном море: у Корсики, Кассиса, Вильфранша, Баньюльса. Гидравлическая клешня добывает сокровища, которые поражают взгляд красками и разнообразием. Открыты десятки новых видов. Образцы ила и горных пород подтвердили одни и опровергли другие гипотезы о строении и особенностях подводных каньонов.
Только дважды место водителя занимал Андре Лабан, все остальные погружения проводил Альбер Фалько. Его магнитофонные судовые журналы полны новых сведений о жизни моря.
В двадцать шестом погружении НБ-2, у Вильфранша, участвовал гость из Калифорнии — Роберт Ф. Дилл, специалист по морской геологии.
На глубине 350 футов Фалько посадил аппарат на дно, чтобы взять образцы ила. В свете прожектора они увидели конус шестидюймовой высоты, в макушке которого была нора, а из норы на них глядели два маленьких глаза. Белый бычок удивленно таращился на «ныряющее блюдце». Пользуясь тем, что бычок зазевался, небольшая каракатица подкралась к конусу и выбросила ловчие щупальца. Бычок скрылся в норе. Каракатица побелела от злости и, затянув глаза веком, быстро зарылась в грунте, устроила засаду возле норы. А крошка уже выглядывал из другого хода, за спиной хищницы! Щупальца скользнули туда — какое там, бычка и след простыл, вон его голова, торчит из третьей норы. «Ныряющее блюдце» сотрясалось от хохота Фалько и Дилла. Лежа на своих матрацах, они кричали бычку:
— Осторожно! Она ждет тебя у выхода! Беги к другому!
Но бычок не слышал их советов и не нуждался в них. Всякий раз он выглядывал не там, где его подстерегала каракатица. Пять минут крошка морочилголову головоногому охотнику. В конце концов каракатица, побагровев, сдалась и с позором отступила.
Над шельфом, в царстве ста саженей Фалько часто видел, как рыба уходит в грунт хвостом вперед, а по соседству торчат из ила глаза зарывшегося осьминога. Надежно укрытые крабы только клешни высовывали, грозя ими «блюдцу». В одном каньоне Альбер вдруг приметил впереди две поднятые кверху огромные руки. Это было всего-навсего затонувшее оливковое дерево, ветви которого, словно вишневым цветом, были обсыпаны антигониями и морскими бекасами.
В сороковом погружении НБ-2 участвовал Жак Лаборель, сотрудник биологической станции Эндум. Ему понадобились образцы прикрепленных форм из верхней части каньона Кассис на глубине 400 футов. Большинство интересующих его экспонатов лепилось к склону за пологом из горгонарий, который мешал работе: клешня упиралась в него и толкала назад «блюдце». Фалько подходил снова и снова, наконец, после двух часов настойчивых атак, набил баул красочными губками и желтыми кораллами. Лаборель попросил добыть ему шестифутовую горгонарию. Захватив ее клешней, Фалько дал задний ход, но «блюдцу» оказалось не под силу вырвать куст. «Блюдценавт» отошел вдоль скалистого склона назад и на предельной скорости помчался прямо на горгонарию. Таран удался, клешня подхватила трофей и прижала его к носу НБ-2. Фалько всплыл и гордо взмахнул горгонарией, разметав брызги воды — ну, прямо версальский фонтан!
Мы находили все новые и новые применения для маленькой водометной лодки. В частности, задумали физический эксперимент, которого до нас никто не проводил: измерить горизонтальное распространение света под водой на больших расстояниях. Для «Операции Люмен», как мы назвали опыт, доктор Джордж Л. Кларк одолжил нам свой батифотометр.
В районе Корсики, выбрав безлунную ночь, мы подготовили НБ-2 для необычного задания. Внутри повесили между наблюдателями светонепроницаемую штору: Фалько нужно было работать в полной темноте, а его спутник нуждался в свете, чтобы читать показания приборов. Фотометр Кларка поместили перед вторым иллюминатором так, чтобы на него не попадал свет из «блюдца». В итоге в темноту всматривались глаза Фалько и прибора.
С перегрузкой в пятьдесят фунтов мы опустили «блюдце» на 80 футов на лине, который выдавали вручную с катера. С «Калипсо» на ту же глубину погрузили пятисотваттную лампу с вертикальной нитью. Над лампой висел пустой баллон от акваланга — отражатель импульсов от эхолота «ныряющего блюдца». Это нужно было для того, чтобы напарник Альбера мог точно определить дальность источника света.
«Калипсо» на самом малом ходу, со скоростью одной двадцатой узла стала удаляться от катера. Фалько говорил: «Вижу… вижу», а напарник записывал расстояние и показания фотоумножителя Кларка. Во время первого опыта, на глубине 80 футов, Фалько и прибор одновременно перестали видеть свет; до лампы в этот миг было 750 футов.
Мы повторили эксперимент на глубине 165 футов. Здесь всплывающий снизу обильный планктон совершенно поглотил свет, когда расстояние достигло 500 футов. Опустили НБ-2 и лампу до 330 футов, потом все глубже и глубже, вплоть до 825 футов. На максимальной глубине глаза Фалько и прибор улавливали свет на расстоянии 1320 футов. До 800 футов лампа казалась наблюдателю голубой звездочкой, затем она вдруг превратилась в белый круг.
Измерения подтвердили теорию, что ночью планктон собирается в верхних слоях. Чем глубже, тем вода прозрачнее. Я представлял себе будущие флотилии исследовательских подводных лодок, включающие при встрече опознавательные огни…
Ученые, сотрудники профессора Жоржа Пети, с помощью Фалько осуществили целую программу погружений в узком каньоне возле Пор-Вандра (это недалеко от испанской границы). Реш (так геологи называют характерные каньоны, которыми иссечен шельф Испании и Франции до Марселя) носит имя Лаказа-Дютье, в честь знаменитого океанографа, который основал биологическую станцию Араго в Баньюльсе, по соседству с Пор-Вандром. Работы профессора Лаказа-Дютье и пяти последующих поколений ученых сделали этот каньон одной из наиболее тщательно исследованных форм подводного рельефа на всем земном шаре.
Наполняя во время сорок третьего погружения свой баул красными и желтыми кораллами, Фалько вдруг заметил огромное существо, плывущее вверх по склону к НБ-2. Вот оно очутилось на свету, и Альбер опознал меру весом не менее 100 фунтов. Должно быть, прожектор ослепил рыбину — она стукнулась носом об аппарат и чуть не опрокинула его. Ощетинив спинные плавники, меру продолжал подталкивать «блюдце» боком; эта туша почти совсем заслонила иллюминаторы. Наконец он угомонился и пошел обратно, вниз по склону.
«Мы огорчились — побыл бы еще с нами», — говорит судовой журнал Фалько.
В сорок шестое погружение — тоже около Пор-Вандра — Фалько взял с собой на глубину 995 футов Жан-Пьера Рейса. Пройдя три четверти пути вниз, они встретили рыбу неизвестного вида. Пепельно-серая, брюхо белое, чем-то напоминающая морского угря. Зубы длинные, острые, хвост маленький, круглый. Альбер повел аппарат прямо на нее сквозь стайку рыбок поменьше, словно завороженных светом прожектора. Незнакомка отступила, сохраняя дистанцию около 30 футов. Фалько остановил «блюдце». Незнакомка метнулась вперед и схватила рыбешку. Еще одну… Еще… Наконец насытилась и удалилась.
В нижней точке погружения «блюдце» вошло в заросли белых кораллов, усеянных большими красными креветками, которые прыгали и кувыркались в свете прожектора.
Хорошо запомнилось Фалько сорок седьмое погружение. Вместе с Люсьеном Лобье он пережил неприятные минуты в каньоне Лаказа-Дютье. Нужно было опуститься на глубину 1080 футов. Альберу и раньше приходилось пробивать слои с плохой видимостью и сильными течениями, но в этот день его ожидало нечто необычайное. Мрак и такое мощное течение, что НБ-2 не смогло с ним бороться и было сбито с курса. Фалько рассудил, что лучше покориться и ждать, когда поток вынесет его в более спокойное место. Он выключил двигатель, но не стал посвящать товарища в свои проблемы, и тот даже не подозревал, какая опасность им грозит. Со скоростью трех узлов течение несло «блюдце» прямо на склон каньона, видимый только эхолоту. Альбер знал, что этот склон изобилует выступами. Если НБ-2 попадет под скальный козырек, будет худо. И вот сквозь мглу показалось как раз то, чего опасался водитель: темная выбоина в скале. Он включил двигатель на полную мощность, надеясь обойти ловушку, но течение было сильнее и увлекло «блюдце» под выступ. Беда казалась неминуемой, но вдруг последовал мягкий толчок, и противотечение вынесло НБ-2 из грота.
— Выходит, погружаться в каньоны не так уж опасно, — сообщил Фалько своему спутнику и магнитофону.
(Позднее он специально проводил опыты — как использовать отдачу для навигации в каньонах.)
На глубине 750 футов не было ни мути, ни течений, НБ-2 очутилось в царстве изумительных белых кораллов, которые покрывали оба склона каньона. В воде извивались прозрачные черви, их можно было заметить лишь благодаря двум красным рогам на голове. Кишели фосфоресцирующие кальмары и разноцветный планктон. Через верхние оптические системы исследователи видели над «блюдцем» розовый ореол креветок.
В пятьдесят седьмом погружении НБ-2, также в каньоне Лаказа-Дютье, участвовал Пьер Драш, который был с нами на Красном море, когда мы впервые так остро ощутили ограниченность акваланга. Теперь уже не надо было оберегать ноги профессора от акул, и «блюдце» позволяло ему вплотную рассмотреть прикрепленную фауну. Балансировку произвели особенно тщательно; НБ-2 было невесомым и чутко отзывалось на рули. На глубине около 1000 футов Драш залюбовался висячим садом. Фалько предупредительно подвел аппарат к коралловым зарослям и стал на якорь, ухватившись механической рукой за куст. Удобно лежа на животе, он вполне разделял восторг ученого. И они увидели нечто непостижимое.
Серебристые волосохвосты длиной десять дюймов, совершенно плоские, выплывали на свет и принимались метаться вверх-вниз, точно загипнотизированные. Они напарывались на коралловые шипы и терзали сами себя в клочья, превращаясь в блестящие облачка, которые медленно тонули во мраке.
Драш сделал свои записи, и Фалько пошел еще глубже. На следующей остановке луч прожектора приманил двух морских угрей весом фунтов по сто каждый. Альбер решил подшутить и поймал угря клешней за хвост. Тотчас НБ-2 лихо закружилось вокруг своей оси. Угорь вырвал хвост из клешни и швырнул «блюдце» на каменную стену. Он так сильно его раскрутил, что аппарат не сразу перестал вращаться.
Прочтя записи участников своей группы, профессор Пети сказал:
— Придется нам заново изучать реш Лаказа-Дютье. Большинство наших представлений о нем опрокинуто.
Прямое наблюдение, выверенные фотографии, а также образцы, собранные «ныряющим блюдцем», опровергли немало данных, полученных подвесными океанографическими приборами.

Глава семнадцатая
Храм моря

Я поставил машину на стоянку на краю просторной площади и подошел к величавому зданию из белого известняка. На сто футов поднялся вверх щедро украшенный резьбой фасад длиной в триста тридцать футов. На высоком архитраве — названия славных океанографических кораблей прошлого: «Альбатрос», «Пола», «Блейк», «Букканир», «Сибога», «Челленджер», «Ирондель», «Княгиня Алиса», «Витязь», «Бельжика», «Талисман», «Вальдивия», «Вашингтон», «Вега», «Фрам», «Инвестигейтор». Над главным порталом каменные буквы: ОКЕАНОГРАФИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ, МУЗЕЙ.
В широкую дверь непрерывным потоком шли люди. Туристские автобусы из десятка стран доставили посетителей к старейшему в своем роде учреждению. Был март 1957 года. Я только что оставил военно-морскую службу, чтобы принять обязанности директора Океанографического музея Монако. Меня избрал на эту должность Международный комитет музея, призванный улучшить его деятельность.
Войдя, я встретил своего семидесятидвухлетнего предшественника, бывшего капитана французских военно-морских сил Жюля Руша, обаятельного и эрудированного человека. Он принял меня в просторном кабинете, где предстояло обосноваться мне. Стены были во всю вышину отделаны светлыми дубовыми панелями. Здесь ничто не менялось с 1910 года, кабинет был своего рода памятником основателю музея и его первому директору, доктору Жюлю Ришару, который занимал свой пост сорок шесть лет. Преемник Ришара, Руш познакомил третьего директора с бережно хранимыми экспонатами этого музея в музее: личные письма основателя, вделанный в стену сейф, в котором хранились его медали и ордена, его справочная библиотека по океанологии, восьмифутовая полка, заставленная его печатными трудами, судовые журналы первых океанографических экспедиций. Из-за шкафа Руш благоговейно достал зонт с позолоченной ручкой, оставленный здесь основателем музея в один из дождливых дней 1921 года. Шелк рассыпался на пыльные нитки.
— Доктор Ришар много лет спустя обнаружил его там, — сказал Руш, подавая мне зонт с таким видом, точно это был знак моего нового звания. На позолоченной ручке — инициал «А».
Я держал в руках вещь, которая принадлежала Son Altesse Serenissime[11] Альберту I Монакскому, основоположнику современной океанографии и создателю музея, названного им «Храмом Моря». Руш вручил мне ключи от дворца, учтиво пожелал счастья и попрощался. Я окинул взглядом обширное помещение: здесь мне, возможно, придется провести все оставшиеся годы моей жизни… Потрогал огромный стол и обошел его кругом, направляясь к своему трону, но вдруг остановился. На директорском кресле лежала отполированная прилежным сидением расплющенная кожаная подушка из тех, которые во Франции стали символом буквоедства и канцелярщины. Я вернулся с небес на землю. Сесть на эту подушку — значит предать дело, которому была посвящена моя жизнь, обмануть доверие товарищей. Так родилось мое первое административное решение. Я вызвал служащего, показал на подушку и попросил:
— Пожалуйста, уберите эту штуку.
Я не собирался ни расставаться с морем, ни отказываться от погружений. Меня вдохновлял пример деятельной жизни князя Альберта.
Альберт Шарль Оноре Гримальди (1848–1922) был на любую мерку выдающимся человеком, хотя его положение главы состоятельного княжества и личная скромность мешали этому факту стать явным. Он был известен как «ученый князь» и соединял в одном лице качества щедрого мецената науки и неутомимого исследователя. Богатая прибыль от игорного дома Монте-Карло расходовалась на серьезные морские экспедиции и сотрудничество с виднейшими деятелями науки и культуры того времени.
Любовь Альберта к морю сложилась в годы службы на испанском военно-морском флоте, где он стал штурманом. В 1889 году, сменив слепого отца на троне старинной династии Гримальди в Монако, он построил свою первую яхту «Ирондель» — не для увеселительных вылазок вдоль побережья, а для дальних плаваний в океане. Среди первых гостей на «Ирондели» был океанолог, профессор Парижского университета Альфонс Мильн-Эдвардс, который на всю жизнь привил князю страсть к исследованию морских глубин. Вскоре Альберт уже поднимал ручной лебедкой пробы с глубины 10 тысяч футов.
Затем Альберт построил несколько крупных паровых яхт для океанографических работ: «Княгиня Алиса», «Княгиня Алиса II» и «Ирондель II», которые заслуживают чести стоять в одном ряду с бессмертным английским «Челленджером», русским «Витязем», американским «Блейком», доблестным «Фрамом» Фритьофа Нансена. Морские коллекции князя росли, и он решил разместить их в новом музее, с лабораториями, библиотекой и аудиториями. Выбрал очень красивое и романтическое место на могучей скале, по фасаду которой на семь этажей вниз спускаются контрфорсы и нижние ярусы здания. Закладка состоялась в 1899 году; на протяжении одиннадцати лет, что укладывали камни на стальные балки, первоначальная идея Альберта переросла в мечту создать храм моря для всего мира. Чтобы обеспечить долговечность и международный характер музея, он учредил в Париже Океанографический институт, возглавляемый международным комитетом ученых. Чтобы обеспечить материальную сторону, Альбер выделил целое состояние в бонах Третьей Французской Республики, которые тогда были самым надежным капиталовложением.
Интересы «ученого князя» не ограничивались океаном. В 1906 году при его поддержке в недостроенной еще аудитории состоялся полет одного из прообразов вертолета. Альберт построил гавань в Монако, пробил скалу тоннелем, учредил школы и музей доисторической антропологии. Он ездил из Монако в Париж на мотоцикле. Среди его друзей были германский кайзер Вильгельм II и французский социалист Жан Жорес.
Альберт призывал своих столь несхожих друзей — как, впрочем, и всех людей на свете — утвердить мир на земле. Он считал, что на благо человечеству нужно сотрудничать и соревноваться на поприще науки и просвещения. И показал личный пример, проведя четыре тысячи научных станций на морях — больше, чем кто-либо до или после него.
В год торжественного открытия Океанографического музея кое-кто из венценосных друзей Альберта был настроен очень воинственно. Он основал Международный институт мира, своего рода предтечу Лиги Наций и ООН, и стал объезжать столицы, убеждая товарищей по плаваниям на яхте сохранить мир. Когда кайзер начал войну и прочие правители присоединились к нему, обрекая на гибель миллионы, Альберт был настолько потрясен, что впал в полную прострацию и до самой смерти в 1922 году пребывал в ужасном состоянии.
После кончины этого достойного и благородного человека княжеский престол занял Луи, которого море ничуть не занимало, и музей захирел. Послевоенная инфляция обесценила выделенные Альбертом суммы, доктор Ришар оказался без средств для исследований и научной работы. Вместо активного центра океанографии музей стал почетным памятником его основателю. Лаборатории опустели, «Ирондель II» была продана кино-компании, которая взорвала яхту ради драматического кадра. Руш во время своего правления тоже ничего не мог сделать, так как после второй мировой войны франк снова был обесценен. Когда он стал директором в 1945 году, ему даже казалось, что лучше всего вообще закрыть музей.
Но туризм совершил чудо. Европейцы, которых война принудила долго сидеть на месте, ринулись к автобусам и поездам. Они во множестве приезжали в Монако и платили за вход в музей и его аквариум. Туристы спасли храм князя Альберта. Руш, бережливый администратор, сдал мне скромный, но вполне надежный бюджет. Это было единственное в мире научное учреждение, которое целиком существовало на средства от продажи билетов посетителям.
Таким образом, я возглавил заведение, которое, по сути дела, оставалось неизменным сорок лет. Не было ни секретаря, ни машинистки; приборы в безмолвных лабораториях сами давно стали музейными экспонатами. Я не сомневался — будь князь Альберт жив, он заполнил бы комнаты музея вычислительными машинами, радиометрами и прочим современным оборудованием. Привлек бы к океанографическим исследованиям аквалангистов, глубоководные аппараты, электронику. Следовательно, мой долг не топтаться на месте, а действовать, переоборудовать музей, нанять новых работников, возродить дух основателя и продолжать его дело.
Обходя пустые комнаты, я нашел в ящиках столов с десяток древних пенсне. И повесил их на стене своего кабинета: пусть напоминают о недугах, которыми грозит директору музея сидячий образ жизни.
На новоселье я получил великолепный подарок от Директорского комитета — новехонькое, отлично оборудованное исследовательское судно «Винаретта Зингер», предоставленное фондом Зингера. Теперь в моем ведении оказалась целая океанографическая флотилия: «Винаретта», «Калипсо», «Эспадон» и юркий поставщик экспонатов для аквариума — «Физалия».
Военно-морские силы откомандировали моего старого друга Жана Алина на пост заместителя директора музея. Мы вместе разработали десятилетний план. Надо было усовершенствовать и расширить аквариум, чтобы привлечь больше посетителей, пополнить администрацию новыми людьми, улучшить работу библиотеки — у одного из крупнейших в мире собраний литературы о море был очень скверный каталог. Но главная задача — перестроить исследовательские отделы. Генеральное управление по научным исследованиям при французском правительстве выделило нам для этого большие ассигнования. Вместе с нашими учеными советниками мы наметили четыре основных направления научных работ: применение электроники в океанографии, физиология и экология глубоководных организмов (область, в которой работал Альберт), постоянный контроль физических и химических свойств морской воды, морская геофизика. Отвели также помещение для лаборатории радиоактивности, возглавляемой князем Ренье. Молодой правитель унаследовал от великого деда любовь к морю и как почетный председатель Океанографического института всячески нас поддерживал.
Подводные пловцы Кьензи, Жак Буасси и Клод Весли ловили для аквариума живых рыб. Добытые ими актинии и горгонарии сразу придали иной вид нашим витринам; недолговечные прикрепленные формы регулярно заменялись. Мы постарались воссоздать естественную картину подводной жизни, и жильцам это явно понравилось. Краски тропических рыб перестали тускнеть.
Мы посылали за живыми экспонатами авиаэкспедиции на Красное море. Одну из них возглавил Фалько, ему помогали Жорж Алепе и Пьер Гупиль. Пустынный берег, на котором они обосновались, так накалялся солнцем, что босиком невозможно было стоять. А к вечеру, что ни день, разыгрывался самум, и с неба падали десятки удушенных пылью мертвых ласточек. Стоило Гупи засунуть руки в темный мешок для перезарядки кассет, как лицо его облепляли безжалостные мухи. Только под водой можно было отвести душу.
Фалько применял несколько способов ловить рыб, не повреждая их. Облюбует густо населенную коралловую глыбу и набросит на нее нейлоновую сеть с пробковыми поплавками. Затем плывет к следующей глыбе, в это время рыбы выходят из убежищ и застревают в ячее. Поставив сети, Фалько совершал обход своих снастей, осторожно собирал пленниц и помещал их в прозрачные полиэтиленовые мешочки с водой. Поднимаясь к поверхности с целой связкой мешочков, в которых сновали разноцветные рыбы, он напоминал продавца воздушных шаров на подводной ярмарке. На берегу изнывающие от зноя товарищи Альберта накачивали в мешочки кислород, потом укладывали их в коробки и отправляли самолетом в Ниццу. Очень мало рыб погибало в пути; от коралловой глыбы до аквариума они не покидали родной стихии.
Фалько использовал также плексигласовые ловушки, но верхом искусства была поимка рыб руками. Спинороги оказались слишком хитрыми, чтобы покидать свои норы и лезть в сеть. В спинном плавнике этих рыб есть длинный шип, который обычно опущен. Спасаясь от облавы, спинорог прячется в нору, расправляет длинный шип и упирается им в потолок, закрепляя его вторым шипом, как задвижкой. Этот прием позволяет спинорогам одурачивать большинство преследователей, только не Фалько. Просунув руку в нору, Альбер нажимал задвижку, шип складывался, и пораженная рыба попадала в тюрьму с невидимыми стенками. Другой вид спинорогов (мы прозвали его «Фернандель»), попадая в руки Фалько, выражал свое отчаяние криком, который Альбер сравнивал с хрюканьем свиньи.
За три года наша группа настолько преуспела в выполнении десятилетнего плана, что мы наметили два смелых новшества, затрагивающих как популяризаторскую, так и исследовательскую сторону океанографии (оба эти аспекта отлично дополняют друг друга в Монако). Было задумано построить пониже музея, в пятидесяти футах над морем большой маринариум на открытом воздухе. Нас вдохновили на это успешные опыты с «мэринлендами» в США, но мы собирались кое-что усовершенствовать. Маринариум позволил бы нам увеличить свои доходы от туризма и расширить круг исследовательских работ.
Кроме того, я обсудил с князем Ренье III Монакским, который сам опытный подводный пловец, возможность отвести в море напротив музея территорию для заповедника площадью шесть квадратных миль. На этом участке мы хотели устроить экспериментальный морской биотрон: направленно видоизменять подводную среду, размещать в ней искусственные убежища для рыб, водоросли, применить искусственный фотосинтез и химический подкорм, создавать машинами течения, а по соседству выделить контрольные участки нетронутой природы, запретив всякий лов рыбы и подводный спорт.
Мы построили из бетона образцовую рыбоферму, разработали схему контроля: аквалангисты, подводные лодки, приборы-автоматы и телевизоры должны были сообщать в музей, как работает морской биотрон. Глубина моря около музея пятьдесят футов, дальше она постепенно возрастает, достигая вдоль внешней границы задуманной нами подводной фермы тысячи футов.
Но в тот самый год, когда родился наш замысел, биотрон споткнулся. По обе стороны предполагаемого заповедника, в Фонвьеле и Монако-Биче, местные власти решили расширить береговую полосу. Опрокидывая в море обломки старых жилищ, камень из карьеров, песок и гравий, сплошной вереницей шли самосвалы. На наш участок отовсюду ползла муть. Люди насытили воду минеральными частицами, которые погубили большинство нежных морских организмов. Рыба ушла в поисках более тучных пастбищ. Прямо под окном моего кабинета шла экспансия, засорялось чудесное плато Сен-Никола, где мы постоянно ныряли, изучая изменения среды. Прикрепленная фауна и почти все водоросли были задушены отвратительными бурыми сорняками.
Подобные работы велись вдоль всего Лазурного Берега. С вертолетов я видел, как строительный мусор на несколько миль от берега заполняет море мутью. Еще дальше часто простирались покрытые радужной пленкой черные полосы: здесь суда бесстыдно сливали в море тонны нефтепродуктов, сея смерть над континентальным шельфом. Я отложил создание морского биотрона на то время, когда закончат выравнивать береговую линию и дно стабилизуется. Одновременно я мечтал о действенном способе защитить море от осквернения. А в 1959 году появилась новая зловещая угроза.
Возрождая традиции Альберта, который приглашал ученых мира для свободного обмена мнениями, мы предложили Международному агентству по атомной энергии в Вене устроить в нашем музее совещание по весьма острому вопросу: куда девать отходы атомного процесса. На открытии конференции я приветствовал четыреста пятьдесят делегатов стран, которые уже развили атомное производство или собирались его наладить. Я не очень-то разбирался в продуктах расщепления ядра, но долг гостеприимства обязывал меня отсидеть хотя бы до конца первого заседания.
Я поймал себя на том, что делаю заметки, слушая, как делегаты рассказывают о далеко идущих планах гражданского использования атомной энергии, сколько в ближайшие годы будет отходов с разной степенью радиоактивности. Они так и сыпали шести-, семизначными цифрами, выражающими концентрацию яда в кюри. С трибуны я видел, как океанографы обмениваются записками, что-то шепчут друг другу на ухо.
В перерыве физики и биологи держались обособленно. Океанографы обсуждали возможное действие всех этих ядов. Выходя из зала, я захватил с собой наушники с приставкой, позволяющей слушать синхронный перевод на четыре языка, чтобы в своем кабинете проследить за ходом вечернего заседания. То, что я подслушал, говорило об очень накаленной обстановке в конференц-зале, и я решил на следующий день присутствовать, когда будут обсуждать способы избавиться от радиоактивных продуктов.
На утреннем заседании один ученый выступил с докладом, рекомендующим закапывать отходы в пустынях. Другой предлагал сбрасывать их с парашютами на ледяной купол Гренландии. Были предложения использовать пещеры и заброшенные соляные копи. Но большинство атомников считало океан наиболее подходящим местом для захоронения отходов. Многие делегаты как о будничном деле рассказывали, что их страны уже сбрасывают радиоактивные продукты в океан.
Антагонизм между физиками и биологами принял более явные формы. Во время перерыва разгорелись жаркие споры между учеными мужами. Я услышал реплику одного биолога:
— Стронций-девяносто отравит рыбу.
— Стронций-девяносто скапливается в костях, — возразил ему ядерщик. — Кто ест кости?
— Куры едят. Костяная мука — побочный продукт рыбоконсервной промышленности. Наши дети будут есть радиоактивные яйца.
Я обратился к кучке приунывших океанографов:
— Ничего, завтра председательствует профессор А. — Я назвал фамилию всемирно известного океанолога. — Уверен, он отстоит море.
Профессор А. прибыл за пять минут до начала заседания и не успел заметить, как взволнованы его коллеги. Зазвучало вступительное слово, и вдруг:
— Моря, самой природой предназначенные для захоронения атомных отходов…
Послышались глухие стоны. Я не верил своим ушам После заседания я пригласил профессора А. к себе домой на обед вместе с двумя биологами и сказал ему как меня потрясли его слова о том, что моря — природное хранилище для отходов с долговременным отравляющим действием.
Профессор А. — человек спокойный и рассудительный. Он мягко ответил:
— Жак, не в этом суть. Главная проблема для будущего человечества — катастрофический рост населения земного шара. Скоро нас будет десять миллиардов, потом двадцать, возможно, сто миллиардов. И всех надо прокормить. Естественных ресурсов морей и суши надолго не хватит. Но, слава Богу, пища и энергия эквивалентны. Надо всемерно развивать применение атомной энергии и пустить фабрики, способные всех людей, сколько бы их ни было, обеспечить протеином. Вот почему мы должны дать атомной энергетике полный ход, хотя бы пришлось совсем отказаться от использования морей, даже для навигации.
Мы просто онемели. Моему мысленному взгляду рисовались жители, отступающие из приморских городов Нью-Йорка, Лондона, Марселя, Шанхая — в глубь материков, в этакие концентрационные лагеря, где им выдают строго ограниченный дневной паек эрзац-пищи с атомных фабрик. Я представил себе, как на склонах Приморских Альп стоят толпы людей, глядя вниз на отравленные голубые воды, на хиреющие города, на корабли, обреченные на неподвижность.
Начался очередной раунд в схватке технократов с гуманистами. Сейчас превосходство на стороне технократов. Почти всюду они работают рука об руку с политиками. Но очевидно, что дело примет другой оборот. В конечном счете биологическая наука выйдет вперед; ведь если погибнет жизнь, никакой науки вообще не будет.
Дальше на конференции произошел раскол. Два биолога, русский и англичанин, выступили против двух атомников, англичанина и американца. Я подумал, что сейчас самое время сплотиться защитникам морей. Хуже всего, что никто из нас не знал, чем грозит повсеместный рост радиоактивности.
Атомники рассказали кое-что о действии радиоактивности на рыбу; к сожалению, эти исследования были недостаточно убедительны. Требовалось, пока не поздно, объединить усилия физиков и биологов, чтобы провести надежные и объективные замеры. Прежде чем ученые разъехались, мы договорились учредить при музее Международный центр по изучению радиоактивности моря. Развивая этот план, князь Ренье предложил заключить соглашение между его правительством, Океанографическим музеем и Международным агентством по атомной энергии, которое должно было руководить лабораториями. Вскоре развернулась напряженная работа. Ее возглавил энергичный финский ученый, профессор Ильмо Хела; ему помогали представители Швеции, США, Израиля, СССР, Японии и других стран.
А через несколько месяцев мне позвонили из Парижа. Один мой старый приятель, связанный с французской комиссией по атомной энергии, попросил меня, когда я буду в столице, зайти к нему. — Кусто, — сказал он мне при встрече, — как ты относишься к сбрасыванию атомных отходов в океан? Это опасная затея. Мы слишком мало знаем о возможных биологических последствиях! — А что ты скажешь, если мы используем для захоронения Средиземное море? Я опешил. — Но вы же не станете этого делать! — вымолвил я наконец. — Зачем спрашивать? — Просто так, чтобы знать твое отношение. — Я буду протестовать во всеуслышание, — подумав, ответил я. — Я так и знал, — сказал он. — Просто хотел предупредить тебя. Мне известно, что ты связан с газетами. Но вряд ли они предоставят тебе слово. Я встал и вышел. Они задумали сбросить отходы в море. Решение уже было принято. Через несколько дней, 6 октября 1960 года, газеты сообщили, что атомный центр в Маркуле под Авиньоном выделяет 6500 баррелей радиоактивных отходов для «пробного» захоронения в Средиземном море. Операция была одобрена Евратомом. Одна ведущая газета поместила статью, которая привела меня в ярость. Сотрудник отдела науки писал, что «для эксперимента избран каньон глубиной 8 тысяч футов между Антибом и Кальви на Корсике». Место «выбрано после исследований, проделанных такими океанографами, как В. Романовский и капитан Кусто». Похоже, мой приятель из атомной комиссии решил припереть меня к стенке. Я сел было писать заявление для печати, но передумал. Если бывший друг в самом деле позаботился закрыть мне доступ в крупнейшие газеты, мой протест будет напечатан только левыми органами печати, и мне с первых шагов прилепят политический ярлык. Я порвал черновик. Секретарша доложила, что меня срочно требуют к телефону мэры и депутаты со всего Лазурного Берега, но я ответил ей, что пока не готов с ними говорить. Сперва надо было продумать, к чему может привести сброс, и что-то наметить. Вероятно, эти две тысячи тонн радиоактивностью в четыреста — пятьсот кюри не причинят серьезного вреда Средиземному морю. Но «эксперимент» сам по себе достаточно обширен и послужит прецедентом — в следующий раз сбросят еще больше. Как бы то ни было, прежде чем действовать, нужно посоветоваться и заручиться поддержкой. На следующее утро я с первым же самолетом отправился в Париж и пришел к своему учителю, профессору Луи Фажу, старшине французских океанографов. Он был очень встревожен тем, что задумали атомники, и призвал меня выступить против этой затеи. Я обратился к доктору Всеволоду Романовскому, ведь и о нем было сказано, будто он помогал выбирать место для захоронения. Он написал два документа — заявление о том, что его работы на «Калипсо» никак не были связаны с планами захоронения, и протест в атомную комиссию, в котором подчеркивал, что он уже говорил: операция, мягко выражаясь, не продумана. Через два дня атомная комиссия объявила, что сбрасывание состоится 20 октября. Теперь мы знаем расписание… В день «С» минус 12[12] («С» — сбрасывание) я пришел к премьер-министру Монако и вручил ему меморандум для князя Ренье, надеясь, что князь выступит против сброса отходов. По-прежнему в тайне от господина, который вознамерился зажать мне рот, я сказал секретарю, что готов говорить с местными властями побережья. Мэры Ниццы и Ментоны, а также сенаторы и депутаты из Марселя, Тулона и Ниццы были решительно против захоронения в море. Что думаю я? Я ответил, что разделяю их взгляд. День «С» минус 11 пришелся на воскресенье. Утро ушло у меня на то, чтобы составить заявление и сообразить, как бы все-таки пробиться на полосы той самой парижской газеты, которая напечатала статью со ссылкой на меня. Обычно, когда у музея есть новости для печати, я звоню репортерам местных газет и агентства «Франс Пресс». Я не сомневался, что «Франс Пресс» передаст мой материал в своем бюллетене, но этот атомник мог сговориться с крупнейшими издателями, и они все равно ничего не напечатают. А вот если удастся выступить в органе, который поместил неверное сообщение, тогда и остальные заговорят. Как это сделать? Кажется, есть надежда, нужно только терпеливо выждать подходящую минуту дня «С» минус 11. В воскресенье в редакциях не так людно, и начальство нередко отправляется домой прежде, чем сдают в печать первый утренний выпуск понедельника. Весь день я ходил по своему кабинету, а в шесть часов вечера позвонил в газету и попросил главного редактора. — Его нет, капитан, — ответила телефонистка. — Тогда его заместителя. Его тоже не было. — Тогда любого, кто сейчас дежурит. У меня важный материал. Меня соединили с одним из редакторов, и я сказал: — Сотрудник вашего отдела науки неверно информировал вас о моих работах. Учитывая наши добрые отношения, я не настаиваю на публичном опровержении, прошу только поместить небольшую статью, которая все объясняет. — Мы очень ценим вашу предупредительность, — последовал ответ. — Время подпирает, вы не могли бы продиктовать статью нашему секретарю? В моем заявлении говорилось, во-первых, что между Антибом и Кальви на глубине 8 тысяч футов нет никаких каньонов, дно совершенно ровное. Далее, ни один из подчиненных мне кораблей или отделов не изучал вопрос о сбросе атомных отходов. И наконец, район выбран крайне неудачно, там сильные перемешивающие течения. Утром дня «С» минус 10 вышла газета с моей статьей. В музее меня ждали два десятка репортеров, представляющих газеты всех направлений. Я распахнул двери своего кабинета и пригласил их войти. В разгар оживленной беседы мне позвонил атомник из комиссии. — Как ты посмел! — воскликнул он. — Мой министр вне себя. От его имени советую тебе угомониться и помалкивать. — Не верю, — ответил я, — чтобы министр французского правительства мог подсказать тебе такие действия. Я положил трубку, и пресс-конференция возобновилась. Друзья моря собрались в музее и учредили информационный штаб с круглосуточным дежурством; мы вели телефонные переговоры, распространяли печатные материалы и посылали докладчиков в организации, которые хотели знать, в чем дело. Мы направляли материалы не только в редакции и муниципалитеты, а всем, кто был хоть в какой-то мере затронут: торговым палатам, владельцам участков и отелей, профсоюзам, ресторанам, туристским бюро, организациям рыбаков на Лазурном Берегу и Корсике. Один слух о том, что море отравлено радиацией, мог бы погубить рыбный промысел и туризм, столь важные для экономики страны. В день «С» минус 8 газеты сообщили, что князь Ренье обратился к президенту Шарлю де Голлю с просьбой отменить сбрасывание. На следующий день муниципальный совет Тулона на бурном открытом заседании утвердил такой же призыв к правительству. Атомники отмалчивались, заявили только, что пять лет назад было сброшено некоторое количество отходов в реки Сену и Рону. Судя по шуму, который поднялся во всех концах Франции, это признание возмутило любителей рыбной ловли. В день «С» минус 3 в Ниццу пришел наш старый знакомый по работам в Порт-Калипсо — тендер «Леонор Фреснель». Он доставил огромный буй; матросы, пряча глаза, рассказали нам, что им приказано поставить его там, где намечен сброс. Городской совет Ниццы выразил резкий протест, мэр призывал к административной забастовке. Очень решительно выступали представители властей Корсики. Не успел мэр Антиба запретить ввоз радиоактивных отходов, как полиция обнаружила десять баррелей таких продуктов в одной местной лаборатории. Мэр послал в лабораторию солдат, приказав конфисковать опасную находку. Мэр Марселя призвал атомную комиссию закапывать отходы в землю, а не топить их в море. В день «С» минус 1 мэр Тулона, откуда должно было выйти судно с опасным грузом, заверил обеспокоенных избирателей, что поезд с отходами не будет допущен в город. Вечером газеты на первых полосах крупным шрифтом сообщали, что жители Нима вышли к железной дороге, чтобы преградить путь поезду. Не знаю, точно ли это, но если учесть настроение общественности, то похоже на правду. Наступил день «С» (20 октября 1960 года. «Леонор Фреснель» не получил приказа ставить «атомный» буй и не вышел из Ниццы. В тот день сброс не состоялся. В день «С» плюс 1 мэры городов южного берега собрались в Сен-Кире, чтобы условиться, как вместе охранять моря. На следующий день они единогласно приняли резолюцию, запрещающую провоз каких-либо радиоактивных материалов через их города. Возникли «комитеты действия», которые призывали правительство совсем отказаться от задуманной операции. В день «С» плюс 9 меня пригласили в Париж выступить перед сенаторами и депутатами; я рассказал, как опасно топить яд в море, когда не знаешь, к чему это приведет. В сенате развернулось обсуждение. Через неделю атомная комиссия втихомолку отменила операцию. Непосредственная опасность миновала. Можно было перевести дух. И подумать о том, что произошло и что предстоит. Несомненно, море получило лишь временную отсрочку. Еще неизвестно, удастся ли снова поднять его друзей на такие решительные действия: в наших же рядах нашлись люди, которые не возражали против захоронения отходов в Атлантике у Биаррица, только бы не пострадал туристский бизнес на Лазурном Берегу. Да и атомники постараются в следующий раз не настораживать общественность. Подводя итоги нашей борьбы за месяц, я заключил, что люди были по-настоящему взволнованы, мы боролись за правое дело, и боролись хорошо. Еще через месяц в музее под председательством князя Ренье состоялось годичное собрание Международной комиссии по научному исследованию Средиземного моря; обсуждался и вопрос о сбросе атомных отходов в океаны. На заключительном заседании генеральный секретарь Французской атомной комиссии взял слово и сообщил, что комиссия больше никогда не будет намечать крупных захоронений в Средиземном море и непременно обратится за советом к океанографам, прежде чем назначать сброс в других морях. Отметив слова «крупных» и «советом», собрание единогласно приняло резолюцию, в которой приветствовало решение французской комиссии по атомной энергии и призывало атомные комиссии всех стран отказаться от сброса радиоактивных ядов в океаны. Предлагалось закапывать отходы в землю, а к экспериментам привлекать представителей международных океанографических организаций. Вопрос, от которого зависят судьбы человечества, надо решать сообща. Долго ли удастся удерживать редут? Во всяком случае, нужно использовать передышку, вместе выяснить, как искусственная радиоактивность влияет на море. Мне кажется, большинство атомных экспертов охотно примет участие в таких исследованиях. Долг всех ученых, которых заботит этот вопрос (и не ученых тоже), помочь атомникам обуздать созданную ими угрозу. Единственное средство тут — знание; оно всегда помогало человеку. Сотрудники Океанографического музея и лабораторий Международного агентства не жалея сил собирают данные о радиоактивности моря. Начиная с 1960 года одна из лабораторий музея ежедневно замеряет радиоактивность атмосферы и осадков. Когда великие державы возобновили ядерные испытания, радиоактивность дождей в Монако возросла тысячекратно. По меньшей мере две трети атмосферных осадков выпадают над океанами; к этому прибавляется то, что выносят реки. Недавно я присутствовал на Международном океанографическом форуме, где один делегат предложил резолюцию о защите океанов от заражения химикалиями, нефтью, сточными водами и радиоактивными продуктами. Другой ученый, представитель международной организации, внес поправку: заменить слова «защита океанов» словами «защита ресурсов моря». Чистая казуистика, которая благословила бы сброс ядов; кто возьмется доказать, что они подрывают ресурсы моря? Почему мы смотрим на океан лишь как на кладовую пищи, нефти и минералов? Море не должно быть предметом сделок. Мы ослеплены заманчивым зрелищем подводных сокровищ, но главное богатство океана — не материальные ресурсы, а вдохновение и радость, которые можно черпать из него бесконечно. Мы же рискуем навеки отравить море, когда только-только начали постигать, что оно может дать науке, философии, искусству, начали учиться жить в его лоне.

Глава восемнадцатая
Коншельф-Один

Снова калипсяне работают на пустынном белом островке неподалеку от Марселя, но теперь это Помег, сосед Шато-д’Иф, где в замке был заточен легендарный человек в железной маске. В тесной бухточке, редко навещаемой судами, «Калипсо» и «Эспадон» стоят убортов большой понтонной баржи, нагруженной снаряжением и людьми. Кругом — сферические буи, надувные лодки, швартовы, совсем низко над судами повис вертолет. На берегу в ветхом каменном домике без окон, оплетенном паутиной телефонных и электрических проводов, отгородившись занавесками от света, я слежу в телевизор за ходом операции. Можно подумать, что идут маневры, высадка десанта на плацдарм. Но мы не помышляем о войне. Мы пытаемся приспособить человека к жизни на дне моря.
Под килями наших судов — станция Континентальный Шельф-Один; мы надеемся, что в ней Альбер Фалько и Клод Весли смогут непрерывно провести под водой семь дней, работая в воде по пять часов в день. Они первые пробудут так долго на континентальном шельфе, не выходя на поверхность. Наш эксперимент относится скорее к области снабжения и связи, чем физиологии. Наша вера в успех зиждется на расчетах Жана Алина; он подготовил таблицы недельного пребывания аквалангистов под водой с отдыхом в воздушной камере. Главный элемент Коншельфа-Один — цилиндрическая камера, дом длиной 17 футов, высотой 8 футов. До дна в этом месте 40 футов; дом стоит на якоре на глубине 33 футов. Он служит и жилищем и мастерской. Своего рода промежуточный пост, позволяющий подводным пловцам работать в воде на глубине 80 футов. Фалько назвал его «Диоген», по имени знаменитого древнегреческого философа, который поселился в бочке.
В полу дома — открытый в море люк, но воздух не пускает воду внутрь. Обитатели Коншельфа-Один живут при постоянном давлении воздуха и воды, равном двум избыточным атмосферам. Через жидкую дверь они выходят наружу, чтобы выполнять работы, которые станут обычными для рабочих и техников промышленных подводных станций завтрашнего дня.
Идея далеко не нова. Епископ Джон Уилкинс лелеял ее еще в семнадцатом веке. В девятнадцатом веке Саймон Лейк строил колесные подводные лодки с открытыми в воду люками. Уже в наше время Роберт Дэвис разработал конструкции подводных домов, их развил капитан военно-морских сил США Джордж Бонд, его работы вдохновили нас. Эдвин Линк испытывает судно для связи между подводными станциями. А нашему ЦПИ посчастливилось осваивать опытную станцию у острова Помег.
Фалько и Весли сами наблюдали за сборкой дома. Инженер-электрик Анри Шиньяр и люди из ЦПИ работали до изнеможения, добиваясь полной надежности. Каждая система была дублирована: компрессоры, подающие в Коншельф-Один воздух под давлением две атмосферы, телевизионные мониторы, позволяющие нам круглые сутки наблюдать за людьми, аварийный генератор, телефонные линии, одноместные рекомпрессионные камеры в подводной обители. Воздух и электричество подавались в «Диоген» с берега; вспомогательные суда может сорвать с места штормом и отнести в сторону.
Фалько и Весли вошли в Коншельф-Один 14 сентября 1962 года в 12.20. Перед тем как спуститься по трапу в воду, холостяк Фалько попрощался с матерью и сестрой; Весли обнял жену и дочурку. В затемненной комнате мы наблюдали в телевизор, как они устраиваются на новой квартире. Что бы ни произошло, мы тотчас узнавали об этом. Нам было слышно каждое слово, малейший шум. Дважды в день врачи ЦПИ Ксавье Фруктус и Жак Шуто должны были навещать наших товарищей, чтобы всесторонне обследовать их, включая электрокардиограммы и анализ крови.
В первый день я сам побывал в Коншельфе и убедился, что оба чувствуют себя превосходно. Настроение было приподнятое: кругом вода, один шаг — и там, и можно плавать долго, не думая ни о каких водолазных таблицах, обитель очень удобная. У них был телевизор, принимающий программу центрального вещания, радиоприемник, библиотека, на стене висела абстрактная картина кисти Лабана. С «Эспадона» по пластмассовой трубе подавалась горячая вода в душевую. Пищу им посылал в герметичных термосах кок «Эспадона» Мишель Гильбер, который обещал друзьям приготовить любое блюдо по их вкусу. В доме стояла электроплитка — можно разогреть пищу или самим сварить что-нибудь в случае перебоя в поставках. На поверхности участников опыта обслуживало шестьдесят человек. Дежурный по Коншельфу Раймон Кьензи возглавлял бригаду из пятнадцати подводных пловцов-связных.
По телевизору было видно, что Фалько и Весли заметно взбудоражены. Они чувствовали себя неловко и немножко позировали: улыбались в объектив камеры, исполняли дуэты на губной гармонике. Медицинский осмотр показал, что у обоих отменное здоровье. Друзья были недовольны тем, что врачи так обстоятельно, по два с половиной часа в день, обследуют их, отрывая от дела; хотелось еще и еще поплавать под водой, они никак не могли насытиться привольем. Первую ночь спали беспробудным сном, утром проснулись бодрые, поспешили умыться и позавтракать, пока не явились врачи.
Весли было тогда тридцать лет, он на пять лет моложе Фалько, но занялся подводным плаванием позже его, прежде тренировал лыжников и яхтсменов. Фалько — его кумир, и он гордился тем, что разделял с ним честь испытания Коншельфа-Один; в обществе Альбера он ничего не боялся. Клод работает очень старательно, ему в высокой степени присущ дух соревнования. К участию в опыте он отнесся с величайшей ответственностью.
У Фалько другой характер. Он очень смел (я не знаю человека храбрее), но без всякого налета бравады. Альбер настоящий олимпиец: во время состязаний он вкладывает всю душу, все умение, но не унывает, если окажется последним. Зная, что он выполнит задание хорошо, спокойно и умно, я поручил ему негласное руководство. Если им будет невмочь в подводном доме, Фалько лучше отступит, чем станет рисковать из ложной гордости.
Медики не знают ничего подобного жизни на подводной станции. Конечно, поведение экипажей подводных лодок тщательно изучено, но это не то же самое. В лодке подводник не столько приспосабливается к морю, сколько прячется от него за глухие стальные плиты. Его дух поддерживают средства, напоминающие про жизнь на берегу: фотографии красоток, патефоны-автоматы, кинофильмы. На подводной лодке человек подобен больному в изоляторе, окружающий мир он видит только в перископ. Наши люди живут в водной среде при давлении, которое вдвое превышает давление внутри подводной лодки. «Диоген» — огромный акваланг, куда Фалько и Весли возвращаются, чтобы согреться, поесть, поспать, привести себя в порядок; нечто вроде воздушного пузырька, который берет с собой водяной паук. Пять часов, проводимых в воде, для наших ребят важнее девятнадцати часов в «Диогене».
Вечером второго дня Пьер Гупиль, наш кинооператор, вместе с десятью помощниками ушел под воду, чтобы снять кадры из ночной жизни людей на континентальном шельфе. С палубы «Калипсо» я сквозь прозрачную толщу видел залитый светом юпитеров желтый дом. Сверкающими осколками всплывали пузыри выдоха из «Диогена». Вот еще прожектора — это, подчиняясь сигналам фонарика Гупиля, помощники занимают свои места вокруг Коншельфа. От «Диогена» под «Калипсо» и дальше вдоль откоса, по направлению к выходу из бухты загорелись две параллельные цепочки огней. Я решил спуститься вниз, взглянуть поближе, как пойдут съемки.
Надел черный изотермический гидрокостюм с желтыми завязками и черным колпаком, в котором подводный пловец напоминает великого инквизитора. Подогнал ремни четырехбаллонного акваланга, чтобы он сидел плотно и не мешал двигаться, отрегулировал подачу воздуха, подобрал ласты по ноге и подвесил на пояс грузы для нулевой плавучести. И только тут заметил, что мне помогает Анри Пле. Седой ветеран тактично напоминал мне, что мы с ним ровесники. М-да… Конечно, друзья называют меня Паша (Старик), но до сих пор я всегда готовился к погружениям без посторонней помощи.
И вода сегодня какая-то холодная. Стоя на водолазном трапе, я сполоснул маску и подогнал ее плотнее к лицу. А внизу купалась в волшебном сиянии моя долголетняя мечта — первое жилище на континентальном шельфе.
Я нырнул. На фоне светлого дна черными тенями парили помощники Гупиля, направляя прожектора на Фалько и Весли, которые плыли бок о бок вдоль сверкающего огнями бульвара. Они сами еще днем развесили фонари и окрестили свой маршрут «проспект Голотурий». Оба скользили в воде непринужденно, легко — за этой легкостью послушная мускульная сила, экономное дыхание и четкость реакций, отработанная за время тысяч подводных вылазок. Резиновые ласты казались продолжением ног; на руках у обоих были голубые перчатки, чтобы их можно было отличить от других пловцов.
Фалько среди нас самый искусный, чемпион человекорыб. Глядя на его плавные, уверенные движения, я чувствовал себя медведем.
Альбера и Клода нельзя было назвать пленниками моря, хотя им грозила кессонная болезнь, возможно, даже смерть, если бы они нарушили незримый рубеж двух атмосфер. Выше своей обители подниматься нельзя, зато спокойно можно погружаться на 80 футов. И оба льнули ко дну, словно к источнику жизни.
Вдоль проспекта Голотурий, над песком, посидониями и сонными морскими жителями, оставив позади вереницу огней, они поплыли в открытое море. Гупиль дал сигнал своим осветителям, лампы погасли. Эпизод снят, землянам пора возвращаться. Я потребляю меньше сжатого воздуха, чем большинство аквалангистов, это позволило мне задержаться под водой после того, как съемочная группа вернулась на поверхность. Очутившись во мраке, я видел лишь тонкие струйки света там, где шли Фалько и Весли, гипнотизируя рыб своими потайными фонариками и гладя их руками в голубых перчатках. Вот остановились приголубить каракатицу, не подозревая, что за ними наблюдают. Я нарочно заплыл в луч света, чтобы друзья увидели меня. Луч отпрянул в сторону; они продолжали идти вниз так, будто я для них не существовал.
Я остался один в темноте со своими мыслями. Уже давно главной целью моей жизни стало отворить человеку дверь в глубины, помочь ему перешагнуть естественные границы, дышать во враждебной легким среде, противостоять все более высокому давлению. Нет, не только отворить дверь — помочь ему освоиться под водой, исследовать, познавать, жить. И вот человек — в лице этих двух одержимых, которые не хотели замечать меня, — начал жить в океане, жить океаном и для океана. Я завидовал им. Складываются люди нового рода, но я не один из них… Я вернулся на базу грустный.
На третье утро Фалько и Весли проснулись одновременно и молча принялись за завтрак. Прошло полчаса, прежде чем они заговорили друг с другом. Потом оба вдруг запели. Врачи, возвратившись после осмотра, доложили, что возбуждение двух первых дней поумерилось. С утренней смены Альбер и Клод вернулись угрюмые, вялые, на телевизионную камеру не глядели. Товарищи принесли им второй завтрак и рассказали, что наверху идет дождь. Они безучастно выслушали эту новость, хотя знали, что за дождем неизбежно последует мистраль и судам, возможно, придется уходить. Тем временем мы укрепляли швартовы. Едва кончился дождь, как подул сильный ветер. Море покрылось барашками. Нас сильно качало, но суда удержали свои позиции в бухте. А подводный дом даже не шелохнулся.
Слушая деловитые, немногословные ответы Фалько и Весли на телефонные звонки, мы заметили, что впервые ни тот ни другой не справляется о родных. Лишь после опыта мы узнали, что за этим крылось. Цитирую дневник Фалько:
«Сил нет. Надо поменьше напрягаться, иначе не справлюсь. Боюсь, что не выдержу до конца. Работать под водой стало ужасно тяжело. За что ни возьмись — невероятно трудно».
В дневнике Весли за то же число никаких жалоб нет, спокойная уверенность, как в отчетах советских космонавтов. Между тем врачи нашли, что он физически утомлен сильнее, чем Фалько.
Во второй половине дня они совсем приуныли; я решил попросить старого товарища Фалько, Поля Бремона, пообедать с ними в «Диогене», чтобы ободрить их. Обед прошел мрачно, экспансивному Бремону никак не удавалось разговорить друзей. За кофе Весли оживился и с присущим ему едким юмором, сохраняя каменное лицо, сказал:
— А что, если нам устроить забастовку? Пусть они там, наверху, попляшут. Без нас они ничего не сделают.
Мы рассмеялись, сидя у телевизоров. Весли знал, что мы слушаем. А может быть, он это серьезно?
— Только не выиграть нам забастовки, — продолжал Клод. — Наши наниматели перекроют воздух.
Дежурный наблюдатель отметил, что в 23.00 оба легли спать. Через два часа Фалько сбросил одеяло и заходил по дому. Подошел к отверстию в полу, поглядел на воду. Проверил давление воздуха, влажность по гигрометру. Включил аварийную лампу, выпил стакан воды и снова лег. Дневник рассказывает, что делалось в его душе в ту ночь:
«Много лет я спал без снов, теперь наверстываю, мне снится кошмар, которого я никогда не забуду. Угнетенное состояние, удушье, тоска и страх. Меня душит чья-то рука. Надо уходить. Вернуться на поверхность. Просыпаюсь, иду к люку. Все в порядке. Клод крепко спит. Ложусь опять, но не могу уснуть. Я одинок, заперт в ловушке. Нас приговорили жить неделю под водой. На поверхность подниматься нельзя. Избавиться от азота можем только с помощью тех, кто наверху. Чувствую страх, безрассудный страх. Чтобы успокоиться, думаю о своих товарищах. Они приняли все меры предосторожности. И сейчас наблюдают за мной. Нет, не могу успокоиться. Меня преследует нелепая мысль: что, если давление воздуха упадет и ворвется вода? С какой скоростью она будет подниматься? Конечно, в верхней части дома все равно останется какое-то количество сжатого воздуха, мы успеем надеть акваланги и выйти наружу. А дальше? Сразу всплывать нельзя. Придется ждать, пока не придумают, как устроить декомпрессию.
Звук уходящего к поверхности воздуха невыносим, а днем его почти не слышишь. Пузыри булькают, булькают, словно в огромном котле. Или будто галька на берегу, когда ее перекатывает прибоем в шторм. Никак не могу уснуть. А Клод знай себе спит, не подозревая о моих треволнениях».
И это Альбер Фалько — невозмутимый Фалько, укротитель акул, навигатор подводных путей! Выходит, есть существенная разница между жизнью в подводной кабине при давлении две атмосферы и работой в герметичном «ныряющем блюдце» при нормальном давлении; здесь вода рядом, реальная, вездесущая. То, что Фалько впервые в жизни оказался во власти страха, кошмаров, воображаемых опасностей и ни разу не сказал нам об этом, говорит о мужестве этих людей, которым предстояло провести под водой еще сто часов.
Утром четвертого дня Фалько был на грани срыва. Когда связной доставил сверху завтрак, Альбер, впервые за все годы, что мы его знаем, придрался.
— Печенье раскрошилось! — крикнул он.
Это было для нас так же неожиданно, как если бы Фалько вдруг ударил связного. Огорченный Гильбер сам спустился в «Диоген», чтобы извиниться. На осунувшемся лице Альбера мелькнуло подобие улыбки, и он в свою очередь попросил кока простить ему несдержанность.
В этот день врачи подвергли участников опыта психотехническим тестам. Фалько и Весли сидели за металлическим столом возле «Диогена» и складывали разноцветные кубики по чертежу, который им показывал Шуто. Эскулапы доложили, что оба успешно выполнили задания. Я сам проведал Альбера и Клода и сказал им, что вечерний обход врачей отменяется. Они заметно повеселели. Я вернулся на базу, чувствуя, что дело пошло на лад.
Радиоприемник Коншельфа-Один уже не играл популярной музыки. Стопка детективных романов осталась нетронутой. Первые дни друзья еще смотрели телерекламу. Теперь они встретили хористок зевками и выключили телевизор, не дослушав последних известий. Весли позвонил нам по телефону:
— Прислали бы проигрыватель и пластинки с классической музыкой.
Мы выполнили просьбу, и с этой минуты до конца опыта в камере звучали одни симфонии и камерная музыка.
Изумительные соусы и пирожные старательного Гильбера их больше не соблазняли, они заказывали бифштексы, фрукты, овощи — поменьше калорий. Затрата калорий на плавание возмещалась благоприятными условиями в доме. Инфракрасные лампы поддерживали температуру 22–26 градусов, влагу поглощала обивка из губчатой резины. Палуба в той части, где размещалась мастерская, была металлическая и конденсировала испарения. Холод им не грозил. Они ходили в войлочной обуви, шерстяных свитерах и красных вязаных шапочках с кисточкой — обычном головном уборе водолазов.
Жителям «Диогена» докучали посетители сверху. Еще до начала опыта мы постановили пускать вниз лишь тех, кто непосредственно обслуживает Фалько и Весли. Закрыли бухту для всех посторонних судов и подводных пловцов, разрешили съемки только киногруппе Гупи и фотографу Жану Латте. Лишь врачи и связные регулярно бывали в доме. И однако Фалько записал в дневнике:
«Мы живем в доме электроники. Нажми кнопку — тебе тотчас ответят. У нас шестьдесят рук и столько же ног. Это здорово, но очень уж их много. Люди являются к нам и надоедают своей болтовней. Невозможно без конца говорить. Нужно отдохнуть. Я знаю, они стараются для нас, на их месте я поступал бы точно так же, но эти бесконечные гости действуют на нервы. Порой приходится делать усилие над собой, чтобы не сорваться. Но стоит мне отдохнуть, полежать десять минут — всего десять минут, — и все проходит. В следующем нашем подводном доме должно быть не меньше двух помещений, чтобы в одном из них можно было уединяться. И нужно ограничить телефонные звонки. Нам звонят с острова, с судов, часто по пустякам. В первом опыте слишком много механизации. Следующий эксперимент я бы обставил иначе. Пусть нам выдадут цистерны сжатого воздуха и скажут: „Вокруг вас повсюду рыба. Приступайте к делу. Если что понадобится, звоните нам. Мы же будем звонить только по важным делам“».
Кьензи свел до минимума погружения связных, Фалько записал:
«Стало спокойнее. Паша заботится о том, чтобы мы могли как следует отдыхать. Теперь я верю, что можно подолгу жить под водой и на больших глубинах. А вдруг люди будут совсем забывать о земле? Если разобраться, мне сейчас безразлично, что происходит там, наверху. Такое же чувство у Клода. Мы живем по тому же времени, что они, я знаю об этом, так как нам сообщают, который час. Но меня это ничуть не трогает. Здесь время идет как-то особенно быстро, часы просто ни к чему. Если бы они сказали мне, что мы спустились только вчера и останемся под водой еще шесть дней, я отнесся бы к этому совершенно спокойно.
Звонил Паша. Ему рассказали об оказии, которая случилась вчера. Кто-то прислал Клоду четырехбаллонный акваланг с половинным запасом воздуха. Мы были в нескольких стах футах от камеры, на глубине 60 футов, среди стаи креветок, которых загоняли прямо в щупальца цериантов (Cerianthus). Вдруг Клод сигналит, что ему нужен воздух. Подаю ему свой мундштук. Он делает вдох и идет к дому. Я за ним, делюсь с ним воздухом. Последние 60 футов он проплыл на одном вдохе, так быстро, что я не мог поспеть за ним. Обошлось без паники, но Паша задумал на всякий случай устроить аварийную систему. Он пришлет пустые бочки с якорями. Мы расставим их вверх дном по всему нашему участку, потом нам подадут сверху шланг, и мы зарядим их сжатым воздухом. Если у кого-нибудь кончится воздух, можно сунуть голову в бочку, подышать — и дальше, к следующей бочке. Так до самого дома. На будущих станциях континентального шельфа, когда связи с поверхностью будут сильно сокращены, такие бочки окажутся очень кстати.
Мы совсем на „ты“ с водой. Я счастлив, когда остаюсь наедине с Клодом. Эти ребята сверху, с их съемочной аппаратурой, только мутят воду, после них мы принимаем грязевые ванны. Я не люблю оставлять видимый след, а они мне весь ландшафт портят. Впервые за двадцать лет подводного плавания у меня есть время по-настоящему наблюдать. Взять хоть посидонии — они кишат жизнью! Особенно ночью, тут тебе и морские коньки, и раскрывшиеся актинии, креветки, нерестящаяся рыба. Мы наблюдали рождение сотен рыб. Некоторые рыбы — всегда одни и те же постоянно сопровождают нас».
На следующее утро Фалько и Весли сооружали из углового железа и проволочной сетки рыбий загон. Врачи убедились, что оба здоровы, только Весли жаловался на сильную зубную боль. До чего распространено в Марселе подводное плавание: не прошло и двух часов, как к ним явился зубной врач-аквалангист.
Разница между «внутри» и «снаружи» стиралась. Фалько и Весли переходили из воздуха в воду, из воды в воздух спокойно, точно пришел конец антагонизму стихий. Они были живым знамением удивительного факта: будет новый вид человека, гомо акватикус, обитатель гидрокосмоса, он, а не приборы осуществит древние мечты — покорит царство Нептуна, воплотит в жизнь миф о Главке.
Принимая душ, Альбер и Клод уже не прятались, словно стыдливые школьницы, от глаза телекамеры. Сидя в затемненной комнате и глядя на то, как Фалько намыливается, Лабан сказал:
— Знают ведь, что мы за ними наблюдаем, а им хоть бы что.
— Они ускользают от нас, — отозвался я. — Живут в другом мире.
Пятый день в Коншельфе-Один начался проверкой физического состояния участников опыта. Оба показали превосходную четкость реакций и выносливость. Выйдя в воду, они принялись складывать из цементных блоков дома для рыб, прототип тех поселков, которые в будущем превратят станции континентального шельфа в подлинные ихтиологические ранчо.
Как только ограничился поток гостей, настроение подводников поднялось; в этом убедился вечером Антонио Лопес, который захватил ножницы в непромокаемой сумке и спустился в «Диоген», чтобы постричь друзей. На шестой день им пришлось уделить еще немного крови для анализов, процедура одинаково неприятная под водой и на суше. Затем Фалько и Весли поработали на своем ранчо, навестили затонувший корабль поблизости, который случайно обнаружили уже после того, как был установлен «Диоген». Подыскивая место для Коншельфа-Один, Фалько в первую очередь исходил из удобств снабжения и связи с Марселем; он выбрал эту бухту, не подозревая, что на дне лежит древний корабль. Однако плотный график работ не оставлял времени для раскопок.
Ребята пригласили меня на ленч. Я принес им икры, но когда попытался откупорить вино, давление заперло пробку в горлышке. И я заметил, что все звучит в доме как-то глухо.
— Насвисти нам песенку, капитан, — попросил Фалько. Я попробовал — свист не получился. Друзья дуэтом исполнили лихую мелодию.
— А сколько мы упражнялись, — признался Весли.
Я увидел небольшую модель корабля, которой у них не было в прошлый раз.
— Это мы для тебя сделали в свободное время, — объяснил Фалько.
— Если бы мне приказали по телефону идти на работу без акваланга, — сказал Весли, — я бы не сразу заметил подвох. В воде забываю, что у меня на спине запас сжатого воздуха.
— Да-да, — подтвердил Фалько, — на этот раз все как-то по-другому. У нас появились новые рефлексы. Это своего рода космос. Видим все в более широкой перспективе. И время изменилось.
Дневник Фалько рассказывает об этом ленче:
«Паша мечтает о более глубоких станциях, о ряде домов. Точно в горах — лагерь 1, лагерь 2 и так далее, но только вглубь. Мы сможем работать под водой неделями, месяцами. В самых глубоких лагерях будем дышать газовой смесью легче воздуха. Заманчиво — твердо стать обеими ногами на морское дно!
У Гран-Конглуэ мы много лет работали на глубине 140 футов, но уже через четверть часа дежурный вызывал нас наверх сигнальным выстрелом. Если бы у нас тогда был дом на дне!
Паша разговорился, идеи бьют из него фонтаном. Что это — вино или давление? Рассказывает об освоении континентального шельфа. Будем жить под водой с женами и детьми. У нас будут школы, кафе. Этакий Дикий Запад! Из Клода выйдет отличный шериф глубин».
Последний день начался с того, что Фруктус стал готовить Фалько и Весли к возвращению в родной мир. Они лежали рядом на раскладушках, вдыхая из резиновых респираторов смесь: 80 процентов кислорода и 20 процентов азота — соотношение, почти обратное составу воздуха. Сперва мы думали, что придется их подвергнуть длительной декомпрессии в большой барокамере в Марселе, но Алина заверил, что пропорция 80:20 извлечет из тканей азот, накопившийся в организме Фалько и Весли за неделю подводной жизни. Фруктус заставил их дышать смесью два часа — больше, чем Алина считал необходимым.
Наверху был чудесный тихий день. Около сотни человек ожидали на вспомогательных судах. Из воды вышел доктор Фруктус, за ним кинооператоры. Теперь внизу остались только Альбер и Клод. А вот и они, плывут не торопясь, бок о бок в прозрачной воде. У самой поверхности, рядом с трапом задержались. Жестикулируют. Кьензи наклонился ко мне:
— Каждый уговаривает другого выходить первым.
В 13.28 Весли вышел на поверхность и снял черный колпак с русых волос. За ним последовал Фалько.
— Ху-Хуп! — кричали калипсяне. — Ху-Хуп!
Люди моря стояли на трапе, крепко держась руками. На лицах обоих застыла широкая улыбка, а глаза были такие, точно они боялись упасть. То ли это от солнца, то ли от избытка кислорода… Я с трудом подавил желание протянуть Весли руку, чтобы помочь. Но вот мгновенная слабость прошла, и Весли, сопровождаемый по пятам Фалько, проворно ступил на палубу.
— Я готов идти снова, капитан, — доложил Весли. — Поглубже и на больший срок.
— Замечательное солнце, — сказал Фалько. — Земля — чудесная.
— Чего тебе хочется? — спросил я.
— Походить, — ответил Фалько.
«Калипсо» отдала швартовы и пошла в Марсель. Ребята вымылись, оделись, потом вышли на палубу — поздороваться со всеми, поговорить. Чтобы уберечь их от малейшей угрозы кессонной болезни, которая могла притаиться в суставах вместе с азотом, я послал с ними в отель Фруктуса. Он должен был два дня держать их под наблюдением; все это время у нас была наготове большая рекомпрессионная камера.
Уже на второй день Фалько и Весли попросили пустить их погулять на улицу. Фруктус разрешил, взяв с них слово, что они не уйдут далеко. И люди моря отправились бродить по шумному городу, но видели все вокруг точно сквозь призму великого секрета, известного только им одним. Через двое суток после выхода на поверхность Альбер и Клод были отпущены на волю Фруктусом, и мы пошли пообедать в людный портовый ресторан.
— Не понимаю, что случилось, — сказал мне Фалько. — Я тот же, что прежде, но не совсем. Под водой… — Он замялся, подыскивая слова. — Под водой все как-то строже.

Словарь названий морских организмов, птиц и областей их обитания[13]
Абиссаль, абиссальная зона — область глубин ложа океана начиная от нижнего края материкового склона, обычно глубже 1000 м. В просторечии этим термином обозначают зону больших глубин вообще. Акропора (Acropora) — известковые шестилучевые кораллы из группы мадрепоровых (см. Мадрепоры). Образует мощные колонии (полипняк), толщиной до нескольких метров. Актинии — одиночные крупные бесскелетные полипы из типа кишечнополостных (Coelenterata) с мешковидно-цилиндрическим телом и многочисленными щупальцами, большей частью красивой нежной окраски. Построены на основе шестилучевой симметрии. Акулы — хищные морские рыбы, имеющие обычно тело торпедовидной формы с 5–7 поперечными жаберными щелями, с хрящевым скелетом. Покрыты прочной кожей с чешуей в виде мелких зубчиков. Крупные виды опасны для человека, особенно серые или пилозубые акулы (виды рода Carcharhinus), синяя акула (Prionace glauca), белая акула, или акула-людоед (Carcharodon carcharias), тигровая акула (Galeocerdo cuvier), ламновые акулы (виды родов Lamna, lsurus), молот-рыбы или молотоголовые акулы (виды рода Sphyrna). Описываемая на стр. 148 книги «В мире безмолвия» акула, атаковавшая Кусто и Дюма, представляет собой, по-видимому, длиннокрылую акулу (Pterolamiops longimanus). Характерные для этого вида длинные грудные плавники, короткое рыло и широко закругленная, с белым пятном вершина спинного плавника, наряду с сильно удлиненной верхней лопастью и большой выемкой заднего края хвостового плавника, хорошо соответствуют приложенным к книге фотографиям и даваемому в ней описанию. Длиннокрылая акула обычна в тропических водах Атлантического океана и Средиземного моря. Это — пелагическая (см.) акула открытого моря, редко встречающаяся над глубиной менее 180–200 м. Вероятно, поэтому она оказалась новой для Кусто, хорошо знакомого с рыбами прибрежной зоны, и он затруднился определить ее видовое название. Она достигает длины 4 м (возможно, и большей); отмечается ее смелость в отношении находящихся в воде людей, ее считают опасной. Жизнь Кусто и Дюма подверглась, по-видимому, непосредственной и реальной угрозе. Альционарии (Alcyonaria) — многочисленная группа восьмилучевых колониальных коралловых полипов (тип кишечнополостные — Coelenterata), образующая преимущественно колонии неправильно древовидной формы, распространенная как в тропических, так и в умеренных и северных морях. Антигония (Antigonia capros и близкие виды) — широко распространенные полуглубоководные розовые или красные рыбки, сжатое с боков высокое тело которых имеет в профиль форму правильного ромба. Достигают длины 15–20 см, встречаются на глубине от 60 до 1000 м. Аргиропелекусы — см. Рыбы-топорики. Асцидии (Ascidia) — морские донные животные из группы оболочниковых (Tunicata), со студенистым мешковидным телом, с двумя отверстиями (сифонами), через которые всасывается и выбрасывается вода. Покрыты обычно плотной желеобразной или хрящевидной оболочкой. Ведут прикрепленный образ жизни. Асцидия-виолета, или морское яйцо (Microcosmus sulcatus) — съедобная средиземноморская асцидия (см.), мясо богато йодом. Обычная величина 8–10 см, достигает 15 см. Аурата, дорада (Sparus auratus) — рыба из семейства спаровых (Sparidae), близкая к морским карасям (см.). Распространена в теплых водах восточных берегов Атлантического океана от Южной Англии до мыса Бланко (Северо-Западная Африка), в Средиземном и южной части Черного моря. Держится у гравийных и крутых скалистых берегов. Длина 25–35 см, иногда до 50 см. Афалин, или афалина, дельфин-афалина (Tursiops truncatus). Обитает в прибрежной зоне умеренных и теплых морей Атлантического, Индийского и Тихого океанов, у нас в Черном море. Питается преимущественно придонными рыбами, креветками, моллюсками. Средняя длина 2–2,5 м, вес 150–300 кг. Хорошо переносит неволю и поддается дрессировке. Служит объектом промысла. Барабуля, или барабулька (Mullus surmuletus, Mullus barbatus) — придонная рыба теплых морей, у нас водится в Черном море. Тело обычно серебристо-розовое, с красными пятнами и желтыми полосами, голова высокая, на подбородке два длинных усика, служащих рыбе для ощупывания дна и донных животных, которыми она питается. Достигает 25–40 см длины, мясо ее очень вкусно. Барракуда, или морская щука (виды рода Sphyraena) — хищная морская рыба, напоминающая формой тела нашу обычную щуку. Имеет удлиненное рыло, большая пасть снабжена в передней части несколькими мощными клыковидными зубами. Распространена в теплых морях, у нас в Черное море изредка заходит один мелкий вид. Крупные виды достигают 180 см длины и свыше 45 кг веса; известны случаи их нападений на человека. Белобочка, дельфин-белобочка (Delphinus delphis). Обитает в умеренных и теплых морях Атлантического и Тихого океанов, у нас наиболее обычный дельфин Черного моря, есть также в дальневосточных морях. Питается мелкой пелагической рыбой (хамсой, шпротами). Средняя длина 1,6 м, вес 42–59 кг. Очень быстро плавает, способен развивать скорость до 45–50 км в час; это самый быстроходный дельфин. Белая акула (Carcharodon carcharias) — крупная хищная рыба, встречающаяся обычно в открытых водах океана в тропической и умеренной областях. Достигает 11 м длины (обычно не более 7,6 м) и веса свыше 3,25 т. Известны случаи нападений на пловцов и на лодки. Биотоп — часть пространства, заселенная определенным сообществом организмов. От греческих слов «биос» — жизнь и «топос» — место. Бонит, бонито, бонита — название, прилагаемое к нескольким видам тунцовых (Thunnidae) и пеламидовых (макрелевых — Cybiidae) рыб. Здесь говорится, по-видимому, о полосатом тунце (Katsuwonus pelamis), 40–80 см длины, широко распространенном в теплых морях. Боопс, бога (Boops salpa) — промысловая рыба из семейства спаровых (Sparidae), 20–40 см длины. Распространена в восточных водах Атлантического океана и в Средиземном море. У нас — в Черном море, преимущественно в западной части. Бутылконос (Hyperoodon ampullatus) — кит из семейства клюворылых китов (Ziphiidae), характеризуется вздутой головой и суженным, вытянутым в клюв рылом. Способен нырять на большие глубины. Достигает 8–9 м длины и 10–12 т веса. Распространен в умеренных водах Атлантического океана севернее Нью-Йорка и Ньюпорта на западе и островов Зеленого Мыса и Средиземного моря на востоке. Заходит на север до Гренландии, Шпицбергена, Новой Земли и Белого моря. Бычок — рыба из семейства бычковых (Gobiidae). Бычковые — небольшие донные рыбы, брюшные плавники у которых слиты в воронковидную присоску. Венерин пояс (Cestus veneris) — кишечнополостное животное из класса гребневиков (Ctenophora, см.), имеющее стекловидно-прозрачное лентовидное тело до 1,5 м длины, плавает с помощью согласованных ритмических гребков расположенных в ряды гребных пластинок, а также путем изгибаний всего тела. Окраска переливается всеми цветами радуги. Распространен в теплых морях. Веслоногие рачки, копеподы (Copepoda) — широко распространенная в морях и пресных водах группа мелких рачков (до 5–8 мм длины), встречающихся во множестве и имеющих существеннейшее значение в биологии моря вообще и в питании рыб в частности. Обычно преобладают в составе морского планктона (см.). Виргулярии (Virgularia) — морские восьмилучевые полипы отряда так называемых морских перьев (Pennatularia). Колонии имеют вид длинного узкого пера, основная ось которого поддерживается внутренним роговым стержнем и опушена с двух сторон бахромчатым опахалом. Гигантская акула (Cetorhinus maximus). Достигает огромной величины — 14 и более метров. Характерны очень высокие, во всю высоту тела, жаберные щели. Медлительная безвредная рыба умеренных морей, питается планктонными рачками, выцеживая их из воды, пропускаемой через решетку из многочисленных жаберных тычинок, сидящих на жаберных дугах. Гидроиды, гидроидные полипы (Hydrozoa) — группа кишечнополостных животных, близкая к коралловым полипам, но проще устроенная, без перегородок внутри тела. Только некоторые виды этой группы имеют сильный известковый скелет, образуя каменистые колонии, похожие на колонии коралловых полипов (Millepora), многие гидроиды (большинство) внешне напоминают мох, образуя нередко целые заросли (так называемый «морской мох»). Голова Горгоны (виды рода Gorgonocephalus) — своеобразные иглокожие животные из класса офиур (Ophiuroidea). Дисковидное округленно-пятиугольное тело окружено пятью тонкими древовидно-ветвящимися руками, напоминающими спутанные змеевидные волосы (отсюда название). Донные морские животные, у нас встречаются в северных и дальневосточных морях. Голожаберные (моллюски) — своеобразная группа брюхоногих моллюсков (Gastropoda) с голым слизнеобразным телом, нередко ярко окрашенным. Голотурии — один из классов типа иглокожих животных (Echinodermata). Формой тела напоминают обычно огурец (отсюда название «морские огурцы»), с венцом щупалец на переднем конце тела; ведут ползающий образ жизни. В открывающейся на заднем конце тела полости внутренних органов у некоторых видов голотурий нередко прячутся угревидные мелкие рыбки фиерасферы. Горбыли, горбылевые рыбы (семейство Sciaenidae) — широко распространенные у берегов теплых и тропических морей преимущественно придонные рыбы. Многие виды имеют большое промысловое значение, практически (и экологически) замещая в теплых морях тресковых рыб северных морей. Горгонарии (Gorgonaria) — представляют наряду с альционариями (см.) одну из групп восьмилучевых коралловых полипов, живущую в соленых теплых морях. В отличие от альссионарий у них, кроме известковых частей скелета, по оси древовидной колонии залегает роговой стержень. Колонии некоторых горгонарий ветвятся лишь в одной плоскости, образуя плоские веера. Роговой скелет многих горгонарий содержит большое количество йода, до 7,8 %. Гребневики (Ctenophora) — морские пелагические кишечнополостные животные, тело которых, обычно студенистое, как у медуз, имеет овальную или грушевидную форму и снабжено четырьмя парами меридиальных рядов гребных пластинок. Многие виды сильно светятся. Груперы (см. также Меру) — окунеобразные рыбы рода Epinephelus из семейства серрановых (Serranidae, много видов). Живут в теплых морях, обычно на рифах, нередко ярко окрашены, окраска преимущественно полосатая и пятнистая. Обычная длина до 50–100 см, однако некоторые виды достигают гигантской величины, до 230 см длины и свыше 220 кг веса. Групер Улисс, судя по описанию, это тукула (Eninephelus tukula), распространенный в водах северо-западной части Индийского океана — у Занзибара, Мадагаскара, Альдабры, Сейшельских островов и Маврикия. Достигает свыше 138 см длины и 50 кг веса (вероятно, даже 100 кг). Губаны — прибрежные рыбы семейства губановых (Labridae). Распространены в теплых, преимущественно тропических и субтропических, отчасти в умеренных морях, держатся в основном среди зарослей и кораллов, нередко ярко окрашены. Много видов. Имеют малое промысловое значение, так как мясо обычно малоценное. Губан-Хейлинус (Cheilinus undulatus) — самый крупный вид семейства губановых рыб (Labridae). Длина указывается свыше 2,1 м (7 футов); Кусто, несомненно, видел еще более крупные экземпляры. Губки (Spongia) — морские неподвижные примитивные животные, прикрепленные ко дну или разным подводным предметам. Тело имеет в схеме вид мешка или вазы с двуслойной стенкой, пронизанной порами, через которые непрерывно пропускается вода. Их тело поддерживается обычно скелетом в форме одноосных и многоосных известковых или кремневых (известковые и «стеклянные» губки) игл или роговых волокон (роговые губки). Роговые губки используются для практических целей. Дельфины — широко распространенные, относительно некрупные (обычно до нескольких метров) китообразные животные из группы зубатых китов. Широко известны дельфины белобочка (см.) и афалина (см.). Диатомеи — одноклеточные кремневые водоросли, скорлупки которых образуют местами огромные отложения (диатомовый ил, диатомовый песок, диатомит и т. п.). Зеленушки, зеленухи (Crenilabrus ocellatus) — небольшие морские прибрежные рыбы семейства губановых (Labridae), распространенные в Средиземном и Черном морях. Длина до 16 см. Зубан, или синагрида (Dentex dentex) — морская рыба из семейства спаровых (Sparidae, см.). Распространена в Атлантическом океане у берегов Южной Европы и Северной Африки, в Средиземном и Черном морях. Хищник. Длина до 1 м (изредка до 140 см), вес до 10 кг. Исабелита, или синий ангелок, синяя ангел-рыба (Holacanthus ciliaris) из семейства помакантовых (Pomacanthidae), обитающего в водах коралловых рифов и представленного рядом ярко окрашенных видов. Многочисленна в водах Антильских островов. Испанский пагр (Pagellus bogaraveo) — морская рыба из семейства спаровых (Sparidae, см). Распространен у восточных берегов Атлантического океана от Англии до Азорских и Канарских островов. Предпочитает песчаное дно. Достигает длины 26 см. Кальмар — свободноплавающий головоногий моллюск с телом торпедовидной формы и венцом из 10 щупалец («рук») на голове. Кальмар Architeuthis princeps — гигантское животное глубин океана, достигающее свыше 15 м длины. Каменные окуни, или серраны — виды рода Serranus, семейства серрановых (Serranidae). Распространены в теплых морях, у нас два вида в Черном море. Обычная длина 20–30 см (см. также Меру). Каракатицы — свободноплавающие головоногие моллюски с телом овальной формы и венцом из 10 щупалец на голове. Прибрежные животные. Каранги — виды рода Caranx, из семейства ставридовых рыб (Carangidae). Распространены в теплых морях, имеют промысловое значение. Некоторые виды достигают длины 100 см. Катран, или колючая акула (Squalus acanthias) — небольшая, обычно до 100–120 см, акула умеренных морей. Ведет стайный образ жизни, имеет промысловое значение. У нас есть в Баренцевом, Черном и дальневосточных морях. Качурка (Hydrobates pelagicus) — небольшая темно-бурая морская птица из группы трубконосых, или буревестников. Держится в открытом море, летая низко над волнами. Кормится рачками, медузами и другими планктонными организмами, схватывая добычу на лету, только касаясь воды лапками. Кашалот (Physeter catodon) — крупный зубатый кит, с громадной, тупо обрубленной впереди головой и длинной узкой нижней челюстью. В особом органе в голове содержится ценный жир — спермацет. Средняя длина кашалота 14 м, наибольшая — 21 м, вес до 100 т. Живет преимущественно в теплых водах океана, питается кальмарами, за которыми ныряет на глубину свыше 1 км. Кефали (виды рода Mugil, семейства Mugilidae) — широко распространенные в умеренных и тропических морях рыбы, держащиеся обычно в солоноватых прибрежных водах. Длина до 45–75 см. Распространены в теплых и тропических морях; в Черном море пять видов. Киты — в Средиземном море Кусто встретил, по-видимому, малого полосатика (Balaenoptera acutorostrata), длина тела которого 6–9 м и вес около 10 т. Этот кит распространен в северных водах Атлантического и Тихого океанов. В восточных водах Атлантического океана встречается от Средиземного моря (где редок) до Шпицбергена и Новой Земли, преимущественно в прибрежной зоне. Известны случаи захода его в Черное море (в 1880 г. и в 1926 г.). Ковровая акула (Ginglymostoma cirratum) — донная рыба, обычная в прибрежных водах тропической части Атлантического океана от Флориды до Бразилии и у Западной Африки. Достигает длины 3,4 м, малоподвижна, питается донными животными. Копеподы — см. Веслоногие рачки. Коралловые рыбы, или рыбы-бабочки — небольшие рыбы семейства щетинозубых (Chaetodontidae) с высоким, сжатым с боков телом, распространенные в тропических морях, преимущественно в водах коралловых рифов. Многие очень пестро и ярко окрашены. Краб-паук (Maja squinado) — покрытый шипами длинноногий краб Средиземного моря. Достигает длины 20 см. Кораллы — колониальные полипы с известковым скелетом, образующие коралловые рифы; обитают в тропической области океана. Кораллы-органчики (Tubiora) — из отряда альционариевых, имеют киноварно-красный скелет из параллельнопоставленных трубок, соединенных несколькими ярусами горизонтальных скелетных пластинок. Корифены, или дорады (Coryphaena hippurus) — характерные рыбы поверхностных вод океана, с высокой крутолобой головой, длинным, сжатым с боков телом и вильчатым хвостовым плавником. Тело сияющего сине-зеленого цвета, с золотистыми и пурпурными отливами, брюхо серебристо-белое. Достигают длины 180 см. Питаются преимущественно летучими рыбами. Мясо корифен очень вкусно. Корифен нередко неправильно называют золотыми макрелями, хотя к макрелям они никакого отношения не имеют, или рыбами-дельфинами, хотя с дельфинами они вовсе не имеют ничего общего. Косатка (Orcinus orca) — крупный, черный с белыми пятнами дельфин, до 5–10 м длины и 8 т веса, с высоким узким спинным плавником. Быстрый (скорость до 19 км в час), сильный и смелый морской хищник, держится группами от 2 до 200 особей и питается стайной рыбой, дельфинами и тюленями, нападает и на китов. Распространен всесветно, более многочислен в холодных морях, у нас на Баренцевом море и на Дальнем Востоке. Кошачья, или песья, акула (Scylliorhinus canicula) — мелкая акула, длиной до 70 см, с пятнистой окраской. Обитает в теплых морях, обычна в Средиземном море. Крабы (Brachyura) — короткохвостые ракообразные из группы десятиногих раков. Отличаются укороченным, уплощенным и расширенным брюшком, подвернутым под широкий грудной панцирь. Представлены множеством родов и видов. Красный, или благородный, коралл (Corallium rubrum) из отряда горгонариевых, восьмилучевых коралловых полипов, распространен преимущественно в Средиземном море, на глубине от 10 до 150 м. В центральном известковом стебле его имеется значительная примесь (до 4 %) окиси железа, благодаря чему он окрашен в разные оттенки красного цвета, от розового до темно-красного. Обычная высота колоний 20–40 см, толщина ветвей 2–4 см. Красный коралл служит предметом специального промысла, восходящего к глубокой древности. Обрабатывается главным образом в Неаполе и идет на высокоценимые ожерелья и другие ювелирные изделия. Близкие виды добываются в странах Дальнего Востока. Красный пагр, красный морской лещ (Pagellus erythrinus) — морская рыба из семейства спаровых (Sparidae, см). Распространен у атлантических берегов Южной Европы и Западной Африки, в Средиземном и Черном морях (в последнем немногочислен). Предпочитает песчаное дно. Достигает длины 60 см, обычная длина 20–50 см. Креолы (Paranthias furcifer) — морские окунеобразные рыбы теплых морей из группы (семейства) серрановых (Serranidae). Лаврак (Morone labrax) — прибрежная, заходящая в устья рек рыба теплых морей Атлантического океана из семейства серрановых (Serranidae), у нас встречается в Черном море. Формой тела очень напоминает судака, достигает длины до метра, веса — до 12 кг. Лангуст (Palinurus vulgaris) — крупный морской рак Средиземного моря и теплых вод Атлантического океана. В отличие от более северного омара (см.) не имеет клешней. Достигает длины 50 см. Летучие рыбы (виды семейства Exocoetidae) — характерные рыбы теплых морей и открытых вод тропической области океана в пределах постоянной температуры воды 20–33°. Имеют удлиненные парные плавники и совершают с их помощью планирующие полеты над поверхностью моря длительностью до полуминуты и дальностью до 200 и даже 400 м. Лихия (Lichia amia) — крупная рыба из семейства ставридовых, достигающая длины 180 см (обычно до 100 см) и веса 60 кг. Распространена в атлантических водах Южной Европы и Африки, а также в Средиземном море. Заходит в Черное море. Лоцман, рыба-лоцман (Naucrates ductor) — пелагическая (см.) рыба открытых пространств теплых морей и тропической области океана, характерная привязанностью к крупным акулам, которых обычно постоянно сопровождает. Достигает длины 60 см. Луцианы, лутьяны, снэпперы, рифовые окуни (виды рода Lutianus) — характерные окуневидные хищные рыбы тропических вод. Много видов, свыше 200, многие виды крупные — 60–90 см длины. Луцианы — ценные промысловые рыбы. Львиная рыба, или крылатка (Pterois volitans) — одна из наиболее причудливых рыб тропической области Индийского и Тихого океанов, характерная для мелких вод коралловых рифов. Медленно плавает, широко расправляя веера длинных лучей грудных и спинного плавников, снабженных ядовитыми железами. Малейший укол плавниковых лучей вызывает сильную жгучую боль. Мадрепоры (виды рода Madrepora) — один из главнейших рифообразующих кораллов, древовидной формы или массивные, широко распространены в тропических морях. Построены по шестилучевой симметрии. Многие виды многолетние, образуемый ими полипняк (коралловый риф) живет десятилетиями и веками. Макрели (виды родов Cybium, Scomberomorus, Acanthocybium) — скумбриевидные хищные морские рыбы теплых морей, достигающие 1,5–1,8 м длины и 45–50 кг веса. Близки к обыкновенной скумбрии, которую иногда также называют макрелью. Мангры — особая вечнозеленая древесная и кустарниковая растительность, типичная для приливо-отливной зоны тропических морей. Мангры растут в море вдоль берегов, преимущественно на илистых грунтах, образуя местами густые заросли (обычно по краям лагун, бухт и в устьях рек), служащие приютом для своеобразной фауны рыб (ильные прыгуны), крабов, моллюсков. Характерны многочисленные воздушные корни, служащие подпорками. Манта, или морской дьявол (Manta birostris) — гигантский скат-рогач, весом до 1300 кг и выше, ширина его ромбовидного плоского тела достигает 6 м. Имеет обыкновение выпрыгивать в ночное время из воды на высоту нескольких метров. Мантия — часть тела моллюсков, выделяющая раковину. Мантия разрастается в виде кожной складки, прикрывающей тело животного. Между нею и телом образуется мантийная полость. У головоногих моллюсков — каракатиц, кальмаров — мантия одевает туловище плотным покровом, образующим по бокам оторочки плавники. Мантийная полость у них открывается щелью между головой и туловищем и служит резервуаром для насасываемой и выталкиваемой воды. Меру, или гигантский каменный окунь (Epinephelus guaza) — большой средиземноморский групер (см.), достигающий длины 100–130 см и веса 30 кг; обитает обычно на скалистых участках дна. Медузы — морские животные из типа кишечнополостных, со студневидно-прозрачным телом зонтикообразной или колоколообразной формы, с нижней стороны которого свисают ротовой стебель и щупальца. Щупальца многих медуз покрыты стрекательными клетками, и прикосновение к ним оставляет ощущение ожога (напоминающего ожоги крапивы); ожоги некоторых видов медуз очень болезненны и опасны. Мидии (Mytilus edulis, М. edulis galloprovincialis) — съедобные двустворчатые моллюски с темно-фиолетовой раковиной. Обычны у берегов умеренных морей Атлантического океана, в Средиземном и Черном морях. Достигают 8–15 см длины. Мидий широко используют в пищу, в Италии их местами разводят искусственно. Миллепора (виды рода Millepora) — гидроидный полип (см.), с известковым скелетом, нередко встречающийся среди настоящих кораллов, в составе коралловых рифов. Известен обычно под именем огненного коралла (см.). Молот-рыба, или молотоголовая акула (виды рода Sphyrna) — акулы со своеобразными уплощенными боковыми выростами головы, придающими рыбе вид молота. Ширина такой молотовидной головы, на боках которой расположены глаза, может достигать 90 см. Молотоголовые акулы достигают длины 4,6 м и веса 680 кг; известны случаи их нападения на человека. Распространены в теплых морях, у нас встречаются в Японском море; иногда, очень редко, заходят в западную часть Черного моря. Морские ежи — донные, шаровидной или яйцевидной формы морские животные из типа иглокожих (Echinodermata), покрытые твердыми известковыми иглами. Известно около 800 видов морских ежей. Тропические виды с иглами до 12 дюймов длины, которые упоминаются в книге — ежи рода Диадема (Diadema). Морские желуди, баланусы (виды семейства Balanidae) — усоногие сидячие рачки, обладают прочной домикообразной раковиной из известковых щитков, из щели которой могут высовывать длинные и гибкие ножки, вызывающие своими движениями ток воды внутрь раковины. Морские желуди во множестве покрывают скалы приливной зоны и вообще селятся на всех подводных предметах — затонувших судах, днищах судов и т. д. Морские звезды (виды класса Asteroidea) — иглокожие животные (тип Echinodermata), имеющие звездообразное или округлопятиугольное уплощенное тело. Широко распространены в морях полной солености, у нас в Баренцевом и дальневосточных морях. Ползающие донные животные, питаются моллюсками. Морские змеи (виды семейства Hydrophidae) — особое семейство ядовитых змей, постоянно живущее в море и хорошо приспособившееся к плаванию с помощью хвоста, сжатого веслообразно с боков. Укус ядовит, иногда смертелен. Обитают в тропических водах Индийского и Тихого океанов. Большей частью имеют длину до 1–1,2 м, некоторые виды достигают иногда свыше 2,5 м. В книге говорится, по-видимому, о полосатой морской змее (Hydrophis coerulescens). Морские караси (виды рода Diplodus) — высокотелые, с длинными спинным и анальным плавниками, напоминающие формой тела обычного карася промысловые рыбы семейства спаровых (Sparidae). Распространены в умеренных и теплых морях, у нас в Черном и Японском морях, обычная длина 25–35 см, иногда до 50 см. Морские коньки (виды рода Hippocampus) — своеобразные, небольшие (до 6–20 см длины) рыбки умеренных и теплых морей, очень напоминающие шахматную фигуру коня формой туловища и посаженной под углом к нему головы. Держатся в зарослях, цепляясь за водоросли сворачивающимся цепким хвостом, лишенным хвостового плавника. У нас есть в Черном и Японском морях. Морские лещи, пагры, порги (виды рода Pagrus) рыбы из семейства спаровых (Sparidae), высокотелые, с длинным спинным и анальным плавниками, с небольшим ртом, напоминающие карася формой тела. Обычные размеры 30–70 см. Морские львы (семейство Otariidae) — морские ластоногие звери с подгибающимися вперед, под туловище, при движении по суше задними конечностями. Близки к дальневосточным сивучам и котикам. Морские петухи, триглы (виды рода Trigla) — придонные морские рыбы с покрытой костным панцирем головой, сжатым с боков телом, длинными, нередко ярко окрашенными грудными плавниками, три передних луча которых пальцевидно обособлены друг от друга и служат для ощупывания донных предметов. Распространены в субтропических и умеренных морях, у нас в Черном море. Обычные размеры 20–35 см, но достигают свыше 75 см длины и 5,5 кг веса. Ценные промысловые рыбы. Морской бекас (Macrorhamphosus scolopax) — небольшие, до 20 см длины, розовые или красные рыбки, своеобразной формы, с высоким телом, удлиненным рылом, длинным шипом спинного плавника и двумя рядами костных щитков на боках. Широко распространены в теплых морах умеренных вод и в тропической области. Морской угорь, конгер (Conger conger) — морская промысловая рыба со змеевидным телом, достигающая длины 2 м, иногда даже 3 м и веса 65 кг. В отличие от обычного угря наших вод не входит в реки, проводя весь жизненный цикл в море. Распространен в северной части Атлантического океана и ее морей у берегов Европы, Африки и Америки, а также в Индийском океане. Обычен в Средиземном море, иногда попадается в Черном море, очень редко в западной части Балтийского моря. Мурены — морские угри семейства муреновых (Muraenidae). Обладают сжатым с боков, нередко ярко окрашенным пятнистым голым телом. Рот большой, зубы мощные, частью клыковидные и очень острые. Достигают 3 м длины, некоторые виды бывают агрессивны и опасны. Живут в теплых морях; мясо некоторых считается деликатесом, у некоторых видов бывает ядовито. Мшанки (Bryozoa) — морские, реже пресноводные, колониальные, прикрепленные ко дну и подводным предметам животные. Колонии их имеют обычно вид ветвящихся кустиков, стелющихся корневищ, мха или лишайниковидных корок; часто напоминают по внешнему виду колонии гидроидных полипов (см.). Номеус (Nomeus gronovi) — небольшая рыбка (до 7,5 см длины), широко распространена в тропических водах Атлантического, Тихого и Индийского океанов, держится под крупными медузами непосредственно среди обжигающих щупалец. Такое соседство служит ей защитой. Ночесветка (Noctiluca miliaris) — одноклеточные жгутиковые животные шаровидной формы, величиной с булавочную головку, живущие преимущественно в теплых морях (у нас в Черном море). Ночесветки — светящиеся животные, свечение которых связано с окислением в их теле капелек жира, загорающихся в виде мельчайших фосфорически-зеленых точек. Огненный коралл (Millepora alcicornis) — принадлежит к классу гидроидных полипов (см.), имея, однако, известковый скелет. Образует кустарниковидные, с плоскими ветвями, колонии, подобные колониям коралловых полипов, среди которых встречается на рифах тропических морей. Прикосновение к краям ветвей огненного коралла причиняет жгучую боль и оставляет на коже болезненное покраснение, постепенно проходящее в течение одной-двух недель. Олуши (виды рода Sula) — птицы из отряда пеликанообразных, величиной с утку или гуся. Хорошо плавают; живут колониями на морских побережьях. Омары (Homarus vulgaris) — один из самых крупных раков, обычная длина до 40–50 см и вес 4,5–6 кг; могут достигать 65 см и веса 11 кг. Орляк, скат-орляк. (Myliobatis aquila) — скат (см.) с большими приостренными грудными плавниками, выпуклой головой и длинным бичевидным хвостом. Достигает длины 1,5 м. Распространен в восточных водах Атлантического океана и в Средиземном море. Острорылая акула, или мако (Isurus oxyrhynchus) — быстрая сильная рыба, распространенная в Средиземном море и сопредельной области Атлантического океана. Достигает длины 3,7 м и веса 544 кг. Осьминоги — придонные головоногие моллюски с мешковидным телом и венцом из восьми покрытых присосками щупалец на голове. Перемещаются главным образом ползая по дну, плавают толчками, резко выбрасывая воду из мантийной полости через воронку (как кальмары). Распространены в полносольных морях, у нас на Дальнем Востоке и редко в Баренцевом море. Достигают длины 2–3 м. Пагр, или морской лещ (Pagrus pagrus) — морская рыба из семейства спаровых (Sparidae, см.). Распространен у восточных берегов Атлантического океана от Англии до Сенегамбии и в Средиземном море. Придерживается песчаного дна. Длина до 30–75 см. Панданусы (Pandanus) — широко распространенные на засоленных прибрежных почвах тропической области своеобразно ветвящиеся деревья, с веерообразными пучками (мутовками) длинных узких листьев и похожими на ходули воздушными корнями у основания ствола. Пателла, или морское блюдце (виды рода Patella) — брюхоногий моллюск с раковиной в виде конического колпачка, широко открытого снизу. Живут преимущественно в приливно-отливной зоне, ползая по камням и скалам. Пелагиаль (пелагическая зона) — поверхностные воды открытого моря. Пелагические организмы — организмы, населяющие пелагиаль; свободно плавающие организмы верхних слоев открытого моря. Пиниа (Pinna nobilis) — крупный двустворчатый моллюск с удлиненно-треугольной раковиной до 30 см длины при ширине 10–15 см. Обитает в тропических водах у берегов Атлантического океана и в Средиземном море на мелких местах, на скалистом грунте, к которому прикрепляется вертикально торчком с помощью пучка специальных нитей (биссуса). Нити биссуса пинны использовались раньше для изготовления тканей и вязания перчаток, кружев и т. п. Пиранья (Serrasalmus piraya) — небольшая хищная рыба рек Южной Америки, обладающая чрезвычайно острыми зубами, крайне опасная для попадающих в реку животных и человека. Планктон — мелкие рачки, плавучие икринки и личинки рыб, медузы и другие пассивно плавающие в море взвешенные в толще воды, большей частью мелкие морские животные. Полипы — сидячие животные типа кишечнополостных с мешковидным цилиндрическим телом и венцом щупалец на переднем конце. Многие группы образуют колонии (полипняк), основу которых составляет известковый скелет — таковы разного рода кораллы. Имеются и одиночные полипы — Актинии (см.). Полиприон, или черна (Polyprion americanum, P. cernium) — окуневидная рыба семейства серрановых (Serranidae), достигающая длины 1,5–2 м и веса 50 кг. Обитает в скалистых местах на глубине до 1000 м, нередко держится у обломков затонувших кораблей. Распространен в Средиземном море и в Атлантическом океане у берегов Западной Европы и Африки. Полосатая рыба-бабочка (Heniochus acuminatus) из семейства щетинозубых (Chaetodontidae) или рыб-бабочек. Широко распространена в водах Индийского и Тихого океанов. Обычна на рифах. Достигает длины 30 см. Употребляется в пищу. Полурылы (виды родов Hemirhampus, Hyporhampus) — рыбы с длинным низким телом, стреловидно оперенным плавниками в задней четверти и удлиненной в виде прямого узкого клюва нижней челюстью. Близки к сарганам (см.), которых напоминают формой тела, но отличаются от них короткой треугольной верхней челюстью. Распространены в умеренных и теплых морях, у нас в Японском море. Достигают длины 25–50 см. Помакантиды, или рыбы-ангелы — небольшие рыбы семейства помакантовых (Pomacanthidae), близкие к коралловым рыбам (см.). Распространены в тропических морях, преимущественно в водах коралловых рифов. Многие ярко окрашены. Синяя ангел-рыба (или синяя помакантида) — в водах Красного моря, Индийского и Тихого океанов это Pomacanthus semicirculatus, а у Антильских островов — синяя ангел-рыба, или Исабелита (см.) — это Holacanthus ciliaris. Порги, морские лещи (см.) — виды семейства спаровых (Sparidae). Посидония (Posidonia oceanica) — морская трава, образующая целые подводные луга на рыхлых, особенно илистых, грунтах в затишной зоне на небольшой глубине. Широко распространена в Средиземном море. Прилипалы, рыбы-прилипалы (виды семейства Echeneidae) — снабжены овальным присасывательным диском на верху головы. С его помощью прилипалы прикрепляются к акулам и другим «хозяевам» — крупным черепахам, китам и днищам кораблей, используя их в качестве средства передвижения. Распространены в тропических и субтропических морях, у нас иногда встречаются в Японском и Черном морях. Промикропс (Promicrops itaiara) — гигантская окуневидная рыба семейства серрановых (Serranidae), обитающая в тропических водах Атлантического океана (близкий вид есть в Тихом океане). Близка к Груперам (см.), от которых отличается малой величиной глаз и плоским широким лбом. Достигает веса 250–340 кг и длины свыше 2,5 м. Ремень-рыба (Trachypterus iris) — полуглубоководная рыба, обитающая обычно на глубине 400–500 м. Тело длинное, сжатое с боков; достигает длины 3 м. Распространена в Средиземном море, Индийском океане и западной части Тихого океана. Рыбы-ангелы — см. Помакантиды и Исабелита. Рыбы-бабочки — см. Коралловые рыбы. Рыбы-единороги (Naso unicornis, семейство хирурговых — Acanthuridae) — обладают направленным вперед длинным прямым выростом (рогом) на лбу. Распространены в тропических и субтропических морях, достигают свыше 50 см длины. Рыба-игла (виды рода Syngnathus, семейства Syngnathidae) — небольшие, обычно до 40 см, рыбки с удлиненным тонким шестигранным или семигранным телом, с длинным трубковидным рылом. Известно около 50 видов в умеренных и теплых морях. В Черном море пять видов. Рыба-труба (Aulostomus maculatus) — своеобразная небольшая прибрежная рыба тропических вод Атлантического океана. Достигает длины 31 см. Рыбы-ворчуны, помадасиевые (виды семейства Pomadasyidae) — распространены в теплых, преимущественно тропических морях. Вынутые из воды, издают ворчаще-скрежещущие звуки глоточными зубами. Рыбы-попугаи, или скары (см.) — тропические рыбы коралловых рифов из семейства скаровых (Scaridae) (см.). Сальпы (Salpae) — свободно плавающие в планктоне прозрачные студенистые животные, имеющие бочонкообразную форму тела и образующие временные колонии. Относятся вместе с Асцидиями (см.) к примитивным хордовым животным — Оболочникам (Tunicata). Сарг (Diplodus sargus) — высокотелая рыба с длинными спинным и анальным плавниками, относящаяся к роду морских карасей (см.) семейства спаровых (Sparidae). Обычная длина 20–30 см, наибольшие размеры до 45 см, вес до 2 кг. Распространена у скалистых берегов Западной Европы и Северо-Западной Африки, а также в Средиземном море, заходит в Черное море. Сарганы (виды родов Belone, Strongylura, Ablennes) — рыбы, имеющие длинное тело, стреловидно оперенное непарными плавниками в задней трети, с вытянутым в виде прямого узкого клюва длинным рылом. Распространены в теплых и умеренных морях, у нас в Черном и Японском морях. Достигают свыше метра длины, обычно до 76 см. Сардинеллы (виды рода Sardinella, из семейства сельдевых рыб) — близкие к сардинам широко распространенные рыбы тропических и субтропических вод, замещающие настоящих сардин в этих водах. Сельдевая акула (Lamna nasus) — распространена преимущественно в умеренных водах Атлантического океана и в Средиземном море. Достигает длины 4 м. Синяя акула (Prionace glauca) — встречается главным образом в открытом море, нередко сопровождая корабли. Это характерная акула приповерхностного слоя, питающаяся всем, что может быть встречено у поверхности. Особенно активна в ночное время, ориентируется преимущественно с помощью обоняния. Достигает 4,5 м длины. Сифонофоры — свободноплавающие колониальные морские животные из типа кишечнополостных, снабженные специальным плавательным воздушным пузырем, или парусом. Близки к гидроидным полипам, от колоний которых произошли, приспособившись к плавающему образу жизни. Очень характерны для теплых морей синие сифонофоры-парусники (Velella) и сифонофоры-физалии (Physalia). Щупальца физалий вооружены жгущими стрекательными клетками, ожоги которых очень чувствительны и бывают опасны. Скары, скаровые, рыбы-попугаи (рыбы семейства скаровых — Scaridae) — характерные рыбы коралловых рифов, с покрытым крупной чешуей неуклюжим толстым телом и сросшимися в подобие короткого сильного клюва зубными пластинками. С помощью этого клюва скаровые откусывают куски кораллов, входящих в их пищевой рацион. Многие виды ярко окрашены, преимущественно в синий, зеленый и розовый цвета. Достигают обычно длины до 1,8 м, однако встречаются рыбы до 3,6 м длины и 1,8 м высоты. Скаты (Batoidei) — близкие к акулам донные щележаберные рыбы со сплющенным дисковидным или ромбовидным телом и длинным узким хвостом. Некоторые виды достигают крупных размеров (см. Манта). Скорпены — рыбы семейства скорпеновых (Scorpaenidae, роды Scorpaena, Scorpaenopsis). Нередки на рифах и скалах теплых и умеренных морей; имеются и в Черном море (морские ерши). Первый спинной плавник состоит из колючек, по бокам которых имеются ядовитые железы. Укол колючек причиняет сильную боль. Мясо многих видов съедобно и вкусно; рыбы эти служат объектом промысла. Спаровые (виды семейства Sparidae) — высокотелые, с длинным спинным и анальным плавниками и с небольшим ртом морские рыбы. К этому семейству относятся морские лещи, или пагры (см.), морские караси (см.), боопсы (см.), сарги (см.), спары (см.), зубаны (см.) и другие виды. Распространены в умеренных и теплых морях, у нас в Черном и Японском. Спинороги, или балисты. Разные виды семейства спинороговых (Balistidae). Имеют высокое, сжатое с боков тело, одетое прочным панцирем из увеличенных костных чешуй. Первый спинной плавник состоит из трех шипов, из которых передний представляет собой сильную колючку («рог»), оттопыриваемую и защелкиваемую в таком положении рыбой в случае опасности. Обычны в тропических морях. Мясо многих видов ядовито, некоторые виды съедобны и употребляются в пищу. Достигают длины 50–60 см. Ставриды (виды рода Trachurus) — пелагические морские рыбы умеренных морей, характеризуются стройным телом, снабженным на боках рядом поперечно-удлиненных костных щитков вдоль всей боковой линии. Достигают длины 55 см, у нас имеются в Черном и Японском морях. Строматеусы (Stromateus fiatola) — небольшая, до 35 см длины, пелагическая рыба из семейства строматеевых (Stromateidae) с высоким, сжатым с боков телом. Распространена в восточных водах Атлантического океана и в Средиземном море. Тигровая акула (Galeocerdo cuvieri) — обычно имеет на боках поперечные темные полосы и пятна. Достигает длины 5,5 м, опасна для человека. Распространена в тропических водах, не отмечена в Средиземном море. Терапоны (Therapon jarbua) — окунеобразные рыбы семейства терапоновых (Theraponidae) с характерными резкими продольными черными полосами на боках. Распространены в теплых морях. Топорики, рыбы-топорики (виды рода Argyropelecus, из семейства Sternoptychidae) — высокотелые глубоководные рыбки, с большими, направленными вверх телескопическими глазами и расположенными вдоль нижнего края тела и на боках специальными светящими органами (фотофорами). Тридакны (Tridacna) — гигантские морские двустворчатые моллюски, раковины которых достигают свыше полутора метров длины и 250 кг веса. Их створки используются иногда в церквах в качестве купелей. Тюлень-монах, белобрюхий тюлень (Monachus albiventer) — крупный тюлень, распространенный у берегов Средиземного моря и в прилежащей области Атлантического океана (Мадейра, Канарские острова) и у западного и южного побережий Черного моря. В Черном море редок. Фиерасферы (Fierasfer acus) — рыбы с длинным угревидным телом, использующие в качестве укрытия полость тела (собственно водных легких) голотурий, мантии моллюсков (жемчужниц) и других животных. Распространены в теплых морях. Физалия — см. Сифонофоры. Финта (Alosa fallax) — сельдевая рыба, распространенная у берегов Западной и Южной Европы, а также Северо-Западной Африки. Входит в реки для размножения. Достигает длины 60 см. Фрегаты (виды рода Fregata) — морские птицы из отряда пеликанообразных, питаются рыбой. Фрегаты большую часть времени парят в воздухе, над морем, на лету выхватывая рыбу из воды или ловя летучих рыб. На воду не присаживаются, плавают плохо, по земле ходят с трудом. Распространены в тропической области. Ханос (Chanos chanos) — серебристо-белая рыба прибрежных вод тропической области Тихого и Индийского океанов. Мальки откармливаются в солоноватых лагунах, служат объектом искусственного выращивания. Взрослые достигают свыше 1 м длины. Хвостокол, скат-хвостокол, морской кот (Dasyatis pastinaca) — скат (см.) с голым телом и длинным бичевидным хвостом, снабженным в передней части большим зазубренным острым шипом (причиняемые шипом ранения очень болезненны). Распространен в Атлантическом океане от Балтийского моря до Южной Африки, в Средиземном и Черном морях, заходит в Азовское море. Достигает длины до 1–2 м, иногда до 2,5 м. Хирурги, рыбы-хирурги (виды семейства Acanthuridae) — высокотелые рыбы коралловых рифов, снабженные отгибающимся острым ланцетовидным шипом на боках хвостового стебля. Могут наносить им серьезные раны. Хромисы, или рыбы-барышни — рыбы семейства хромисовых (Pomacentridae; роды Chromis, Dascyllus, Amphiprion). Мелкие, изящные, очень подвижные рыбки, живущие на рифах и скалах тропических вод. Многие замечательны сияющей яркой окраской. Целакант (Latimeria chalumnae) — замечательная примитивная крупная рыба, обитающая в водах Коморских островов. Устройство ее парных плавников и другие детали строения очень сходны с деталями строения живших 60 миллионов лет назад кистеперых рыб, от которых произошли предки наземных животных. Церианты (Cerianthus) — крупные одиночные бесскелетные полипы, близкие по внешнему виду к актиниям (см.), выделяемые в особую группу по ряду признаков. Цистозира (Cystoseira barbata) — бромосодержащая многолетняя бурая водоросль, образующая заросли в прибрежной полосе, на твердом субстрате. Занимает скальный пояс от берега до глубины 25–30 м. У нас много ее в Черном море. Черные кораллы — шестилучевые коралловые полипы с черным роговым скелетом, образующие древовидные колонии. В Средиземном море берут для поделок главным образом черные кораллы из семейства антипатариевых (Antipatharia). Шишколоб, шишколобый скар, шишколобая попугай-рыба (Chlorurus gibbus семейства скаровых — Scaridae). — распространена в водах Индийского океана и Красного моря, достигает длины 120 см и веса свыше 65 кг. Эспада (Lepidopus carbo) — глубоководная рыба семейства Lepidopidae, с длинным, сжатым с боков телом, заканчивающимся маленьким вильчатым хвостовым плавником. Близкие виды имеют промысловое значение в Новой Зеландии.Перевод английских мер в метрические
Миля морская = 1853 м Ярд = 3 фута = 91,4 см Фут = 12 дюймов = 30,48 см Дюйм = 2,54 см Сажень морская = 1,83 см Фунт = 453,59 г Галлон английский = 4,5 л Галлон США = 3,7 л (для жидкости), 4,4 л (для сыпучих тел)
Коротко об авторе
ЖАК-ИВ КУСТО родился в 1910 году и вырос во Франции. Окончил Военно-морскую академию. В 1936 году впервые стал нырять в очках; сначала ловил рыбу, снимал фотографии и фильмы. Но удивительный мир безмолвия манил его все глубже, и в 1942 году он вместе с инженером Эмилем Ганьяном создал акваланг. В 1948 году Кусто участвовал в испытаниях первого батискафа. Настойчиво прокладывая путь человеку в подводный мир, Кусто в последние годы сосредоточил свои усилия на освоении материковой отмели. С 1957 года Жак-Ив Кусто — директор знаменитого Океанографического музея Монако, который он превратил в передовое исследовательское учреждение. Книги «В мире безмолвия» и «Живое море» написаны вместе с французским подводником Фредериком Дюма и американским журналистом Джемсом Дагеном. Группой Кусто сняты фильмы «Мир тишины» и «Мир без солнца». Ученые и подводники всех стран с огромным уважением относятся к замечательному французскому ученому Жак-Иву Кусто.
Оглавление
Жак-Ив Кусто, Фредерик Дюма
В мире безмолвия
Глава первая. Человекорыбы … 7 Глава вторая. Глубинное опьянение … 23 Глава третья. Затонувшие корабли … 34 Глава четвертая. Подводные изыскания … 49 Глава пятая. С аквалангом под землей … 63 Глава шестая. Сокровища на дне моря … 77 Глава седьмая. Необычный музей … 86 Глава восьмая. Пятьдесят саженей … 98 Глава девятая. Подводный дирижабль … 106 Глава десятая. Среди жителей моря … 115 Глава одиннадцатая. Встречи с морскими чудовищами … 127 Глава двенадцатая. Лицом к лицу с акулой … 141 Глава тринадцатая. По ту сторону барьера … 152 Глава четырнадцатая. Там, где льется зеленая кровь … 165 Эпилог … 175
Жак-Ив Кусто, Джемс Даген
Живое море
Глава первая. На грани … 179 Глава вторая. «Калипсо» … 188 Глава третья. Красное море — Зеленый риф … 202 Глава четвертая. Загадка урн … 223 Глава пятая. Порт-Калипсо … 238 Глава шестая. «Тистлгорм» … 254 Глава седьмая. Пульс океана … 272 Глава восьмая. Наша кровь … 282 Глава девятая. Манящие острова … 304 Глава десятая. Риф Мирный … 320 Глава одиннадцатая. Золотые змеи … 338 Глава двенадцатая. Морское дно … 351 Глава тринадцатая. В темной пучине … 373 Глава четырнадцатая. Подводная лавина … 383 Глава пятнадцатая. «Ныряющее блюдце» … 396 Глава шестнадцатая. Мир без солнца … 412 Глава семнадцатая. Храм моря … 423 Глава восемнадцатая. «Коншельф-Один» … 440 Словарь названий морских организмов, птиц и областей их обитания … 454 Перевод английских мер в метрические … 472 Коротко об авторе … 473









Последние комментарии
10 часов 59 минут назад
19 часов 50 минут назад
19 часов 53 минут назад
3 дней 2 часов назад
3 дней 6 часов назад
3 дней 8 часов назад