Средневековые города Бельгии [Анри Пиренн] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
Анри Пиренн
Средневековые города Бельгии


От издательства
«Средневековые города Бельгии» — книга, с которой начинается семитомный труд об истории Бельгии, созданный А. Пиренном (1862–1935 гг.), известным бельгийским историком, профессором университета в Генте в 1886–1930 гг. А. Пиренн — необычайно многогранный исследователь. Из-под его пера вышли работы по самым различным проблемам, посвященным в основном западноевропейскому
средневековью. Пламенный патриот своей страны, автор посвятил множество работ истории Бельгии в средние века, ее городам Динану и Сент-Омеру. Вся история средневекового Запада рассматривалась им через призму экономических, точнее торговых отношений, которые представляли для Пиренна своеобразный «двигатель» социальнополитического развития. Труды Пиренна всегда отличались необычайно смелым, нестандартным подходом к наиболее спорным феноменам в истории средневекового Запада: так, феодализм он рассматривает как следствие гибели городов Средиземноморского побережья под ударами арабов, что привело к господству в Европе натурального хозяйства и прекращение монетного обращения, а зарождение городов в Западной Европе объясняет образованием поселений иностранных купцов, притягивавших к себе окрестное население. Однако наряду с экономическими факторами Пиренн уделяет значительное место и средневековому человеку, его надеждам и чаяниям, психологическим и патриотическим мотивам поведения: так, объясняя причины победы фламандских горожан над, французской рыцарской конницей в 1302 г., Пиренн указывает на непокорный нрав и стремление к независимости, свойственное жителям приморских районов Фландрии, которые впоследствии сыграли значительную роль в освободительной борьбе Нидерландов против испанского владычества. Особый психологический облик Пиренн приписывал основателям городов — купцам, впоследствии превратившимся в городской патрициат, которым, по его мнению, были свойственны трудолюбие, упорство, предприимчивость, качества, превратившие их в первых «капиталистов». Пиренна интересовали и проблемы взаимоотношений между западным христианским и восточным исламским обществами, их различиями в экономическом плане, которые он проследил в своей книге «Магомет и Карл Великий». Безусловно, заслуги Пиренна не ограничиваются одними только историческими исследованиями: его ученики писали, что он «был не только знаменитым ученым, но и крупным преподавателем. Он любил говорить, что более всего ценит в своей карьере то, что создал историческую школу: школу Гента». Учениками Пиренна были такие маститые бельгийские историки, как Ф.-Л. Гнасхов, Ф. Веркотерен, Э. Сабле, В. Фриз и др. Именно как патриару историков Бельгии А. Пиренну было поручено выступить со вступительным словом на V историческом конгрессе, собравшемся после Первой мировой войны в Брюсселе.
Средневековая Бельгия была страной городов и потому города являются центральным сюжетом в творчестве Пиренна. Именно они с XI в. становятся средоточием торговли, столь дорогой сердцу автора. В работе Пиренна город предстает как самостоятельный организм, чуждый окружающему его феодальному миру; автор особенно подчеркивает разницу в мировоззрении городского населения и правителей средневековой Европы — в первую очередь короля Франции и графа Фландрии — часто не понимавших и ущемлявших его интересы. Он показывает, как постепенно исчезал и менялся слой рыцарства, уступая главенствующее место представителям городской буржуазии. Слегка модернизируя суть противостояния между феодальными князьями, рыцарями и купечеством Бельгии, Пиренн представляет ее как борьбу между феодализмом и капитализмом, по его мнению, зарождавшемся в городской среде. Пиренн также решительно делит на два лагеря и внутренний мир городов Бельгии: долгая и кровавая битва между ними сопровождалась борьбой за независимость от французского господства, в ходе которой городское население постепенно стало обретать национальное самосознание.
Но даже если тема городов доминирует в книге Пиренна, то ученый вовсе не ограничивает этим свое исследование; его целью стало показать средневековую Бельгию во всем ее многообразии. Наряду с городами и их экономической деятельностью Пиренн прослеживает развитие политических организмов: феодальные и церковные княжества, которыми так было богата Бельгия, их взаимоотношения с могущественными соседями — Францией, Германской империей, Англией. Можно даже сказать, что Пиренн написал историю не только средневековой Бельгии, но одновременно и историю Франции, Германии, Англии той эпохи, ибо интересы всех этих стран сталкивались в областях, входящих в состав Бельгии. Однако Пиренн не остановился на социально-политическом и экономическом аспекте и уделил особое внимание культурному развитию бельгийского региона в эпоху Средних веков, подвергавшемуся перекрестному влиянию Франции и Германии, показав, как зарождалась своеобразная, со своими отличительными чертами, литература, архитектура, развивался фламандский язык. Тем самым работа А. Пиренна, посвященная всем сторонам жизни средневековой Бельгии, может быть полезной и интересной как специалистам, так и самой широкой читательской аудитории.
Анри Пиренн как историк средневекового города
Скончавшийся в октябре 1935 г. Анри Пиренн был одним из крупнейших представителей современной буржуазной историографии. Широкий размах исследовательской работы, крупное литературное дарование и блестящеё красноречие выдвинули его в первые ряды западноевропейских историков.
Значительную часть своей жизни Пиренн посвятил работе над семитомной «Историей Бельгии». Первые два тома ее, выходящие в переводе на русский язык в настоящем издании, посвящены истории средневековых бельгийских городов. Город и торговля средних веков представляли вообще центр тяжести исследовательского внимания Пиренна. Значительная часть остальных его работ — монографии, жург нальные статьи, сборники документов — вращается вокруг этой темы, причем главное внимание уделяется городам Фландрии и Брабанта. Так, в VIII т. «Всеобщей истории», издаваемой под общей редакцией Глоца, А. Пиренн дает общий обзор социально-экономического развития Европы в период времени XI–XV вв., в котором он, главным образом, трактует историю торговли и города[1]. К этой же категории работ относится статья в «Cambridge medieval history» под названием «Северные города и их торговля»[2] и книга «Древние демократии Нидерландов»[3]. Ряд статей и публикаций Пиренна посвящен отдельным сторонам и моментам из историй средневекового города и торговли. Так, Пиренн писал по вопросу о присяжных фламандских городов[4], о фламандской Ганзе в Лондоне[5], о фламандских городах в период времени до XII в.[6], об европейских гильдиях, о переписи населения в гор. Ипре в XV в.[7], об обычаях купеческой гильдии С.-Омера[8], о С.-Омерской ганзе[9], об экспорте французских вин в средние века[10], о промышленности гор. Динана в XIV и XV вв.[11]. Он посвящает специальную монографию истории конституции гор. Динана в средние века[12], вместе с Эспинасом он издает 4-томный сборник документов по истории шерстоткацкой промышленности в Фландрии[13].
После многолетней исследовательской работы, посвященной конкретной истории средневекового города, он пишет книгу, представляющую опыт синтеза истории города[14]. Среди многочисленных работ Пиренна имеется лишь одна, посвященная истории поместного строя Фландрии в средние века. Это «Полиптик и отчеты аббатства Сен-Трон в середине XIII в.»[15]. Отдав этой ранней работой дань исследованию аграрной истории, А. Пиренн перешел к тому, к чему его влекло всю жизнь, — к истории города.
Конечно, это увлечение не было случайностью. Сын и горячий патриот страны, в которой Города и промышленность развились раньше, чем в какой бы то ни было другой стране Западной Европы (исключая Италии), и в которой они достигли в средние века большого подъема, заслонив собой аграрное развитие, Пиренн, естественно, порывался мыслью к тому, что составляло базис экономической мощи и международной роли его родины в средние века. Ведь. Брюгге во второй половине XIV и первой половине XV в. и Антверпен начиная с конца XV в. были средоточием мировой торговли. Ведь в семнадцати нидерландских провинциях, в состав которых входили Фландрия и Брабант, поднялось в XVI в. революционное движение, приведшее к созданию в семи северных провинциях первой буржуазной республики в Европе.
Возникает вопрос: Что дал А. Пиренн, как историк города? Какой вклад внес он в историческую науку своими исследованиями в указанной области?
Для ответа на эти вопросы необходимо остановиться на общих концепциях Пиренна.
Невозможно быть историком средневекового города, не отдавая себе ясного отчета в том, когда началась эта история, к какому времени относится, происхождение города.
Пиренн разрешал эту проблему в тесной связи со своеобразной, им самим созданной, концепцией перехода от античности к средневековью.
А. Пиренн не стоит, подобно романистам я А. Дошпу, на точке зрения непрерывности социально-экономического развития Западной Европы. А. Пиренн не отрицает перелома между античностью и средневековьем, но перелом этот он помещает в противоположность германистам, относящим его к эпохе падения Западной римской империи, к значительно более позднему времени — к VIII в.
Жизнь античного мира, — говорит Пиренн, — развертывалась вокруг Средиземного моря, служившего связующей артерией между западными частями Римской империи и ее восточными провинциями. По этому морю происходило оживленное торговое движение между Западом и Востоком, через него переносились культурные влияния с Востока на Запад. Восток был «неизмеримо выше Запада не только благодаря превосходству своей цивилизации, но и благодаря гораздо более высокому уровню хозяйственной жизненной энергии». В III в. общественная жизнь и цивилизация Римской империи обнаруживают признаки упадка. Население уменьшается, податной гнет возрастает, германцы напирают на границы государства. Эти факты ни в коей мере не влияют на размеры торгового движения, развертывающегося по Средиземному морю между Западом и Востоком. Омертвение охватывает лишь внутренние области Римской империи, отдаленные от моря. Образование варварских государств на территории Западной римской империи не составляет переломного момента в развитии Европы. Германцы потому и тянутся к Средиземному морю, что оно является очагом экономической жизни и культуры. В меровингскую эпоху оно продолжает сохранять это значение. Торговля и города не исчезли с образованием германских государств. Большая часть городов в пределах бывшей Западной римской империи не только осталась, но и продолжала играть прежнюю роль, что объясняется сохранением морской торговли на Средиземном море в ее прежних размерах. Социально-экономическая и культурная жизнь Западной Европы существенно меняется лишь в связи» с появлением арабов в Северной Африке и особенно с момента создания халифата на Пиренейском полуострове.
Начиная с этого времени Средиземное море становится мусульманским внутренним морем, и широкая торговая и культурная связь между европейским Западом и Востоком порывается. Империя Карла Великого по существу отрезана от моря. Только теперь, в каролингскую эпоху, осуществляется, по мнению Пиренна, то состояние, которое буржуазные историки обычно относят к меровингской эпохе, а именно: франкское общество начинает покоиться на чисто аграрной основе. Таким образом, по мнению Пиренна, перелом между античностью и средневековьем наступает лишь в начале III в.
В XI в., под влиянием роста народонаселения, продолжает Пиренн, наступает поворот. Начинается в широких размерах распашка нови, и развертывается колонизационное движение. Норманны вытесняют из Южной Италии византийцев и мусульман и основывают там свое государство. Итальянские города предпринимают наступление на сарацин. — Венеция в сущности никогда не была оторвана от Леванта, благодаря непрекращающейся связи с Византией. Теперь поднимаются и другие итальянские города. Возрождается торговля, образуются два торговых центра в разных концах Европы: один на юге — Венеция и Южная Италия, другой, на севере — Фландрия. Весь христианский мир ополчается против Ислама. Это приводит к первому крестовому походу. — Отныне Средиземное море вновь открыто для мореплавателей Западной Европы; торговля расцветает вновь. «Она исчезла с момента закрытия внешних рынков. Она воскресает благодаря их восстановлению». Вместе с торговлей возрождаются и города. «Они следуют за ней (т. е. за торговлей) по пятам. Вначале они возникают лишь на берегу моря и вдоль рек. Затем, по мере того как торговля проникает все глубже, они возникают на перекрестных путях, связывающих между собой эти первоначальные центры торговой деятельности».
Такова в общих чертах концепция Пиренна по вопросу о переходе от античного мира к средневековью и о времени возникновения средневекового города. Она игнорирует глубочайшие процессы общественного развития Европы — разложение античного общества, революцию рабов и феодализационные процессы в государствах, основанных германскими племенами. Она игнорирует такие твердо установленные исторические факты, как — рост крупного землевладения и коммендация (отдача себя под защиту) свободных франков земельным магнатам в меровингскую эпоху. Концепция Пиренна упрощает сложность общественного развития Западной Европы, сводя переломные моменты ее истории в чисто внешним фактам — к захвату Средиземного моря арабами в начале VIII в. и к их вытеснению оттуда европейцами в XI в. Она преувеличивает творческую роль торговли. Она резко противоречит марксистской периодизации истории, относящей переход от античной формации к феодальной ко времени революции рабов, падения Западной римской империи и образования германских королевств.
Обратимся теперь во второй основной концепции А. Пиренна — к его теории происхождения средневекового города. Проблема происхождения города породила большую литературу в западноевропейской историографии. Существуют теории происхождения средневекового города из римских городов, из средневекового поместья (вотчинная теория) из гильдии, созданной частью населения для совместной защиты своих интересов, из аграрной марки, из свободной деревенской общины, из купеческой гильдии, из рынка, из крепости, из купеческого поселения[16].
А. Пиренн примыкает к последнему из перечисленных течений — он выводит город из купеческого поселения. Он пытается обосновать свою точку зрения на конкретном материале истории бельгийских городов. В главе «Происхождение городов» он пишет: «В то время как итальянские города, как, впрочем, и большинство французских и рейнских городов, были не чем иным, как воскресшими римскими городами, большинство бельгийских городов — это, так сказать, дети средневековья. Города Бельгии рождены торговлей». Здесь раньше, чем в других странах, расположенных к северу от Альп, можно было заметить признаки, предвещавшие широкое развитие торговой деятельности. Нидерланды призваны были сыграть в бассейне Северного моря ту же роль, что Венеция, Пиза и Генуя в средиземноморском бассейне. «Купцы, привозившие пряности из Италии или Прованса, судовщики, перевозившие по Мозелю и Рейну избыток продукции немецких виноградников, вынуждены были встречаться в Нидерландах… Бельгийские купцы добирались в конце X и в первой половине XI в. до берегов Прибалтики… По этим странам, служившим центром соприкосновения французской и немецкой культуры, непрерывно двигались караваны купцов… Постепенно, вдоль берегов их рек вновь появились пристани, места для выгрузки и зимние стоянки купцов; да Шельде это были — Валансьен, Камбрэ. и Гент; на Маасе — Гюи, Динан, Льеж и Маастрихт».
Европейская торговля все больше устремляется в Фландрию, продолжает Пиренн. В Лилле, Ипре, Дуэ и других местах происходят большие ярмарки. Во Фландрии образуется слой местного профессионального купечества.
Посмотрим, как рисует А. Пиренн промышленное развитие Фландрии. Развитие промышленности следует за развитием торговли, говорит он: «Успехи торговли способствовали развитию промышленности. Производство шерстяных тканей, которым издавна занималось население побережья, возродилось с новой силой, и его изделия вскоре составили значительную часть торгового оборота Нидерландов. Редкой удачей было наличие во Фландрии местной промышленности к тому времени, когда она сделалась базой товаров, отправлявшихся из Италии, Франции, Германии в Англию. Ее сукна издавна фигурировали наряду с винами и пряностями в числе важнейших предметов экспорта».
Если вдуматься в смысл этой фразы, то станет ясно, что он противоречит исходным посылкам А. Пиренна. А. Пиренн резко подчеркивает примат торговли в истории экономического развития Бельгии. Приведенная же фраза содержит признание того, что промышленность, дифференцировавшаяся от земледелия, и, в частности, шерстоткацкое производство существовали в Нидерландах значительно раньше того времени, как Нидерланды стали ареной транзитной торговли. Благодаря последней стали экспортироваться нидерландские ткани. Торговля дала таким образом лишь толчок дальнейшему развитию нидерландского сукноделия, существовавшего до нее.
Отмеченные противоречия характерны для А. Пиренна. Он неоднократно выдвигает общие положения, которые в дальнейшем ходе его работы сильно видоизменяются или даже совершенно сходят на-нет, благодаря обстоятельному, и углубленному обследованию им конкретной стороны развития. «Первые городские поселения, — продолжает А. Пиренн, — были в полном смысле слова колониями купцов и ремесленников, и городские учреждения возникли среди пришлого населения, явившегося со всех концов и чуждого друг другу. Хотя эти пришельцы и являются предшественниками городского населения, однако они не были самыми старыми обитателями городов. Колонии купцов не создались на пустом месте. Наоборот, они возникали близ какого-нибудь монастыря, какого-либо замка или епископской резиденции. Новые пришельцы находили в тех местах, где они поселялись, более старое население, состоявшее из сервов, «министериалов», рыцарей и клириков. Так было, например, с Гентом, где новый город сложился под стенами графского замка, с Брюгге, который расположился близ крепости, включавшей церковь св. Донациана, с Камбрэ возникшим близ крепости, где находился замок епископа и монастырь св. Обера». Среди иммигрантов, говорит А. Пиренн, были свободные и несвободные, но в городе и несвободные приобретают свободу. Постепенно купеческая колония впитывает в себя старое население, жившее в крепости или в замке. Происходит слияние новых и старых элементов. Купеческое поселение окружается крепостными стенами и превращается в укрепленный городок. Уже на самых ранних стадиях развития такого поселения купечество объединяется в так называемую гильдию, целью которой была охрана интересов ее членов как в самом поселении, так я во время торговых странствий. Гильдия, с самого начала своего существования, выполняет ряд функций в управлении купеческого поселения. Таким образом рождается город.
Охарактеризованная схема происхождения города рисуется А. Пиренном на основе большого конкретного материала, что значительно облегчает ее критику. Если вдуматься в сущность приведенных им фактов и в их хронологическую последовательность, то на месте приведенной им схемы встает следующая реальная последовательность стадий городского развития.
В результате роста производительных сил происходит отделение ремесла от сельского хозяйства. Во Фландрии, где очень развито овцеводство и имеется в большом количестве шерсть, пригодная для выработки сукна, эта дифференциация происходит раньше, чем где бы то ни было на континенте Европы к северу от Альп. Возникают поселения ремесленников отличные от деревень. Где именно образуются они? Конечно, в тех местах, где существует регулярный спрос на произведения ремесленного труда и где, вместе с тем, население может в случае надобности пользоваться защитой близлежащей крепости — около епископских резиденций, монастырей, графских замков и крепостей. Но так как фландрское сукно рано становится предметом экспорта в другие страны, то ремесленники-сукноделы, заинтересованные в экспорте, образуют свои поселения не близ всякого монастыря или крепости, а лишь близ тех монастырей и крепостей, которые расположены на морском побережье или у судоходной реки. Первоначально ремесленник является вместе с тем продавцом своих изделий. Ремесленник и купец носят одно и то же название — mercator. Но экспортная торговля Фландрии содействует очень раннему отделению там особого местного слоя купечества от основа ного ремесленного населения новых городов (ср. Маркс и Энгельс, Немецкая идеология, изд. 1933 г., стр. 12). Таким образом создается ремесленно-купеческое поселение, для которого характерно соединение развитого ткачества с широкой экспортной торговлей.
Конкретно-исторический материал, приведенный Пиренном, подтверждает совершенно другую теорию. Примат торговли, выдвигаемый им, сменился приматом производства. Не торговля, а ремесло первоначально отделяется от сельского хозяйства, а от ремесла в процессе дальнейшей дифференциации труда отделяется торговля. Крепость, близ которой образуется город, также составляет необходимый элемент в его развитии[17].
Интересно отметить, что сам А. Пиренн, вопреки своим исходным теоретическим посылкам, неоднократно признает в предлагаемой книге доминирующую роль промышленности в экономической жизни фландрских городов. Так, в главе 4-й «Политические «социальные перемены, происшедшие под влиянием торговли и промышленности», мы читаем: «Как ни велико было значение торговли в Нидерландах с XIII в., но значение промышленности было здесь еще больше. Промышленность сообщила этой стране ее характерную физиономию и предоставила ей совершенно исключительное место в Европе. Нигде, даже в Италии, нельзя было встретить на столь малом пространстве такого множества крупных мануфактурных центров. От Дуэ до Сен-Трона на равнине, орошаемой притоками Шельды и Мааса, не было ни одного города, который бы не занимался суконной промышленностью. Бельгийские ткани не имели себе равных как по своей мягкости и тонкости, так и по красоте расцветки. Подобно современным лионским шелкам, они были тогда распространены по всей Европе».
Таким образом в процессе работы над обильным конкретным материалом А. Пиренн становится в противоречие с основными посылками своей же собственной теории.
Но не все моменты в истории бельгийского города освещены Пиренном так же обстоятельно и при помощи такого же богатого материала, как ранние стадии его. происхождения. По отношению к тем сторонам городского развития, на которые приводимые, им материалы бросают лишь скудный свет, мы лишены возможности произвести: соответствующий корректив. В таком положении оказывается читатель, знакомящийся с начальным периодом истории борьбы епископских городов Бельгии с их сеньерами. Соответственно своей общей концепции Пиренн подчеркивает, что руководящую роль в этой борьбе играло купечество. Он считает совершенно естественным, что «именно купцы стали во главе оппозиции против старого режима», ибо духовные сеньеры городов налагали особые стеснения на торговлю. В этом духе он освещает борьбу города Камбрэ с епископом, развернувшуюся в 70-х гонцах XI в. и приведшую к созданию первой, городской коммуны, упоминаемой в истории средневековых городов. «Инициал торами и руководителями движения были наиболее богатые купцы города, — читаем мы у него… Это была насильственная попытка заменить устаревший режим епископского управления новым порядком вещей, соответствовавшим новым социальным условиям. Общественное мнение было, несомненно, на стороне восставших. Бедняки и, в частности, ткачи, соответственно распропагандированные пламенными проповедями григорианского священника Рамирдуса, обвинявшего епископа в симонии, присоединились в ним». Эта первая коммуна Камбрэ была потоплена в крови. Но в начале XII в. коммуна была восстановлена. Хотя эта вторая коммуна просуществовала только 6 лет (с 1101 до 1107 гг.), но наступившая после свержения ее реставрация не была полной, и некоторые приобретения коммуны все же сохранились.
Эта столь важная страница в истории бельгийских городов обрисована Пиренном чрезвычайно кратко и бегло. Напрасно стали бы мы искать у него отчетливой характеристики социального состава боровшихся лагерей. Невидимому, причиной краткости изложения А. Пиренна является в данном случае скудость источников. Столь же неясно предстает перед нами и борьба прирейнских городов с епископами, развернувшаяся в 70-х годах XI в. И так же трудно определить по имеющимся опубликованным материалам роль отдельных социальных прослоек в борьбе северофранцузских городов с их сеньерами, относящейся в XII в. Как на типичный пример этого рода укажем на ту, в общем, неясную картину, которая предстает перед нами в истории борьбы города Лана со своим сеньером.
Точка зрения А. Пиренна на проблему освобождения средневекового города от сеньериальной власти является распространенной в буржуазной историографии. Наряду с руководящей ролью купечества в борьбе городского населения с сеньером, историография эта обычно подчеркивает, что население покупало у сеньера те или другие права самоуправления. В общем А. Пиренн в смысле освещения этой страницы истории города не идет дальше других буржуазных историков,
Особый интерес представляют для нас те части книги А. Пиренна, которые рисуют борьбу между патрициатом и цехами. Если борьба городов с сеньерами получает еще некоторое, хотя неполное и искаженное, освещение в западноевропейской историографии, то все остальные явления классовой борьбы в городе, борьба между различными слоями населения, главным образом борьба цехов с патрициатом, — почти совершенно замалчиваются ею. В старых немецких исторических монографиях эта сторона городской истории находит еще некоторое отражение. Так, в большом 6-томном труде Эннена, посвященном истории Кельна, и в работе Арнольда по истории старых епископских городов Германии имеются страницы, освещающие борьбу цехов с патрициатом[18]. Более поздняя немецкая историография либо совершенно не касается цеховых восстаний, либо касается их чрезвычайно туманнее неясно и неполно. Она исследует отдельные стороны городского быта — финансы, продовольственный вопрос и т. д., тщательно избегая самой постановки вопроса о классовой борьбе. При большом обилии фактов в работах немецких историков конца XIX — начала XX вв. доминирует чисто формальный подход к исследуемому вопросу. Ни цеховые восстания, ни борьба подмастерьев с мастерами не исследуются ими. И в обобщающих сочинениях немецких историков, как, например, в истории Германии К. Лампрехта, цеховые восстания совершенно не освещаются. Некоторую компенсацию за этот столь ощутительный пробел представляют многочисленные публикации документов по политической истории средневекового города. Таковы, прежде всего, хроники немецких городов в издании Гегеля, содержащие материалы по истории борьбы цехов с патрициатом[19]. Французская историческая литература почти не дает и этой компенсации. Публикация документов, извлеченных из архивов, занимает в ней значительно меньшее место, чем в немецкой историографии. В исторических же французских сочинениях классовая борьба в средневековом городе еще менее освещена, чем в немецких. Вопрос о городских восстаниях во французских городах затронут в сущности в одной лишь специальной монографии Миро[20]. В большом многотомном труде Лависса «История Франции»[21] французским городским восстаниям XIV в., известным под названием восстаний мальотенов и кабошенов, посвящен едва какой-либо десяток страниц. В новейшей буржуазной исторической литературе, посвященной истории Англии, имеются некоторые данные о борьбе цехов с городской олигархией. (Мы имеем в виду работу Брентано по экономической истории Англии[22].) Но они далеко не дают ответа на возникающие в связи с этой проблемой вопросы.
В связи с этой тенденцией западноевропейской историографии сама постановка А. Пиренном вопроса о борьбе цехов с патрициатом в средневековых городах Бельгии приобретает особую ценность. К тому же А. Пиренн рисует борьбу городской массы и верхушки городского населения, базируясь на единственном в своем роде материале бельгийских городов, где развитие промышленности и торговли достигло в XIII–XIV вв. больших размеров, чем где бы то ни было в Западной Европе (исключая, Италии), и где поэтому классовая борьба приняла чрезвычайно резкие и острые формы.
Как трактует А. Пиренн историю цеховых восстаний? Он ставит вопрос ясно и просто — о классовой борьбе между ремесленниками и патрициями. Но анализ этой борьбы дан им неполно и содержит ряд противоречий. Мы узнаем, что во фландрских городах патриции были работодателями Мастеров ткачей, валяльщиков, красильщиков и т. д. Патрициев же Льежа Пиренн характеризует как розничных торговцев сукном и «финансистов» своего времени. Говоря о ремесленной массе городов, А. Пиренн останавливается на двух типах ремесленников. С одной стороны, он рисует ткачей, валяльщиков, красильщиков, мастеров, которые владеют еще мастерской и орудиями производства, но уже утратили экономическую самостоятельность, и фактически является кустарями или, как А. Пиренн говорит, наемными рабочими, работающими на патрициев, от которых они получают шерсть и которым отдают готовый продукт. С другой стороны, во фландрских городах существовал обширный слой рабочих шерстоткацкой промышленности, лишенных орудий производства, не имевших ни постоянного помещения, ни постоянной работы, нанимавшихся на недельный срок, одним словом, представлявших собой предпролетариат. Но конкретная история взаимоотношений между этими двумя слоями рабочей массы изложена им очень туманно. В сущности социальная дифференциация ремесленной среды только намечена Пиренном, картина борьбы между различными слоями ремесленной массы отнюдь не развернута им в ее исторической полноте, конкретности и целостности.
Знакомство со страницами работы А. Пиренна, посвященными характеристике патрициата, вскрывает его сильные и слабые стороны как конкретного историка. «Почти все первые патриции (за исключением льежских и лувенских…) были разбогатевшими купцами, — пишет А. Пиренн. — Скопившиеся в руках купцов богатства позволили им превратиться; в земельных собственников… В XIII в. почти вся городская земля принадлежала geslaehten, родовитым семьям, и значительнее количество бюргеров, отказавшись от торговли, жило комфортабельно на свои доходы, не перестававшие возрастать вместе е ростом города и городского строительства… Многие из них еще увеличили свои богатства, либо взяв на откуп взимание налогов, доходы е княжеских доменов — и городских акцизов, либо принимая участие в банковских операциях какой-нибудь ломбардской компании. Наряду с этой группой, которую можно считать группой «старых патрициев», существовала еще купеческая гильдия… Между viri hereditarii и купеческой гильдией всегда поддерживались тесные отношения». Патрициат пополнялся, из членов гильдии, и, наоборот, сыновья патрициев, желавшие заниматься торговлей, принимались в гильдию. В противоположность этому, патриции резко отличались от массы ремесленного населения. «По своим обычаям, одежде, часто даже по языку, на котором они говорили, патриции обособились от простонародья, от ремесленников… Богатство положило между ними непроходимую грань и сделало невозможным какое бы то ни было общение. Во всех проявлениях социальной жизни патриции надменно афишировали свое превосходство… Их увенчанные зубцами каменные дома высились со своими башенками над убогими соломенными хижинами рабочих жилищ; в городских войсках они составляли конницу» и т. д. А. Пиренн полагает, что патриции имели основание гордиться. «Эта кастовая гордость, так открыто обнаруживавшаяся патрициатом, имела свои основания. Действительно, начиная с середины XII и до конца XIII вв., крупное бюргерство представляло удивительное зрелище. Благодаря своему уму, своей энергии и трудолюбию, своим деловым способностям, своей преданности общественному делу, оно невольно напоминает, несмотря на разницу во времени и обстановки, парламентскую аристократию, управлявшую Англией в XVII и XVIII вв. При патрицианском правлении приняли свою окончательную форму города, были возведены их стены, построены их рынки, приходские церкви, дозорные башни, вымощены улицы, проведены их каналы. При нем же города получили то финансовое, административное, военное устройство, в которое с тех пор не было внесено никакого существенного изменения до конца средних веков. Патрицианское правление дало городам народные школы, освободило города от юрисдикции церковных судов, уничтожило феодальные повинности, тяготевшие еще над их землей или над их жителями… Патриции не только в качестве городских правителей придали городам тот блеск, которого они достигли в конце XIII в. Они, кроме того, щедро жертвовали свои состояния на городские дела… Горячий местный патриотизм, одушевлявший высший слой горожан, проявился особенно в создании городских больниц. С конца XII в. созданные им благотворительные учреждения множились с поразительной быстротой… Благотворительные бюро современной Бельгии обязаны своими богатствами в значительной мере пожертвованиям этих патрициев… щедро жертвовавших для облегчения участи бедных барыши, которые они получали оо всех концов Западной Европы от продажи фландрских сукон».
Таков пламенный панегирик в честь патрициата, носящий в последней своей части откровенную окраску прославления буржуазной благотворительности. Однако через несколько строк после этого восхваления патрициата у А. Пиренна звучат уже совершенно другие ноты. Следуя историческим документам, он наталкивается на неотразимый факт угнетения ремесленной массы патрициатом, и, как честный исследователь, отражает это явление в своей работе. Оказывается, что в период своего классового управления патрицианская власть приобрела «все его недостатки». «С течением времени (власть патрициата) становилась все более тяжкой и обременительной; она упорно не допускала «простонародье» к каким бы то ни было должностям и отказывала ему в каком бы то ни было праве на контроль. Недостатки системы, передавшей политическую власть над массой ремесленников в руки тех людей, на которых работали эти ремесленники, не замедлили ярко обнаружиться… В промышленных городах недовольство усилилось и питалось, главным образом, жгучим вопросом: о заработной плате. Правда, некоторые слишком вопиющие злоупотребления были уничтожены по крайней мере номинально, так, например, truck-system была запрещена. Но тем не менее тарифы заработной платы устанавливались исключительно эшевенами, избиравшимися из среды патрициата, т. е. тех же хозяев. Кроме того эти хозяева эксплуатировали работавших на них ремесленников, либо не отдавая следуемой платы, либо обмалывая их на счет количества сырья, которое они им давали. Если прибавить к этому запрещение, рабочим физического труда вступать в гильдию и продавать сукно, предоставление надзора за цехами, обрабатывавшими шерсть одним только купцам, тайну, в которой — городские советы держали свои совещания, — то легко понять, почему во всех торговых городах между Маасом и морем образовались две классовые партии: партия бедняков и партия богачей. С одной стороны, патриции, с другой — ремесленники». В дальнейшем А. Пиренн приводит ряд фактов о восстаниях ремесленников против патрициев в бельгийских городах, о мерах предупреждения этих восстаний, принимавшихся властями городов, об еретических учениях, которые носили характер революционного протеста против существующего строя, и т. д.
Жесткая сила исторического факта заставляет реалиста-исследователя, при всей предвзятости его взглядов на роль патрициата, склониться перед исторической правдой и признать, что патриции эксплуатировали и угнетали массы, толкая их этим на путь восстания.
А. Пиренн разграничивает периоды в правлении патрициата. Вначале, говорит он, проявляются положительные стороны патрицианского режима, и только потом начинают проявляться pro отрицательные стороны. Но это размежевание не введено в определенные хронологические рамки и носит поэтому чисто декларативный характер.
У Пиренна много колебаний и неслаженностей в оценке исторических событий. В 80-х годах XIII в. во всех фландрских городах вспыхивают цеховые восстания, направленные против власти патрициата. Ремесленная масса фландрских городов находит поддержку у фландрского графа, патрициат же заключает союз с французским королем Филиппом IV Красивым. Некоторые бельгийские историки утверждают, что этот союз представлял собой со стороны патрициата акт измены по отношению к родному городу и предательство по отношению к городской свободе. Пиренн не согласен с этой точкой зрения и берет патрициат под свою защиту. При этом А. Пиренн говорит: «Им (т. е. патрициям), республиканцам и партикуляристам, была совершенно чужда мысль дать Франции поглотить себя. Их поведение объясняется столь же естественно, как и поведение вольных немецких городов того времени. Чтоб избавиться от опеки территориального князя, от своего «промежуточного сеньера» они пытались попасть под непосредственную зависимость своего высшего сюзерена… Они желали стать не французами, а непосредственными вассалами французского короля и разорвать таким образом узы, связывавшие их с князьями. Разумеется, если бы они могли предвидеть будущее, то они поняли бы, что подобная политика должна будет обернуться против них. Непосредственная зависимость от германского императора давала немецким городам свободу, но непосредственная зависимость от Капетингов должна была неотвратимо принести рабство фландрским городам».
Несомненно, что союз фландрских патрициев с Филиппом IV Красивым, заключенный в тот момент, когда централизация Франции уже успела достигнуть больших успехов и когда уже началось подавление городских коммун (как раз именно при Филиппе IV произошел ряд случаев этого рода), был изменой родному городу и предательством по отношению к городской свободе. Так же несомненно, что этот акт был вызван со стороны патрициев страхом перед возможной победой цехов. История средневековых городов в других странах дает много аналогичных примеров. Так, очень часто подобное поведение патрициата имело место в ганзейских городах. В 1203 г. в ганзейском городе Брауншвейге произошло цеховое восстание, приведшее к изгнанию совета, который состоял из представителей наиболее богатых семей. На место его стал совет из двенадцати цеховых старшин. Изгнанные патриции обратились за помощью к союзу ганзейских городов и к герцогу Брауншвейгскому. Ганзейский союз объявил жителей Брауншвейга под торговым бойкотом, герцог же Брауншвейгский оказал патрициату еще более существенную помощь. Он пробрался в город с вооруженным отрядом, захватил врасплох членов городского совета, заседавших в одной из башен, перебил их и помог старому совету восстановить свою власть. Эта политика брауншвейгского патрициата по отношению к родному, городу должна быть бесспорно квалифицирована как измена родному городу. Подобный же акт совершили и представители любекского патрициата в начале XV в., когда многолетнее цеховое движение, развернувшееся в Любеке, привело в 1408 г. к свержению там патрицианского режима, на место которого было поставлено правление цехов. И любекский патрициат обратился за помощью не только к ганзейскому союзу городов, но и к королю трех скандинавских стран — Эрику. Правда, Эрику не пришлось разгромить Любек, как это сделал Брауншвейгский герцог по отношению к Брауншвейгу, а Эрик оказал любекскому патрициату помощь другими мерами — он подверг любекских купцов, приехавших в 1415 г. в Сконью на улов сельдей, жесточайшим репрессиям, чем заставил новое правление Любека сдаться. Власть патрициата в Любеке была восстановлена[23].
Измена фландрского патрициата родным городам значительно облегчила Филиппу IV Красивому вторжение во Фландрию и ее покорение. Но для манеры Пиренна характерно, что, защищая патрициат от упреков в измене родному городу, он в дальнейшем с сочувствием и даже с воодушевлением описывает, как ремесленная масса фландрских городов поднялась против французского владычества и как пешие фландрские ремесленники — ткачи, валяльщики, красильщики и другие, предводительствуемые представителем графского дома Фландрии, одержали при Куртрэ победу над блестящим французским воинством.
В изложении А. Биренна встречаются и другие крупные противоречия. В конце главы «Битва при Куртрэ» он пишет: «К несчастью положение Фландрии в 1309 г. не было уже таким, каким оно было в 1302 г. Энтузиазм, воодушевлявший во время войны (с Францией) ремесленников, уже испарился. Города усвоили по отношению друг к другу ту эгоистическую и партикуляристскую политику которая вызвала несколько лет спустя войну между ними…» и т. д.
Естественно возникает вопрос: почему испарился энтузиазм, воодушевлявший ремесленников? Он остается бег ответа. Но если мы заглянем в главу «Города в XIV в.» то найдем там беглый- обзор тех классовых битв, которые развернулись во Фландрии после битвы при Куртрэ, и попытку их объяснения: «Действительно, — пишет Пиренн, — рабочие, занимавшиеся обработкой шерсти, вскоре (после победы над патрициатом) заметили, что онине достигла своей цели. Гильдии были уничтожены, свобода торговли раз решена всем. И однако их положение нисколько не улучшилось. Их мечта об экономической независимости не исполнилась… Они остались, как прежде, работниками на дому наемными рабочими капиталистических купцов… Уничтожение гильдии не положило конца в крупных мануфактурные центрах Фландрии посредничеству капитала. Одни только богатые суконщики могли снабдить всегда работавшие мастерские достаточным количеством сырья, они одни могли удовлетворить оптовые заказы заграничных покупателей… Место гильдии заняла новая группа капиталистов, которая хотя и не обладала юридической монополией и привилегия ми, вое же сохранила в своих руках, благодаря самой при роде вещей, руководство экономической жизнью. До того момента, когда упадок суконной промышленности радикальна изменил условия существования городов, ткачи не отказались от своего идеала экономической независимости. С неутомимой энергией они делали всевозможные усилия, чтобы избавиться от зависимости, вытекавшей из самой природа их промышленности, и чем больше была их роль в гражданских смутах, придающих истории Ипра, Брюгге и Гента столь драматический характер, тем отчетливей обнаружилась их борьба, почти современная, между капиталом и трудом… Пиренн прав, указывая, что завоевание власти в город являлось для ткачей лишь средством освобождения от гнет, хозяев, владевших капиталом. Казалось бы, что упаде энтузиазма, в ремесленной массе после битвы при Куртрэ связал с ее разочарованием, в возможности достигнуть такого освобождения. Однако Пиренн не делает такого вывода, что поражает внимательного читателя. Как можно, отдавая себе отчет в глубине социальных противоречий, раздиравших город, не связывать этого факта с политическими настроениями городской массы?
В изложении Пиренна местами встречается модернизация средневековой жизни. Так, в только что приведенной цитате он говорит «о борьбе, почти современной, между капиталом и трудом». Однако в дальнейшем Пиренн в значительной степени отказывается от допущенной им модернизации, давая на основе документов характеристику специфических особенностей капитала и его владельцев в XIV в. Так, Пиренн, соприкоснувшись с конкретным материалом, по своему обыкновению исправляет ошибки слишком поспешного вывода.
Свойственная А. Пиренну тенденция в модернизации истории отражается на его терминологии, к которой следует относиться критически. Пиренн употребляет часто, например, термин «капиталистический» не в смысле наличия признаков, характерных для капитализма как системы производственных отношений, а лишь в смысле наличия капитала. Такое словоупотребление вытекает из признания Пиренном существования капитализма уже в XII в. Этими же общими взглядами Пиренна объясняется частое употребление им термина «пролетарий», и притом в разных смыслах — то применительно к городскому предпролетариату XIV в., то применительно ко всем мастерам ткацкой промышленности. В некоторых случаях, терминология Пиренна настолько смутна и расплывчата, что не только не раскрывает сущности исторических явлений, но, наоборот, затемняет их. Таковы, например, обозначения «богатые» и «бедные» применительно к партиям, боровшимся друг с другом во время цеховых восстаний. При той глубокой дифференциации ремесленного населения бельгийских городов, которую признает сам Пиренн, подобная терминология может ввести читателя в заблуждение. Широко и столь же расплывчато Пиренн употребляет слово «раса», понимая под этим словом то некоторую, довольно значительную этническую группу, то отдельное племя. Ясно, однако, что Пиренн придает слову «раса» совершенно иной смысл, чем современные фашистские мракобесы.
Мы оттенили дефекты творчества А. Пиренна. Отчасти они свойственны лично ему, отчасти отражают недостатки, общие всей буржуазной историографии. Но мы не должны забывать, что все указанные нами недостатки, неслаженности и противоречия в его работе не должны заслонять ее крупных достоинств. В первых двух томах «Истории Бельгии» Пиренн набрасывает широкое историческое полотно, в котором история городов заполняет значительную часть фона.
Но она предстает не изолированно от про лих частей бельгийской общественной жизни. Она связана множеством нитей с общеэкономической, аграрной, политической и культурной историей всей страны. Какую бы главу книги Пирен-на мы ни открыли, везде мы встречаем богатство и разнообразие содержания… Различные типы городского развития Фландрии и Брабанта, классовая борьба в городе, отношение горожан к дворянству и духовенству, глубокое своеобразие политического строя нидерландских провинций (в котором два сословия — дворянство и духовенство — в ходе развития в значительной мере политически ослабли и стушевались, а третье сословие — горожане — приобрело значение важного политического фактора), политический строй различных областей, развитие языка, литературы и искусства и широкие рамки международных политических отношений — все это ярко и выпукло встает со страниц книги Пиренна.
Большой интерес представляет глава, рисующая Якова Артевельде, бурная жизнь которого тесно сплелась с экономическим кризисом, возникшим в Фландрии в начале столетней войны, и с социальными волнениями во фландрских городах. Еще более интересна глава о восстании, происшедшем в приморской Фландрии в 1323–1328 гг. В этой главе Пиренн открыто говорит о союзе городской демократии с деревенской.
Социальный анализ исторического материала, даваемый А. Пиренном, не может удовлетворить нас. Но в тех случаях, когда материал этот приводится с большой полнотой, как например по вопросу о происхождении городского строя, сама полнота его, как и свойственная Пиренну ясность изложения дают читателю возможность произвести более глубокий анализ и прийти к правильной общей концепции.
Подведем итоги нашему пониманию А. Пиренна как историка средневекового города. Современные историки буржуазного запада чаще всего связывают значение Пиренна в этом смысле с теорией происхождения города из купеческого поселения. С другой стороны, они подчеркивают ценность выдвинутой им общей концепции перехода от античности к средневековью и экономического развития Западной Европы в средние века.
Для нас общие концепции А. Пиренна не представляют самодовлеющей ценности; это относится как к его концепции перехода от античности к средневековью, так и к его теории происхождения городского строя. Они лишены глубины, игнорируют основные факторы развития европейского обществ… базируются на переоценке роли торговли и купечества в средние века. Эти теории Пиренна имеют лишь то значение, что, обосновывая их, автор приводит свежий и интересный материал и содействует этим углублению нашего знания некоторых сторон исторического развития средних веков, в частности развития средневекового города.
Пиренн ценен не как социолог, а как историк-реалист. У Пиренна особая, чисто художественная манера созерцания прошлого и особое мастерство в изображении его. А. Пиренн до такой степени проникается историческим материалом, что история встает перед нами в форме ярких эпизодов и пластичных образов. Вот, например, как он рисует фландрского ткача-рабочего, лишенного средств производства: «Последние (т. е. такие рабочие) жили в предместьях, состоявших из жалких хижин, которые сдавались понедельно. Большею частью у них не было иной собственности, кроме одежды, которую они носили на себе. Они переходили из города в город в поисках работы. В понедельник утром их можно было встретить на площадях, рынках, у церквей, в тревожном ожидании нанимателей, которые взяли бы их на неделю. Всю неделю рабочий колокол возвещал своим звоном о начале работы, коротком промежутке для еды и конце рабочего дня. Заработок выдавался в субботу вечером: по правилам городских советов, он должен был выплачиваться деньгами, но это нисколько не мешало процветанию truck system, дававшей своими злоупотреблениями повод к постоянным жалобам. Таким образом ткачи, валяльщики, красильщики составляли особый класс внутри горожан, их можно было узнать не только по их «голубым ногтям», но и по их костюму и нравам. Их считали низшими существами и с ними обращались соответствующим образом. Они были необходимы, но с ними не церемонились, ибо было известно, что место тех, которые не выдержат тяжести штрафов или будут изгнаны из города, не останется долго незанятым. Рабочие руки всегда имелись в избытке. Массы рабочих отправлялись искать счастья в чужих странах; их можно было встретить во Франции и даже в Тюрингии и в Австрии».
В статье, напечатанной в VIII т. «Всеобщей истории» под ред. Глоца, Пиренн прибавляет к этой характеристике рабочего-ткача еще несколько штрихов: в 1274 г. эти рабочие покинули Гент и ушли в Брабант, но предупрежденные власти отказались принять их там. В конце XIII в. в Нидерландах возникают союзы городов для выдачи беглых, подозрительных или замешанных в заговоре рабочих. Попытки восстания с их стороны влекли за собой изгнание или смерть.
Разве образ ткача-рабочего, скитающегося из города в город, не встает перед нами по прочтении этих отрывков в его потрясающей жизненной правде?
Несомненно, что элементы художественной изобразительности и эмоциональной окрашенности, свойственные творчеству А. Пиренна, содействуют тому, что его работы усваиваются с большой легкостью.
Соответственно характеристике, данной нами А. Пиренну как историку средневекового города, мы ставим его конкретно-исторические произведения значительно выше его обобщающих работ, а из его конкретно-исторических произведений мы придаем едва ли не наибольшее значение предлагаемым в настоящем издании первым двум томам его «Истории Бельгии», ибо в этой именно работе особенно полно выразились лучшие стороны исследовательского и литературного дарования А. Пиренна.
В. В. Стоклицкая-Терешкович
Книга первая
Нидерланды до XII века
Глава первая
Римская и Франкская эпохи
I
Название «Бельгия» в применении к интересующей нас стране было заимствовано гуманистами эпохи Возрождения у древних и было официально освящено в XIX веке. Однако современная Бельгия составляет лишь часть первоначальной Бельгии, простиравшейся от берегов Рейна до подступов к берегам Сены. Некоторые из населявших ее некогда народов исчезли, другие же — резко изменились благодаря смешению. Тем не менее, несмотря на разделяющие их 20 столетий, обе эти страны обладают поразительным сходством в одном отношении. Подобно тому, как в наши дни фламандцы германской языковой ветви и валлоны романской языковой ветви постоянно сталкиваются в области, лежащей между морем и Арденнами, точно так же еще до римского завоевания здесь сталкивался арьергард кельтов с авангардом германцев. Наиболее восточные народы из северных белгов — эбуроны (Либмург и Льеж), кондрузы (Кондроз), церозы (область Прюм?), пэманы (Фамен), сегны (верхняя часть долины Урт?) и адуатуки (Намюр) — по-видимому, восприняли очень много германских элементов, и когда Цезарь (в 57 г. до н. э.) осведомлялся об их происхождении, то предание хранило еще воспоминание об эпохе, когда они жили к востоку от Рейна. Зато к западу и к югу от них бассейны Шельды и Мааса заселены были только народностями кельтской расы — нервиями (юг Брабанта и Генегау), менапиями (Фландрия и северный Брабант), моринами (область Теруаня), атребатами (Артуа) и треверами (Арденны и Мозель)[24]. Эти народы, несмотря на свое различное происхождение, прежде всего восприняли кельтскую культуру, которая благодаря своем относительному превосходству вскоре подчинила себе проникшие в среду кельтов посторонние элементы[25]. Поэтому все они ожесточенно боролись, всячески стараясь помешать слишком сильному продвижению германцев на левый берег Рейна и вторжению в их страну. В этом состоянии непрерывных столкновений с соседями они были застигнуты обрушившимися на них легионами Цезаря. В конце концов они были без больших трудностей покорены, несмотря на обнаруженный ими героизм, поразивший их победителя. Эбуроны погибли из-за оказанного ими слишком отчаянного сопротивления. Они были частью истреблены, частью проданы в рабство и исчезли с лица земли, а на их территории поселилось новое племя — тунгров, которое образовалось из смешения остатков эбуронов с призванными Цезарем германцами. По имени этого племени и стала называться впредь эта территория. Римское завоевание превратило Рейн из до тех пор постоянно изменявшейся этнической границы между белгами и германцами в прочную государственную границу. По эту сторону этой границы под влиянием римского управления и культуры расовые различия постепенно стали стираться. Белги романизовались вместе с германцами и постепенно утратили свои национальные черты благодаря одинаковому новому, воспринятому ими образу жизни. Но официальный язык сохранил воспоминание о различном происхождении их обитателей в названиях, данных им обеим провинциям, созданным между Рейном и морем. Восточные территории составили часть «Germania inferior» «Нижней Германии», между тем как западные отошли к «Belgica secunda»[26] «Вторая Белгика». Из двух названных провинций «Германия» была более богатой, более населенной и более цивилизованной (policee). Гарнизоны, расположенные вдоль по течению Рейна, являлись здесь активнейшими очагами римской культуры. Будущая «поповская дорога» была в то время дорогой легионов и чиновников. Вдоль реки один за другим были расположены соединенные шоссейной дорогой города Ремаген, Бонн, Кельн, Нейс, Ксантен, Нимвеген, Лугдунум, первоначальный Лейден, в настоящее время представляющий собой затопленный район напротив Катвика. Особенно большое значение приобрел вскоре Кельн. Подобно Лиону в центре Галлии, он на севере этой страны стал превосходным орудием романизации. Именно в Кельне начиналась дорога, которая, пересекши Маас у Маастрихта, шла через Тонгр, затем, пройдя «Угольный лес» (Garbonaria silva), вилась вдоль течения Мааса и Самбры, доходила у Камбрэ до Шельды и отсюда уходила на северо-запад — по направлению к Булони, и на юг — по направлению к Суассону и Реймсу. Это была артерия, по которой римская культура, столь деятельная на берегах Рейна, проникала вглубь Второй Бельгии, и еще до сих пор на ее протяжении, в областях Намюра, Генегау и Артуа, встречается множество фундаментов вилл и монетных кладов. В южных Нидерландах, где реки текут с юга на север, она была первой дорогой, которая вела с востока на запад. На протяжении всего средневековья она оставалась под названием «дороги Брунгильды» (chemin Brunehaut) главным сухопутным трактом между Рейном и морем, и еще теперь легко можно проследить по карте ее прямолинейную трассу. Эта трасса идет довольно точно по лингвистической границе, отделяющей в наше время валлонскую часть Бельгии от фламандской. Но в III веке путешественник, следовавший по пути из Кельна в Булонь, встречал справа и слева от дороги лишь народы, имевшие одинаковые обычаи и один и тот же язык. Оставив Тонгр, который, по-видимому, был вплоть до IV века довольно крупным городом[27], он попадал в чисто земледельческую страну, где городские поселения были редки и имели лишь второстепенное значение. Турнэ, Камбрэ, Теруань и Аррас, по всей видимости, были всего лишь небольшими провинциальными городами. Они служили рынками для окрестных крестьян, с успехом занимавшихся разведением лошадей и другого скота. Менапийские окорока и гуси моринов издавна приобрели широкую славу. Вдоль побережья были расположены солеварни, а в долинах Шельды, где текстильной промышленности предстояло впоследствии достигнуть столь необычайного расцвета, уже в это время выделывались благодаря особой тонкости овечьей шерсти, получавшейся в этой сырой местности, шерстяные ткани (sage) и шерстяная верхняя одежда (birri), вывозившиеся даже и по ту сторону Альп. В Турнэ существовала даже мастерская военного обмундирования[28]. Судя по раскопкам, страна была довольно густо населена. Следы римских жилищ, правда, особенно многочисленны по течению Самбры, Мааса и Мозеля, но не следует думать, что приморская область, в которой их было найдено значительно меньше, была пустынным краем. Почти полное исчезновение материальных следов римской культуры в этой местности легко объясняется морским наводнением III века, покрывшим песком старую торфяную почву, и в особенности тем, что в этих аллювиальных землях, где камни редки и. дороги, жители с давних времен начали использовать остатки римских памятников[29] в качестве строительного материала. Во всяком случае, мы знаем, что остатки римских поселений были многочисленны еще в XI веке в области Сент-Омера и что в окрестностях Брюгге, у Уденбурга, к этому же времени еще существовали крупные военные сооружения[30]. Ввиду этого не будет, пожалуй, слишком смелым предположить, что уже во времена Империи берег был защищен от морских наводнений плотинами и искусственными сооружениями. Но если жители будущих Нидерландов могли благодаря царившему в Империи миру возделывать свои поля, расчищать свои леса и достигнуть, по-видимому, довольно высокой степени благосостояния, то зато они в силу сложившихся условий должны были в, течение долгого времени сохранять особенности своих наречий и свои племенные культы. Влияние больших городов, окружавших на востоке и на юге эту крайнюю границу цивилизованного мира, могло быть лишь чрезвычайно слабым. Только христианству суждено было завершить их романизацию[31]. Новая религия, разумеется, прежде всего стала распространяться в наиболее населенных и богатых частях страны, т. е. в долинах Мозеля и Рейна. Не подлежит сомнению, что первые христиане пришли к берегам Мааса и Шельды именно из Кельна и Трира[32]. Впрочем, у нас нет никаких данных о подробностях принятия христианства. Предания, относящие создание различных епископств севера к I веку, не имеют под собой никаких исторических оснований и должны быть отнесены к числу легенд. Возможно, что епископальное устройство было впервые введено в Трире во второй половине III века. Со времени св. Матерна (313 г.) Кельн составлял отдельное епископство; и так же обстояло, по-видимому, и с Тонгром. Во всяком случае, спустя 30 лет и этот округ, несомненно, имел особое епископство[33]; св. Серваций, подпись которого имеется в актах Сардикского собора (343–344 гг.) и присутствие которого засвидетельствовано на соборе в Римини (359 г.), является первым подлинным епископом, о котором упоминает история Нидерландов[34]. Но если нам так мало известно о происхождении Тонгрского диоцеза, то еще гораздо меньше мы знаем о диоцезах Арраса, Турнэ и Теруаня[35]. Имея меньшее значение, чем Тонгр, и будучи более удалены на север от очагов римской культуры, эти города лишь очень поздно и очень медленно стали доступны христианству. К концу IV века морины были еще язычниками, и тот факт, что их апостол, святая Виктрис (около 383 г. — около 407 г.), происходила из отдаленного города Руана, заставляет предполагать, что диоцезы северной Бельгии имели в это время еще очень несовершенную организацию, или вернее, что образовавшиеся здесь христианские общины зависели от епископства Реймского, церковного центра городов этой провинции.II
К тому времени, когда в северных провинциях «Второй Белгике» и «Нижней Германии» стало распространяться христианство, в этих областях уже не царила больше та полнейшая безопасность, которой они пользовались в течение двух веков. Мощный барьер, удерживавший со времени Цезаря варваров на правом берегу Рейна, стал подаваться под натиском франков, и романизованным потомкам белгов предстояло вскоре навсегда уступить часть своей территории тем самым германцам, переправе которых через эту реку старались некогда помешать их отцы. Более чем вероятно, что медленная германизация Нидерландов началась еще до III века. Велико было число германцев, переправлявшихся через Рейн с целью поступить на службу в римские легионы или обосноваться в качестве земледельцев в бассейнах Шельды и Мааса. Впрочем, эти пришельцы, рассеявшись среди белго-римских племен, вскоре смешивались с ними. Из смешения старых обитателей с новыми, как и во всех колонизуемых странах, образовалась смешанная народность, обладавшая, однако, общей культурой. Среди населения провинций вскоре стало невозможным распознать элемент, внесенный варварами. Люди, населявшие страну между морем и Рейном, — будь то германцы или белги по своему происхождению, — все считали своим отечеством Римскую империю и все называли себя римлянами. Во второй половине III века жители северной Галлии впервые столкнулись с германцами, вторгнувшимися к ним в качестве завоевателей и грабителей[36]. Дезорганизованная гражданскими смутами в Империи рейнская армия не в состоянии была отбросить их. Полчища франков и аламанов стали опустошать провинции, между тем как другие варвары — фризы и саксы — совершали набеги на побережье, заселенное моринами и менапиями. Правда, императорам в конце концов удалось отбросить вторгнувшиеся полчища, но неисчислимы были причиненные ими бедствия. О них можно судить по тому, что Максимин в 286 году поселил франков в качестве колонистов в «опустошенных частях» областей моринов и треверов[37]. Была организована серьезная защита побережья (litus saxonicum): отныне предстояло оказывать сопротивление не только на Рейне, но также и вдоль морского побережья врагу, мощь которого обнаружилась только теперь. Эта первая тревога заметно изменила облик страны. Саксонским пиратам удалось все же поселиться в некоторых местах на побережье, и до сих пор нетрудно распознать путем изучения названий местностей следы их колонизации в окрестностях Булони[38]. Если же они реже встречаются в приморской Фландрии, то это, несомненно, объясняется тем, что оседание почвы, которое произошло в этой местности к концу III века и привело к исчезновению части ее под водой, заставило завоевателей удалиться, из нее, вызвав в то же время и окончательный уход отсюда романизованного населения[39]. Вскоре благодаря восстанию Карозия (286–293 гг.), которому поручена была охрана побережья, салические франки силой захватили Батавский остров и стали угрожать Бельгии с севера, в то время как рипуарии угрожали ей с востока. Таким образом северные провинции, находившиеся одновременно с трех сторон под ударом варваров, являлись лишь форпостом Римской империи на германской территории, и неустанные усилия, требовавшиеся для защиты этой открытой со всех сторон и лишенной естественных границ равнины, могли только на время отсрочить неизбежную катастрофу. С самого начала IV века область, ограниченная коленом, образуемым Рейном на протяжении от Кельна до моря, была театром непрерывных военных действий между франками и римлянами. Отброшенные Констанцием Хлором, Константином и Юлианом, вторгнувшиеся завоеватели неустанно продолжали свои нападения, и отражение их ударов становилось с каждым днем все труднее. Область к северу от отрогов Арденн и Генегау, по которой все время проходили войска и которую грабили варвары, превратилась постепенно в пустыню, и население ее исчезло. Рейн не был уже больше достаточным оплотом. Пришлось возвести вторую защитную линию за ним. С помощью остатков сооружений, колонн, надгробных плит старались насколько можно укрепить города[40]. Были возведены укрепления по берегам Мааса, построены редуты и вырыты рвы вдоль большой дороги из Булони в Кельн[41]. Эти новые укрепления свидетельствовали лишь об опасности, которую они не в состоянии были отразить. В 358 г. победитель салических франков, Юлиан вместо того, чтобы отбросить их за Масс, позволил им поселиться в необитаемых частях Токсандрии (Кампин)4. Правда, они заселили эту область в качестве римских подданных, но когда в начале V века (402 г.) Стилихон собрал вокруг себя северные легионы, чтобы защитить Италию от готов, франкские племена, видя перед собой огромные свободные пространства, расселились в Бельгии и начали заселять долины Шельды и Лиса. С этого времени Рейн перестал уже быть северной границей Римской империи. Граница шла теперь по линии, проходившей через Марк (Па-де-Калэ), Аррас, Фамар и Тонгр[42]. Вскоре она еще больше отклонилась к югу. Около середины V века салические франки захватили Турнэ, между тем как рипуарии перешедшие через Рейн несколько позднее 406 года, идя с востока на запад, переправились на левый берег Мааса. Таким образом, на севере в провинциях Бельгии и Германии, предоставленных Римом их собственной участи, как и во времена появления в них Цезаря, снова противостояли друг другу два народа — германцы и белго-римляне. Если в наши дни установить на карте между Дюнкирхеном и Маастрихтом лингвистическую границу, отделяющую в южных Нидерландах жителей, говорящих на романском языке, от их соотечественников, говорящих на германском языке[43], то сейчас же бросаются в глаза два очень любопытных факта. Эта граница составляет непрерывную линию, не образуя нигде излома: установленное ею разграничение между обоими народами абсолютно четко. На всем ее протяжении фламандский и валлонский языки, подобно морю вдоль побережья, соприкасаются друг с другом, не сливаясь: внутри отделяющихся ею лингвистических групп нигде нельзя встретить чуждых языковых островков или клиньев. Это положение объяснялось бы очень просто, если бы языковая граница совпала с географической и проходила бы, например, по течению большой реки или вдоль подножья горной цепи. Но фактически она нигде не определяется ни направлением рек, ни рельефом почвы. Почти повсюду она проходит по равнине, и нет никакого материального признака, который предупреждал бы путника о том, что он ее пересекает. Столь странное положение, не имеющее, пожалуй, аналогии ни в какой другой стране, становится совершенно понятным, если принять во внимание исторические условия, в которых произошло германское завоевание, и если учесть состояние страны в это время. Салические франки V века не обрушились на Нидерланды подобно потоку, сносящему все на своем пути. С того момента, как Римская империя разрешила им обосноваться в Токсандрии, с того момента, как их многовековые усилия утвердиться на левом берегу Рейна увенчались успехом, они надолго прекратили борьбу с римскими армиями и принялись возделывать землю своего нового отечества. Эта задача облегчалась для них тем, что, так как коренное население покинуло эти опустошенные в результате непрекращавшихся войн области, то первые поселения новых пришельцев были основаны на полупустынных равнинах. Позднее, когда отозвание в Италию северных легионов открыло им дорогу в Бельгию, они двинулись вглубь страны по долинам рек Лис и Шельды и окончательно завладели Фландрией и значительной частью Брабанта. По-видимому, все это произошло мирно, без необходимости браться за оружие. По пустынным пастбищам менапиев франки продвигались вперед, не встречая сопротивления. Попадавшихся им очень немногочисленных белго-римских крестьян, задержавшихся в этой открытой, издавна подвергавшейся нашествиям местности, они убивали или обращали в рабство. За завоеванием следовало заселение новых земель. В названиях ряда фламандских деревень сохранилось на протяжении веков слегка измененное суффиксом ghem (heim, hem) родовое имя воина, некогда осевшего здесь вместе со своей семьей. Заселение северной Бельгии франками не связано с именем какого-нибудь исторического лица, так как оно было делом целого народа, действовавшего без заранее составленного плана, под влиянием естественного импульса, побуждавшего его выйти за пределы слишком тесных для него границ и расселиться по расстилавшимся перед ним пустым пространствам. Но когда авангард завоевателей, продолжая подвигаться по течению Шельды, дошел до окрестностей Турнэ, ему пришлось сражаться. Солдаты Аэция, опираясь на линию римской дороги, препятствовали переходу через нее. К этому времени относится появление во главе салических франков Хлогиона — их первого короля, чье имя дошло до нас. Под его предводительством они между 431 и 451 гг. захватили области, расположенные к северу от Соммы, на востоке же завоевали Турнэ. Тем не менее они осели плотной массой лишь в районе Калэ и Булони, население которых, издавна подвергавшееся нападениям морских пиратов с побережья, должно было быть очень редким, и их язык надолго вытеснил латинский[44]. На юге же и на востоке, в долине Соммы, как и в окрестностях Камбрэ, Турнэ и Арраса, они смешались со старыми обитателями, которые были слишком многочисленны, чтобы быть изгнанными или поглощенными ими. К тому же в тот момент, когда франки подошли к римской дороге, они имели уже в длинах достаточно обширную заселенную территорию. Отныне они продолжали свои завоевания уже не ради создания новых поселений. Эти завоевания приобретали теперь, скорее, политический характер: они были выгодны для короля, но не для народа. Правда, число салических франков, обосновавшихся в Генегау, Артуа и Амьенуа, все еще было очень значительно. Но созданные ими в романских областях германские островки обречены были на исчезновение. Рассеянные среди людей чуждой расы, находясь в непрерывном общении с более высокой культурой, эти форпосты в конце концов разделили судьбу бургундских и вестготских поселений на юге Галлии. Они могли бы сохранить в неприкосновенности свой национальный характер только в том случае, если бы им был обеспечен непрерывный приток все новых сил. Но поток франкского вторжения был приостановлен, и салические франки, рассеянные среди латинских народностей, вскоре смешались с ними. Нетрудно объяснить, с другой стороны, почему расселение салических франков не распространилось дальше за нынешние границы разделения фламандского и валлонского языков в Бельгии. Действительно, если в наши дни в области, простирающейся от Антверпена до Монса, нет никаких естественных препятствий для завоевателя, наступающего с севера, то совершенно не так обстояло дело в V веке. В это время вся северная часть Нидерландов покрыта была густым лесом, тянувшимся без всякого перерыва от берегов Шельды до сланцевых возвышенностей Арденн. Его называли «Угольным лесом»[45]. Именно эта «лесная стена» и удержала франков в долинах Кампина, Брабанта и Фландрии. Эти ровные и открытые земли были удобны для колонизации; новые поселенцы нашли почву, не требовавшую долгого и упорного труда по расчистке и подъему целины. Вторгнувшиеся завоеватели не сделали поэтому никаких попыток пробраться через лес: основная масса их поселений дошла лишь до его опушки. Салическая Правда, самый древний источник, сохранивший нам название «Угольного леса», считает его — и это очень показательно — границей расселения франкского народа[46]. По другую сторону этой границы, на полянах и в лесных долинах, утвердились романизованные белги, которые известны были у германцев под названием «Вала» (Wala) и которые являются непосредственными предками валлонов. Но как бы значительно ни было — до и во время нашествий — проникновение германцев и в эту лесную область, оно все же было недостаточным, чтобы внести очень глубокие изменения в характер или язык ее обитателей. Лес был таким же надежным прикрытием от завоевателей, какими служили в эту эпоху Альпы для ретийско-ромайского населения и для италиков кантона Тессин, или холмы Уэлса и Корнуэлса — для бриттов Англии. Защищенные с северной и западной стороны «Угольным лесом», валлоны были прикрыты с востока еще более неприступным массивом Арденнских лесов. Рипуарии не расселились дальше равнин Газбенгау, а полчища аламанов, пройдя через пустоши Эйфеля, тоже встретили на своем пути заслон из лесов. В настоящее время от Арденнских лесов остались лишь жалкие остатки, а «Угольного леса» почти совершенно не существует. Однако путем изучения названий местностей удалось не только определить крайнюю границу, достигнутую на востоке колонизацией аламанов, а на юге — колонизацией франков, но в то же время установить размеры пространств, покрытых некогда огромными лесами, остановившими, наподобие мощной плотины, потоки завоевателей и сохранившими в окружении германцев самую северную из романских народностей. И поныне в современной Бельгии, по происшествии более чем 1400 лет, первоначальное положение не изменилось: фламандцы и валлоны продолжают жить по соседству друг с другом, занимая, почти те же места, которые были заняты их предками около середины V века. И на северных равнинах естественные препятствия также отделили друг от друга территории, занятые завоевателями. Рипуарии, переправившись через Маас, остановились на краю Кампинских болот[47]1, к западу от которых начиналась страна салических франков. Последняя, в свою очередь, не простиралась до моря. Ее крайняя граница на западе определилась, по-видимому, невозделанной лесистой областью, которая от Сен-Николя до Туру пересекала Фландрию по диагонали; последние следы ее лесов исчезли лишь несколько лет тому назад[48]. Впрочем, лежавшая за этими лесами и болотами прибрежная область, наполовину залитая водой, и не могла соблазнять поселенцев. Основная масса салических франков обошла эти бесплодные земли, точно так же, как она обогнула «Угольный лес». Лишь очень немногие из них проникли в приморскую Фландрию, которая, до тех пор пока повышение почвы не сделало возможным начать здесь борьбу с морем, имела очень редкое население из явившихся сюда морским путем фризов и саксов, наложивших свой отпечаток на некоторые особенности языка, права и обычаев этой страны[49].III
Вместе с романизованным населением на севере Нидерландов в V веке исчезло также и христианство. Но если уход первого был окончательным, то отступление второго могло быть лишь кратковременным. Крещение Хлодвига (496 г.) не вызвало немедленной христианизации франков. Если воины, сопровождавшие короля в Галлию, тотчас же последовали его примеру, то совсем не так обстояло дело с основной массой франков, поселившихся по другую сторону «Угольного леса». Церкви пришлось преодолеть здесь большие трудности, и она лишь очень медленно добивалась успехов. Правда, ей не пришлось преодолевать здесь сильного национального сопротивления. Ни из чего не видно, чтобы языческие боги нашли себе здесь рьяных защитников. Церковь не сумела, однако, воспользоваться столь благоприятными обстоятельствами. Она не в состоянии была энергично и решительно взяться за дело христианизации северных франков. Действительно, вражеские нашествия совершенно разрушили в северной Галлии церковное устройство. Диоцезы, к моменту вторжения варваров находившиеся в процессе организации или только недавно возникшие, исчезли. Во всех областях, где обосновались завоеватели, христианские общины рассеялись, и отправление культа прекратилось. Словом, католицизм не пережил римских поселений, на базе которых он вырос и которые в своем крушении увлекли его за собой[50]. Процесс восстановления диоцезов севера был чрезвычайно мучителен. Проповедь Евангелия среди франков была начата не духовенством этих диоцезов, несомненно, полуварварским[51]. Оно было делом миссионеров, явившихся из Галлии и поддерживавшихся меровингской династией, заинтересованной — но вполне понятным соображениям — в распространении в своих северных владениях религии, ставшей со времени крещения Хлодвига, ее религией. Среди миссионеров выделялся пламенный и страстный св. Аманд. Этот аквитанский монах обладал душой и темпераментом апостола. Во время его паломничества в Рим ему, по его словам, явился св. Петр, приказавший ему посвятить себя проповеди Евангелия среди язычников севера. Он без колебаний повиновался. Он был возведен королем Хлотарем II в сан епископа и через короткое время, около 629 г., вместе с несколькими товарищами, обосновался при слиянии Шельды и реки Лис, как раз в самом месте, где позднее воздвигнут был город Гент. Здесь им было создано в честь св. Петра аббатство — первое католическое учреждение в стране салических франков[52]. Будучи более ревностным, чем осторожным, по своей природе, Аманд счел возможным приступить к обращению своей паствы. Но когда по его совету король предписал крещение в обязательном порядке, то народ восстал, и обескураженный неудачей Аманд покинул Фландрию, решив поискать на отдаленных берегах Дуная других душ для обращения в христианство. Однако ему предстояло впоследствии опять вернуться к франкам. В 664 году мы встречаем его епископом Тонгра. Но он лишен был, по-видимому, качеств, необходимых для управления диоцезом. По истечении трех лет, утомленный бездеятельностью и грубостью подчиненного ему варварского духовенства, он отказался от своих обязанностей и вновь одел свое монашеское облачение — единственную одежду, которая подходила для такого энтузиаста и идеалиста, как он. Возраст не ослабил его энергии. Как будто задавшись целью добиться чести проповедовать слово Божие среди самых различных народов, он отправился на склоне своих лет миссионером к баскам. В конце концов, после тщетных поисков венца мученика, он возвратился окончить свои дни в те самые северные страны, где когда-то началась его апостольская деятельность. Он умер в 672 г.[53] в Эльнонском монастыре, который был им построен в окрестностях Турнэ и носил с тех пор его имя. Дело св. Аманда было продолжено двумя другими аквитанцами: в долине Шельды св. Элигием, которому Дагоберт I передал в 641 г. диоцез Нуайон-Турнэ, а в долине Мааса — св. Ремаклем (умер в сентябре 671 г.), призванным в 650 г. Сигебертом III для занятия епископской кафедры в Тонгре, Но дело это было завершено лишь в начале VIII века св. Ламбертом (умр ок. 705 г.) и св. Губертом (умер в 724 г.), которые обратили в христианство последних язычников Токсандрии, Брабанта и Арденн. Таким образом, для христианизации населения всей обширной области от устья Шельды до «Угольного леса» потребовалось больше двух веков. Это кажется тем более странным, что франки не были варварами-фанатиками, что их короли были давно католиками и что доступ в их страну был легок и безопасен. Но обращение язычников, проводимое без общего плана, предоставленное индивидуальной инициативе, лишенное руководства и системы, могло происходить лишь крайне медленно. Местное духовенство не только не помогало миссионерам, но последние, по-видимому, с презрением отвергали всякую мысль о том, чтобы заставить их служить своей цели. Мы видели, что св. Аманд отказался от своих епископских обязанностей в Тонгре, и мы знаем, что несколько позднее св. Ремакль последовал его примеру. Меровингские миссионеры не создали новых епископств среди франков Бельгии. Здесь не было ничего, похожего на то, что делалось среди германских народов по ту сторону Рейна, где наряду с обращением язычников происходило создание епископств на завоеванной для церкви территории. Здесь ограничивались прикредлением новых христиан к лежавшим по соседству епископским городам. Церкви этих городов, разрушенные во время нашествий варваров, вскоре оправились. Уже в начале меровингской эпохи появились епископы в Маастрихте[54], Теруане, Турнэ[55] и Аррасе[56]. Разумеется, епископы влачили вначале очень слабо обеспеченное существование. Их власть не простиралась за пределы округи занимаемых ими городов, и в первое время даже само их местопребывание было далеко не постоянным. В VI веке аррасские епископы обосновались в Камбрэ, епископы из Турнэ — в Нуайоне[57], а в начале VIII века св. Губерт перенес епископскую резиденцию из Маастрихта в Льеж. Дело реорганизации церкви на севере происходило под влиянием чисто римских идей. Не изгладилась еще память о тех переменах, когда административные границы Римской империи совпадали с церковными, и соответственно с этим в официальный титул епископов входили названия старых городов. Так, епископы Маастрихта-Льежа назывались episcopi Tugrorum, епископы же Теруаня — episcopi Morinorum, несмотря на то, что тунгры и морины уже перестали существовать к этому времени. Хотя эти названия и не соответствовали больше действительности, но они все же свидетельствовали о притязаниях их носителей на северные области. Поэтому, когда язычество было уничтожено по эту сторону «Угольного леса», епископы сочли совершенно естественным вернуть себе свои владения и восстановить свою епископскую власть на принадлежавших им в римские времена территориях. Льежское епископство простиралось на севере от Мааса до Диля, епископство Камбрэ-Аррас — от этой последней реки до Шельды, епископство Нуайон-Турнэ — от Шельды и морского побережья до Звина, а долина Изера была прикреплена к Теруаню. Таким образом, церковь почти восстановила в колонизованной франками местности границы римских «civitates» тунгров, нервиев, менапиев и моринов. Первый из названных диоцезов был частью Кельнского архиепископства; что же касается трех остальных, то они были подчинены Реймскому архиепископству. Территория Нидерландов делилась с этого времени вплоть до XVI века между двумя большими церковными провинциями, соответствовавшими прежним имперским провинциям «Второй Белгике» и «Нижней Германии». Обращенные варвары были распределены между теми же округами, которые Римская империя некогда создала для своих подданных кельтского происхождения. Вплоть до царствования Филиппа II географическое распределение церковных округов в Нидерландах оставалось в том же виде, как и в римские времена, и лишь в 1559 г. территории, приобретенные для христианской церкви в VII веке св.Амандом и св. Ремаклем, были изъяты из ведения епископских городов северной Галлии и образовали новые диоцезы. Эти факты привели к очень важным последствиям. Церковь, при создании диоцезов, не считалась с этнической и языковой границей и, включая в них франков наряду с белго-римлянами, до известной степени подготовила жителей Нидерландов к той роли посредников между римской и германской культурой, которую они призваны были сыграть в течение последующих веков. Именно этим история Бельгии с самого же начала существенно отличается от истории северных Нидерландов. Образование Утрехтского епископства дало последним чисто германский центр церковного управления. Они не были включены, в отличие от южных соседей, в галльские церковные округа, и источники их духовной жизни остались совершенно свободными от каких бы то ни было римских влияний. По мере того как новая вера все более укреплялась в их душах, франки все сильнее подпадали под влияние тех романизованных областей, где жили епископы, где воздвигались соборы, где хранились реликвии почитавшихся ими мучеников и где формировалось их духовенство. У них были общие с валлонами религиозные центры. Там, по ту сторону густых лесов, остановивших их колонизацию, находились очаги их духовной культуры. Римские города, превратившись в их церковные центры, перестали быть для них чужими городами. Под влиянием церкви смягчился национальный антагонизм и лингвистическая граница перестала быть барьером между людьми, которых она отделяла друг от друга. Жители германских частей диоцезов Льежа, Камбрэ-Арраса и Нуайон-Турнэ в известном отношении ориентировались на юг, нисколько не жертвуя из-за этого чистотой своей расы и не теряя своего языка. Таким образом, франки Шельды и Мааса уже с давних пор в известной степени романизовались. После V века между обоими нидерландскими народами больше не происходило смешения. Но так как они находились под одним и тем же культурным влиянием, так как они вынуждены были ввиду одинаковой религии тяготеть к одним и тем же пунктам, то невозможно было, чтобы они продолжительное время могли коснеть во взаимной вражде и изолированности друг от друга. Церковь стала отрывать от германского мира франков, живших в долинах Бельгии. Политика Меровингов бессознательно продолжала это дело в том же направлении. Известно, что на протяжении VII века между романской и германской частями франкской монархии — Нейстрией и Австразией — развивался все усиливавшийся антагонизм. При этих условиях естественно было ожидать присоединения салических франков бассейна Шельды к Австразии, на территории которой жили родственные им племена. Между тем дело обернулось совершенно иначе. Любопытное явление: пограничная линия между Нейстрией и Австразией, проходившая почти на всем своем протяжении вдоль лингвистической границы, в Нидерландах внезапно отходила от нее и шла по линии, отделяющей на территории Брабанта Льежское епископство от епископства Камбрэ. Таким образом, церковные округи определили здесь контуры политических границ. Государство, вместо того, чтобы учесть национальную неоднородность населения, просто приняло разграничение, установленное между ним церковью. Оно предпочло забыть, что жители северных диоцезов принадлежали к различным этническим группам. Те, которые находились в ведении епископов Камбрэ, Нуайона и Теруаня, — будь то франки или валлоны — были нейстрийцами, те же, на которых простиралась власть Льежского епископа, считались австразийцами. Названия, означавшие повсюду этнические группы, имели в Бельгии лишь чисто политическое значение. Результатом первой же границы, проведенной светской властью на бельгийской земле, было отделение от Германии салических франков Фландрии и включение в нее валлонов из Арденн, Намюрской области и Генегау. Разумеется, этому поразительному факту не следует придавать преувеличенного значения. Уже с конца VIII века ни Нейстрии, ни Австразии больше не существовало и только что указанная демаркационная линия стерлась. Однако мы увидим в дальнейшем, что позднее, в 843 г., ей суждено было быть восстановленной примерно в том же виде. Как бы то ни было, но нам кажется небезынтересным отметить, что уже в самые отдаленные времена лингвистическая граница в Бельгии отнюдь не означала политической границы. Таким образом, исторические условия, воздействовавшие на салических франков тотчас же после завоевания, не позволили им соблюсти в такой же чистоте и сохранности, как их соплеменникам в Германии, самостоятельность и, так сказать, автономию своей расы, не говоря уже о ее характерных особенностях. Между тем как вплоть до того времени, когда меровингская монархия стала клониться к упадку, различные германские племена продолжали сплачиваться в национальные герцогства и объединялись соответственно естественному родству по крови и по языку, вокруг наследственного вождя, власть которого почти равнялась королевской власти, — мы не видим ничего подобного в бассейне Шельды. Каждому из этих племен — рипуариев, аламанов, тюрингов — начиная с VII века соответствовало отдельное герцогство; однако никогда не существовало салического герцогства. Но еще более поразительным должно казаться то, что никогда не называли «Francia» те территории, которые были колонизованы франками к северу от «Угольного леса» и откуда их воины, под предводительством Хлодвига, отправились на завоевание Галлии. Присвоенные им названия — Фландрия, Брабант — не являются этнографическими обозначениями. Более того: сами обитатели этих стран вскоре забыли свое национальное имя и предоставили присвоить его себе галло-римлянам юга. На протяжении всего средневековья они именовали себя сами и именовались своими соседями-валлонами — «Thiois (Dietschen)».IV
Если бельгийские франки, распределенные среди галло-римских диоцезов и отделенные от основной массы германских народов Австразии, раньше, чем последние, испытали на себе влияние чужой культуры, то и в то же время не видно, однако, чтобы романские народности из областей Генегау и Артуа оказали на них с самого начала хоть какое-нибудь воздействие. Они находились прежде всего под влиянием галло-римской церкви, а не белго-римского народа. Вместо того чтобы содействовать романизации своих соседей, валлоны, наоборот, были германизованы ими. Несмотря на сохраненный ими латинский язык, они были с V века наполовину германским народом. Они не только в значительной степени смешались по крови с завоевателями, но, кроме того, восприняли их обычаи и их право. Они видели, как франкские короли вместе со своими дружинниками поселились на развалинах их городов, и в тот момент, когда они больше всего нуждались в церкви, дезорганизация последней лишила их защиты епископов. Победители установили у них такой же порядок, какой мы встречаем в Англии в период нормандского завоевания. Короли захватили земли фиска, в то время как сопровождавшие их военачальники присвоили себе приглянувшиеся им земельные участки, распределили между собой достояние церкви и поженились на дочерях местных крупных землевладельцев. За время от Хлогиона до Хлодвига беззащитная страна испытала всю тяжесть военной оккупации. Но совершенно другое время настало, когда Турнэ и Камбрэ перестали быть королевскими резиденциями и когда Меровинги перенесли свою резиденцию в бассейн Сены, а их армия последовала за ними. Известная доля чужеродного элемента, осевшего среди населения, была постепенно поглощена им. Между пришельцами и коренным населением установилось равновесие, временно нарушенное в интересах первых. Установилось взаимное влияние обоих элементов друг на друга. Менее многочисленные, но более могущественные, франки придали социальной жизни в валлонских областях сохраненный ею на протяжении веков облик, но зато они усвоили латинский язык, на котором говорили повсюду вокруг них. Германское влияние господствовало в области права, романское — в языке. «Кутюмы» Валлонии так же непосредственно связаны с салическим законом, как и «кутюмы» Фландрии и Брабанта, между тем как о национальном языке завоевателей Намюрской области, Генегау и Артуа теперь, по прошествии 14 веков, свидетельствуют одни лишь названия местностей. Германизация валлонов завершилась в то же самое время, что и обращение в христианство северных франков. С того же момента, как оба народа были объединены в одних и тех же диозецах, они, подчиняясь общему праву и исповедуя общую религию, не могли оставаться больше чуждыми друг другу. Общность религиозных и правовых воззрений — этих чрезвычайно важных факторов всякой культуры — не могла не сблизить в конце концов оба народа. Сближение должно было быть тем более тесным, что к действию этих факторов вскоре присоединилось не менее сильное влияние факторов экономических. Франки, занявшие северную часть Бельгии, естественно, обосновались здесь в соответствии со своими национальными обычаями. Каждый свободный человек получил надел (mansus), который он обрабатывал с помощью своих детей, своих зависимых людей (clients) и своих рабов. Эти земельные участки были, согласно салическому обычаю, либо разбросаны в различных местах по равнине, либо объединены в небольшие группы. Нигде нельзя было встретить деревень, характерных для большинства германских областей, с земельной площадью, разделенной на различные «геваны» (gewannen) и чересполосицей составных частей различных наделов (mansi). Вокруг каждого дома простирались принадлежавшие ему поля и луга. Сам дом окружен был огороженным двором, в котором находились, в виде отдельных построек — сарай, амбар, пекарня и т. д. Все это сохранилось вплоть до наших дней, и фламандская ферма XX века, — если мысленно заменить кирпичные стены глиняными, а красные черепичные крыши желтыми соломенными, — представляет собой правильное изображение франкской усадьбы V века[58]. Однако если внешние формы остались неизменными, то в экономическом положении страны вскоре произошли очень глубокие изменения. Поместный строй со свойственными ему различными формами держаний и созданным им многообразием отношений зависимости между людьми и между землями должен был достаточно скоро установиться в этой стране и радикально изменить здесь чрезвычайно простую систему, введенную первоначальной колонизацией. Эта последняя система могла бы, пожалуй, долго продержаться, если бы франки Фландрии и Брабанта жили, подобно, например, фризам, без всякой связи с Галлией, предоставленные, так сказать, самим себе. Но при тех исторических условиях, в которых они находились, эта изоляция была, как мы видели, невозможна. Подобно тому, как они имели общие с белго-римлянами церковные округа, точно так же они с давних пор находились под влиянием их общественного строя. Те из них, которые осели к югу от лингвистической границы, нашли здесь землю сосредоточенной в руках нескольких крупных собственников, и вместо свободных крестьян встретили население, состоявшее из колонов и оброчных держателей (цензитариев) — людей более или менее прочно прикрепленных к земле и обязанных несением всякого рода оброков и повинностей своим землевладельцам. Они оставили эту организацию в неприкосновенном виде. Во многих поместьях галло-римский хозяин был экспроприирован либо королем, либо кем-нибудь из его дружинников (антрустионов), либо каким-нибудь военачальником; в этом и состояла вся перемена. Впрочем, старые собственники не исчезли совсем. Те из них, которым удалось сохранить свои владения, образовали вместе с «новыми богачами» германского происхождения класс «potentes» (могущественных), своего рода земельную аристократию. Эта аристократия, естественно, должна была распространить свое влияние на северные территории. Разоренные плохим урожаем крестьяне, нуждавшиеся в помощи вдовы, отдавали им в собственность свои владения и в качестве держателей переходили на положение зависимых от этих крупных землевладельцев людей. Невозможно было противостоять влиянию богатства и силы. В германском обычном праве имелось немало норм, предназначенных для охраны неприкосновенности наследственных родовых владений, но эти слабые ограничения были легко уничтожены. К тому же короли вербовали своих должностных лиц из того же самого класса крупных земельных собственников, так что к его экономическому превосходству присоединялась еще вся сила законной власти. Религиозное рвение со своей стороны тоже немало содействовало введению поместного строя у франков. Начиная с VII века области Артуа, Генегау и Намюра покрылись монастырями. Многие из них обязаны были своим происхождением тем пламенным миссионерам, которые в таком большом количестве появлялись в Западной Европе из Ирландии в течение всего меровингского периода. Фуйаны, Ултаны, Мононы[59] познакомили Бельгию с образцами того своеобразного аскетизма, лучшими представителями которого были св. Коломбан и св. Галл. Вокруг келий этих благочестивых отшельников их последователи воздвигли вскоре другие кельи, и эти первоначальные скиты в очень короткое время превратились в монастыри, увеличившие число религиозных учреждений, созданных либо миссионерами, вроде св. Аманда или св. Ремакля, либо богатыми светскими людьми или благочестивыми женщинами из аристократии. Уже в конце VIII в. число такого рода аббатств было поразительно велико: Сен-Мартен (в Турнэ), Сен-Пьер (в Генте), Лобб, Сен-Гислен, Креспен, Сент-Гертруд (в Нивелле), Сент-Водри (в Монсе), Мустье на Самбре, Фосс, Анденн, Малонь, Волсор, Гастьер, Насонь, СенТрон, Сен-Юбер, Ставело и Мальмеди и т. д. Местные богатые семьи старались превзойти друг друга в щедрости по отношению к ним, выделяя им без счета крупные поместья из своих аллодов. Согласно преданию, аббатства Монса, Омона, Суаньи и Мобежа обязаны своим происхождением одной из этих богатых семей. Короли, со своей стороны, с течением времени передавали монахам земли фиска, принадлежавшие им в районах Турнэзи, Артуа, «Угольного леса» и Арденн. На севере свободные люди, желавшие обеспечить себе благочестивым поступком царство небесное, завещали свои имущества монастырям. Однако надо признать, что церковные земли не были столь обширны во франкских областях, как в валлонских. Значительнейшая часть земель большинства старых аббатств, созданных в романских странах, была расположена в валлонских областях. В германских же областях до конца каролингской эпохи не было крупных монастырей, за исключением аббатства Сен-Пьер (в Генте) и Сен-Трон. Тем не менее можно утверждать, что начиная с VII века существовавшая первоначально экономическая противоположность между территориями, разделенными лингвистической границей, если и не совсем исчезла, то, во всяком случае, сильно смягчилась. В отношении форм землевладения между ними не было уже больше коренного различия, а было лишь различие в степени.V
В противоположность тому, что можно наблюдать во многих других государствах, созданных силой оружия, те территории в Галлии, на которых происходил процесс формирования и укрепления победоносной династии, не играли после завоевания доминирующей роли. Нидерланды отнюдь не заняли в меровингской монархии того места, которое можно было бы сравнить с положением, занятым позднее, например, Арагоном и Кастилией в Испании или Бранденбургской маркой в Пруссии. С того момента как франкские короли покинули берега Шельды, чтобы больше к ним не возвращаться, они забыли о древней колыбели своего народа, о тех вечно покрытых туманами землях, где в своей, отныне позабытой могиле, покоилось покрытое золотом тело Хильдерика[60]. Чем больше они романизовались, тем слабее становился их интерес к области салических франков, затерявшейся на границах королевства, на опушке обширных лесов. Достигнув вершины могущества, они совершенно забыли свою исконную родину, подобно тому как впоследствии люксембургские императоры забыли свое старое родовое герцогство. В связи с этим бельгийские области приняли лишь очень слабое участие в событиях, развернувшихся с VI по VII в. на территории Галлии. Они находились в стороне, и их жители вполне могли применить к себе то прозвание «extremi homines» (чужаки), которое некогда было дано их предшественникам, моринам. Каролингская эпоха навсегда покончила с этим положением вещей. Карл Великий, раздвинув границы христианской Европы до Эльбы, тем самым предоставил Нидерландам то превосходное центральное положение, которое они, начиная с этого времени, всегда занимали на Западе. Вместо того чтобы продолжать коснеть в своей изолированности на границах франкского государства, они оказались теперь в самом центре средневековой культуры, являвшейся делом обеих больших народностей, романской и германской, деливших между собой их территорию. Условия, определявшие отныне их историческое развитие, были тем самым даны. С тех пор в Европе не было таких политических, религиозных, экономических или социальных движений, отраженного влияния которых они не испытали бы на себе. Именно через их страну происходил, так сказать, взаимный обмен обычаями и взглядами между южными римскими и германскими областями. Они часто являлись для Европы полем битвы, но не менее часто они служили ей также опытным полем в социальном отношении. На их почве, созданной аллювиальными отложениями рек, одна из которых текла из Германии, а другие — из Франции, развилась с течением веков совершенно особая культура, образовавшаяся из смешения весьма различных элементов, одновременно германская и романская, словом, не национальная в тесном смысле, а европейская культура. Ряд других причин также содействовал созданию из стран, лежавших между Рейном и морем, одной из наиболее жизнеспособных частей франкской монархии. Именно здесь находилось большинство земель, принадлежавших новой династии[61], именно здесь расположены были ее излюбленные резиденции и простирался обширный Арденнский лес, куда ежегодно осенью императоры приезжали охотиться на оленей и кабанов. Нивелльский монастырь обязан своим происхождением Итте, жене Пипина Ланденского, дочь которой Гертруда приняла здесь постриг; сестра последней, святая Бегга, является основательницей Анденнского аббатства; кроме того, история первых лет Сен-Юберского аббатства также связана с воспоминаниями о Каролингах. Благодаря пристрастию Карла Великого к Аахену Бельгии выпало на долю играть роль окрестностей столицы Империи, и она стала исключительно оживленной страной. Все те, кто направлялся из различных мест христианского мира к этому северному Риму, — посланники, missi dominici, епископы, придворные, англосаксонские монахи, грамматики из Италии, странствующие фокусники, торговцы, нищие и бродяги — вынуждены были пересекать ее территорию. Бельгийские монастыри сделались европейскими гостиницами; необычайно усилилось движение по римской дороге, проходившей через «Угольный лес»; воды Мааса и Шельды бороздили суда, подвозившие императорскому двору большие транспорты хлеба и вина.
Статуэтка, изображающая одного из Каролингов
Личное влияние Карла Великого особенно сильно сказалось в этих областях, которые он так хорошо знал и где находилась большая часть его наследственных владений. Он оформил их, так сказать, собственной рукой по образцу созданных им учреждений. Образовавшиеся здесь повсюду крупные поместья получили и сохранили в течение веков устройство, соответствовавшее постановлениям Capitulare de villis («Капитулярия о поместьях»). С другой стороны, одна из таких наиболее важных государственных реформ Карла Великого, как назначение скабинов (шеффенов или эшевенов) во главе сотенного судебного собрания вместо созыва на это собрание свободных жителей сотни, нигде не укоренилась так прочно, как в Нидерландах. Вплоть до конца XVIII века должность скабинов (эшевенов) оставалась самой характерной и национальной судебной должностью в Бельгии, и уже по одному этому примеру можно оценить всю силу влияния Каролингов на эту страну. Император стремился также насадить франкские учреждения среди приморских фризов и саксов, которые до этого вели изолированное существование среди дюн и болот. Ему, по-видимому, пришлось преодолеть попытки сопротивления этих полуварварских народов. Образовались целые объединения недовольных (гильдии), навербованные из сервов, но, по-видимому, поддерживавшиеся крупными землевладельцами Фландрии и Мемписка, так что Людовику Благочестивому пришлось в 821 г. поручить своим «missi» уничтожить эти объединения[62]. Нидерландские епископы, живя по соседству с Карлом и нередко даже находясь в близких отношениях с ним, поставлены были в самые благоприятные условия, так как они имели возможность использовать заботу, которую он всегда проявлял к церкви, в интересах своих собственных диоцезов. Если бы даже мы не имели такого убедительного доказательства этой заботливости, каким является письма Карла к Жербальду Льежскому[63], то об огромных ее размерах мы могли бы судить по ее результатам. Действительно, в течение IX века от варварства и невежества, в которых св. Аманд упрекал когда-то духовенство Тонгра, не осталось никакого следа. Священнослужители стали заниматься наукой, и император взял на себя задачу доставить им учителей. Он поручил Эйнгарду руководство обоими гентскими аббатствами — Сен-Пьерским и Сен-Бавонским. Один из лучших учеников Алкуина, Арно, будущий архиепископ Зальцбурга, был аббатом Эльнона. В Сен-Сове (в Валансьене) находился итальянец Георгий, построивший знаменитый гидравлический орган, хранящийся в Аахенском дворце. Почти во всех монастырях страны жили ученые ирландские или англосаксонские монахи, на обязанности которых лежало обучение послушников классической латыни, стихосложению и искусству письма. Женские монастыри тоже не остались в стороне от этого движения. В Мезейке святые Гарлиндис и Ренула занимались в часы досуга художественным вышиванием или прилежно расписывали миниатюрными рисунками ценные рукописи[64]. Повсюду приступлено было к созданию библиотек, к писанию анналов, житий святых, к обработке бессвязных рассказов меровингских агиографов. Благодаря этому Нидерланды, где было множество монастырей и куда стекались иностранные учителя, вскоре превратились, бесспорно, в один из наиболее влиятельных центров литературной и художественной жизни. Ирландец Седулий[65] был оракулом кружка ученых, собиравшегося вокруг льежского епископа Гартгара, в украшенных живописью и цветными окнами залах нового епископского дворца. В другом конце страны школы Сент-Аманда под руководством Гукбальда — слава о котором как поэте, историке и музыканте распространилась по всей Западной Европе, — приобрели столь широкую известность, что Карл Лысый доверил им воспитание своих сыновей[66]. Эти факты очень показательны, но сколько других аналогичных явлений было бы нам известно, если бы только эти области начиная с середины IX века не подвергались систематическому разграблению норманнами; число пощажённых ими монастырей было крайне незначительно. Погибли почти все монастырские библиотеки и их сокровища, о необычайном богатстве которых мы можем судить благодаря описи, уцелевшей по счастью в хронике Сен-Трона, — они стали добычей варваров. Пламенем были уничтожены соборы, храмы и дворцы епископов: до нас не дошло ни одного образца каролингской скульптуры и архитектуры в Бельгии. Привилегированное положение Нидерландов в IX веке сказалось не только в интенсивности ее религиозной и литературной жизни, но также и в обнаружившемся экономическом оживлении. Между тем как вся остальная Европа в эту эпоху занималась почти исключительно земледелием и покрыта была поместьями, представлявшими собой соответственное число небольших изолированных миров, производство которых регулировалось не обменом, а удовлетворением потребностей собственника и его ближайшего окружения, — членов его «familia», Нидерланды, в отличие от этого, являли собой совершенно необычное зрелище, обладая сравнительно развитой торговлей. Значительная часть всякого рода продуктов питания, необходимых для прокормления Аахенского двора, доставлялась по их рекам; по ним же привозилось из мозельских виноградников вино для монастырей северных районов, так как их жители не могли выращивать винограда под своим холодным и дождливым небом. Эти торговые сношения послужили толчком к оживлению в бассейне Шельды и вдоль морского побережья текстильного производства, которым морины и менапии занимались здесь еще до вторжения германских племен. Франки, обосновавшись в этой области, столь пригодной благодаря обилию лугов для разведения овец, принялись, подобно прежним ее обитателям, прясть и ткать шерсть, которая была у них в количестве, значительно превосходившем их потребности. Их сукна, известные под названием фризских сукон, пользовались тогда большой известностью. Благодаря знакомству с приемами старой галлоримской техники и близости оживленных портов Фландрия приобрела с этого времени промышленный характер, который мы напрасно стали бы искать у какой-нибудь другой тогдашней страны[67]. К сожалению, у нас слишком мало данных, чтобы составить себе ясное представление об экономических основах этого примитивного производства сукон. Все, что мы знаем о нем, сводится к тому, что оно было чисто деревенским: мастерские находились в крупных поместьях и у крестьян, имевших овчарни. Фризские сукна, привлекавшие к себе внимание на ярмарках Сен-Дени уже во времена Меровингов, распространились в IX веке по всей Западной Европе. По Рейну, Шельде и Маасу они проникали далеко в глубь Европы. Они, несомненно, являлись основной статьей внешней торговли, которую обитатели Бельгии уже в то время вели с Великобританией и Скандинавией через порты Квентовик (Estaples) на Канте[68], Дурстед и Утрехт на Рейне[69]. У нас имеются вполне положительные данные об оживленных торговых сношениях этих городов с северными странами. Их монеты были найдены в Англии, а также на берегах Балтийского моря[70], и известно, что монеты Дурстеда послужили образцами для стариннейших шведских и польских денег. Сношения между языческими народами Севера и жителями Фландрии и Голландии были столь оживленными, что они обратили на себя даже внимание церкви. Недалеко от побережья, в монастыре Туру, была создана миссионерская школа, ставившая себе задачей обращение в христианство датчан. Морская торговля, в свою очередь, содействовала развитию речной. На берегах больших рек создавались товарные склады и торговые пункты. Валансьен на Шельде и Маастрихт, расположенный в том месте, где римская дорога пересекает Маас, были уже во время Карла Великого важными средоточиями купцов и судовладельцев[71]. Нет надобности развивать далее этого беглый обзор. Сколь бы неполным он ни был, однако его достаточно, чтобы показать, что каролингская культура в ее разнообразнейших проявлениях именно в Нидерландах нашла свое, пожалуй, самое полное и, если можно так выразиться, наиболее классическое выражение. В силу редко встречающегося счастливого стечения обстоятельств различные элементы, содействовавшие ее созданию, в бассейнах Шельды и Мааса находились в состоянии полнейшего равновесия. Географическое положение Нидерландов вместе с разноплеменностью населения прекрасно подготовили их к восприятию культуры, скорее универсальной и христианской по своему характеру, нежели национальной, такой, к которой стремился Карл Великий и которая на протяжении всей их истории — несмотря на все испытанные ими политические превратности — никогда здесь не исчезала и не переставала развиваться. Эти области без названия и без точных границ навсегда сохранили свой неподдающийся точному определению каролингский характер, отличающий их от других европейских стран. И, разумеется, не без оснований жители их уже с давних пор забыли свои национальные традиции и эпические сказания сподвижников Хлогиона и Хлодвига, выдвинув на первое и наиболее почетное место р своих исторических легендах фигуру Карла Великого.
Глава вторая
Происхождение герцогства Лотарингского и графства Фландрского
I
За пятьдесят лет, прошедших со времени смерти Людовика Благочестивого, Нидерланды претерпели территориальные изменения, столь же многочисленные и так же поспешно следовавшие друг за другом, как это имело место тысячу лет спустя, в конце XVII и начале XIX в.[72]В этом нет ничего удивительного. Так как Нидерланды расположены были на окраинах Francia Occidentalis — будущей Франции, и Francia Orientalis — будущей Германии, то по их территории проходила граница, разделявшая эти два больших западноевропейских государства. Но прежде чем эта граница приняла направление, сохранившееся почти без всяких перемен вплоть до царствования Карла V, она неоднократно отклонялась то к востоку, то к западу, в соответствии с исходом войн и условиями договоров. Никогда, однако, и это необходимо еще раз подчеркнуть, она во время этих своих отклонений не совпадала с этнической и языковой границей в этих областях. Преемники Карла Великого поделили между собой Нидерланды, не сообразуясь с населявшими их народами. Верденский договор (843 г.) положил начало целому ряду столь частых с этого времени в истории Бельгии разделов. На основании этого договора территории, находившиеся между Рейном и Шельдой, вошли в состав империи Лотаря, в то время как земли, простиравшиеся от Шельды до моря, отошли к Карлу Лысому. Таким образом, Верденский договор разрезал Нидерланды на две части, которым суждено было объединиться лишь шесть веков спустя. После смерти Лотаря (855 г.) его сыновья поделили между собой его расположенную в различных частях Европы империю; области от Северного моря до Юры составили королевство Лотаря II. Это королевство, где жили бок о бок фризы, франки, аламаны и валлоны[73], получило название, которое вполне соответствовало его разнородному составу и которому суждено было привиться; за отсутствием лучшего наименования, его назвали по имени самого государя «Лотарингией» (regnum Lotharii, Lotharingia)[74]. В его состав входили самые лучшие и самые известные части каролингского государства[75]. Здесь находились имперский город Аахен, церковные резиденции Кельн и Трир и, наконец, прославленные своими виноградниками районы по Рейну и Мозелю, являвшиеся предметом восхищения и зависти обитателей соседних областей. Поэтому вполне понятна поспешность, с какой Карл Лысый захватил эти земли, как только получено было известие о смерти Лотаря в Италии, 8 августа 869 г. Он спешно короновался в Меце 9 сентября и, мог — увы, недолгое время — тешиться тем, что расширил границы своего государства до Рейна. Впрочем, как сказано, они лишь очень недолго простирались до Рейна. Протесты Людовика Немецкого и опасения, как бы не вспыхнула из-за этого война, заставили Карла пойти на уступки. 8 августа 870 г. произошло свидание между обоими братьями в Мерсене, около Маастрихта, и они поделили между собой пополам наследие своего племянника. Мерсенский договор значительно видоизменил карту Европы. Он уничтожил буферное государство, отделявшее до сих пор королевство Карла Лысого от королевства Людовика Немецкого, создав таким образом непосредственный контакт между этими обеими странами[76]. Их общая граница шла в бассейне Мозеля довольно точно по линии, отделявшей людей, говоривших на германском языке, от говоривших на романском[77]; но она отклонялась от нее на севере, где, проходя вдоль течения Урта и Мааса, передавала почти всю нынешнюю Бельгию в руки Карла Лысого. Впрочем, последствия Мерсенского договора были очень недолговечны. Карл воспользовался смертью своего брата (28 августа 876 г.) для захвата областей, которые он вынужден был уступить ему в 870 г. Но сын последнего, Людовик Младший III[78], выступил против него, и 8 октября 876 г. обе армии встретились около Андернаха. Впервые немцы и французы противостояли друг другу на поле битвы[79] и — подобно тому, как это часто бывало впоследствии — ставкой в борьбе была Лотарингия. Карл был побежден, и последовавшая вскоре затем смерть его (6 октября 877 г.) не позволила ему возобновить свою попытку. Людовику III Младшему повезло больше. Он сумел искусно использовать смуты, разразившиеся во Франции после смерти Людовика Косноязычного (10 апреля 879 г.), и заставил уступить себе все территории, приобретенные некогда Карлом Лысым по Мерсенскому договору. На этот раз Лотарингия была полностью присоединена к Германии, западная граница которой вследствие этого переместилась с Мааса на Шельду. Это положение, лишь ненадолго изменившееся во время очень недолговечного объединения различных частей империи Карла Великого под скипетром Карла Толстого, вновь было восстановлено в момент, когда вследствие низложения этого государя (887 г.) различные части монархии навсегда отделились друг от друга, превратившись в соответствующее число отдельных государств. Лотарингии не удалось, подобно Бургундии, на которую она походила отсутствием в ней географического и этнического единства, образовать независимое королевство. Она осталась, после нескольких безуспешных попыток добиться независимости, составной частью Германии.II
Тем временем, пока между королями шла борьба за территорию Нидерландов, последние отданы были на произвол всем ужасам анархии и вражеских нашествий. Если они сумели больше, чем все остальные области, воспользоваться благами каролингской культуры, то зато они сильнее, чем другие, испытали также на себе бедствия, постигшие империю после смерти Людовика Благочестивого. Благодаря своему центральному положению, они раньше всех подверглись воздействию как внешних, так и внутренних причин, приведших к гибели строй, созданный Карлом Великим. Страна, покрытая богатыми монастырями и королевскими резиденциями и открытая на большом протяжении с моря, благодаря устьям своих рек, издавна должна была привлекать к себе внимание норманнов. В 820 г. упоминается их первое нападение на фламандское побережье, с небольшой флотилией, состоявшей из тринадцати лодок; это нападение было легко отбито[80]. Но вскоре начались массовые нападения, и варвары, многие из которых, несомненно, знали страну, так как они бывали в свое время в ее гаванях, наметили систематический план вторжения. Отныне они были непобедимы. Ни императоры, ни короли не оказали им серьезного сопротивления, так как они были втянуты в войны или в политические междоусобицы, на которые уходила вся их энергия. Начиная с 834 г. вся приморская область, прорезанная рукавами Мааса, Рейна и Шельды, попала в руки норманнов, и хронисты отмечают, что ее некогда столь многочисленное население почти полностью исчезло[81]. Цветущий порт Дурстед, разграбленный четыре раза подряд (834–837 гг.), превращен был в груды развалин; Утрехт, церковный центр области, был разрушен (857 г.). Казалось даже, что на севере Нидерландов, вот-вот создастся языческое скандинавское государство, так как в 850 г. император Лотарь, не будучи в состоянии отразить нападение викинга Рёрека (Rorek), отдал ему в ленное владение берега Вааля, а в 882 г. Карл Толстый возобновил эту уступку в пользу другого варвара, Готфрида[82]. Прочно утвердившись на севере, норманны посылали по своему усмотрению вглубь страны экспедиции по очень удобным судоходным рекам, устья которых находились в их руках. Они методически продвигались вперед, заранее намечая себе сборные пункты и зимние квартиры, избегая слишком часто возвращаться в те области, где они уже раз были, искусно нанося свои удары через определенные промежутки времени и производя свои опустошения очень тщательно, как хорошо организованные коммерческие предприятия. Порт Квентовик, игравший на юге Нидерландов ту же роль, что и порт Дурстед на севере, был взят приступом в 842 г. и навсегда исчез с лица земли. В 850 г. викинги явились во Фландрию, сожгли Теруань и разорили Сен-Бертен. В 851 г. Гент был предан огню; в 852 г. долина Шельды была разграблена вновь. Вслед за тем той же участи подверглись в 859 г. Брабант и бассейн Соммы, а в 861 г. Сен-Бертен и Теруань были снова разорены варварами. Но как ни ужасны были эти опустошения, они были ничтожны по сравнению с теми опустошениями, которым эта область подверглась со времени появления «великой армии» норманнов, высадившейся здесь в 879 г.[83] Сделав исходным пунктом своего движения сначала Гент и Куртрэ, она прошлась огнем и мечом по области Турнэ, Фландрии и Брабанту (879 г.), потом Турнэзи, Аррасу, Камбрэ (880 г.), а затем Генегау, Артуа и Понтье (881 г.). Оставив вслед за тем этот разоренный край, она направилась на восток и создала в Эльсло, около Маастрихта, своего рода укрепленный лагерь, опираясь на который, она систематически грабила всю соседнюю область: Маастрихт, Тонгр, Льеж, Сен-Трон, Аахен, Мальмеди, Ставело, Инда, Прюм. После договора, под которым не постеснялся подписаться Карл Толстый, «великая армия» обосновалась с 882 г. до 884 г. в Кондэ и покинула этот пункт, — во время пребывания в котором она разграбила Генегау, Артуа и Пикардию, — лишь для того, чтобы переселиться в Лувен. Из этого лувеннского лагеря она в следующем году направилась к Сене, оставив на некоторое время страну в покое. Она снова появилась здесь лишь в 891 г., когда ее отряды произвели безуспешное нападение на Сент-Омер, распространились по Фландрии, а затем продвинулись до Мааса. Разрозненные усилия некоторых графов и некоторых епископов не могли ничего изменить и не в состоянии были справиться с этими нападениями, проводившимися столь искусно и последовательно. Подвиги Франкона, которого так восторженно прославил поэт Седулий[84], не могли предотвратить гибели Льежа, подобно тому, как подвиги Вала, павшего геройской смертью с оружием в руках, не могли помешать разрушению Меца. Единственной надежной защитой от норманнов служили лишь крепости, так как норманны не знакомы были с искусством осады. В связи с этим повсюду вокруг монастырей, епископских, резиденций и важнейших жилищ сеньоров стали воздвигать укрепленные стены (castra), за которым окружающее население искало себе прибежища в моменты опасности и которые следует считать отдаленными предшественниками городов, порожденных торговлей два века спустя[85]. Победа, одержанная при Лувене германским королем Арнульфом Каринтийским в октябре 891 г.[86], положила, наконец, предел набегам пиратов. Дело было не в том, что он нанес им сокрушительный удар, а в том, что к этому времени Скандинавия перестала выбрасывать на материк банды авантюристов, и к тому же разоренная вконец страна не сулила больше викингам достаточно обильной добычи[87]. Но, очистив территорию Нидерландов, норманны оставили их не только опустошенными и покрытыми грудами развалин. Во время вызванной ими анархии и всеобщей неустойчивости произошли огромной важности события. К востоку и к западу от Шельды образовались локальные династии, и с этого времени наше внимание должно быть обращено на тех фландрских графов и лотарингских герцогов, судьбы которых были столь различны и с которыми главным образом связан интерес, представляемый политической историей Нидерландов раннего средневековья.III
Немногие имена, сохраненные историей Нидерландов до IX в., это имена миссионеров, епископов или аббатов. Но с этого времени здесь начинают все чаще встречаться имена светских людей. Светская аристократия теперь уже прочно конституировалась, она прошла уже свой первоначальный период и перестала быть безыменной группой, находящейся в процессе своего формирования. Уже в льстивых и просительных стихах голодного поэта Седулия перед нами всплывают имена некоторых влиятельных в окрестностях Льежа лиц, вроде графа Роберта, который, возможно, был предком намюрских графов и которого бедный поэт награждал самыми лестными эпитетами, имевшимися в его распоряжении:IV
Между тем как Лотарингия, долгое время балансировавшая между Францией и Германией, была, наконец, прочно присоединена к этой последней державе, судьба территории, расположенной между Шельдой и морем, сложилась совершенно иначе. Отойдя по Верденскому договору к королевству Карла Лысого, она никогда не оспаривалась у него и не пыталась отделиться от него. Как мы видели, Верденнский договор, не принял в расчет национальности нидерландских народов. Благодаря ему Франция с самого начала Средних веков имела в лице Фландрии на своей северной границе германскую область подобно тому, как в свою очередь Германия, обладательница валлонских частей Лотарингии, имела на своей западной границе романскую область. В то время как Лотарингия обязана была своим названием и своим территориальным единством королевству, порожденному разделами каролингской монархии, Фландрия была чисто феодальным образованием. Ее название означало первоначально приморскую область, расположенную к северу и к западу от Брюгге[104]. Отсюда была родом могущественная семья, которой вследствие слабости королей и политического хаоса во Франции в IX и X вв. удалось путем смелых захватов присоединить к своим первоначальным владениям все графства, расположенные от нижнего течения Шельды до реки Канш, объединить их под своей властью и создать из них под конец одно из наиболее прочных и наиболее живучих княжеств, какие только знала Европа в Средние века[105]. Нам почти ничего не известно о раннем периоде истории Фландрии. О происхождении графства Фландрского издавна сложилось легендарное предание. Хронисты сообщают: во времена всемогущего короля Франции Карла Великого здесь находилась бесплодная земля, ничего не стоившая и покрытая болотами, и на этой земле жил преблагородный барон и назывался он Лидрис[106]. Этот Лидрис, или Лидерик, сир Гарлебекский, получил, по-видимому, в ленное владение от Карла эту занимаемую им «бесплодную землю». Его сын Энгеран, а затем его внук Одасэ (Audacer) имели, подобно ему, звание королевских лесничих (forestarii), и именно этих людей, история которых самым причудливым образом переплетена с рассказами, где фигурируют демоны и великаны, могущественная династия, созданная Балдуином Железная рука, почитала самыми ранними своими предками. В запутанном клубке этих сказаний достоверны во всяком случае самые имена. Положительно известно, что в 836 г. умер некий граф Лидерик и что Энгеран, известный своим участием в раздорах и интригах последних Каролингов, носил, подобно Одасэ, титул графа и светского аббата монастыря Сен-Пьер в Генте. Так называемые королевские лесничие были, таким образом, попросту местными властителями, являвшимися одновременно должностными лицами, крупными земельными собственниками и владельцами аббатств, вроде тех локальных династий, которые можно встретить в это же время в Лотарингии. Они стали достоянием легенды, породнившей их друг с другом и возведшей таким образом начало фландрской династии к временам Карла Великого[107]. Настоящая, не легендарная история Фландрии начинается только с Балдуина I или Балдуина Железного (Balduinis Ferreus), как его энергично именовали в наиболее ранних документах, или Балдуина Железная рука, как выражались впоследствии. Он, по-видимому, уже обладал значительным могуществом в северных областях бассейна Шельды, где он воевал с норманнами, когда внезапно смелый шаг решил его судьбу, необычайно возвысив его над всеми его окружающими. Ему удалось похитить дочь Карла Лысого и вдову англосаксонского короля Этельвольфа, Юдифь, из Санлиса, где она находилась под присмотром нескольких духовных лиц. Из-за своих интимных отношений со своим пасынком Юдифь вынуждена была незадолго до этого покинуть Англию (862 г.). Несмотря на протесты Карла, на его отказ согласиться на этот брак и угрозы, что он лишит Балдуина его ленных владений, последний и не подумал выдать свою супругу. Он сделал вид, будто хочет вступить в союз с норманнами, и опасения, как бы он действительно не выполнил свою угрозу, заставили реймского архиепископа Гинкмара и даже самого папу вступиться в его пользу. После долгих и тяжких переговоров достигнуто было примирение, и Карл согласился признать своего нового зятя. Последний смог благодаря этому присоединить к своим родовым владениям богатое наследие своей жены и оставить своим преемникам, наряду с ореолом их каролингского происхождения, великолепный предлог для вмешательства во французские дела. Таким образом, во Фландрии, как и в Лотарингии, феодальная история началась одинаковым образом: похищение принцессы королевской крови, как здесь, так и там послужило причиной возвышения только что образовавшихся династий. Балдуин II (879–918 гг.) сумел воспользоваться блестящим положением, доставшимся ему в наследство от его отца. Нашествия норманнов прекратились, и он мог всецело заняться расширением границ своего государства. Он, естественно, направил свои усилия на южную область, более богатую, более населенную и более доступную, чем территории, граничившие с его землями на севере и востоке. В оправдание своих захватов, он непрерывно вмешивался в гражданские смуты, происходившие в это время во Франции, переходя в соответствии с большей выгодой для себя то на сторону одного, то другого союзника, поддерживая то Эда против Карла Простоватого, то Карла Простоватого против Эда, неизменно преследуя своей политикой балансирования только одну цель — увеличение своего могущества и использование всегда и всякой возможности для приобретения новой добычи. Будучи кроме того неразборчивым в средствах, он не колебался в их выборе, подобно своим соседям Герберту Вермандуа или Вильгельму Нормандскому, не задумываясь, прибегал то к хитрости, то к силе. В эту эпоху, «когда рыцарский идеал не успел еще подчинить кодексу чести буйные души феодалов, убийство считалось ultima ratio (последним доводом) хищнической политики, путем которой созданы были первые территориальные княжества. Герберт Вермандуа приказал убить Рауля, брата Балдуина, а позднее сам был убит по приказу графа Фландрского[108]. Религиозные соображения не могли обуздать страсти последнего к завоеваниям и его жажды мести. В 900 г. он завлек в западню Фулька, реймского архиепископа, оспаривавшего его право на Аррас, и приказал убить его. Балдуин II, подобно Ренье Длинношеему, был гораздо больше, чем простым графом. Возможно, что он принял уже титул маркграфа, которым продолжали пользоваться его преемники до начала XII в.[109] Он распространил свою власть почти на все земли, завоеванные франками во времена Хлогиона, т. е. на области Куртрэ, Турнэ, Артуа (в течение нескольких лет), Тернуа и Булонь, которые, хотя и сохранили своих особых графов, но были подчинены его власти[110]. Фландрия стала при нем граничить с Вермандуа и Нормандией. Ему принадлежала значительная часть морского побережья между Звином и Соммой. Со времени его царствования датируют также первые политические взаимоотношения между Фландрией и Англией: он женился на англосаксонской принцессе, дочери Альфреда Великого. Балдуин I и Балдуин II подготовили почву, на которой со времени Арнульфа Старого развертывалась история Фландрии. Более удачливые, чем Ренье Длинношеий и Гизельберт, они оставили после себя долговечное творение: созданное ими княжество является единственным из крупных французских феодальных владений, которое французской короне никогда не удалось поглотить.
Глава третья
Империя, церковь и феодализм в Нидерландах в X и XI веках
После многих перемен, имевших место в каролингскую эпоху, равновесие между обеими территориальными группами, разделяемыми течением Шельды, было окончательно установлено. Расположенные вправо от нее земли составили часть Германской империи, между тем как лежавшие налево — отошли к Франции. Таким образом, если их рассматривать с точки зрения публичного права, то они кажутся сначала совершенно чуждыми друг другу, и лишь очень медленно, под влиянием хода политических событий и экономических причин, они постепенно сблизились друг с другом и в конце концов в XV веке объединились под скипетром бургундской династии. Действительно, история Бельгии в Средние века — это история части Германии и части Франции, которым удалось, сомкнувшись друг с другом, образовать новое государство между обеими крупными державами, от которых они отделились. Но нетрудно понять, что история этого государства, не может не быть связанной с историей Франции и Германии. Наоборот, она постоянно переплетается с ними; только через них она получила значение и именно в силу этого приобрела, если можно так выразиться, европейский характер. Не было ни одной крупной политической перемены, или какого-либо значительного идеологического движения между Эльбой и Пиренеями, которые не отразились бы на Нидерландах. Судьба феодальных династий Фландрии и Лотарингии всегда зависела от судеб их сюзеренов, и легко заметить, что в ответ на всякую перемену у последних происходило соответствующее изменение У первых. Почти полнейшая независимость, которой фландрские графы пользовались до XII века, объяснялась слабостью французского королевства в это время, — подобно тому, как могущество германских императоров в этот же период послужило причиной того, что лотарингские князья так медленно добились своей независимости.
I
Победа при Андернахе открыла новый период в истории Лотарингии. Она позволила Оттону I изъять эту страну из-под власти мятежной династии, созданной Ренье Длинношеим. Наученный последними событиями, император понял, что обладание герцогством будет ему обеспечено только в том случае, если он очистит его от тех национальных князей, которые использовали всякий благоприятный случай для того, чтобы поднимать восстания и не стеснялись прибегать к иностранной помощи против своего сюзерена, как только дело касалось их честолюбивых замыслов. Чтобы покончить с этой постоянно возобновлявшейся опасностью, чтобы защитить западную границу Германии от притязаний французских Каролингов, которые, чувствуя, что в бассейне Сены почва уходит у них из-под ног, пытались более настойчиво, чем когда-либо, стать хозяевами Лотарингии, необходимо было лишить эти области, расположенные на левом берегу Рейна, их относительной независимости и сделать их прочным оплотом против Франции[111]. Первые же шаги Отгона ясно свидетельствовали о том, что именно таковы были руководившие им соображения. Он доверил графу Оттону, сыну Рикуина Верденского, воспитание Генриха, младшего сына Гизельберта, который, впрочем, лишь на несколько лет пережил своего отца[112], что касается герцогского титула, то он был отдан родному брату короля — Генриху, будущему герцогу Баварскому. Но Генрих, бесспорно, не обладал нужными качествами для управления страной, еще не оправившейся от последних восстаний. Первые же шаги его были неудачны, и после восстания (940 г.)[113]. У его пришлось заменить графом Отгоном, которого вскоре сменил Конрад Рыжий (944 г.), находившийся в родстве благодаря своему браку с королевской семьей. Это был твердый и энергичный человек, своего рода военный наместник, и, ощутив на себе его крепкую руку, аристократия впервые почувствовала, что времена переменились. Он сделал Лотарингию германской провинцией и принудил к повиновению племянников Гизельберта[114], которые, опираясь на свой замок в Монсе, все еще продолжали борьбу в лесах Генегау. Он внушил к себе ненависть, но в то же время и уважение[115], и благодаря его суровому управлению присоединение герцогства к Германской империи стало непреложным фактом. Конрад наделен был страстной душой и буйным темпераментом. Оттон I дал ему поводы для недовольства собой, и самая дикая ненависть вскоре заняла место прежней преданности. Он принял участие в заговоре Лиудольфа и, когда разразилось восстание (953 г.), выступил самым ожесточенным врагом Отгона I. При этом обнаружилось очень любопытное явление, бросающее яркий свет на природу лотарингского партикуляризма: вместо того, чтобы воспользоваться переходом герцога во враждебный лагерь и сбросить германское иго, аристократы остались верными императору. Не видно также, чтобы они в то время сблизились с Францией. Они стремились не переменить отечество, а освободиться от своего правителя, которого они считали узурпатором, с тем, чтобы восстановить под номинальной верховной властью Германии независимость, которой они до недавнего времени пользовались. Ренье III Генегауский вскоре увидел себя окруженными всеми недовольными и озлобленными непреклонностью и суровостью Конрада. Подобно Ренье Длинношеему в его борьбе с Цвентибольдом, он явился перед лицом ненавистного чужеземца воплощением сопротивления национального феодализма. Ожесточенное сражение разыгралось на берегах Мааса. Конрад был разбит и вынужден был бежать из той самой страны, которую он недавно заставлял трепетать, в которой он мог считать свое положение чрезвычайно прочным и которая вдруг ускользнула от него[116]. Он отомстил за это жесточайшим образом. Призванные Лиудольфом венгры вторглись в Германскую империю. Тогда он устремился к ним, довел их до Маастрихта и направил на Лотарингию. Газбенгау, Намюрская область и Генегау были опустошены варварами, добравшимися до Камбрэ, затем проникшими в Артуа, откуда они продолжали свои набеги на Францию и Бургундию (954 г.). Оттон не дожидался, пока закончится восстание, чтобы назначить в Лотарингию нового герцога. Несмотря на право Ренье Генегауского на его благодарность, Оттон однако и не думал поручить ему управлять страной: это означало бы восстановить могущество Гизельберта, дать местной аристократии популярного вождя и вновь оживить каролингские притязания. Но с другой стороны — не приходилось ли опасаться, что германский князь рано или поздно последует примеру Конрада? Не лучше ли было окончательно отказаться от услуг светских князей и положиться на преданность и верность епископов? Отгон остановил на этом свой выбор. Он решил поставить себе на службу высшее духовенство и сделать из него послушное орудие германского господства и влияния. Осуществление своих планов он возложил на своего собственного брата Бруно (953 г.). Он дал ему титул герцога и наряду с этим назначил его архиепископом Кёльнским, соединив таким образом в его руках духовную власть со светской. Пожалуй, никогда еще в Средние века не проявлялось так ясно стремление использовать церковную иерархию в интересах государства. К тому времени когда Бруно поставлен был во главе лотарингской церкви, ее положение было уже совершенно иным, чем во времена Карла Великого и Людовика Благочестивого. В разгар непрерывных смут конца IX и первой половины X века она очутилась в беспомощном положении и была отдана на произвол аристократии; она потеряла всякую независимость и уверенность в прочности своего существования. Епископы почти всегда навязывались клиру светской аристократией. В Льеже Стефан обязан был своим избранием своему родству с могущественными графами Гергардом и Матфридом. Его преемник Рихер был изгнан герцогом Гизельбертом, заменившим его кандидатом по своему выбору[117]. Фульбер из Камбрэ тоже был креатурой герцога; Адальберон Мецкий — одним из его приверженцев[118]. Подобранные таким образом церковные сановники не могли быть поддержкой для Германской империи. Если, как общее правило, епископы не принимали участия в восстаниях, то в то же время они ничего не делали для борьбы с ними и, большей частью, довольствовались соблюдением благоразумного нейтралитета. Все они жили обособленно, будучи заняты управлением своими церковными имуществами и восстановлением разрушений, причиненных набегами норманнов. Культивирование науки, некогда так процветавшей в лоне церкви, почти полностью прекратилось. Большинство прелатов, поглощенных своими мирскими заботами, скорее походили на феодальных князей, чем на тех епископов каролингской эпохи, из среды которых короли выбирали себе советников и посланников и которые окружали себя богословами, грамматиками и поэтами. Борьба с притязаниями жадных и смелых соседей поглощала всю их энергию и все их таланты. Епископы Камбрэ вели упорную борьбу с графом Исааком из-за обладания своей столицей, а льежские епископы трепетали перед сеньорами из Шевремона[119]. Между тем силы церкви не были столь незначительны, чтобы можно было пренебрегать ими, и если бы епископы не вынуждены были всегда проявлять обходительность по отношению к светской аристократии, то они могли бы играть наряду с ней очень важную политическую роль. Они были не только собственниками обширных земель, но им принадлежало также с конца IX века значительное число регалий. Они не были лишь простыми сеньорами, пользовавшимися иммунитетными правами и осуществлявшими на своих землях вотчинную юрисдикцию, но в силу особых жалованных грамот, тщательно хранившихся в их архивах, они обладали значительной долей государственной власти. С целью привлечь их на свою сторону Цвентибольд наделил их обширными прерогативами, и с этого времени различные государи страны следовали его примеру, либо для того, чтобы обеспечить себе их преданность, либо для того, чтобы создать себе противовес против могущественных аристократов. В 908 г. взимание налогов в Маастрихте и право чеканки монеты были переданы льежским епископам. В 948 г. епископы Камбрэ получили графскую власть в этом городе. В особенно благоприятном положении находилось утрехтское епископство, расположенное в области, где короли благодаря малочисленности аристократии были более свободны в раздаче различных пожалований. Оно приобрело постепенно право чеканки монеты, взимания налогов в пределах всего диоцеза, право рыбной ловли в Амстеле и Зюйдерзее. Королевская щедрость в отношении Утрехта принесла свои плоды. Епископ Бальдерик, рассчитывая на свои силы, оказал сопротивление графу Гатто, единственному из лотарингских князей, принявшему участие в восстании Конрада. Бальдерик поддерживал близкие отношения с германским двором и руководил воспитанием Бруно. Его поведение было очень показательно. Оно явственно доказывало, что как только епископы освободятся от ига аристократии, корона найдет в их лице самых преданных слуг для себя и самую прочную опору. Впрочем, Оттон уже давно это понял. Он не упускал тех редких случаев, которые ему представлялись, для привлечения на свою сторону высшего духовенства Лотарингии. В 950 г. ему удалось посадить на епископскую кафедру в Бердене одного из своих родственников — Беренгара. Это мероприятие может считаться исходным пунктом коренной реформы лотарингской церкви, происшедшей при Бруно. Из феодальной и национальной, какой она была до этого времени, она в течение нескольких лет стала королевской и германской. Достаточно просмотреть списки епископов, чтобы убедиться, что начиная с 953 г. огромное большинство упоминающихся в них епископов не принадлежало к знатным фамилиям Лотарингии. Церковные назначения производились теперь так же, как и назначения должностных лиц. Отныне выбирали только надежных людей, которые были всем обязаны королю и для которых он был единственным прибежищем. Таков был прежде всего знаменитый Ратер, который, будучи дважды изгнан из Вероны, нашел себе убежище при дворе Отгона и который получил в 954 г. льежское епископство; затем пробст Бонна Эракл, саксонец по происхождению. Другой саксонец, Беренгар, был послан в Камбрэ, где романское население считало его варваром из-за его языка и нравов[120]. Его преемник Энгран был простым монахом, другом Бруно, знавшим его в Германии, где он управлял имуществами аббатства Сен-Пьер (в Корбии); за ним последовал другой монах, Ансбер, обязанный епископским саном свои личным взаимоотношениям с императором. Аристократия, разумеется, оказала упорное сопротивление реформе, последствий которой она не могла не предвидеть и всю опасность которой она тотчас же оценила. Она великолепно осознала, что новые епископы должны были стать послушным орудием короны. Она сделала все, чтобы помешать им пустить прочные корни в стране. В Льеже она вызвала беспорядки, направленные против Ратера, сделавшегося вскоре невыносимым для духовенства из-за его резкого и сварливого характера; она заставила его отказаться от своих обязанностей, и в течение некоторого времени диоцезом управлял один из родственников Ренье Генегауского — Бальдерик. В Камбрэ вспыхнул сильнейший мятеж против Беренгара, но знатный саксонец не был человеком, которого можно было запугать, и он потопил восстание в крови. Той же участи подверглось в 959 г. другое восстание, руководимое Иммоном, старым другом герцога Гизельберта[121] Впрочем, аристократии скоро пришлось смириться. Император ревниво охранял свое непререкаемое право назначать епископов и не позволял никому вмешиваться в свой выбор. Достаточно было после смерти Вибольда из Камбрэ вмешательства городской знати, высказавшейся перед ним в пользу некоего монаха Роберта, для того, чтобы он отверг этого кандидата и назначил еще одного саксонца Тетдо, пробста церкви Сен-Северен в Кельне[122]. Такого рода факты очень показательны. Волей-неволей феодальной аристократии пришлось смириться: церковь была изъята из-под ее влияния. В то же время церковь благодаря щедрости императора стала столь могущественной, как она никогда не была до этого. Отныне государство, уверенное в епископах, сосредоточивало в их руках земли и регалии. Действительно, все, что церковь приобрела, приобреталось ею за счет феодальной аристократии, и это обогащение ее не было ущербом для королевской власти, ибо чем могущественнее она была, тем более существенные услуги могла она оказывать короне. Таким образом, более чем на протяжении столетия к церкви стекались всякого рода дары и приношения к вящей выгоде епископов. Начиная с Отгона I и до Генриха IV германские императоры непрестанно заботились о расширении церковных владений Лотарингии. При каждой новой смене государей церковь непрерывно занята была поглощением все новых территорий, она все расширялась, стремясь соединить одни свои владения с другими, как если бы целью ее было окружить железным кольцом разделявшие их светские сеньории. Епископы Камбрэ с начала XI века (1007 г.) были господами всей области Камбрэ; льежские епископы приобрели одно за другим графства: Гюи, Бруненгерунц, Гаспинга и почти всю область Кондроз; утрехтские епископы приобрели Гамаланд, Остерго и Вестерго. Ко всему этому надо прибавить множество отнятых у светских аббатов монастырей и речных налогов, рынков, замков, королевских земель, лесов, мест рыбной ловли, словом — всякого рода земли, права и доходы, которыми могли располагать императоры. Бруно до самой своей смерти (965 г.) оставался правителем Лотарингии. В течение одиннадцати лет его управления Кельн сделался подлинной столицей страны. Он вновь стал для западных областей Бельгии тем, чем он был в римскую эпоху, т. е. средоточением оживленной деятельности и культурным центром. Школы его посещались не только лицами, готовившимися к духовной карьере, но и молодыми дворянами, которых их семьи вверяли руководству архиепископа-герцога. Все они возвращались оттуда патриотически настроенные к Германской империи и покоренные обаянием своего учителя. О силе его влияния можно судить, если сравнить с воинственными и мятежными феодалами предшествующего периода, такого человека, как его ученик, брабантский граф Ансфрид, который, отдав все свои силы на службу императору, сделался затем утрехтским епископом и умер аскетом[123]1. Правда, подобные примеры были редки, и Руотгер, биограф Бруно, впал, как мы увидим, в явное преувеличение, вменив своему герою в заслугу то, что он якобы превратил лотарингцев из диких и кровожадных,» какими они были, в кротких и миролюбивых людей. Тем не менее разительная перемена была все же налицо. Новый режим вскоре пустил прочные корни благодаря стараниям епископов и благодаря безопасности, которой одно время пользовалась страна, гарантированная от каких бы то ни было враждебных действий со стороны Франции, молодой король которой, Лотарь, находился под опекой Бруно. В 964 г. Оттон мог в составе армии, шедшей под его водительством на Рим, увидеть проходящие перед ним тяжелые эскадроны лотарингской кавалерии, которые он до этого встречал лишь в рядах своих врагов. Хотя Лотарингия давно уже перестала быть королевством, тем не менее она сохраняла до Бруно еще некоторую видимость независимости. Ее продолжали называть regnum Lotharii (королевством Лотаря), но что еще более показательно, она имела, кроме того, в лице Трирского архиепископа особого великого канцлера отдельно от великого канцлера Германии. Однако когда она преобразована была в имперскую провинцию, ей пришлось расстаться с этими напоминаниями о ее былой независимости. С 956 г. она не имела больше особого великого канцлера[124], а ее территория с 959 г.[125] была разделена на две части, из коих одна, примерно, соответствовала Трирской церковной провинции, а другая — Kельнской[126]. Таким образом, новая система управления привела к исчезновению Лoтарингии каролингской эпохи. Отныне здесь были налицо два лотарингских герцогства, судьбы которых должны были сложиться совершенно различным образом. Во главе каждого из них Бруно поставил подчиненного ему герцога, наделенного главным образом военными полномочиями. Южные области — ducatus Mosellanorum — он передал члену одного могущественного феодального рода, Фридриху Барскому, от которого пошла линия герцогов лотарингских. Для управления северными областями он избрал нового человека, своего воспитанника Готфрида, умершего в 964 г. в Италии, на службе у императора. После него в северной Лотарингии не было некоторое время герцогов. Одно время Оттон, по-видимому, хотел сделать из этой страны своего рода «церковную марку»[127], управляемую епископами.II
В течение полутора веков церковь удерживала Лотарингию в повиновении императору; ее верность ни разу не нарушалась на протяжении всего этого времени, и если ее епископы не всегда были немцами по происхождению, то зато все они были немецкими патриотами по своему умонастроению. В царствование Оттона III и Франконской династии, введенная Бруно в Лотарингии полусветская, полуцерковная система управления достигла своего завершения. Епископы действительно считали себя в это время имперскими наместниками. Они сознавали, какая высокая миссия на них возложена, и выполняли ее не только лояльно, но и с энтузиазмом. Почти все они выделялись своими знаниями и добродетелями, и многие из них оказались в числе лучших правителей и самых замечательных политиков того времени. Таков был в особенности шваб Нотгер Льежский (972—1008 гг.), который наряду с управлением своим диоцезом, был одним из ближайших советников императрицы Феофано и императора Генриха II, принимавшим участие в важнейших государственных делах[128]. По тону писем Герберта к нему можно судить о том, с каким огромным уважением относился к нему этот горячий сторонник саксонского дома и этот исключительно ловкий дипломат. Нотгер представлял двору кандидатов на освободившиеся места в лотарингские диоцезы. В руководимых им школах воспитывалось непоколебимо преданное германскому императору духовенство, и ничто так не свидетельствовало о силе нового режима, как превращение Льежа, этого романского по своему языку и населению города, в центр германского влияния. Из него вышли люди вроде Одельбольда Утрехтского, будущего биграфа Генриха II, или того самого Вазо, позднейшего епископа Льежа, который однажды заявил, что «если даже император велит выколоть ему правый глаз, то он не преминет употребить для службы ему и для прославления его свой левый глаз»[129]. В Камбрэ епископ Гергарт в своем отдаленном диоцезе, расположенном на французской границе и зависевшем от реймских церковных властей, зорко охранял права и прерогативы своего государя на этом посту Германской империи. Когда его французские коллеги убеждали его ввести по их примеру мир божий, то он отказался сделать это, ссылаясь на то, что забота о поддержании мира является Делом только государя, и что столь же неприлично, как и незаконно, присваивать себе эту прерогативу королевской власти[130]. Под руководством подобных прелатов лотарингская церковь полностью во всех делах ориентировалась на Германию. Немногого не хватало, чтобы император Генрих II присоединил Камбрэ к Кельнской провинции и ввел в нем новое церковное устройство[131]. Однако, несмотря на все ее рвение, умение и могущество, имперской церкви не удалось достигнуть своих целей. Под ее руководством Лотарингия, несомненно, сделалась немецкой провинцией, но это была непокорная провинция, пестрившая сепаратистскими движениями, готовая подняться при первом же случае, покорность которой была скорее видимостью, чем реальностью. С первых же шагов епископам пришлось столкнуться с неустанным сопротивлением, то явным, то скрытым, но всегда готовым проявиться. Они никогда не могли похвалиться тем, что им удалось умиротворить управлявшуюся ими страну. Почти всем им пришлось сражаться для усмирения восстаний врага, который после каждого поражения восстанавливал свои потери, вновь переходил в наступление и которому в конце концов досталась победа. Лотарингских епископов постигла точно такая же участь, как в свое время римские легионы,расположенные по Рейну: находясь под натиском неодолимой силы, они, как некогда римляне, могли лишь отсрочить на некоторое время гибель режима, защищать который они были призваны. И точно так же, как в свое время германцам предстояло в конце концов завладеть Галлией, так и феодализму суждено было разрушить имперскую церковь. Из всех частей Германской империи феодализм раньше всего проник в западную Лотарингию и одержал здесь наиболее полную победу. В этом нет ничего удивительного. Эта область находилась в слишком непосредственном соприкосновении с Францией, где не пользовавшийся влиянием король предоставлял местным князьям возможность захватывать права и земли короны, так что французский пример не мог не возбудить аппетитов высшей знати. Видя, какой независимостью пользовался фландрский граф по ту сторону Шельды, лотарингские властители еще острее ощущали свою насильственную покорность, к которой их понуждала церковь. Французская монархия вскоре оказалась слишком слабой, чтобы они могли, как это было когда-то, прибегать к ее помощи против императоров, но во всяком случае все они считали феодальную независимость крупных французских вассалов идеалом, который должен был быть осуществлен во что бы то ни стало. В некоторых писаниях, составленных под влиянием епископов, попадаются намеки на эти крайне характерные тенденции. Так, автор «Gesta episcoporum Cameracensium» (Деяний епископов Камбрэ) осуждает «распущенность французских (carliens) нравов»[132], распространяющихся в Лотарингии, а аббат Зигфрид Горзе жалуется на широкое распространение французских мод[133]. Кроме того, за исключением духовенства и некоторых преданных императорскому духу дворянских семей, население, жившее на берегах Мааса и Шельды, считало себя, по существу, чуждыми Германии. Императорская власть, которую оно чувствовало на себе через посредство явившихся издалека епископов, иногда не понимавших даже его языка, внушала ему страх и уважение, но никогда не пользовалось его симпатиями. Правящая династия — будь она саксонской или франконской — всегда была одинаково безразлична жителям Нидерландов. На их взгляд, существовала только одна законная династия, а именно — династия Каролингов, к которой принадлежал их король Лотарь II и которая продолжала править во Франции. Впрочем, их преданность Каролингам была чисто платонической. С того отдаленного дня, когда они вынуждены были отказаться от мысли образовать самостоятельное королевство, они никогда не пытались свергнуть владычество Германии. Но они добивались того, чтобы это владычество было чисто номинальным. Они признавали императора так, как впоследствии гезы XVI века признавали испанского короля, т. е. при условии, чтобы он довольствовался видимостью верховной власти и мнимой покорностью. Единственной политической идеей, владевшей их умами, единственной понятной им идеей при тех исторических условиях, в которых они находились, была идея феодального партикуляризма по французскому, или, если угодно, по фламандскому образцу. Именно эта идея вдохновляла создателей лотарингских княжеств в их долгой борьбе с имперской церковью, и именно она встречала поддержку со стороны народа. В самом деле: в то время как епископы и духовенство не признавали никакого другого повелителя, кроме императора, симпатии народа были всецело на стороне династии Ренье Длинношеего и Гизельберта. Несмотря на то, что их постоянно ссылали, а их владения неоднократно подвергались конфискации, они находили каждый раз по возвращении в страну своих вассалов, ожидавших их прибытия и готовых сражаться за них. Разбитые, они всегда снова поднимали голову и при самых неблагоприятных условиях им в конце концов удалось благодаря своему упорному сопротивлению сломить силу своих врагов. В отличие от фландрских графов, положение которых в X веке было Уже прочно утвердившимся, не в пример лотарингским властителям, последние лишь очень поздно обзавелись своими собственными историками. В течение долгого времени мы узнаем о них лишь по писаниям их злейших врагов. Авторами хроник, анналов, «Gesta» (деяний), излагавших нам их историю, всегда были священнослужители — сторонники императорской власти. Вполне понятно поэтому, что подобными источниками следует пользоваться с большой осторожностью. Церковные писатели оставили нам скорее карикатуру, чем портреты тех самых феодалов, с которыми епископам пришлось вести неустанную борьбу. С ужасом и c презрением, не скрывавшим, впрочем, их страха, они говорили об этих «разбойниках» и «грабителях»; у них не хватало эпитетов, чтобы заклеймить их «наглость», «хищничество», «тиранию» и «безбожие». Если верить их словам, то пришлось бы думать, что предки графов Генегау, Брабанта и Намюра были дикими изгоями, жившими в разбойничьих притонах, в дебрях лесов. Словом, они описывают нам их почти в тех же самых выражениях, в каких живописали позднее, после завоевания Англии, нормандские хронисты англосаксов[134]. Но исторические факты сами позаботились о том, чтобы свести эти преувеличения к их истинным размерам. Нам прекрасно известно, что мятежники X века не были ни разбойниками, ни безбожниками. Подобно морским и лесным гезам XVI в., с которыми их можно вполне справедливо сравнивать, несмотря на разницу в эпохе и в обстановке, — они были перед лицом правительства из чужеземцев представителями надежд и чаяний своих соотечественников. Подобно гезам, они находились под руководством вождей, принадлежавших к самым именитым родам страны и, наконец, подобно им, они боролись за правое, по их мнению, дело. Они вели борьбу с церковью, как с политической, а не духовной властью. Если присмотреться поближе, то можно тотчас же убедиться, что мнимые «безбожники», за дело которых они сражались, оказывали помощь реформаторски настроенным аббатам и делали щедрые дары монастырям[135]. Но между ними и их противниками всегда существовало постоянное взаимное непонимание. И действительно, разве могли понять друг друга сторонники и противники императорской власти? Железная необходимость толкала их на беспощадную борьбу друг с другом. Эта борьба началась с первых же дней правления Бруно. Архиепископ тотчас же вступил в борьбу с племянником Гизельберта, Ренье III Генегауским, ставшим со времени смерти сына Гизельберта главой старинного герцогского рода и наследником его притязаний. Оба эти человека явились носителями двух в корне противоположных политических концепций. Один считал императора, которому он служил, источником всякой власти и единственной законной властью, для другого же верность государю основана была попросту на договоре, и он считал себя совершенно свободным от всяких обязательств по отношению к государю, отнявшему у него герцогский титул, который носили его предки. На стороне Бруно были епископы; на стороне Ренье — широкие народные массы. Влияние Ренье было столь сильно, что, когда он в 958 г. попал в руки своего врага, то последний предпочел предусмотрительно удалить его из страны: он сослал его на границу Богемии, где он и окончил свои дни. Но он оставил после себя двух сыновей, Ренье IV Генегауского и Ламберта Лувенского, которые, удалившись во Францию, ожидали лишь благоприятного момента, чтобы отомстить за своего отца. Они воспользовались беспорядками, возникшими в Германской империи после смерти Отгона I, и напали на Лотарингию со стороны Генегау и Камбрэзи. Поддерживаемые Францией в лице Лотаря III и встреченные с энтузиазмом населением, приветствовавшим в них своих прирожденных государей, они разбили приверженцев императорской власти (973 г.), и дело дошло до того, что самому Отгону II пришлось осаждать их в замке Буссю (974 г.). Он сослал защитников замка в Саксонию, но не мог помешать Ренье и Ламберту бежать во Францию, откуда они в 976 г. снова сделали попытку напасть на Генегау. Несмотря на неудачный исход этого предприятия, император решил, чтобы обезоружить этих своих опасных мятежников, прибегнуть к милосердию. Он вернул им в 977 г. часть земель, конфискованных у них после восстания их отца[136]. Что касается герцогского титула, вакантного со времени смерти герцога Готфрида в 964 г., то он отдал его члену каролингской династии, Карлу, брату короля Лотаря. Он, несомненно, надеялся, что Карлу, бывшему в ссоре со своим братом и являвшемуся старинным другом Ренье и Ламберта, удастся положить предел посягательствам Франции на Лотарингию и удержать эту страну в повиновении. Но он ошибся. Династия Гизельберта, осталась по-прежнему не только враждебной империи, но она, кроме того, всеми силами содействовала отчаянным попыткам Лотаря III присоединить к Франции находившиеся по левую сторону Рейна части Германской империи. Ренье и Ламберт были для этого последнего представителя каролингской политики тем же, чем Ренье Длинношеий был Для Карла Простоватого и Гизельберт для Людовика IV Заморского. Феодальная партия, вождями которой они выступали, была одновременно, пользуясь выражением современных им хронистов, партией «Carlenses» (французской партией). Они искали помощи у Франции против императора, подобно тому, как фландрским графам впоследствии пришлось искать помощи у Англии против Франции. Как это часто бывало в дальнейшем в этих областях, политика феодалов переплеталась здесь с общеевропейской политикой, а судьбы мелких неизвестных князей — с судьбами знаменитых монархов. Несмотря на все его старания, Лотарю не удалось отвоевать назад Лотарингию. Он дошел до Аахена, где доставил себе удовольствие, заставив себя попотчевать обедом, приготовленным для императора, и приказав — увы, лишь ненадолго — повернуть на восток бронзового орла, давно обращенного на запад (978 г.)[137]. Затем он пустился в отступление, покидая эту страну, которой в течение нескольких столетий суждено было больше не видеть у себя французских армий. Все его, дальнейшие попытки перейти в наступление были безуспешны. Епископы;-преданно защищали доверенную им границу. Врагу не удалось даже захватить Камбрэ. После смерти Лотаря, за которой вскоре последовала смерть его сына Людовика и вступление на престол династии Капетингов (987 г.), Германия прочно утвердилась на всех своих позициях[138]. Крушение надежд Лотаря было более полным, чем крушение планов его лотарингских союзников. В то время как каролингская династия пресеклась и, начиная с Гуго Капета, французские короли надолго отказались от расширения своих северных границ, Ренье IV и Ламберт остались непоколебимы в своем сопротивлении церкви и императору. Хотя политические условия, в которых должно было происходить это сопротивление, очень изменилось, однако работавшие в пользу него социальные силы были, во всяком случае, не менее сильны, чем прежде. То, что мятежники лишились теперь помощи Франции, не имело особенного значения, так как за них был ход событий, неумолимо увлекавший Германскую империю на путь феодального строя. Каролингская династия, прекратившаяся во Франции, сохранилась еще в течение нескольких лет в Нидерландах в лице герцога Карла и его сына. Первый безуспешно сражался против Гуго Капета в окрестностях Лана, попал в руки своего противника (30 марта 991 г.) и умер пленником примерно в 993 г.[139] Второй, ставший чуждым своему народу, как это уже в достаточной мере показывает тот факт, что он носил имя Отгона, не возобновлял этих бесплодных попыток. Он удовольствовался титулом Лотарингского герцога и закончил свою безвестную карьеру примерно между 1005 и 1012 гг. Он был похоронен в склепе аббатства св. Сервация (в Маастрихте), рядом с прахом своего отца, перевезенного им в Лотарингию. Его смерть приписывали мести св. Тронда, монастырь которого он разграбил[140]. Ввиду смерти этого последнего Каролинга снова освободился герцогский титул, переходивший со времени Гизельберта к стольким различным династиям. Одно время можно было думать, что он вернется к одному из тех феодальных князей, которые считали себя его законными наследниками. Вернувшись на родину, Ренье IV и Ламберт вскоре же восстановили престиж своего рода. Благодаря удачным бракам они смогли оправиться от понесенных ими потерь, и в начале XI века их влияние и могущество были сильнее, чем когда-либо. Ренье женился (после 996 г.) на Гедвиге, дочери Гуго Капета[141], Ламберт же стал мужем Герберги, старшей дочери покойного герцога Карла, и благодаря этому браку приобрел богатое наследие своего шурина Оттона. Брюссельский и Лувенский замки — имперские феоды, дававшиеся до сих пор герцогам Германской империи, — перешли в его руки и явились территориальной базой, на которой с этого времени начался рост Брабантского дома. Таким образом, потомки Гизельберта, несмотря на свои постоянные поражения, оказались при Генрихе II более сильными, чем они были при Генрихе I. Старый ствол феодального родословного дерева устоял против всех бедствий, и пущенные им мощные побеги — один в Генегау, другой в Брабанте — смело могли поспорить с бурей. Но именно это и послужило для императора основанием не передавать им герцогской власти, которая была отдана Готфриду Верденскому. Отец последнего, Готфрид, по прозванию Пленник, с полным основанием известен был в предшествующее царствование как самый благородный представитель лояльности по отношению к императору. Во время похода Оттона II во Францию (978 г.), он благодаря своей предусмотрительности и присутствию духа спас германскую армию при переправе через реку Эн. Позднее он храбро защищал границы Империи против Лотаря. Попав в плен к последнему вместе с одним из своих сыновей и отданный под охрану Герберта Вермандуа, он отправил своей жене через посредство Герберта следующие увещевания, в которых сказалось подлинное величие его души. «Оставайтесь непоколебимо преданной, — убеждал он ее, — августейшей императрице и ее сыну. Никаких перемирий с французами! Твердо охраняйте свои замки от их короля, и надежда вернуть свободу вашему мужу и вашему сыну да не ослабит силы вашего сопротивления»[142]. Император по заслугам вознаградил эту необычайную преданность и героизм. Он отдал Готфриду в ленное владение, помимо Верденского графства, значительную часть конфискованных у потомков Гизельберта земель и, в частности, замки Бульон и Монс. Таким образом, Верденский дом, или, как его называли также, Арденнский дом, прочно утвердился в бассейнах Шельды и Мааса. Все сближало Готфрида Пленника с епископами и связывало его участь с их участью. Подобно им, он считал императора источником всякого права и всякой власти и подобно им питал отвращение к феодальной распущенности и буйству, которые все эти Ренье и Ламберты, по примеру Франции, ввели в Лотарингию[143]. К сожалению, этим настроениям суждено было продержаться недолго. С того момента, как положение Арденнского дома благодаря получение герцогского титула окончательно упрочилось в Лотарингии, его территориальные интересы неизбежно взяли верх над его верностью. Он поставил свое наследственное право выше права государя; он считал себя собственником своих феодов и своих титулов. Быть может, если бы эти герцоги, подобно большинству епископов, были чужды стране, если бы особенности их национальности, обычаев и языка создавали постоянную вражду между ними и местным населением, если бы они были выходцам из глубины Саксонии, Баварии или Тюрингии, то они вынуждены были бы долгое время опираться на Германию и видеть в императоре своего законного защитника и, следовательно, своего повелителя. Однако, подобно Ренье Генегаускому и Ламберту Лувенскому, они были лотарингцами по своему происхождению. Но более того: родовое местопребывание их семьи находилось в романской части страны, и их родным языком был валлонский диалект. Для того чтобы потомки Готфрида Пленника пошли по его стопам, надо было бы, чтобы они, как и он, жили в окружении императора и епископов и пользовались лишь умеренным могуществом. Но, достигнув большого богатства в награду за преданность своего предка, они превратились в крупных вассалов, и в конце концов Арденнская династия была для Империи чаще врагом, чем союзником. Вместо того чтобы управлять герцогством от имени государя, она управляла им от своего собственного имени. Борясь с локальными династиями, она больше заботилась об уничтожении соперников, чем об укрощении мятежников и о расширении своих земель за их счет. Прибавим, впрочем, что ей не удалось совершенно стереть их с лица земли. К тому времени, когда она заняла место наряду с ними, последние были уже слишком многочисленны и слишком могущественны. Действительно, в начале XI века встречаются уже различные династии, которые в следующем столетии окончательно поделили между собой территорию Лотарингии. По тому влиянию, каким здесь пользовался с; этого времени светский феодализм, эта страна более походила на Францию, чем на Германию. Несмотря на сопротивление церкви, здесь утвердились «indisciplinati mores Carlensium» (распущенные французские нравы) и не один епископ охвачен был отчаянием при виде полнейшей невозможности бороться с этим злом. «О несчастный! — жаловался Тетдо из Камбрэ, — к чему было покидать тебе свою родину, чтобы оказаться среди этих варваров! К чему было оставлять свою Сен-Северенскую церковь (в Кельне?) Полученная тобой награда вполне достойна твоего поведения»[144]. К тому времени, когда раздавались эти причитания Тетдо, не могло быть уже больше и речи о том, чтобы держать местную аристократию в покорности. Все, на что можно было еще надеяться, это — задержать ее рост, ибо она повсюду уже успела пустить глубокие корни. Хотя внимание историка особенно привлекают к себе фигуры Ренье Генегауского и Ламберта Лувенского, однако не надо все же забывать, что наряду с ними существовало немало других локальных династий. Графы Намюра, Димбурга, Люксембурга, Голландии уже в конце X века создали предпосылки для власти своих династий и заложили основы прочных княжеств[145]. От французской до фрисландской границы старое устройство страны под напором феодализма трещало по всем швам. Оставалось лишь ровно столько времени, чтобы спасти, что еще можно было, от посягательств светских князей. Такова была задача герцога Готфрида. С 1012 до 1015 гг. ему пришлось неустанно бороться с Ламбертом Лувенским, добившимся герцогского титула и пытавшимся расширить свои земли за счет льежского епископа. Готфрид победил его в 1013 г. в сражении при Гугарде. Вокруг Ламберта, по соображениям семейной солидарности, но еще более ввиду совпадения интересов, объединились его родственники — граф Роберт II Намюрский и граф Ренье V Генегауский. Последний принимал участие бок о бок с ним в сражении при Флорене, где Ламберт был убит (1015 г.). События, последовавшие за этим сражением, ясно показали, насколько упрочилась власть территориальных князей. Не было больше речи о высылке побежденных или о конфискации их имущества. К сыну Ламберта — Генриху — перешло владение землями его отца. Что касается Ренье Генегауского, то он женился на племяннице герцога, Матильде, которая таким образом объединила династию Готфрида Пленника с потомками Гизельберта и принесла ему в приданое часть Энамской марки[146]. Готфрид I умер в 1023 г., не оставив после себя потомства, и ему наследовал в качестве герцога его брат Гозело. Уже при нем можно было заметить, что верность Арденнского дома была поколеблена. Так, после смерти императора Генриха II Гозело потребовал от епископов и крупных собственников страны клятвы, что они не признают нового короля без его согласия, сам же он принес Конраду II клятву верности лишь после того, как вырвал у него обещание, выполнение которого должно было стать фатальным для Империи. В этом убедились лишь тогда, когда после смерти герцога Фридриха II (1033 г.) ему передано было управление верхней Лотарингией. Тем самым обе части regnum Lotharii, отделенные Друг от друга со времени Бруно, снова оказались объединенными, и казалось, Что это государство вновь начинает возрождаться. Подобное положение чревато было опасностями. Генрих II воспользовался смертью Гозело (1044 г.), чтобы вновь4 разделить герцогство на две части. Верхняя и Нижняя Лотарингия снова стали отдельными штатгальтерствами, из коих первое передано было старшему сыну покойного, Готфриду Бородатому, а второе — его другому сыну, Гозело II. Это мероприятие послужило толчком к бурному восстанию. Ничто так красноречиво не свидетельствовало о непреодолимой силе, толкавшей общество на путь феодализма, как радикальная перемена, совершившаяся на протяжении двух поколений в недрах Арденнской династии. Между Готфридом Пленником и его внуком была такая же дистанция, как между верным чиновником и мятежным крупным вассалом. Оба они были одинаково храбры на поле битвы и непоколебимы в своих замыслах, но в то время, как один из них всецело посвятил себя служению своему государю, другой употребил всю свою мрачную энергию и свирепый героизм, сделавшие его одной из наиболее поразительных и импозантных личностей его времени, для борьбы с государем, которого он обвинял в похищении у него отцовского наследия. Готфрид Бородатый был для Генриха III тем же, чем Конрад Рыжий для Отгона I. Но результаты их усилий были совершенно различны. Немногого не хватало, чтобы императорская власть, навязанная Лотарингии после восстания Конрада, не была свергнута Готфридом. Тогда, во время восстания Конрада Рыжего, лотарингская аристократия выступила против мятежника. Она воспользовалась случаем, чтобы избавиться от соперника-чужеземца. Совершенно иначе она повела себя при Готфриде. Цели герцога совпадали теперь с целями всех феодалов. Настал момент свергнуть власть имперской церкви. Династии Генегау, Лувена, Намюра и Голландии — без колебаний объединились под знамена того самого герцога, с которым они боролись до тех пор, пока он защищал власть государя, но который с того момента, как он стал на путь ее насильственного свержения, сделался их вождем и руководителем. Разразилась сильнейшая буря: все феодальные силы объединились против церкви. Повсеместно, пользуясь выражением хрониста Ансельма, praedones immanissimi («ужасные разбойники») устремились на штурм этой твердыни Империи[147]. Они методически принялись за ее разрушение, поделив между собой работу. Готфрид занялся льежским и верденнским епископствами; Герман Монсский — епископством Камбрэ; Теодорих Голландский — епископством Утрехтским. На этот раз невозможно было, как некогда, рассчитывать на помощь французского короля. Правда, Генрих I намеревался прийти на помощь восставшим, но письмо льежского епископа заставило его изменить свои планы. Он, несомненно, понял, что поддержка феодального восстания ничего не сулила монархии и что его интересы в данном случае совпадали с интересами императора. Но как раз те самые политические соображения, которые заставили короля воздержаться, побудили, наоборот, графа Фландрского присоединиться к восставшим. Французская феодальная знать поспешила оказать им ту самую помощь, в которой французская монархия отказала им. Самый могущественный французский вассал перешел границу Империи, не нарушавшуюся Капетингом. Балдуин Лилльский переправился через Шельду и объединил свои силы с силами Готфрида. Во время этого ужасного разгула страстей среди феодалов епископы мужественно выполняли свой долг. Несмотря на отход от них значительного числа их вассалов, они не отчаивались в спасении Империи. Предоставленные самим себе, так как они не могли рассчитывать на помощь Генриха III, занятого в это время в Италии, они приняли навязанную им борьбу. Вазо занялся обороной Льежа: он приказал построить военные укрепления и вооружил население. Благодаря его стараниям Империи удалось сохранить за собой этот город, отделявший повстанцев Юга от повстанцев Севера и преграждавший связь между ними через долину Мааса. Между тем Нимвегенский дворец, излюбленная резиденция немецких государей во время их пребывания в Лотарингии, был предан огню, и той же участи подвергся Верден. Для усмирения этого мятежа потребовалось два года. На этот раз дело шло уже не об одном из тех локальных мятежей, которые так часто поднимали графы Лувена и Генегау. Теперь пришлось иметь дело с настоящей войной и меры, принятые императором, свидетельствовали об огромных размерах опасности. Обеспечив себе помощь датского и английского флота против Балдуина Фландрского, он сам с огромной армией появился в Лотарингии, в сопровождении папы Льва IX так, как будто для усмирения феодалов необходимы были обе эти крупные силы, которым принадлежало господство над миром. Вскоре удалось заключить мир, но он оказался недолговечным. Восставшие лишь на словах принесли присягу, так как они сознавали теперь свою силу. Что касается Балдуина V, то он вскоре опять появился на правом берегу Шельды. Стесненная на юге могущественным герцогством Нормандским, преграждавшим ему путь, Фландрия пыталась теперь расшириться за счет Германии. С середины XI века ее история теснейшим образом переплетается с историей Лотарингии. Граница, которая проведена была Верденским договором через Нидерланды и которую саксонские и франконские государи около двух веков успешно охраняли от Франции, была уничтожена усилиями феодального князя. В 1051 г. Балдуин благодаря браку своего сына с Рихильдой, вдовой графа Германа Монского, присоединил к своим фамильным землям владения дома Генегау[148]. Вскоре затем, воспользовавшись походом Генриха III в Италию, он неуклонно продолжал свое продвижение и вторгся в Льежское епископство. Начатый против него поход в 1054 г. оказался неудачным, и в следующем году он возобновил свой союз с Готфридом, сделавшимся благодаря своему браку с Беатриче Тосканской более сильным, чем когда-либо. Смерть Генриха III принесла победу этой коалиции. Поставленная перед угрозой неизбежности новой войны, императрица Агнеса вынуждена была уступить. Она примирилась с Готфридом, которому обещала дать герцогский титул Нижней Лотарингии после смерти Фридриха Люксембургского, в 1046 г. наследовавшего Гозело II в управлении этой территорией, и передала Балдуину V имперскую часть Фландрии, а его сыну Балдуину VI — Генегау[149]. Готфрид Горбатый, получивший в конце 1069 г. герцогский титул, казалось, призван был восстановить то, что было разрушено его отцом. Во время бедствий, разразившихся в Германии в царствование Генриха IV, его преданность ни разу не была поколеблена. Муж прославленной графини Матильды, с которой он вскоре разошелся и которая, пока он воевал на севере Альп, жила в Италии, — он был столь же предан Империи, как она папству. Он помогал Генриху усмирить восстание саксов и был самым влиятельным его советником, «единственным, пожалуй, человеком, который умел обуздать этот буйный и надменный нрав»[150]. Он был самым верным союзником епископов в их борьбе против феодальных князей. Вместе с Теодуэном Льежским он старался — впрочем, безуспешно — отразить посягательства Фландрии на Генегау; вместе с Вильгельмом Утрехтским он вел борьбу с графом Теодорихом Голландским. Он посвятил себя задаче, впрочем, теперь уже невыполнимой, заставить торжествующую феодальную знать подчиниться порядку и «германской дисциплине»[151]. К сожалению, его жизненный путь оказался очень кратким. Его враги, не будучи в состоянии победить его на поле битвы, убили его. Он умер в Утрехте 26 февраля 1076 г. в результате ранения, полученного им в Зеландии от руки убийцы, оставшегося неизвестным. Вместе с этим небольшим, хилым и уродливым человеком исчез последний имперский штатгальтер Нижней Лотарингии. Правда, герцогский титул сохранился, но он стал с этого времени пустым званием. Эта большая западная провинция Германии была окончательно раздроблена между локальными династиями, и ее название вскоре стало лишь географическим термином. Хотя Готфриду удалось еще сохранить ее политическое единство, но дело, за которое он боролся, было обречено. Не только феодальная оппозиция стала слишком могущественной, чтобы ее можно было долгое время держать в покорности, но и епископы, так энергично защищавшие до тех пор от нее права своего государя, отказались в конце XI века от своей традиционной роли.III
Изучение религиозной жизни Нидерландов в X и XI вв. лучше всего дает нам возможность ознакомиться со своеобразной культурой этих областей. Их зависимость от Франции и Германии, их способность ассимилировать идеи и тенденции, развивавшиеся то на юге, то на востоке их границ, их роль посредника между обоими этими народами Западной Европы — все это нигде не выступало с такой отчетливостью, как в их церковной истории. В монастырях и епископских городах тех самых территорий, где некогда встречались друг с другом кельты и германцы, франки и римляне, французские Каролинги и германские императоры, вскоре столкнулись друг с другом две большие партии, образовавшиеся в лоне церкви, и очень рано здесь завязалась борьба между двумя различными представлявшимися ими точками зрения. Мы видели, в какой упадок пришли монастыри Фландрии и Лотарингии в концу норманнского завоевания. Почти все они попали в руки крупных земельных собственников и скорее походили на феодальные резиденции; чем на монашеские обители. Дисциплина в них до такой степени упала, что в начале X века устав св. Бенедикта был почти полностью предан забвению. Немало аббатов отличалось от светских людей лишь своей тонзурой. Большинство их было женато и жило в монастырях вместе с женами и детьми, проводя свои дни в попойках и принимая участие в военных состязаниях живших поблизости рыцарей. Монахи, разумеется, следовали их примеру. Обеты бедности, послушания и целомудрия стали мертвой догмой; Евангелие сделалось предметом грубых насмешек. «Нас хотят заставить верить, — говорили монахи, — что у нас нет никакой собственности. Кто же в таком случае собрал здесь все эти драгоценности и книги, если не братья этого монастыря?»[152] Некоторые случаи с полной очевидностью показывают, какое варварство царило тогда среди черного духовенства. Так, например, в Лоббе аббат Эрлуин, стремившийся восстановить дисциплину и желавший продать несколько урожаев для покрытия огромных долгов, был схвачен ночью монахами, который вырвали ему глаза и язык и бросили его замертво[153]. Однако, несмотря на эти прискорбные обстоятельства, аскетическая жизнь оставалась для чистых душ единственным идеалом, достойным христианина. Как ни разложилась церковь и как она ни погрязла в материальных заботах, из нее тем не менее продолжали выходить люди, проповедовавшие отречение от земных благ и посвящение себя всецело служению богу. Таков был, например, Ратер, этот питомец Лоббского аббатства, который, будучи то школьным учителем, то придворным Оттона I, то епископом Вероны и Льежа, однако никогда не переставал считать, что жить стоит только монашеской жизнью. Он встречал понимание не только среди духовенства, но даже и среди многих представителей светской аристократии, ибо те самые аристократы, которые так бессовестно присваивали себе церковные земли, в глубине души проникнуты были самым искренним благочестием. Они, разумеется, не без угрызений совести захватывали вещи, предназначавшиеся для культа святых, которых они боялись ив то же время почитали. Железная необходимость наделять феодами своих рыцарей (milites) была единственной причиной такого их поведения. Легко убедиться, что они проникнуты были самым искренним благочестием по отношению к тем храмам, которые они вынуждены были грабить в силу условий, диктовавшихся им их политикой. Они завещали им, в надежде получить за это бессмертие, земли и драгоценности. Они просили хоронить их в своих церквях и, отправляясь в поход, одалживали у церквей реликвии. Разумеется, они чистосердечно сокрушались о невежестве и праздности, в которой коснели монахи. Они умели ценить знания, добродетели и строгость нравов. Изгнанный из Льежа Ратер нашел себе приют в замке графа Беренгара Намюрского, Ренье Длинношеий тоже окружал себя благочестивыми и ревностными клириками. Стоило только появиться реформатору, чтобы они рьяно бросились ему на помощь, и восстановление церковной дисциплины происходило быстрее там, где сильнее была зависимость монастырей от этих феодалов. Этот реформатор вышел из недр самой аристократии. Действительно, Гергарт Броньский принадлежал к одному из самых именитых в Лотарингии родов[154]. Его мать Плектруда была сестрой льежского епископа Этьена, а одним из предком его отца, как говорили, был некий австразийский герцог. Подобно всем молодым людям его положения, Гергарт сначала прошел военную карьеру. Он поступил на службу к графу Беренгару Намюрскому и вскоре стал его главным советником. Возложенная на него графом в 915 г. миссия, с которой он отправлен был к Роберту Парижскому, решила его будущее. Подобно лотарингским аристократам, нравы и положение которых столь схожи были с нравами и положением французской аристократии, Роберт был светским аббатом нескольких монастырей. Во время своей миссии Гергарту пришлось посетить аббатство Сен-Дени, самое богатое и самое известное из них. Он был так поражен образом жизни монахов, что тогда же решил со временем постричься и воспользовался своим пребыванием в аббатстве, чтобы научиться чтению и письму. Спустя некоторое время он принял здесь обет и провел затем здесь несколько лет. Но сам он когда-то основал в своем броньском аллоде около Намюра небольшой монастырь, куда привлек каноников, и здесь решил закончить свои дни в созерцании и молитве. Он привез сюда книги, заменил каноников монахами и принял сан аббата (923 г.). Отрекаясь от мирской жизни, Гергарт и не предполагал, что ему придется приняться за реформу лотарингской церкви. Это был чистейший аскет, чуждый, казалось, всякого прозелитизма и занятый исключительно спасением своей души. Но обстоятельства вскоре заставили его играть роль, о которой он и не помышлял. Как только устав- Бенедиктинского ордена во всей его строгости введен был в Брони и едва прошел слух, что в лесах Намюрского графства основан скит отшельников, как сейчас же обнаружилось, какую власть имел над человеческими душами идеал аскетической жизни. Началось оживленное движение, в основе которого лежали преклонение и сочувствие. Паломники стекались к новому монастырю, чтобы полюбоваться зрелищем, отвечавшим самым высоким стремлениям к духовному благочестию. Гергарт, смущенный таким энтузиазмом, пытался сначала укрыться от него в уединении. Но вскоре его стали осаждать самыми настойчивыми просьбами. Епископ Тетдо из Камбрэ, граф Ренье Генегауский, герцог Гизельберт — умоляли его установить в зависевших от них аббатствах такую же духовную жизнь, образцом которой был Бронь. По просьбе герцога Гизельберта он взял на себя руководство монастырем Сен-Гислен, в котором в то время обитали морально развращенные каноники, проводившие время в разъездах по окрестностям, где они за деньги показывали верующим реликвии для поклонения. Гергарт добился быстрого и полного успеха и вынужден был с этого времени продолжать столь Удачно начатое дело. Он был призван во Фландрию графом Арнульфом Старым, где на него возложена была пропаганда церковной реформы. Граф наделил его неограниченными полномочиями, и так как все крупные монастыри находились в ленной зависимости от него, то можно было действовать по единому общему плану. В течение нескольких лет были восстановлены аббатства Сен-Пьер и Сен-Бавон в Генте, Сент-Аманд, Сен-Бертен и Сент-Омер. Уже в середине X века дело церковной реформы окончательно победило. Поощряемая энтузиазмом народа, а также моральной и материальной поддержкой аристократов, церковная реформа вскоре распространилась по всем монастырям от Мааса до моря. Произошло настоящее возрождение монастырей. Устав ордена св. Бенедикта был повсюду восстановлен во всей его первоначальной чистоте. Аристократы вернули аббатствам свободу и предоставили монахам по своему усмотрению выбирать своих настоятелей. К этому же времени имперская церковь, которая еще при жизни Гергарта Броньского организовалась в стране, решительно примкнула к движению. Епископы Льежа, Камбрэ и Утрехта, рьяно соперничали теперь с той самой светской аристократией, с которой они боролись во имя императора. Благодаря столь благоприятному стечению обстоятельств в течение X и XI веков повсюду возникло множество новых монастырей: во Фландрии — Сен-Совер (в Гаме), Бурбур, Ваттен, Энам, Граммон, Удербург, Сент-Андрэ (около Брюгге), Сен-Виннок (в Бергене), Мессин, Лоо, Воормзеле, Зоннебек, Зверсгам и Аншен; в Брабанте — Аффлигем, Жет, Форест, Борнгем, Сен-Бернар (в Антверпене); в Льежском диоцезе — Жамблу, Торн, Сен-Жак и Сен-Лорен; в Генегау — Лиесси, Сен-Дени-Ан-Брокеруа; в Валансьене — Сен-Сов и Сент-Андрэ — в Като-Камбрэзи. Некоторые из этих монастырей основаны были княжескими домами, среди которых особенно выделялся дом графов фландрских, другие же были делом епископов. Достаточно просмотреть перечень монастырей, чтобы убедиться, что Нидерланды стали подлинным убежищем монашества. Вплоть до X века аббатства, за очень редкими исключениями, не выходили за пределы романской области. Теперь же, как бы стараясь наверстать упущенное время, они быстро распространились по фламандской равнине. Подавляющее большинство только что названных монастырей основано было к северу от лингвистической границы. Уже до эпохи крестовых походов Бельгия была страной монастырей, подобно тому, как она стала позднее страной городов. Религиозное чувство было здесь тогда, по-видимому, более развито, чем во всех других европейских странах. Оно настолько завладело людьми, что на протяжении всего средневековья население бассейнов Шельды и Мааса неизменно выделялось своей пламенной религиозностью и искренним благочестием. Именно монахи, и только монахи оставили неизгладимый след в национальном характере. Имперская церковь, занятая исключительно политическими и государственными делами, не оказала глубокого влияния на народ. Епископы жили, не соприкасаясь с народом в своем аристократическом окружении. Почти никто из них не пользовался репутацией святости, бывшей в то время характерным признаком, религиозного прозелитизма. Они пользовались вниманием и уважением, как представители германской дисциплины, как прекрасные штатгальтеры, как очень ученые люди; они внушили свою лояльность высшим кругам духовенства и даже части светской аристократии и морально переделали их на свой лад, но они не были предметом того страстного и любовного поклонения, с каким народ относился к монахам. Именно в них он видел истинных служителей бога и воплощение церкви. Аббатства пользовались почти неограниченным влиянием на народ. В Сен-Троне приток ежегодных приношений верующих превосходил все другие доходы монастыря[155]. Когда начинали сооружать новую церковь, то народ добровольно тащил из Кельна каменные глыбы и колонны, доставлявшиеся по Рейну[156]. Жители Турнэ заботились о пропитании аскетов, поселившихся около города на развалинах церкви Сен-Мартен[157]. Впрочем, знать тоже разделяла религиозный пыл народа. Оба самых могущественных феодальных дома того времени — Арденнский и Фландрский — в такой же мере выделялись энергией и воинственностью своих членов, как и религиозным пылом. Готфрид Бородатый умер монахом, Роберт Фрисландский находился в сношениях с Григорием VII и выступил одним из преданнейших защитников церкви, когда началась борьба за инвеституру. Простые рыцари были не менее религиозны, чем их сюзерены. Преследуя врага, они останавливались и сворачивали, как только замечали маячащие на горизонте башни какого-нибудь монастыря[158]. Для прекращения частных войн между феодалами, в результате которых их территории терпели опустошения, князья прибегали к следующему, очень эффективному средству. Они заставляли монахов разъезжать по стране с мощами какого-нибудь святого, и когда начиналось шествие с реликвиями, воюющие складывали оружие, и среди песнопений, молитв и слез враждовавшие между собою роды мирились друг с другом, и забывали, по крайней мере на некоторое время, об убийствах, грабежах и пожарах[159]. Грандиозный крестный ход в Турнэ, введенный в самом конце XI века, — как раз в то время, когда чума опустошала берега Шельды, — был самым ярким проявлением пламенной религиозности Нидерландов. Во время этой процессии все слои населения сплачивались в едином религиозном порыве и босиком шли за иконой Пресвятой Девы. Хронист Герман исчислял число участников процессии в 100 тысяч! С этого времени эта церемония, вплоть до конца Средних веков, неизменно привлекала каждый год в Турнэ тысячи паломников. Он остался главным национальным центром паломничества фламандцев, и вплоть до беспощадных войн XIV века гентцы всегда неукоснительно посылали делегацию со своими дарами в Нотр-Дам в Турнэ[160]. Монастырская реформа Гергарта Броньского была реформой в провинциальном масштабе. Она произошла независимо от реформы, которая, начавшись в это же время в Клюни, быстро распространилась по Франции. Но клюнийская реформа вскоре проникла и в Нидерланды. Она утвердилась прежде всего в Лотарингии, в монастыре Сен-Ван в Вердене (1004 г.), и отсюда быстро распространилась на северные области. Как известно, она вводила чисто аскетические тенденции: полное отречение от земных благ, уничтожение свободы воли в предписывавшемся ею пассивном послушании и абсолютном молчании. Так как царившее во Фландрии и Лотарингии настроение благоприятствовало новой реформе, то ей предстоял здесь огромный успех. В течение XI века она охватила все монастыри. Движение началось с Сен-Ваастского аббатства в Аррасе, куда граф Фландрский Балдуин IV призвал Ричарда из Сан-Вана (1008 г.), который нашел себе вскоре достойного помощника в лице Поппо, родившегося в Дейнце в 978 г. иотказавшегося, подобно Гергарту Броньскому, от военной карьеры ради пострижения в монахи. Впрочем, Поппо предстояло позднее выступить на более широком поприще: именно ему, в качестве аббата Ставело и св. Максимина (в Трире), выпало на долю распространение клюнийских идей по всей Германии[161]. Тем временем аббатства Флоренн (1010 г.), Лобб, Жамблу стали центрами, из которых реформа постепенно распространялась по льежскому диоцезу, а затем и в других частях Нидерландов[162]. Влияние клюнийцев еще более усилило религиозное рвение. Так как многие деревенские церкви зависели от аббатств и находились под руководством монахов, то новый дух с неудержимой силой проникал повсюду. Энтузиазм, с каким клюнийская реформа встречена была в Нидерландах, можно сравнить с той легкостью, с какой здесь усвоены были феодальные нравы французов (Carlenses). Влияние Франции и в том, и в другом случае было преобладающим, и в обоих случаях идеи, заимствованные Из Франции, направлены были против императорской власти. Если светские феодалы были самыми опасными врагами епископов, то, в свою очередь, религиозная реформа со своей стороны в достаточной мере подорвала систему управления, введенную в стране Бруно. Действительно, существование имперской церкви было несовместимо с ней. В согласии со своими принципами, клюнийцы отвергали всякое вмешательство светской власти в церковные дела. Епископ, назначенный императором, неизбежно был в их глазах повинен в симонии. Новые тенденции, разумеется, встретили известное сопротивление. Старые монахи, прошедшие более терпимую и менее суровую школу, враждебно и недоверчиво следили за распространением в Лотарингии французских нравов[163]. Выражение этих настроений оставил нам в своих стихах Эгберт Льежский[164]. Но раз начавшееся движение нельзя было уже остановить. Реформа с каждым годом ширилась и делала все новые успехи. Вскоре она вышла за пределы монастырей. Ей удалось привлечь на свою сторону епископов. Гергарт из Камбрэ, Адальбольд Утрехтский, Бальдерик Льежский, Вольбодо и, в особенности, его преемник Вазо[165] — прилагали все свои усилия к ее распространению и постепенно прониклись проповедовавшимся ею учением. Разумеется, их преданность императору осталась по-прежнему непоколебимой, и мы видели, какие услуги они оказали своему государю во время восстания Готфрида Бородатого. Но с середины XI века их взгляды, несомненно, нередко оказывались в противоречии с их поведением. Они считали теперь своим верховным главой папу. Они тщательно отличали компетенцию духовной власти от компетенции светской власти. Среди них нельзя было уже больше встретить таких людей, как первые епископы-саксонцы, или таких, как Нотгер, которые сочетали свои светские обязанности с духовными. По мере обострения взаимоотношений между Римом и Германской империей у них все чаще возникал конфликт между двумя различными чувствами, они не могли решиться, на какой путь им надлежит стать и колебались между обеими враждующими сторонами. Епископ Камбрэ, Гергарт II, вначале враждебно относившийся к папе Григорию VII, примирился с ним и стал после этого одним из самых горячих его приверженцев. Льежский епископ Теодуэн, который остался сторонником императорской власти, был за это обвинен в симонии. Его преемник, Генрих Верденский, назначенный Генрихом IV по предложению Готфрида Горбатого, сначала принял участие в осуждении Григория VII немецкими епископами в Вормсе, но вскоре после этого сблизился с папой. Однако когда только началась борьба за инвеституру, император мог еще рассчитывать на серьезную помощь. Так, он мог полагаться на Вильгельма Утрехтского и, в особенности, на того самого Отберта, который остался непреклонно верным ему и в столицу которого он бежал, чтобы закончить здесь свои дни[166]. Вокруг этих людей группировались убежденные сторонники правящей партии. Льеж был тогда одной из последних твердынь имперской церкви. Зигеберт из Жамблу обрушивался: отсюда на папу Григория VII с аргументацией, которая впоследствии была воспринята галликанской церковью XVII века в ее борьбе с теорией ультрамонтан. Нетрудно убедиться в том, что в развернувшейся тогда борьбе двух противоположных точек зрения, под видом религиозно-политических разногласий столкнулись друг с другом французское и немецкое влияние в Лотарингии. При этом валлон Зигеберт защищал немецкую церковь, фламандец же Поппо занят был проведением здесь реформы церкви на французский образец, которую он ввел также и в Германии. Впрочем, не могло быть никаких сомнений относительно исхода борьбы. Весь народ, возбужденный пламенной проповедью монахов, был всецело на стороне церковной реформы. С невероятной яростью обрушился он на женатых священников. Освященные ими причастия попирались ногами, отказывались причащаться у них и предпочитали лучше не покоиться в освященной земле, чем быть в ней похороненными ими[167]. Светская аристократия, проникнутая столь пылкой религиозностью, находила теперь в своих религиозных убеждениях то оправдание, которого ей до сих пор не хватало при ее восстаниях против епископов и императоров. Присягать прелатам, повинным в симонии или отлученным от церкви, стало для нее вопросом совести. Призывы папы, обращенные к Роберту Фрисландскому (10 ноября 1076 г.) против священнослужителей, повинных в прелюбодеянии[168], встречали у феодальных аристократов очень сочувственный отклик. Чтобы защитить себя от нападок последних, епископы были вынуждены отойти от императора, так как их верность ему неминуемо ставила их под удары их исконных врагов. Что касается немногих светских вассалов, желавших остаться верными императору, то их положение было еще более тяжелым. Папа Григорий VII поддерживал притязания Теодориха Верденского и Альберта Намюрского[169] против Готфрида Бульонского, в котором он опасался увидеть нового Готфрида Горбатого. При этих обстоятельствах феодальный партикуляризм необычайно усилился. Успехи, достигнутые имперской церковью на протяжении целого столетия, в течение нескольких лет сошли на нет. Под напором двух объединенных сил — феодалов и религиозной реформы — прежняя система распалась по всем швам и рухнула. Нидерландские феодалы использовали в своих интересах спор об инвеституре, от которого зависели судьбы Европы. Графы Генегауские, Лувенские, Голландские, Намюрские, Лоозские окончательно упрочили тогда свое положение. Утрехтский епископ был побежден графом Голландским, и отныне это большое северное княжество могло развиваться свободно, несмотря на все противодействие Империи. Графство Генегау, которое одно время при Теодуэне, казалось, должно было сделаться частью льежского епископства, добилось теперь только номинальной зависимости от него. Одновременно под влиянием французских идей, а также ощущавшегося всеми отсутствия безопасности и все возраставшей слабости епископов в Лотарингии распространился новый институт. Мир божий, к которому в свое время отказался присоединиться Гергарт из Камбрэ, введен был Генрихом Верденским (1081 г.) в льежском диоцезе, и отсюда он, подобно клюнииской реформе, следствием которой он, по существу, являлся, проник также и в Германию. Франция искусно воспользовалась этой запутанной ситуацией. Филипп I, поддерживаемый графом Фландрским, добился в 1093 г. от папы восстановления Аррасского диоцеза, объединенного до этого с диоцезом Камбрэ. Это был первый успех, достигнутый династией Капетингов в Нидерландах, в ущерб Германии[170]. Все это достаточно красноречиво говорит о том, в каком положении находилась имперская церковь. Ее присоединение к папе и к идеям церковной реформы оказалось выгодным только для ее врагов. Одновременно с тем, как епископы отходили от императоров, они подпадали под влияние тех самых светских князей, которых они когда-то держали в своих руках. И действительно, это и не могло быть иначе, — особенно с того момента, как каноники в результате победы канонического принципа получили право выбирать епископов. Эти выборы лишь в очень редких случаях были свободными. Почти всегда жившие в пределах данного округа графы имели свою партию в капитулах, так что всякая новая вакансия становилась поводом для политических интриг, а иногда даже и для вооруженной борьбы. В Камбрэ — графы Фландрии и Генегау, в Льеже — графы Намюрские и опять-таки Генегауские, в Утрехте — графы Голландские пытались посадить на епископскую кафедру членов своих семей или, во всяком случае, преданных защитников своих интересов. Словом, повторялось положение, которое мы в ином виде отмечали уже во времена Ренье Длинношеего и Гизельберта. То какой-нибудь кандидат силой навязывался клиру, то враждебные партии, на которые распадался капитул, выбирали каждая своего епископа — и разражалась война. Некоторые прелаты оказывались не в состоянии вступить в свои епископские города, несмотря на свое обращение к папе и отлучение от церкви своих противников, других находили предательски убитыми, одним не хватало архипастырского посвящения в сан, другим — инвеституры императора. Но всегда при всех этих беспорядках руководителями событий выступали феодалы. Раздиравшие диоцезы внутренние междоусобицы были результатом соперничества и столкновения честолюбий соседних династий. Достаточно бросить беглый взгляд на списки епископов, начиная с XII века, чтобы тотчас же понять сущность нового положения вещей. До борьбы за инвеституру почти все нидерландские епископы, ставленники императора, были немцами или, во всяком случае, духовными лицами, воспитанными при дворе или жившими в окружении государя. После же царствования Генриха IV они, наоборот, лишь за редкими исключениями не принадлежали к семьям местной аристократии. В Льеже, после Отберта, епископскую кафедру занимали, одни за другим, Фридрих Намюрский, Адальберон Лувенский, Александр Юлихский и затем, наконец, Адальберон II, зять герцога Брабантского. В Утрехте, после епископов Конрада и Бурхарда, из коих последний был баварцем по происхождению, со времени епископства Годбольда начался новый период (1113–1128 гг.), во время которого диоцез постепенно переходил в руки графов Голландских. В еще более плачевном положении находилось Камбрэ. Еще при жизни Генриха IV, здесь были одновременно выбраны двое: сторонник императора, Вальхер, и сторонник папы Григория VII, Манассе (1093 г.). В борьбе, разыгравшейся между этими двумя людьми, сплелись все конфликты, происходившие в то время в Лотарингии. Манассе, сына графа Суассонского и восторженного приверженца папы, поддерживал граф Фландрский — Роберт II, старавшийся, под предлогом повиновения папе, сделаться хозяином Камбрэ. Интересы Франции и интересы феодалов в данном случае совпадали. Вассалы епископа воспользовались этой борьбой, чтобы признать зависимость своих феодов от графа Фландрского. Наконец, в разгар беспорядков и развала прежней системы церковного управления на сцене появилась совершенно новая сила: город поднял восстание против епископа и создал первую, известную нам в истории Нидерландов, коммуну. Всего изложенного, несомненно, достаточно, чтобы убедиться в полном крушении системы, созданной Оттоном I в X веке. Лотарингия перестала быть большим штатгальтерством, крупной провинцией Германской империи. Феодальная аристократия жестоко отомстила епископам. Отныне ей суждено было господствовать над теми самыми прелатами, перед которыми она вынуждена была склоняться столь долгое время. Герцог, наряду с епископами представлявший императора, потерпел катастрофу вместе с ними. После смерти Готфрида Горбатого Генрих IV, не доверяя, вероятно, Готфриду Бульонскому, передал ему в качестве феода только Антверпенскую марку, сохранив герцогские полномочия за своим собственным двухлетним сыном Конрадом. Только в 1089 г. он передал герцогство Готфриду, но было уже слишком поздно. Светская аристократия не могла уже больше мириться с господством герцога, и чтобы заставить ее принять его, надо было иметь на своей стороне епископов. В действительности Готфрид ничего не сделал и не в состоянии был ничего сделать в Нидерландах. Владея только своими арденнскими наследственными землями, проданными Готфридом льежскому епископу перед тем как он отправился в крестовый поход, Готфрид носил герцогский титул, но не пользовался герцогской властью, и если бы он не отличился в святой земле, то перешел бы в историю лишь как обыкновенный бульонский сеньор. Император назначил его преемником Генриха Лимбургского, предоставив, таким образом, впервые герцогские полномочия представителю местного рода (1101 г.)[171]. Еще хуже было то, что Генрих V, борясь со своим отцом, в свою очередь в 1106 г. передал герцогские полномочия Готфриду Лувенскому. Благодаря этому дом Ренье Длинношеего достиг цели, которой он добивался веками. Лишившись герцогского титула со времени Гизельберта, он вновь обрел его в разгар смут, раздиравших Империю. Но герцогство, которого он наконец добился, существовало лишь на словах. Подобно епископству, оно потеряло всякое значение и смысл. Оно фактически исчезло уже вместе с Готфридом Горбатым. Во время этого развала герцогской власти Генрих IV, отлученный папой от церкви и низложенный своим сыном, явился искать себе пристанища в Льеж. Этот большой валлонский город стал последним убежищем германского императора, преданно охранявшим последние дни его трагического жизненного пути. Епископ Отберт отдал в распоряжение своего государя свои богатства и свои войска, навербовав ему сторонников среди окрестного дворянства. Его рыцарям и горожанам удалось отбить у моста Визе нападение Генриха V, надеявшегося без труда прогнать своего отца из города, где он обрел, наконец, некоторый покой[172]. Народ, потрясенный несчастиями старого монарха, почитал его как святого, и когда он умер (7 августа 1106 г.), то около его гроба разыгрались странные сцены. Давили друг друга, чтобы получить возможность дотронуться до Него, крестьяне покрывали его предназначенными для посева семенами, в надежде, что засеянные ими поля дадут потом обильные всходы. Похороны Генриха IV, погребенного ввиду его отлучения от церкви без всякой пышности и церковных песнопений за пределами города в маленькой не освященной еще часовне Корнион, были печальными похоронами императорского режима в Лотарингии. В течение нескольких месяцев, проведенных им в Льеже, Генрих мог убедиться, насколько времена переменились. Около него Отберт вместе с еще несколькими сторонниками императорской власти защищали заведомо обреченное дело; но какие перемены произошли тем временем вокруг! И как эта оставшаяся верной ему группа людей была изолирована! Все взгляды обращены были уже не на Империю, а на Иерусалим[173]. Ничто так красноречиво не свидетельствовало о религиозной и политической эволюции, происшедшей в Лотарингии, как тот энтузиазм, с каким она приняла участие в крестовых походах. Это важнейшее начинание, столь соответствовавшее нравственным идеям, а также социальной и политической обстановке XI века, нашло, пожалуй, свое наиболее полное выражение в областях, расположенных на левом берегу Рейна. Лотарингский крестоносец являлся крестоносцем в лучшем смысле этого слова, и Готфрид Бульонский недаром остался в представлении народа наиболее совершенным образцом служителя Иисуса[174]. В то время, как во Франции крестовые походы были до известной степени национальным делом, в то время, как нормандцы и провансальцы отправлялись в поход не без задней мысли о добыче и завоеваниях, паломники Брабанта, Генегау, Фландрии и Голландии стремились лишь к освобождению гроба господня. Они находились всецело под обаянием христианского и рыцарского идеала. Они были подлинными и законченными папскими воинами. Крестовый поход был для них не чем иным, как христианским и европейским делом. Охваченные стихийным порывом, они двинулись в Иерусалим, под руководством того самого герцога, светская власть которого была так слаба, но который уже в силу своего титула, призван был вести их отряды на Восток. Армия Готфрида резко отличалась от других армий, вроде, например, войск Боэмунда Таренского или Раймунда Тулузского. В ней не было ничего от национальной армии. Она была двуязычна, подобно стране, из которой она происходила. Валлоны, немцы и фламандцы шли в ней бок о бок под руководством князя, говорившего на их языках и одинаково хорошо знавшего их обычаи и умонастроения. Во главе своих войск Готфрид предстает перед нами, как какой-нибудь Ренье Длинношеий или Гизельберт, у которого феодальный дух сменился религиозным энтузиазмом. Под его руководством объединились люди различных национальностей, давно уже подготовленные благодаря тем влияниям, которые они испытали на себе, к участию в общем деле. Все эти народы с такой же легкостью восприняли религиозный и рыцарский идеал, пришедший к ним из Франции, как они когда-то заимствовали каролингские учреждения. В эпоху крестовых походов они еще раз сыграли в отношении обоих больших западноевропейских народов ту роль посредников, которая, казалось, была отведена им историей. Подобно тому, как клюнийская реформа, мир божий и рыцарство перенесены были ими в Германию, точно так же благодаря им Германская империя приняла участие в самом крупном начинании, которое когда-либо затевалось христианской Европой[175].IV
В течение X и XI веков власть графов Фландрских непрерывно усиливалась, все расширяясь и укрепляясь внутренне. Объясняется это тем, что, в отличие от графов Аувенских, Генегауских и Голландских, эти князья имели в тот момент в лице французского короля сюзерена, лишенного престижа и авторитета. В то время как на территориях, расположенных на правом берегу Шельды, шла борьба не на жизнь, а на смерть, между светской аристократией и государством, в левобережных областях Шельды можно было наблюдать свободное развитие и непрерывный рост территориального княжества[176]. Там действие сил, толкавших общество на путь феодального партикуляризма, все время тормозилось, здесь же оно могло свободно развиваться и приводить к важнейшим последствиям. Если присмотреться к графам Фландрским, то нельзя найти ничего общего между ними и императорскими лотарингскими герцогами или епископами. Граф был единственным светским князем в своей стране, он получал свой феод непосредственно от государя и был одним из пэров королевства. Что касается епископов Нуайон-Турнэ, Арраса и Теруаня, то они не в состоянии были ослабить его влияния или помешать его росту, так как они были настолько же слабы и беспомощны, насколько сильны были епископы Льежа, Камбрэ и Утрехта[177]. Более того, епископы Арраса и Теруаня жили в городах, принадлежавших графам, а город Турнэ вплоть до конца XII века находился под протекторатом Фландрии[178]. Но хотя Фландрия поставлена была в совершенно отличные от Лотарингии условия, однако в известном отношении она обладала несомненным сходством с ней. В самом деле: подобно своей соседке Лотарингии, Фландрия на протяжении ряда веков лишена была национального и языкового единства. В настоящее время слово «Фландрия» ассоциируется у нас с представлением о вполне германской стране, но было бы большой ошибкой думать, что так обстояло всегда. С самого же начала существования Фландрского графства и вплоть до периода его больших войн с Францией в нем было столько же жителей романской расы, сколько и германской, и Фландрия не в меньшей мере, чем Лотарингия, заслуживала прозвания «двуязычной», bilinguis. Слова «Фландрия» и «фламандец» долгое время не имели этнографического значения: они обозначали только название областей и людей, подчиненных власти преемников Балдуина I. Границами этой территории были на севере — Звин, а на юге — Канш, и валлон из Арраса так же, как и фламандец из Гента и Брюгге, одинаково считались фламандцами. Словом, в начале X века Фландрия, населенная двумя различными, но в количественном отношении почти равными, народами, чрезвычайно походила на современную Бельгию. Впрочем, это отсутствие однородного национального состава нисколько не ослабило ее политического могущества. В то время, когда Балдуин II, опередив своих соперников, захватил все валлонские земли на юге и утвердился в стране по праву первого захвата, эти территории зависели только от французской короны. Несмотря на все свои старания, последним Каролингам не удалось отнять их у него. Арнульф I, наследовавший в 918 г. Балдуину II, закончил дело своего отца. Он окончательно завладел в 932–933 гг. Аррасом, после 941 года — Дуэ, а в 948 г. — Монтрей-сюр-Мер. Этот Арнульф был одним из самых могущественных князей своего времени. Его богатства, пополнявшиеся обильными доходами с Сен-Бертенского, Сент-Амандского и Сен-Ваастского аббатств, были неисчерпаемы и обеспечивали ему неоспоримое влияние[179]. Мы уже видели, что ему достаточно было только захотеть, чтобы в течение нескольких лет реформа Гергарта Броньского проникла во все фламандские аббатства. Это мероприятие не только не ослабило, а, наоборот, усилило его влияние. Секуляризованные владения монастырей были возвращены только частично, и граф захватил права фогта в отношении всех монастырей, чтобы отрезать им таким образом раз и навсегда пути к светской власти и независимости, которые могли бы стать опасными для него. Арнульф не удовольствовался титулом графа и присвоил себе титул маркграфа (marchio), более соответствовавший его обширным владениям и тому положению, которое он занимал на границах французского королевства. Этот титул переходил затем к его преемникам, вплоть до прихода к власти Эльзасской династии. В X веке нельзя было найти второго такого крупного вассала, как он, который пользовался бы такой неограниченной властью в своей стране. Его печать, один экземпляр которой сохранился до наших дней, является самой старинной из известных нам феодальных печатей[180]. Далее, в то время как в Лотарингии летописи велись лишь в среде епископов и аббатов, некий компьенский священник занят был здесь писанием Sancta prosapia domni Arnulfi comitis gloriosissimi[181] (Святого рода господина и славнейшего графа Арнульфа), которая, будучи в дальнейшем продолжена, дополнена и исправлена, явилась обильным и разносторонним источником ряда повествований, анналов и хроник на латинском, французском и фламандском языках, закончившимся без всяких перерывов и пробелов в XVI веке — Excellente Cronijke van Vlaenderen. Врагом, с которым Арнульфу пришлось сражаться, была на этот раз уже не обессиленная и запертая в пределах своих ланских владений каролингская династия, а такой же феодал, как и он, герцог Нормандский, преграждавший ему на реке Канш дорогу на юг[182]. Он пытался всеми бывшими в его распоряжении средствами уничтожить этого соперника. Он заключил союз против него с королями Людовиком IV Заморским и Лотарем, он приказал убить герцога Вильгельма во время одного свидания в Пикиньи (17 декабря 942 г.)[183], он убедил Отгона I, во время его похода во Францию в 946 г., двинуться на Руан. Но он не мог ничего поделать. В разразившейся ожесточенной борьбе между Фландрией и Нормандией обе стороны оказались одинаково сильными: им не удалось одолеть друг друга, и они остались на своих прежних позициях. «Великому маркграфу», умершему в 965 г.[184], наследовал его внук Арнульф II, под опекой своего кузена Балдуина Бальдзо, оставившего по себе неувядаемую славу в феодальном эпосе Франции[185]. Король Аотарь решил воспользоваться благоприятным случаем и захватить Фландрию. Но если Генрих Птицелов или Отгон I способны были победить в Лотарингии местные династии, то французский король был тогда слишком слаб для победы над северным маркграфом. Продвинувшись до реки Лис, он вынужден был отступить и вскоре потерял все захваченные им земли[186]. Натолкнувшись на сопротивление в своем продвижении на юг, фландрские графы с начала XI века стали пытать счастье на своих северных и восточных границах. Переправиться через Шельду было для них гораздо легче, чем через Канш, а равнины Брабанта и Генегау, отделенные от Фландрии лишь узким руслом реки, сулили столь же богатую, сколь и легкую добычу. В предлогах для нападения на Империю недостатка не было. Епископы Камбрэ простирали свою духовную власть на валлонскую Фландрию, и этого было достаточно для постоянных вмешательств графов в дела Лотарингии. Во время волнений, происшедших после смерти Отгона III, Балдуин IV напал на Валансьен и без труда завладел этим форпостом Германской империи (1006 г.). Генриху II пришлось выступить против него, и заключенные им перед началом похода союзы с французским королем и Ричардом Нормандским свидетельствуют о том, насколько серьезным врагом он считал Фландрию. Понадобились два похода (1006 и 1007 гг.), чтобы заставить Балдуина вернуть Валансьен. Однако следствием обоих этих походов было лишь то, что уверенность графа в своих силах только еще более возросла. В 1012 г. император отдал Балдуину вероятно в результате какой-то попытки нападения его на Зеландию, — остров Вальхерен вместе с еще четырьмя другими островами и область Четырех округов[187]. В 1020 г. вновь разразилась война. Генрих осадил Гент, а его союзник Роберт Французский двинулся на Сент-Омер. Императоры уже с давних пор приняли меры для защиты Лотарингии от покушений их опасных соседей. Историю рва, якобы вырытого по повелению Оттона I от Шельды до моря[188], надо считать, несомненно, вымышленной, но зато не подлежит сомнению, что в начале XI века были созданы две марки — одна в области Антверпена, другая вокруг Валансьена, и на полпути между ними построена была крепость в Энаме[189]. Мы только что видели, что Генрих II безуспешно пытался завладеть Гентом, являвшимся на западе ключом к Фландрии. Его военные маневры не смутили Балдуина IV, не побоявшегося в 1033 или 1034 гг. захватить Энамскую крепость и сравнять ее с землей. Восстание Готфрида Бородатого, явилось поводом для нового вторжения Фландрии на территорию Германской империи. Балдуин V (или Балдуин Лилльский) завладел всей областью, расположенной между Шельдой и Дендрой. Предпринятые против него императором походы ни к чему не привели. Очутившись в. этих болотистых местностях, пересеченных во всех направлениях ручьями, где во время дождя лошади и люди вязли в грязи, немецкие армии были остановлены теми же естественными препятствиями, которые спустя 250 лет пришлось испытать армиям французских королей. Пришлось поэтому волей-неволей пойти на мирные переговоры. В 1056 г. Балдуин окончательно получил в ленное владение острова Зеландии, область Четырех округов и область Алоста, т. е. территории, известные впоследствии под названием имперской Фландрии[190]. Сделавшись одновременно вассалом французского короля и германского императора, Балдуин стал пользоваться необычайным влиянием и авторитетом. Он занял такое же положение в феодальной Европе XI века, какое впоследствии в XV веке занимали герцоги Бургундские. «Короли, — заявлял Вильгельм из Пуатье, — боялись и уважали его; герцоги, маркграфы, епископы — трепетали перед его могуществом». Его рыцари считались непобедимыми, а благодаря начавшемуся как раз в то время оживлению торговых сношений Фландрии он приобрел в дополнение к доходам, извлекавшимся им из его обширных земель, еще новые и непрерывно возраставшие богатства[191]. Он оказывал содействие начавшемуся тогда росту городов. Крупный торговый Лилль считал его своим основателем. О том влиянии, каким он пользовался, лучше всего свидетельствует та роль, которая была предоставлена ему во Франции после смерти короля Генриха I. С 1060 г. по 1065 г. он управлял королевством в качестве опекуна малолетнего Филиппа I. Став во главе своих вассалов, он усмирил восстание, поднятое против его питомца. Он распоряжался его доходами и был в течение 6 лет настоящим майор домом. Филипп называл его в своих грамотах meus patronus, nostrae procurator pueritiae («мой патрон и попечительно моего детства»); Балдуин же величал себя сам regni procurator et bajulus («попечитель и управитель королевства»)[192]. Расширив свои владения за счет Империи, граф отказался от тех бесплодных войн с Нормандией, которыми заняты были его предшественники. Он выдал свою дочь за герцога Вильгельма, и когда последний начал завоевание Англии, Балдуин не предпринял ничего, чтобы помешать ему в этом. Он вел себя скорее как фландрский граф, а не как блюститель интересов династии Капетингов, дав безвозбранно совершиться столь роковому для Франции событию, которое могло бы, пожалуй, быть предотвращено одной лишь военной демонстрацией Фландрии на реке Канш. Жители Фландрии приняли деятельное участие в завоевании сначала в качестве солдат, а затем — в качестве поселенцев. Со времени битвы при Гастингсе завязались все более тесные дипломатические и торговые сношения между обоими побережьями Северного моря. Наряду с французской и немецкой политикой у графов Фландрских появилась также вскоре и английская политика. Удачные браки еще более усилили престиж графа за пределами Фландрии. В 1051 г. его старший сын Балдуин, женившись на графине Рихильде, получил графство Генегау и, несмотря на протесты императора, сумел сохранить за собой эту территорию, географически связанную с Фландрией. Другая богатая наследница Гертруда Голландская, вдова графа Флоренция I, стала женой его второго сына, Роберта Фрисландского (1063 г.), управлявшего в течение нескольких лет «морским графством» от имени Теодориха V, родившегося от первого брака Гертруды. Таким образом, господство фландрской династии простиралось от берегов Зюйдерзее до отрогов Арденн. По удачному выражению одного хрониста, оба сына Балдуина были двумя могучими крыльями, поддерживавшими его в его полете[193]. После смерти своего отца Балдуин VI объединил феодальные короны Фландрии и Генегау. Впервые произошло объединение обеих частей Нидерландов вопреки разделявшей их франко-германской границе. Казалось, что Фландрии суждено поглотить Лотарингию и подчинить ее власти фландрских графов. Епископство Камбрэ, окруженное со всех сторон, было совершенно бессильно, и достаточно было однодневного перехода от границ Генегау, чтобы фландрские рыцари появились под стенами Льежа. Но объединение Фландрии с Генегау был недолговечным. Балдуин VI умер в 1070 г., оставив после себя двух малолетних сыновей, Арнульфа и Балдуина, под опекой их матери. Роберт Фрисландский, несмотря на принесенную им перед его браком клятву в том, что он отказывается от всех своих прав на Фландрию, не преминул воспользоваться этими обстоятельствами. Как только похоронен был его брат, он постарался, не брезгуя ничем, создать себе свою партию. Ему удалось без труда привлечь на свою сторону жителей приморской Фландрии, которые — благодаря тому, что они были в значительной мере смешаны с фрисландскими элементами и изолированы от народов, живших в глубине страны, и сохранили свои старинные нравы и обычаи, — враждебно относились к попыткам графов подчинить их своей власти, заставить их платить налог «balfard» и ввести у них «графский мир». За него высказались также часть дворянства и жители нарождавшихся городов, которым претендент, по-видимому, надавал массу обещаний. Спустя короткое время на севере графства организован был настоящий заговор. Меньше чем через шесть месяцев после смерти Балдуина, вспыхнуло восстание, которое перебрасывалось из одного места в другое и вестниками которого были горящие бочки смолы, прикрепленные на шестах. Роберт был впущен в Гент и принял здесь графский титул. Арнульф и его мать, застигнутые врасплох, обратились за помощью к своему сюзерену, французскому королю Филиппу I и получили также поддержку со стороны Вильгельма Фиц-Осбернского, графа Герефордского, который то ли по приказу английского короля, то ли в надежде жениться на Рихильде, привел некоторые подкрепления из Нормандии. 22 февраля 1071 г. Роберту, после ожесточенного боя у горы Кассель, в котором погиб старший из его племянников, удалось оттеснить союзную армию. После этого младший его племянник, Балдуин, наследовал права своего брата, а мать его Рихильда употребила всю свою энергию, чтобы помочь ему восторжествовать над своим дядей. Покинутая французским королем, вскоре примирившимся с Робертом, на невестке которого, Берте Голландской, он спустя некоторое время женился, Рихильда обратилась за помощью к Германской империи, положив таким образом начало той политике, которая два века спустя усвоена была д'Авенами в их борьбе с Дампьерами. Она призвала на помощь герцога Готфрида Горбатого и льежского епископа Теодуэна, которому пожаловала Генегау. Но ее союзники довольно слабо поддерживали ее дело. Балдуин после долгой борьбы, о которой нам мало что известно, кончил тем, что примирился со своим дядей, ограничившись получением одного только графства Генегау. Объединенные столь недолгое время Фландрия и Генегау опять отделились друг от друга, чтобы снова объединиться лишь в конце XII века[194]. Правление Роберта Фрисландского резко отличалось от правлений его предшественников. До него фландрские князья жили главным образом в местностях, омываемых Шельдой и ее притоками, где находилась большая часть их земель и почти все крупные аббатства. Оба последние Балдуина питали, по-видимому, даже особое пристрастие к романским областям, где высились Лилль и Аррас. Именно в этих областях находились самые обильные источники их доходов, именно здесь были особенно многочисленные феоды их рыцарей и, наконец, именно отсюда им легче всего было двинуться во Францию, в Генегау или в Камбрэзи. Все это совершенно изменилось при Роберте, перенесшем центр своего влияния на север Фландрии. Его излюбленным местопребыванием стал Брюгге, морская торговля которого была уже довольно значительной в XI веке. Сен-Донацианский прево был назначен в 1089 г. канцлером графа и главным сборщиком всех его доходов. Таким образом, во Фландрии, где экономическое развитие шло необычайно быстро, начался тот процесс, в результате которого чисто земледельческий строй начального периода средневековья сменился новым укладом, базировавшимся на промышленности и торговле, и естественным следствием этого было превращение самого крупного порта страны в главный правительственный центр. Впрочем, к экономическим соображениям, привлекавшим взоры Роберта на Север, присоединялись также политические мотивы. Вступив на престол благодаря помощи, оказанной ему населением побережья, он имел большинство своих приверженцев именно в приморской Фландрии. Свободные приморские крестьяне считали его своим законным главой, между тем как в глазах значительной части духовенства, рыцарей и «министериалов» (ministeriales)[195] он был лишь узурпатором. Примирившись с французским королем, он стал теперь настолько же верным вассалом этого последнего, насколько опасным врагом он был для Германии. Он вторгся в Камбрэзи и подчинил его своей власти; он помог своему пасынку графу Теодориху V Голландскому отразить нападение утрехтского епископа и Готфрида Горбатого, и можно с полным основанием полагать, что он играл роль подстрекателя в убийстве этого знаменитого герцога[196]. Впрочем, его деятельность простиралась далеко за пределы Нидерландов. При нем фландрское влияние, как и фландрская торговля, достигли, берегов Прибалтики. Политика Роберта перестала уже быть только политикой феодального князя, ведущего борьбу со своими непосредственными соседями. Мы видим его уже главой морской державы. В первые же годы его правления стало ясно, что Фландрии придется отныне считаться с новой державой — Англией. Сношения между фландрскими графами и англосаксонскими королями никогда не были очень оживленными. Но положение резко изменилось после битвы при Гастингсе, которая заставила этот большой остров расстаться со своим изолированным существованием и вступить в постоянные сношения с континентом. В силу этого Фландрия, очутившись между тремя крупнейшими западноевропейскими народами, заняла чрезвычайно выгодное центральное положение, чреватое, однако, одновременно всякими трудностями и опасностями. Это обнаружилось с полной ясностью уже во время правления Роберта Фрисландского, верность которого Франции неизбежно должна была вызвать недоброжелательство со стороны Англии. Король Вильгельм, по-видимому, уже со времени битвы при Касселе помышлял о том, чтобы предъявить от имени своей жены права на Фландрию, и поддерживал все время враждебные действия Балдуина Генегауского против Роберта. Чтобы отразить нависшую над ним угрозу, Роберт заключил союз с Данией, выдал одну из своих дочерей замуж за короля Канута и стал совместно с ним подготовлять десант в Англию, который, впрочем, не состоялся (1086 г.). Однако деятельность Роберта не исчерпывалась всеми этими делами. Он состоял одновременно в оживленной переписке с папой Григорием VII, отправлял в Рим своих послов и принимал у себя в стране послов из Рима. Григорий, несомненно, помышлял о том, чтобы сделать из него второго Готфрида Бородатого. В своих многочисленных и настойчивых письмах папа проявлял к нему совершенно необычайное расположение. Роберт искусно использовал эту благосклонность и извлек из нее для себя новые выгоды. Предоставленная ему миссия покровителя церкви позволила ему вмешиваться в дела фландрских епископств и всецело подчинить их своей власти[197]. Благодаря папе его дочь Адель после смерти Канута была выдана замуж за герцога Рожера Апулийского, подобно тому, как Беатриче Тосканская была в свое время выдана за герцога Лотарингского. Фландрская династия приобрела, таким образом, еще большую известность, чем при Балдуине V. Паломничество Роберта в Иерусалим в 1087–1090 гг. довело его славу до апогея. Когда он проезжал через Константинополь, император Алексей I Комнин выразил желание повидать знаменитого маркграфа. Император пришел в восторг от прекрасной выправки и состояния войск маркграфа и получил от него обещание прислать ему вспомогательный корпус, который был ему действительно послан. Спустя некоторое время (1090 г.) византийский император обратился к нему с просьбой о помощи против турок. Это письмо, получившее вскоре широкое распространение на Востоке, значительно содействовало подготовке умов к мысли о крестовом походе[198]. К тому времени, когда это письмо переходило из рук в руки, Роберт стал настоящей легендарной личностью. Во Фландрии с его именем связывались различные предсказания, и, читая хронику Ламберта Герсфельдского, можно видеть, как смутные воспоминания о необычайных путешествиях и невероятных событиях переплетаются в ней с истиной, чтобы изобразить знаменитого графа своего рода мифическим героем[199]. Роберт II, по прозванию Иерусалимский5 (1093–1111 гг.), достоин был своего отца. Его правление тоже ознаменовалось новыми успехами в непрерывно происходившем расширении территории Фландрии. Религиозное рвение побудило его, подобно Готфриду Бульонскому, принять участие в первом крестовом походе. Но в то время как бедный герцог вынужден был продать свои земли, чтобы иметь возможность снарядиться в поход, и уехал без надежды на возвращение, Роберт совершил свое паломничество с большой помпой, так, как это подобало самому могущественному из феодальных князей того времени. В дальних краях он искал борьбы, приключений, реликвий и чести добиться освобождения гроба господня; но он оставил у себя на родине слишком соблазнительную власть и слишком важные интересы поставленными на карту, чтобы он мог всецело отдаться крестовому походу. Последний был для него лишь героическим эпизодом и благочестивым делом. Он вернулся из похода в ореоле славы и с таким престижем, который позволял ему пуститься в новые завоевания. Он сумел воспользоваться борьбой за инвеституру и своим влиянием в Риме (через свою жену Клементию он был шурином будущего папы Каликста II), чтобы дать волю своему ненасытному честолюбию, являвшемуся наследственным качеством в его роду. Мы уже видели, что ему; удалось с помощью французского короля отделить аррасскии диоцез от епископства Камбрэ (1093 г.) и избавиться таким образом от стеснительного вмешательства немецкого епископа. Но он не удовлетворился этим успехом. Он решил присоединить к своим владениям Камбрэзи и тем самым подчинить своей власти всю долину Шельды. Он принял деятельное участие в раздорах, разделявших духовенство и население Камбрэ на два враждебных лагеря; поддерживал Манассе против Вальхера и помог вступить в город Одону из Турнэ. Подобно своему отцу, он был восторженным приверженцем папства. В 1102 г. Пасхалий II в письме убеждал его напасть на Отберта Льежского, на что Зигеберт из Жамблу ответил знаменитым манифестом[200]. Сказанного достаточно, чтобы понять его постоянную вражду с императорами. Впрочем, походы, предпринятые против него Генрихом IV и Генрихом V, были столь же неудачны, как в свое время походы Генриха III против Балдуина V. Фландрия, казалось, действительно стала непобедима, и император вынужден был еще раз уступить графу. Роберт приобрел в конце концов права фогта над Камбрэ и Като-Камбрэзи[201]. Уже Роберт I оказался преданным союзником Франции. Роберт II еще более придерживался этой позиции, и по его следам пошел также его сын Балдуин VII, наследовавший ему в 1111 г. Их поведение объяснялось необходимостью бороться с Англией, которая после прихода к власти новой династии стала для Фландрии чрезвычайно грозным соседом. Они отказались от продолжения датской политики Роберта Фрисландского, считая болеецелесообразным объединить свои силы с силами Франции и попытаться совместно с Капетингами победить Англию и Нормандию. Неисчислимы были услуги, оказанные ими Капетингам. «Людовик Толстый без помощи графов фландрских не в состоянии был бы, пожалуй, избавиться от (английской) опасности»[202]. Но не следует думать, что их услуги были бескорыстными. По существу, дело Людовика VI привлекало графов фландрских постольку, поскольку оно совпадало с их собственными интересами; они видели в нем лишь союзника и, борясь бок о бок с ним, добивались выгод только для себя самих. Разумеется, было бы ошибочно видеть в них «помощников короля»[203]. В них не было ничего от преданности и лояльности, например, Готфрида Горбатого. Роберт Иерусалимский дважды отходил от Людовика Толстого, и заключенные им в 1103 г. и 1110 г. договоры с Англией показывают всю независимость его политики[204]. Он обещал в них Генриху I присягнуть ему на верность, получил от него феод стоимостью в 400 марок и обязался предоставить в его распоряжение 500 всадников. В случае, если французский король вздумает напасть на Англию, он должен был постараться отговорить его от этого плана, и если это ему не удастся, то он обязывался оказать ему лишь минимальную помощь, ровно такую, чтобы не лишиться своего феода. Впрочем, эти договоры, заключенные, по-видимому, с целью достигнуть перемирий, были почти немедленно нарушены. В действительности Роберт II и Балдуин VII были всегдашними врагами Англии. Последний умер от ранения, полученного им в Нормандии, первый же — 5 октября 1111 г., в результате падения с лошади, происшедшего у моста Мо в момент атаки его Людовиком Толстым, во время его войны с Тибо Блуасским, союзником Генриха I. Балдуин VII был последним прямым потомком Балдуина Железная Рука. Умирая (1119 г.), он оставил графство своему кузену Карлу Датскому, которого он воспитал у себя при дворе, предназначив его себе в преемники. Правление последнего знаменовало в истории Фландрии начало нового периода. В течение двух с половиной веков власть графов благодаря чрезвычайно благоприятно складывавшимся для них обстоятельствам — непрерывно усиливалась. Благодаря слабости последних Каролингов им достались большие аббатства на юге и все области, расположенные между реками Лис и Кант; епископы Турнэ, Теруаня и Арраса были подчинены их власти; восстания Лотарингских герцогов дали им возможность захватить Зеландию, Ваасскую область и земли между Шельдой и Дендрой; спор об инвеституре сделал их хозяевами Камбрэзи. Но начиная с XII века у них появился грозный противник, и их дальнейшим продвижениям положен был предел. Французская монархия должна была вскоре заставить Фландрию испытать на себе результаты своей политики централизации, между тем как окружавшие ее с востока и севера феодальные династии Голландии, Брабанта и Генегау воздвигли против нее такой же мощный барьер, как тот, которым оградила себя от них начиная с X века Нормандия на реке Канш.
Глава четвертая
Происхождение территориальных институтов
I
История Нидерландов в X и XI веках, если рассматривать ее извне, представляется в виде истории двух территориальных групп, которые — сначала на левом берегу Шельды, а затем на правом берегу ее, — освобождаются в силу непреложного хода феодального развития от держав, которым они были подчинены: первая — от Франции, вторая — от Германской империи, — и превращаются в конце концов в независимые княжества. Чтобы правильно понять эту эволюцию, необходимо исследовать ее внутреннюю сущность, и после ознакомления с этапами, через которые Фландрия и Лотарингия прошли в начальный период средневековья, остается узнать, какова была природа власти их князей, какие причины приводили ее в действие, как она возникла и развивалась. Вряд ли стоит особо подчеркивать, что образование территориальных княжеств отнюдь не есть явление, присущее только Нидерландам. Подобно политической истории этих областей, история их образования тесно связана с конституционной историей Франции и Германии. Но это нисколько не лишает ее присущего ей своеобразия и не мешает ей представлять большой интерес. Рост небольших феодальных государств, образовавшихся между Маасом и морем, происходил действительно необычайно быстро и бурно. Как мы уже указывали, бельгийские князья, будучи мало доступны, вследствие своей удаленности от центра, личному влиянию своих сюзеренов и будучи совершенно чужды национального самосознания и монархических чувств, являлись феодалами в полном смысле этого слова, и тот клочок земли, где они господствовали, был страной подлинного провинциального партикуляризма. Domini terre, principes (правители земли, князья) появились в Лотарингии гораздо раньше, чем в других частях Империи, а во Фландрии еще раньше, чем в Лотарингии[205]. Крупные аллодиальные владения, т. е. земельные богатства были первым и обязательным условием превращения местных правителей в территориальных князей. Балдуин Железная Рука и Ренье Длинношеий фигурируют вначале на исторической сцене в качестве крупных собственников. Затем постепенно их первоначальный земельный фонд стал непрерывно возрастать. Смятение, внесенное норманнскими завоеваниями, секуляризация монастырских владений и заразительный пример французской феодальной знати еще более ускорили этот процесс. В X веке страна была уже густо усеяна принадлежавшими высшей аристократии аллодами и зависимыми от нее феодами. Церковная реформа, правда, приостановила успехи секуляризации. Но то, что сеньоры проигрывали на одной стороне, они выигрывали на другой. Повсюду они захватили в свои руки права фогтов над землями церкви и зависевшими от нее людьми; они распространили даже на монастыри свое право постоя, и на многих аббатствах вплоть до XIV века лежала обязанность содержать старых слуг, лошадей и охотничьих собак своего фогта[206]. К аллодам, феодам и округам власти фогтов надо прибавить еще права, принадлежавшие графам в силу их административных полномочий на незаселенные земли, леса, дюны и пустоши. Они располагали в силу этого огромным резервным земельным фондом, и по мере того как распахивались все новые земли, осушались болота и возводились плотины на реках, их земельные владения все расширялись и их состояния пополнялись все новыми источниками дохода[207]. Таким образом, власть potentes (магнатов), подобно сети с мелкими петлями, распространялась постепенно на все кругом. Прежние политические деления, графства, созданные с административной целью во франкскую эпоху, превратились вскоре в бесформенный остов, поверх которого князьями заложен был новый и прочный фундамент их земельных владений. В начале XI века этот костяк раздавил под своей тяжестью остатки каролингского здания. Прежние графства были поглощены феодальными княжествами. Многочисленные мелкие округа (pagi) предыдущей эпохи сменились немногими крупными территориями. Графства Газбенгау, Кондроз, Мемписк, Ломм, Маасгау и т. д. исчезли, либо превратились лишь в географические понятия[208]. Слово «граф» перестало уже быть званием должностного лица, оно стало титулом территориального князя, который был связан со своим сюзереном исключительно вассальной зависимостью и феодальной присягой (оммажем) и которого называли по его наследственным землям или по его излюбленной резиденции, графом Фландрским, графом Лувенским, графом Монсским, графом Намюрским, графом Лимбургским или графом Люксембургским[209]. Что касается княжеской власти, то с ней дело обстояло так же, как и с княжескими землями. Подобно тому, как последние образовались из объединения прежних административных делений с аллодами и феодами, точно так же и власть князя образовалась из своеобразного сочетания частных прав, вытекавших из его собственности на землю, с публичными правами, захваченными им у государства. И те, и другие права смешивались под названием potestas, principatus, dominatio, justitia, и это смешение началось уже в очень ранний период. Припомним, что уже Ренье Длинношеий присвоил себе звание «missus» (государева посланца) и управление Лотарингией. Его преемники считали себя законными наследниками не только его земель, но также и осуществлявшейся им почти суверенной власти; они всегда оспаривали право императора распоряжаться по своему усмотрению государственными функциями. Несмотря на сопротивление герцогов и епископов, indisciplinati mores carlenses[210] все же в конце концов восторжествовали в политической истории. Отправление судопроизводства, взимание налогов, право чеканки монеты, словом, — все полномочия, осуществлявшиеся в свое время графами в качестве представителей государства, сделались их наследственными правами. Они передавали эти права друг другу по наследству, отдавали в ленное владение и продавали и покупали их, как частную собственность[211]. Хотя им приходилось еще иногда вспоминать о государственном происхождении своей власти, но все же они гораздо чаще говорили о своем regnum (королевстве) и своей monarchia (монархии). Фландрский граф доходил до того, что величал себя post Deum princeps[212] («после бога первый»). В качестве крупных земельных собственников, сеньоров многочисленных рыцарей, фогтов аббатств, владельцев регалий, графы полностью заслуживали уже в X веке названия potentes, под которым они фигурируют в источниках; но они не были еще настоящими князьями. Их власть была, в сущности, в этот период только фактической, она складывалась из различных элементов, ей недоставало правового титула, который поставил бы ее носителя над окружающими и выделил бы его, как истинного представителя законной власти. Этот правовой титул был ими получен в XI веке, когда они стали — сначала во Фландрии, а потом в Лотарингии — блюстителями мира на своих территориях. Как известно, во время царившей в X веке феодальной анархии во Франции введен был божий мир. Это начинание, возникнув по инициативе церкви, быстро распространилось, перебрасываясь с места на место. Охватив постепенно Реймское архиепископство, оно вскоре достигло границы Нидерландов. Холодно встреченный здесь имперской церковью божий мир был зато тотчас же введен во Фландрском графстве. Соображения епископа Камбрэ, считавшего его незаконным посягательством на прерогативы верховной власти, не могли встретить сочувствия у светского князя. Восторженное благочестивое рвение графов располагало их в пользу начинания, связанного с клюнийской реформой, которой они всеми силами сочувствовали. К тому же они могли видеть, какие великолепные результаты оно дало во Франции, и слышали повсюду кругом, как измученный бесконечными частными войнами народ настойчиво требовал его установления[213]. Введя божий мир на своих территориях, они совершили культурное дело, и предание правильно сохранило на протяжении веков воспоминание о суровом графе Балдуине, который однажды приказал сжечь живым рыцаря, виновного в присвоении коровы некоей бедной женщины, и о добром графе Карле, убитом во время богослужения грабителями народа, которые морили народ голодом и которых граф хотел наказать[214]. Епископы Реймской провинции нашли таким образом в лице фландрских князей деятельных помощников, всецело преданных делу умиротворения, начатому французской церковью. В 1030 г. Балдуин V и епископ из Нуайон-Турнэ заставили принести клятву о соблюдении мира на собрании, состоявшемся в Уденарде, куда для сугубой торжественности церемонии были присланы аббатствами со всего графства их самые драгоценные реликвии[215]. Спустя некоторое время божий мир был провозглашен: он должен был продолжаться каждую неделю со среды вечером до понедельника утром и, кроме того, с рождественского поста до недели богоявления, затем со среды на первой неделе великого поста до пасхальной недели и с воскресенья недели крестных ходов до троицы, т. е. около 254 дней в году[216]. В 1092 г. Роберт Фрисландский принес присягу о соблюдении аналогичных условий, принятых на синоде в Суассоне[217]. Божий мир — это религиозное по своему происхождению начинание — вскоре стал во Фландрии графским делом. Епископы были слишком слабы, чтобы сделаться его блюстителями, они не смогли ни устроить, как во Франции, судов божьего мира, ни навербовать в своих епархиях людей, которые составили бы «армию мира». Их роль была тотчас же заслонена ролью графа, присвоившего себе право наказания нарушителей мира и выступившего таким образом на своей земле в роли блюстителя порядка и общественной безопасности. Вскоре божий мир из временного института, каким он был вначале, стал постоянным и вечным[218]. Это дело было закончено в начале XII века, когда по всей стране установлен был уже не божий мир, а графский мир. Таким образом, божий мир завершил тот процесс, который был вызван крупным землевладением и вассалитетом. Благодаря ему к феодальным узам, связывавшим вассалов с их сеньором, прибавились еще новые отношения — политического подчинения. Граф не был уже только крупным земельным собственником, королевским должностным лицом, он выступил в роли верховного судьи на своей земле. Без его разрешения нельзя было построить ни одного замка[219], перед ним должны были открываться все двери, по его приказу должны были прекращаться частные войны. Путешественники, купцы, клирики, вдовы, сироты поставлены были под его защиту, и он приказывал без снисхождения убивать мечом или вешать грабителей с большой дороги и похитителей женщин. В обществе того времени, когда потребность в безопасности была первейшей необходимостью, князь в силу осуществлявшейся им полицейской власти был необходимейшим лицом, и объем его полномочий всегда соответствовал той власти и тому влиянию, которыми он пользовался. Его «курия» (curia) превратилась в верховный суд, и из него выделился в начале XII века постоянный политический совет, в котором заседали его доверенные люди, выбранные из среды его баронов[220]. Его «министериалы» (ministeriales) мало-помалу превратились в чиновников[221]; его судебные доходы, как, например «Balfart», военный налог в пользу графского замка, приняли характер государственных налогов. В XI веке во Фландрии существовал уже наряду с графским миром настоящий графский налог, по крайней мере в случае войны[222]. Одновременно с тем, как власть графа стала суверенной, она сделалась также и неделимой. В X веке после смерти графа ему наследовали еще все его сыновья, делившие между собой его земли[223]. Ничего подобного не было уже в ХI веке. Теперь правилом стало единонаследие по мужской линии. Единственный сын покойного, обыкновенно старший, наследовал отцовскую землю и корону[224]; его младшие братья получали лишь феоды и уделы. Этот принцип уже настолько утвердился ко времени смерти Балдуина V, что Роберт Фрисландский в глазах агиографов того времени был узурпатором. В том случае, когда у графа не было прямого потомка, он сам назначал себе наследника, и таким путем Карл Датский наследовал Балдуину VII. Вполне понятно, что фландрские графы решались иногда принимать титул монарха, так как, достигнув такой степени могущества, они были почти королями. Феодальные узы, связывавшие их с Францией, были скорее номинальными, чем реальными. После смерти Карла Доброго жители Брюгге утверждали, что граф лишь обязан доставлять своему сюзерену военные доспехи в виде рельефа (выкупа) за свой феод, и оспаривали право Людовика Толстого вмешиваться в их дела и навязывать им князя по своему выбору[225]. Уже с давних пор при графе функционировал весьма развитый административный аппарат; по-видимому, ничего подобного нельзя было в то время встретить ни в каком другом крупном феоде. Этот аппарат, разумеется, создался сначала на землях князя, но из частного органа, каким он был вначале, он вскоре превратился в публичный. Образчик и прообраз этого устройства можно было найти уже в «Капитулярии о поместьях» (Capitulare de villis). Каролингская эпоха оставила такой глубокий след, что вражеские нашествия и смуты IX века не могли его уничтожить. Земли графа делились на округа, и каждый из них был приписан к определенному замку. В этот замок с его амбарами и овинами направлялись под наблюдением старост (villici) и министериалов продукты, доходы, ренты и цензы со всего зависевшего от него округа (officium, ministerium)[226]. Такие замки имелись повсюду: в Брюгге, Генте, Ипре, Фюрне, Бурбуре, Касселе, Лилле, Дуэ, Аррасе и т. д. В каждом замке существовало лицо, которое соответствовало прежнему каролингскому управляющему (judex) и которое вело счет различных доходам: это был так называемый «нотариус» (notaire). Составлявшиеся им описи (brefs, brevia reddituum)[227] посылались в Брюгге, где они хранились в замке, наряду с сокровищами графской казны. Таким образом уже в XI веке существовала поразительная иерархия и централизация. При Роберте Фрисландском она была доведена до совершенства благодаря созданию в 1089 г. должности канцлера Фландрии. Последний был не только хранителем княжеской печати, но также и главой всех «нотариусов». Но под его руководством они перестали быть простыми домениальными чиновниками и превратились постепенно в сборщиков всех графских доходов, независимо от того, были ли это доходы от земель, ленных владений или налогов. Уже в XI веке они получили звание счетчиков: ratiocinatores, reneurs, redenaers[228]. Их собрания походили на собрания английской Палаты Шахматной Доски, и из них в XIII веке образовалась Chambre des renenghes (camere van hovetredeninge), бывшая вплоть до создания герцогами бургундскими Счетной Палаты, главным органом по управлению финансами графства[229]. Наряду с «нотариусами», характерной особенностью фландрского административного аппарата были кастеляны[230]. Их первоначальные обязанности были не домениального, а военного характера. Как показывает само их название, они были сначала начальниками рыцарских гарнизонов, содержавшихся в каждом замке, или, выражаясь точнее, в многочисленных обведенных стенами укреплениях (castra), возводившихся графами в период норманнских нашествий. Вначале они вербовались из среды министериалов, и, несомненно, из их же числа набирались и находившиеся под их началом milites castrenses (рыцарские гарнизоны). Но «министериалитет» гораздо раньше прекратил свое существование в Нидерландах, чем в Германии. Прежние несвободные люди, выполнявшие военные обязанности, очень скоро утратили признаки своего низкого происхождения. В XII веке кастеляны являлись уже первыми вассалами графа. Они занимали такое же положение, как и собственники аллодов, бароны. И те, и другие, помещавшиеся по своему рангу непосредственно за князем, составляли верхушку феодальной иерархии. Одновременно расширились первоначальные полномочия кастелянов. Они перестали быть простыми военными начальниками: от имени своего сюзерена, они творили суд на территории целого округа, и источники весьма определенно называют их виконтами, т. е. заместителями графов (vicecomites, «вице-графы»)[231]. Подобно тому, как в финансовом отношении Фландрия в XI веке делилась на «официи» (officia) или «министерии» (ministeria), точно так же в военном и юридическом отношениях она была разделена на кастелянства. Было бы очень интересно узнать, как произошли эти кастелянства. Нет сомнений, что некоторые из них, как, например, кастелянства Гента, Брюгге и Фюрна, представляли собой прежние графства, поглощенные княжеством. Другие же, по-видимому, совпадали с домениальными округами, «министериями» (ministerium). Таким образом, административные деление феодальной Фландрии были различного происхождения. Но каково бы ни было их происхождение, они все в начале XI века представляли одинаковое зрелище. Возвышавшийся в центре каждого из них графского замок служил во время войны убежищем для окрестных жителей, точно также, как в мирное время он служил местом собраний для эшевенов кастелянства и складом для доходов в натуре, доставлявшихся с княжеских поместий всего округа. Важнейшие хозяйственные и судебные органы того времени были здесь защищены от ударов извне как бы могучим щитом[232]. Таким образом, в тот период, когда городов еще не существовало, замки стали главными центрами страны[233]. За их каменными стенами возвышался один дом для графа, другой для кастеляна, амбары (espiers, spijkers), погреба и сводчатая комната, где хранилась казна[234]. Над стенами замка высилась церковная колокольня. Вокруг нее расположены были дормиторий, жилые комнаты и трапезная каноников. Остальная часть внутреннего пространства занята была местом заседаний эшевенов и жилыми помещениями для постоянного гарнизона рыцарей и для целого персонала чиновников и слуг (castrenses). Местоположение этих замков тщательно выбиралось с точки зрения удобства и легкости сообщений. Во Фландрии, пересеченной во всех направлениях водными потоками, замки почти всегда строились на берегу реки, так что барки, привозившие из близлежащих поместий злаки, хлеб и овечью шерсть, могли разгружаться перед их воротами. Тем самым замки уже в этот аграрный период истории Фландрии наметили местоположение будущих городов. Как только пробудилась торговая жизнь и речные пути стали торговыми путями, купцы устремились к этим замкам, обосновались под их защитой, и здесь создались первые населенные пункты городского типа. Стоя во главе целой иерархии вассалов и чиновников, граф распространял до известной степени свое влияние также и на церковь. Мы уже видели, что начиная с X века ему принадлежали права фогта в отношении всех монастырей страны. Аббаты никогда не играли политической роли во Фландрии, они вынуждены были строго ограничиваться здесь кругом своих религиозных обязанностей. В этом отношении чрезвычайно характерен рассказ, приводимый Германом из Турнэ. Когда Сен-Бертенский аббат прибыл в Берг, где находился двор Карл Доброго, в день богоявления, то граф удивился, увидев его, и откровенно выказал ему свое недовольство тем, что он оставил свое аббатство и пренебрег участием в богослужении вместе с монахами. А когда аббат объяснил в свое оправдание, что он приехал жаловаться на поборы одного рыцаря, то Карл сказал: «Надо было переслать мне это сообщение через слугу. Ваша первейшая обязанность — молиться за меня, ибо я всецело поглощен защитой и покровительством церкви»[235].
Замок графов Гентских. Башня над входом (конец XII в.)
Церковная реформа лишила графов права назначать аббатов, но это не относилось к назначению пробстов. Почти во всех церквях они назначались князьями. Многочисленные созданные князьями капитулы, из среды которых они брали себе нотариусов и капелланов, находились в тесной зависимости от них. Щедроты, которыми князья их осыпали, давали князьям права на них, и они чуть ли не считали их дополнением к своим доменам. Что касается епископов, то мы уже указывали, что они были слишком слабы, чтобы оградить свою независимость. Они находились под фактическим покровительством графа. Графы были всемогущи в Теруани; Турнэ, Зависевший от отдаленной епископской кафедры в Нуайоне, был фактически фламандским городом; Арраский диоцез, восстановленный только в конце XI века, был слишком недавнего происхождения, чтобы он мог пользоваться какой-нибудь независимостью; наконец, диоцез Камбрэ, со времени упадка имперской церкви, мог оказывать сопротивление Фландрии, лишь противопоставляя ей Генегау. Впрочем, Фландрские графы подчинили своему влиянию не одних только епископов. Графы Гинские и сеньоры Ардрские принесли им присягу на верность и появлялись при их дворе в качестве вассалов. Для государственного устройства Фландрии характерны не только быстрота его роста, но и его единообразие. От Звина до реки Канш графская власть была везде одинаково сильна и осуществлялась с помощью одинаковых органов. Сопротивление оказывали вплоть до XII века только жители побережья, и Карл Добрый пал жертвой своих усилий заставить их уважать учреждения божьего мира. За исключением их, все без различия жители графства, независимо от того, были ли они германского или романского происхождения и языка, подчинены были одинаковой системе управления. Разумеется, существовали различия в обычном праве к северу и югу от лингвистической границы, но это не касалось политической организации. Последняя была тем более мощной, чем шире была власть князя. Эта организация была не только одинаковой для валлонов и фламандцев, но также и для различных частей графства, как тех, которые зависели от Франции, так и для зависевших от Империи. Она преодолела как этнические, так и государственные границы, она была той великолепно приспособленной формой, которая самым совершенным образом объединяла в одно целое территорию, лишенную национального единства.
II
Нам не стоит столь же подробно останавливаться на территориальном государственном устройстве лотарингских княжеств, как мы останавливались на фландрских. По существу, первые были лишь более слабыми копиями вторых. Их развитие — которое, впрочем, нам гораздо менее известно — не могло происходить — мы уже видели почему — в столь же благоприятных условиях. Арнульф Старый был уже крупным князем в то время, когда преемникам Ренье Длинношеего приходилось еще бороться за свое существование. До середины XI века они выступали лишь в качестве претендентов в борьбе со своим сюзереном, и их фактическая власть покоилась лишь на их наследственных поместьях, благодаря которым они могли содержать многочисленное рыцарство, необходимое им для того, чтобы оказывать сопротивление герцогам и епископам. Их аллоды были отданы в качестве феодов рыцарям (milites), их земельные богатства шли лишь на содержание войск. Ламберт Лувенский, желая примириться с епископом Бальдериком, предложил ему для его льежского диоцеза земли, которые он сумел добыть толька хитростью. Он захватил в плен графиню Валансьенскую, заключил ее в замок и не отпускал ее на свободу до тех пор, пока она не уступила ему деревню, которую он поспешил преподнести прелату[236]. Это положение изменилось лишь тогда, когда благодаря развалу в Империи лотарингским правителям удалось беспрепятственно присвоить себе регалии и завладеть графствами, — словом, захватить в свои руки государственную власть. Подобно фландрским графам, они стали тогда верховными судьями на своих землях и верховными фогтами над своими церквями; подобно им они окружили себя двором вассалов и «министериалов» (ministeriaies), и, наконец, подобно им они назначали кастелянов. Хотя их власть была еще некоторое время менее прочна, чем власть их соседа по ту сторону Шельды, хотя органы, через которые она осуществлялась, были менее совершенными и менее постоянными, хотя на их землях существовали еще почти независимые бароны (сеньоры д'Авены в Генегау и сеньоры Гримберг в Брабанте) — однако каждый из них стоял теперь во главе местной власти. Они не были уже больше простыми правителями, простыми potentes, даже сами их враги перестали называть их tiranni (тиранами) или praedones (разбойниками) и вынуждены были считаться с ними, как с законными князьями. Правление Рихильды в Генегау и Генриха III в Брабанте настолько знаменовало собой начало нового порядка вещей, что с их именами как в Генегау, так и в Брабанте связаны зачатки провинциальной историографии. До Рихильды (1070 г.) генегауские хронисты сообщали лишь благочестивые легенды о святой Вальдтруде или святой Альдегунде, а до Генриха III (1079–1095 гг.) брабантские летописи состояли из одних лишь каролингских преданий[237]. Положение различных небольших феодальных государств, образовавшихся в Лотарингии ко времени борьбы за инвеституру, было далеко не одинаковым. Расположенному на юге Генегау, прижатому к французской границе и стиснутому между епископствами льежским и Камбрэ, предстояло, казалось вначале, быть поглощенным ими. Но мы уже видели, что, несмотря на конфискации и ссылки, графам Ренье удалось удержаться. Их замок в Монсе (Mons castrati loci), который по гордому заявлению Гизельберта в XII веке был и всегда будет столицей Генегау[238], являлся, несомненно, лучшей крепостью того времени. С занимавшегося им когда-то места на вершине холма, по склонам которого расположился в настоящее время город, открывался вид на широкую и волнистую долину, пересеченную небольшими речками. Ни одна армия не могла продвинуться по этой стране, чтобы не быть тотчас же обнаруженной. В случае осады закрома замка, набитые до отказа продуктами, собиравшимися с окрестных земель, обеспечивали гарнизону обильное пропитание и позволяли ему, под защитой крепостных стен, терпеливо выжидать момента, когда голод принудит врага к отступлению[239]. Благодаря такому превосходному военному положению графы могли противостоять всем ударам и оказывать сопротивление Арденнскому дому, который император натравил на них. Брак Ренье V с внучкой Готфрида Пленника необычайно усилил влияние их дома. Когда в 1071 г. Рихильда, с целью добиться помощи льежского епископа Теодуэна, объявила себя вассалом его церкви, она владела уже, помимо графства Генегау, Валансьенской маркой и восточной частью Остревана[240]. Таким образом генегауская династия отныне так же прочно утвердилась на правом берегу Шельды, как фландрские графы на левом ее берегу. Река, отделяющая Францию от Германии, не была таким препятствием, которое могло бы помешать захватническим попыткам князей. Им, если можно так выразиться, ничего не стоило перешагнуть через границу, проведенную Верденском договором, не считаясь с ней; они приближались друг к другу, пользуясь тем, что, находясь теперь одновременно в зависимости и от французского короля, и от германского императора, они поставлены были в положение исключительно благоприятное в смысле свободы действий. Неуклонно продвигаясь на запад, генегауская династия стремилась в то же время расширить свои границы на востоке в Намюрском графстве и в Арденнах. Отношения вассалитета, связывавшие ее с льежскими епископами, нисколько не стесняли ее независимости, а наоборот, оказались для нее вскоре великолепным предлогом для вмешательства в епископские выборы. Генегау был чисто валлонским по своему населению. Брабант же, будучи романским к югу от Брюсселя, заселен был на севере исключительно фламандскими народами. Лувен играл здесь такую же роль, как и Монс в Генегау. В начале XI века граф Ламберт построил здесь замок и основал монастырь[241]. Смерть Готфрида Горбатого, смуты, связанные с борьбой за инвеституру, позволили его преемникам захватить в свои руки всю среднюю часть Лотарингии, еще очень мало заселенную в то время и покрытую на большом протяжении пустошами. Графства этих двуязычных областей перешли в их владение, и в 1086 г. Генрих III именовал себя уже Bracbatensis patriae comes et advocatus[242] (графом и фогтом Брабантской страны). После того как Готфрид Бульонский отправился в крестовый поход, Готфрид I Лувенский наследовал ему в Антверпенской марке[243] и завладел Кампином. С этого времени Брабант, доходя на западе до Шельды, а на севере до Мааса, и примыкая своими границами к графствам Намюрскому, Генегау, Фландрскому, Голландскому и княжеству Льежскому, стал как по своему географическому, так и по своему политическому положению подлинным сердцем Нидерландов. Получение брабантскими князьями в начале XII века герцогского титула и их каролингское происхождение, на которое они ссылались, еще более подняли их авторитет и укрепили их уверенность в себе. Им предстояло сыграть в ближайшем будущем решающую роль в Лотарингии, и их стране суждено было объединить вокруг себя всю совокупность территорий, составивших впоследствии Бургундское государство. Совсем иначе сложились судьбы графства Голландского. В отличие от генегауской и брабантской династий, голландские князья не присоединились к Ренье Длинношеему и не появились на исторической арене в качестве мятежников. Они, наоборот, обязаны были своим благосостоянием императорам. В 985 г. Оттон III отдал графу Теодориху II огромные владения в области Мааса и в Западной Фрисландии[244]. Император, по-видимому, хотел создать себе таким образом прочную опору на севере против фризов и датчан, совершавших еще иногда в X веке набеги на побережье. Арнульф, сын Теодориха, женился на Лиутгарде Люксембургской, свояченице императора Генриха II, а его брат Эгберт сделался трирским архиепископом и канцлером Империи[245]. Однако в конце концов с голландской династией произошло то же самое, что и с ее соседями. Начиная с XI века она вступила в борьбу с имперским епископом Утрехта, Защищенный непроходимыми болотами дельты Рейна и Мааса, «граф над водами» (comes aquarum, comes aquaticus) отразил все удары, и его соперник епископ был вскоре оттеснен на задний план. С этого времени Голландия твердо вступила на путь завоеваний. Будучи остановлена на Шельде Фландрией, подобно тому, как в свое время сама Фландрия была остановлена на реке Кант Нормандией, она до XIII века не вмешивалась больше в дела своих южных соседей. Но это лишь развязало руки голландским князьям, позволив им направить все свои силы на Фрисландию, которую они в конце концов завоевали, подобно тому, как в другом конце Империи Бранденбургские маркграфы завоевали страну вендов. Фландрия, Генегау, Брабант и Голландия были во второй половине Средних веков не единственными странами, участвовавшими в исторической жизни Нидерландов. Если небольшие территории Гельдерн, Лооз, Лимбург, Намюр и Люксембург, простиравшиеся вдоль течения Мааса или расположенные на Арденнских холмах, играли в ней лишь второстепенную роль и представляли лишь незначительный интерес, то совершенно не так обстояло дело с церковными княжествами, и картина феодальной Бельгии была бы неполна, если бы им не было уделено соответствующего внимания. В самом деле: окруженные со всех сторон светскими территориями, они продержались на протяжении всего средневековья, как какие-то пережитки исчезнувшей эпохи. Со времени борьбы за инвеституру положение епископов несомненно чрезвычайно пошатнулось. Диоцезы не были уже больше имперскими штатгальтерствами. Светская и духовная власть осуществлялась теперь различными органами. Значительно урезанные в качестве административных подразделений, епископства сумели сохраниться лишь в качестве церковных округов. Они продолжали представлять вопреки границам, разделявшим феодальные государства, как когда-то вопреки границе, разделявшей фламандцев и валлонов, прежние римские civitates: диоцез Камбрэ обнимал часть Фландрии, Генегау и Брабанта; Льежский диоцез охватывал остальную часть обеих последних территорий, Намюрскую область, Лимбург, а также кусок Гельдерна и Люксембурга. Будучи ограниченными в светских княжествах чисто религиозными функциями, епископы сохранили зато княжескую власть в полученных ими в ленное владение от императора графствах и доменах. Светские и духовные княжества существовали бок о бок с той лишь разницей, что первые образовались вопреки государству[246], в то время как вторые были созданы самим государством. Далеко не все духовные княжества пользовались одинаковым влиянием. Епископство Камбрэ, сжатое с двух сторон Фландрией и Генегау, играло на протяжении всего средневековья весьма преходящую роль. Утрехтский «Стихт», гораздо больший и простиравшийся далеко за Фрисландию, довольно рано, как мы видели, подпал под власть графов Голландии, и его история с этого времени была лишь дополнением к их истории. Совершенно иначе обстояло дело с Льежским княжеством. Ему удалось сохранить на протяжении веков свою независимость, и после упадка имперской церкви — как и до него — оно всегда вмешивалось во все войны и политические осложнения, имевшие место в Нидерландах. Это объясняется его географическим положением. Вокруг первоначального ядра церковных земель императоры сосредоточили начиная с X века жалованные земли и регалии — освободившиеся или конфискованные у мятежников графства, замки, налоги, леса и т. д. Из простого собственника, каким он был вначале, епископ стал, со времени пожалования графства Гюи в 980 г., обладателем верховной судебной власти и приобрел постепенно, в течение последующих лет, государственную власть над всей вотчиной св. Ламберта. Но образовавшись из целого ряда пожалований — а не как светские княжества из завоеваний, производившихся из единого общего центра, — льежская территория неизбежно должна была выделяться своей географической пестротой, резко отличавшей ее от соседних территорий. Она простиралась — с различными перерывами, выступающими углами и выдающимися зубцами — от Нижнего Мааса до Семуа. Ее центром был Газбенгау между Льежем, Сен-Троном и Гюи, откуда она шла на север, занимая области фламандских народностей и устья Мааса, и на юг — в область Арденнских валлонов. Подобно Фландрии и Брабанту, она была двуязычной, но, в отличие от них, не представляла собой единого компактного и способного к сопротивлению целого. Мехельн представлял льежское владение, окруженное со всех сторон брабантскими землями. Динан, Фосс и Кувен были изолированно вкраплены посреди Генегау и Намюрской области. Граммон и Борнгем были на фламандской земле аллодами вотчины св. Ламберта. По мере усиления светских феодалов епископы старались покрыть сетью крепостей свою страну, которая была так расчленена и открыта для нападений ее соседей. Уже в начале XI века Бальдерик II построил в Гугарде замок, чтобы прекратить вторжения лувенских графов. Во время восстания Готфрида Бородатого Вазо удалось охранить свои поместья благодаря искусным оборонительным предприятиям. Но сохранение целостности княжества было главным образом заслугой Отберта. Он сумел искусно воспользоваться религиозным энтузиазмом, гнавшим светскую аристократию в святую землю. Чтобы добыть необходимые для отправления в поход деньги, герцог Готфрид и Балдуин II Генегауский продали ему: первый — свой замок Бульон, второй — замок Кувен (1096 г.), и епископ, не колеблясь, превратил в слитки церковные сокровища, чтобы заплатить за эти выгодные приобретения. Он восстановил также стены Мирварта и приобрел крепость Клермон-сюр-Мез. Есть основания думать, что надежная военная организация, введенная им в его стране, побудила Генриха IV отправиться в Льеж, чтобы найти себе здесь убежище в последние дни своей жизни. Словом, в то время, как бывшие на стороне папы Григория VII епископы Камбрэ, Манассе и Одо из Турнэ, вынужденные опираться на графов фландрских, предоставили им распоряжаться своим городом и своей территорией, Льежское княжество, благодаря энергии своего последнего имперского прелата, сумело — избавиться от посягательств светских князей. Город Льеж, подобно стране, название которой он носит, обязан был своим значением тесному сотрудничеству церкви с государством, поддерживавшемуся императорами в Лотарингии более чем в течение целого столетия. Без того авторитета, которым эти государи окружили епископов, этот большой валлонский город, пожалуй, не превзошел бы по своему значению Маастрихта. Во всяком случае его местоположение было куда менее благоприятным, чем местоположение Маастрихта, построенного на равнине и лежавшего на пересечении большой кельнской дороги. Но саксонские и франконские прелаты обеспечили Льежу его будущее[247]. Благодаря им Льеж стал необычайно оживленным центром религиозной и политической жизни. Еще до 1020 г. здесь были налицо семь коллегиальных церквей, имевших вместе с собором 270 каноников, которые, в свою очередь, окружены были большим штатом священников и всякого рода клириков, не считая множества слуг, занятых обслуживанием церквей и пропитанием духовенства. Нотгер, самый знаменитый из льежских епископов, украсил Льеж новыми сооружениями, перестроил епископский дворец, окружив его стенами и глубокими рвами[248]. Его преемники продолжали его дело. Бальдерик II положил основание монастырю св. Якова (1016 г.); Регинар закончил постройку (1026 г.) монастыря св. Лаврентия, начатую Эраклом, и соединил оба берега Мааса прекрасным каменным мостом; Вазо улучшил городские укрепления. Знаменитые школы привлекали в Льеж учащихся со всех концов Империи. Епископа окружал двор, состоявший из рыцарей, «министериалов» (ministeriales) и духовных сановников. Если прибавить к этому постоянное наличие большого числа иностранцев, стекавшихся сюда в связи с различными делами, касавшимися как светского управления, так и управления по диоцезу, то нетрудно убедиться в том, что до появления торговых городов Льеж был самым населенным и самым оживленным центром Нидерландов, резко отличавшимся от всех фламандских генегауских и брабантских «бургов». Это была своего рода столица, одна из прекраснейших епископских резиденций всей Империи, и образ жизни светских князей того времени казался тяжелым и грубым епископскому двору (curiales episcopi), привыкшему к городской и оседлой жизни. Именно в силу этого Льежское княжество обладало с конституционной точки зрения такими особенностями, которые мы напрасно стали бы искать у светских княжеств. В последних центром всей системы управления была личность самого князя, в Льежском же княжестве — епископский город. Там местопребывание правительства постоянно менялось, в зависимости от поездок графа, переезжавшего вместе со своим двором из одногозамка в другой, и тут же на месте потреблявшего сборы со своих поместий; здесь же, наоборот, местопребывание правительства всегда находилось в епископской резиденции. Она была центром как домениальной, так и политической организации всей территории. Огромная вотчина св. Ламберта полностью принадлежала столице епископства, многочисленное население которой кормилось ее доходами[249]. Кроме того, именно в Льеже функционировали церковные суды, здесь раздавались феоды, зависевшие от епископа и капитула, и, наконец, именно в Льеже со времени правления Генриха Верденского находился суд, решавший дела, связанные с божьим миром (1082 г.). По нему можно судить, как резко льежская конституция отличалась от фландрской конституции. Во Фландрии божий мир вскоре стал графским миром, в Льежской же области, наоборот, он остался епископским начинанием, и местопребывание суда находилось в самой епископской резиденции[250]. Но более того, он охватывал не одну лишь территорию княжества, а простирал свою юрисдикцию на весь диоцез, и божий мир вынуждены были поэтому ввести у себя соседние князья из Лимбурга, Намюрской области, Генегау и Брабанта. Он напоминал, таким образом, еще о тех временах, когда обязанностью лотарингских прелатов было следить под руководством императора за правителями их епископств и понуждать их к повиновению. Но, напоминая о них, он в то же время указывал на начало нового режима. Действительно, мир, введенный Генрихом Верденским, был французским начинанием, несовместимым вообще с суверенной властью императора, и в конце XI века светские князья, которым он должен был быть навязан, сделались достаточно сильными, чтобы избавиться от него[251]. Это в достаточной мере свидетельствует об упадке государственной церкви, созданной Отгоном I. Она была могущественной до тех пор, пока германские монархи были достаточно сильны, чтобы охранять ее, и она потерпела крах, как только пошатнулась императорская власть, ослабленная борьбой за инвеституру. С этого времени духовные княжества, лишенные того элемента силы, который принцип наследования, придавал светским княжествам, оказались беззащитными перед ними и надолго отданными на их произвол. В отличие от прежнего положения феодальная политика одержала верх над императорской политикой, и национальные князья заняли место тех прелатов-чужеземцев, обязанностью которых столь долгое время было обуздывать их.
Глава пятая
Экономическая жизнь
I
Южные Нидерланды делились по своему аграрному строю на две резко отличные большие области. Если провести мысленно линию от Булони через Сент-Омер, Дуэ и Монс до Маастрихта, то к северу от нее страна покрыта была изолированными друг от друга хуторами (Hofsystem — подворный строй), между тем как территории, расположенные к югу от этой линии, сплошь покрыты были деревнями (Dorfsystem — сельский строй)[252]. Пограничная линия между подворным и сельским строем не совпадала, как мы видели, в точности с лингвистической границей, и нам нет никакого смысла доискиваться, существовала ли она уже до возникновения лингвистической границы или же она была более позднего происхождения. Но какого бы мнения ни держаться по этому вопросу, во всяком случае можно думать, что та самая демаркационная линия, которая разграничивает в настоящее время сферу распространения двух различных систем колонизации, отделяла в римскую эпоху область городов и крупных поместий от менее возделанных и гораздо менее заселенных областей Кампина, Брабанта и Фландрии. Мы уже видели, что крупные поместья Артуа, Генегау и Намюрской области отнюдь не исчезли в период нашествия варваров и что во франкскую эпоху число их непрерывно увеличивалось, и их значение все возрастало благодаря действию социальных и экономических причин, разрушавших повсюду мелкую собственность и вместе с нею личную свободу. Можно утверждать, что к началу X века свободное крестьянство сохранилось из всех областей Бельгии в одной только приморской Фландрии и в пустынных частях северного Брабанта и Кампина[253]. Повсюду же в остальных местах, за исключением этих полупустынных и трудно доступных районов, pauperes liberi homines — обедневшие свободные — уступили свои «гуфы» светским правителям и монастырям или же попали под власть какого-нибудь фогта из числа крупных землевладельцев[254] Таким образом, наряду с первоначальной группой домашних слуг, потомков римских или германских рабов, под влиянием экономических причин образовался многочисленный класс «полусвободных» (censuales, homines ecclesiastici, laeten), обнимавший почти всех крестьян (villains). Люди, которым удалось сохранить в неприкосновенности свою свободу и свои вотчины, составили по отношению к ним аристократию, превратившуюся на протяжении XI века в наследственную знать. Военная профессия, которой занимались только они одни с тех пор, как конная военная служба заменила в каролингскую эпоху военную службу больших пехотных армий, объединяла их в многочисленную и сильную группу вооруженных конных воинов (militia)[255]. Они жили для войны, точно так же, как духовенство жило ради молитвы. Неся, подобно духовенству, высокие обязанности, они, подобно ему, имели свои привилегии и так же, как и оно, существовали трудом крестьян. Социальное положение людей определяло теперь их юридическое положение. Христианский мир представлялся в XI веке одному епископу из Камбрэ разделенным на три касты: духовенство, дворяне и крестьяне, причем первые две были свободны, последняя — несвободна[256]. Не считаясь с лингвистической границей, а также с демаркационной линией между территориями подворного и сельского строя, крупные земельные собственники создали округа своих «фисков» (fisci) и своих «министерий» (ministeria). Значительное число аббатств — Лобб, Сен-Трон[257], Сент-Аман, Сен-Вааст, Сен-Пьер (в Генте), Сен-Ламбер (в Льеже) — были главными центрами земель, рассеянных как во фламандских, так и в валлонских областях, как в областях с сельским, так и с подворным строем, и несомненно, что, подчиняя все эти земли влиянию своих прево и своих старост (villici, majores) и вводя в них одну и ту же систему управления, они содействовали ослаблению национальных и экономических антагонизмов, существовавших в Нидерландах в период раннего средневековья. Тип сельского церковного поместья в том виде, как он просуществовал в Бельгии вплоть до XII века, соответствовал во всех отношениях описанию «Капитулярия о поместьях» (Capitulare de villis), но он не был создан этим «Капитулярием». Он был римского происхождения и восходил, несомненно, к более ранним временам, чем VIII век. Расположенные к югу от лингвистической границы первоначальные поместья самых старинных аббатств, несомненно, должны были быть устроены с самого же начала франкской монархии по образцу организации, существовавшей в крупных земельных владениях в Галлии, и по мере того как аббатства распространялись в германских частях страны, сюда проникала вместе с ними и эта организация[258]. Организация поместий в Бельгии, подобно организации диоцезов, была заимствована с юга. И, подобно ей, она в каролингскую эпоху уточнилась и укрепилась, но не была заново создана. Ни во Фландрии, ни в Лотарингии нельзя было встретить таких обширных монастырских поместий, как в Германии и во Франции. Ни одно аббатство здесь не обладало такими богатствами, как, например, аббатства Сен-Жермен-де-Пре, или Корби, Кореей, или Фульда. Зато если церковные владения и имели здесь меньшие размеры, то их было такое множество, какое, пожалуй, нельзя было найти ни в одной другой области Европы.
Амбар Тер-Достского аббатства (Зап. Фландрия) (конец ХIII в.)
Будучи рассеяны по всей стране, они оказали на нее глубокое влияние. Их социальное значение в аграрный период средневековья было столь же велико, как впоследствии, когда вновь ожили промышленность и торговля, значение городов. Монахи, сумевшие всецело завладеть душой народа в XI веке, были также его учителями в области экономики. Их поместья были совершенными образцами хорошо поставленной сельскохозяйственной эксплуатации и мудрого управления, и если многие аббаты приобрели славу святых, то немало их заслужило также репутацию искусных сельских хозяев[259]. Религиозный энтузиазм, царивший в Нидерландах в период крестовых походов, несомненно значительно содействовал материальному благосостоянию аббатств. В то время когда деньги были очень редки, почти все монастыри благодаря пожертвованиям верующих обладали неоценимой привилегией, располагая обширными денежными фондами. Они умели выгодно использовать их[260]. Они строили амбары, овины, мельницы, ввели в Бельгии культуру винограда[261]. Они расширяли свои поместья путем удачных покупок. Всякий голод, обрушивавшийся на страну, был для них поводом приобрести по дешевой цене земли мелкого дворянства. В то время как после плохого урожая крестьяне светских сеньоров вынуждены были продавать своих рабочих волов и разорялись, монастырские крестьяне, наоборот, благодаря помощи, оказывавшейся аббатством, могли сохранить свой скот[262]. К этому надо прибавить, что взгляд на церковные земли, как на вотчину какого-то святого, гарантировал им во время непрерывных частных войн и всякого рода связанных с ними волнений безопасность, являвшуюся результатом уважения к их небесному собственнику[263]. Социальное положение зависимых людей (членов «familia»), живших на этих землях, было таким образом чрезвычайно благоприятным. Сервы баронов завидовали им так же, как они завидовали впоследствии положению горожан. О притягательной силе монастырей лучше всего свидетельствует непрерывный рост вплоть до конца XI века числа цензитариев (cerocensuales или hommes de sainteur), т. е. людей, которые, уплачивая весьма незначительный личный ценз и очень небольшой брачный выкуп (обычно 2 денье), становились под покровительство какого-нибудь аббатства и подчинялись его юрисдикции. Это были люди двух категорий: во-первых — освободившиеся сервы[264] и во-вторых — мелкие собственники, которые, пользуясь характерным выражением источников того времени, меняли «свою свободу на зависимость, более свободную, чем сама свобода»[265]. В лице этих цензитариев (сегоcensuales) аббатства вскоре обзавелись наряду с кругом своих первоначальных держателей множеством зависимых от них людей, живших в их окружении, принимавших участие в их молитвах, пользовавшихся их моральной и материальной поддержкой и именно в силу этого содействовавших усилению их авторитета и распространению их влияния. Одним словом, эти цензитарии были для монастырей в X и в XI веках тем же, чем горожане, — жившие вне тех городских общин, которые дали им права бюргеров (haghepoorters, buitenpoorters), были для городов в XIV и XV веках; этого достаточно, чтобы прийти к заключению, что монастыри пользовались в Бельгии в первой половине Средних веков таким, же влиянием, как и города — во второй половине их. Нам не стоит здесь больше останавливаться на системе землепользования, применявшейся на церковных землях. В общих чертах она совпадала с системой, которую можно было встретить повсюду в других частях Западной Европы, и соответствовала тем же потребностям. В Нидерландах, как и во Франции и в Германии, поместья были разделены на две части: одна из них (terra indominicata) — барская запашка, обрабатывалась непосредственно сервами землевладельца, другая же — составляла наследственные держания, владельцы которых обложены были натуральными и денежными повинностями и обязаны были отбывать барщины, установленные на основании обычного права или письменного соглашения. К сожалению, до нас не дошло ни одного такого письменного акта, но мы знаем, что они существовали уже в очень давние времена. В Х веке епископ Ротард Камбрэский (979–995 гг.) определил путем писаного акта (lex scripta) положение зависимых людей своего диоцеза[266]. До тех пор пока экономической целью поместий было лишь удовлетворение потребностей собственника и его familia, т. е. до тех пор пока производство поместий регулировалось исключительно непосредственным потреблением и совершенно не зависело от каких бы то ни было коммерческих интересов[267], их организация оставалась в неизменном виде. Каждое поместье составляло небольшой замкнутый мир, который жил для себя и сам удовлетворял свои потребности. Взаимоотношения, существовавшие между сеньорами и его сервами или его вилланами, были не только отношениями собственника к своим слугам и держателям. Они охватывали все житейские отношения во всех их самых разнообразных проявлениях. Аббат был одновременно господином, судьей и покровителем зависевших от него людей. От имени святого заступника монастыря, представителем которого он был на земле, он осуществлял над своими подданными патриархальную власть. Старосты, которые тщательно выбирались из числа лучших «министериалов» (ministeriales) и были несменяемы до конца XI века, не ограничивались только взиманием цензов и повинностей; они, кроме того, творили еще и суд. Каждый барский двор был не только главным складочным местом для всех поступлений в пользу сеньора с данного округа (ministerium), центром которого он являлся, но он был в то же время и местом заседаний (вотчинного) суда, в котором судили под председательством старосты семь эшевенов, избиравшихся на всю жизнь из числа членов «familia». Суд аббатов являлся верховной инстанцией по отношению к этим низшим судам (laethoven); в нем получали свое окончательное разрешение дела несвободных людей. Поместья светских сеньоров сильно отличались от церковных поместий. В то время как аббаты сами руководили эксплуатацией своих земель и следили за ее ходом, князья и бароны, всецело поглощенные своими военными или политическими обязанностями, ограничивались получением доходов и совершенно не интересовались сельским хозяйством. Между ними и их держателями не было никакого непосредственного контакта. На их землях нельзя было встретить тех патриархальных отношений, которые были столь характерны для монастырей. Они перелагали на своих министериалов (ministeriales) заботу об управлении и о суде над своими подчиненными. Все их требования по отношению к ним сводились только к аккуратному сбору причитавшихся им оброков, с тем, чтобы их замки всегда широко были обеспечены продовольствием. Мы уже видели, что фландрским графам с давних пор удалось централизовать под наблюдением своих канцлеров сбор доходов со всех своих земель. Они, несомненно, руководствовались при этом чисто фискальными и финансовыми интересами: между ними и их крестьянами стояли «нотариусы», и, поскольку представлявшиеся ими отчеты (brefs) были точны, они очень мало заботились о том, в каких условиях жили крестьяне. Но более того: в то время, как духовные сеньоры собирали свои доходы лишь на основании своего права собственности, светские сеньоры присоединяли еще к оброкам, взимаемым ими со своих собственных земель, повинности, которых они требовали себе, кроме того, за осуществлявшиеся ими политические и юридические функции. Обладая публично-правовой властью в качестве графов, кастелянов или фогтов, они взимали со своих крестьян ежегодную подать (taille), заставляли их работать над укреплением своих замков и обязывали их нести повинность содержания сеньора (droit de gite). О том, каким тяжелым бременем эти налоги ложились на деревенское население, можно судить на основании жалоб монастырских хронистов. Чтобы освободить от них своих крестьян, аббатства прибегали очень часто к средству, ясно показывающему размеры этого зла. Они давали феоды своим фогтам при условии, что последние откажутся на будущее время от своих «дурных обычаев» (malas consuetudines) и своих поборов (exactiones). В некоторых местах разражались бурные восстания, как например, в графстве Гинь, в приморской Фландрии и в Голландии[268]. Вполне понятно, что светские сеньоры пытались создать себе из этих налогов дополнительные источники дохода. Так как они обязаны были давать феоды своим рыцарям, то доходы с их наследственных земель уменьшались с каждым новым царствованием. Действительно, феодальное держание было бесплодным земельным держанием. Вытекавшая из него военная служба заменяла все другие повинности, и хотя с каждым аллодом, превращавшимся в феод, к армии сюзерена прибавлялся лишний воин, однако его амбарам или его казне наносился тем самым соответствующий ущерб, так как все полезные доходы с феода принадлежали вассалу. Эти доходы позволяли ему вести соответствовавший его общественному положению образ жизни и содержать боевого коня. В XI веке число рыцарей во всех частях Бельгии было чрезвычайно велико. Значительная часть министериалов (ministeriales) успела уже к этому времени раствориться в рыцарстве. Дело в том, что издавна установился обычай — вероятно, заимствованный из Франции, — давать феоды министериалам[269]. Благодаря этому последние вскоре потеряли признаки своего несвободного происхождения. Военная профессия, которой они занимались, превратила их в дворян, и хотя в течение некоторого времени то тут, то там можно было встретить — в особенности в соседних с Германией областях: в Генегау, в Брабанте и в Намюрской области, — рыцарей, крепостных сеньора и подчиненных праву «мертвой руки» и праву на лучшую голову скота[270], но все же подавляющее большинство milites составляло ко времени крестовых походов класс людей, которые, ведя одинаковый образ жизни и занимая одинаковое общественное положение, поставлены были и в одинаковое правовое положение. Браки между членами семей министериалов и свободных вассалов были очень часты[271], и после одного или двух поколений в общей массе нельзя уже было отличить свободных от несвободных. Таким образом в Нидерландах, так же, как и во Франции и гораздо раньше, чем в Германии, образовался класс рыцарей, ordo militaris, в который вступали, опоясавшись мечом, подобно тому, как в духовное сословие вступали, получив тонзуру. Как и духовенство, рыцарство пользовалось за возложенные на него обязанности юридическими и финансовыми привилегиями. Занимаясь одним и тем же делом, члены его проникнуты были сильным корпоративным духом. С конца XI века турниры были уже частым явлением во Фландрии и в Лотарингии, и milites стекались сюда со всех концов страны, чтобы совершенствоваться во владении оружием. Их страсть к подобного рода развлечениям была так сильна, что они без всяких колебаний часто решались на большие путешествия, чтобы померяться во Франции с рыцарями графства Вермандуа, Шампани и Пикардии. Впрочем, турниры того времени происходили еще без пышности и церемоний. Это были трудные военные упражнения, настоящие сражения в мирное время, в которых тяжелые эскадроны конницы со всего размаха набрасывались друг на друга и которые неизменно кончались тем, что немало участников их оставалось на месте состязания[272]. Эти турниры, бесспорно, оказали очень глубокое влияние на бельгийское рыцарство. Благодаря частому соприкосновению со своими южными соседями фламандцы и валлоны испытали на себе их влияние и постепенно заимствовали у них не только их вооружение, но и их обычаи. Они начали офранцуживаться как раз в то же время, когда клюнийская реформа проникла в нидерландскую церковь и, со своей стороны, подчинила ее французскому влиянию. Значение этих фактов не следует, однако, преувеличивать. В общем, мелкое дворянство вело в XI веке еще очень примитивный и грубый образ жизни. Рыцарей того времени надо представлять себе на их феодах или на их аллодах сельскими землевладельцами, хозяйничавшими в мирное время на своих землях. У более богатых были выстроенные на насыпном холме из грубого неотесанного камня башни, окруженные земляным валом[273]. Но огромное большинство их должно было довольствоваться очень скромным существованием, весьма походившим на образ жизни крестьян. Многие из них, по-видимому, сами ходили за плугом и сами же свозили свой урожай. Их одежда была из грубого холста, их военное снаряжение было очень простым и состояло лишь из шлема, копья и щита[274] Впрочем, эти воины-землепашцы отличались необычайной воинственностью. Они вели нескончаемые частные войны и с яростью убивали друг друга. Хронист Ламберт из Ватерлоо рассказывает, что десять братьев его отца были убиты их врагами в один и тот же день в столкновении около Турнэ[275]; нам известно, кроме того, что когда Роберт Фрисландский приказал составить список совершенных в окрестностях Брюгге убийств, то он установил, что сумма компенсаций за них превысила бы 10 000 марок[276].
II
Различные виды поместий и держаний, а также различные категории людей, о которых мы только что говорили, можно было встретить только в издавна возделанных частях Бельгии. Лишь в очень редких случаях их можно было найти за пограничной линией пустошей и болот, покрывавших северную часть Фландрии и Брабанта. Но и к югу от этой линии они лишь в исключительных случаях оказывались за пределами территорий, распаханных и заселенных в римскую эпоху. Обширные леса, остановившие когда-то поток вторгнувшихся германцев, остались почти в неизменном виде до конца XI века. Их опушки и прогалины являлись богатыми запасами пригодных для обработки земель, но, за исключением существовавших в Арденнах монастырей Ставело и св. Губерта, не видно было, чтобы крупные земельные собственники стремились расширить свои владения систематической распашкой новых земель. Совершенно иначе обстояло дело на севере и вдоль морского побережья. Поместный строй, распространившийся на плодородных землях, лишь в очень слабой степени затронул невозделанные районы. В приморской Фландрии и в Кампине осталось их первоначальное население, состоявшее из свободных крестьян-собственников, хозяев нескольких сервов (hagastaldi), которым они предоставляли хижину и клочок земли и которые помогли им обрабатывать их поля[277]. Самые предприимчивые или самые богатые из этих мелких собственников уже издавна начали борьбу с болотами и пустошами: в IX веке[278] море отступило в прибрежных равнинах Фландрии, и это дало предприимчивым жителям этих местностей возможность расширить площадь своих земель. Но эти распашки, производившиеся по личной инициативе, были далеко недостаточны. Ограниченность средств мелких собственников не позволяла им предпринимать дорогостоящих работ. Более того, они не могли вести эти работы согласованно, совместными усилиями, так как семьи их селились, как мы уже говорили, не деревнями, а изолированными хозяйствами, каждое из которых жило только для себя и не могло рассчитывать на помощь других. К этому надо еще прибавить, что наводнения Шельды, Мааса и Северного моря часто разрушали в долинах результаты работы, произведенной с большим трудом; достаточно было сильного прилива во время равноденствия, чтобы уничтожить плоды долгих лет труда[279]. Но фландрские графы издавна занялись этим делом, поддерживая и поощряя большие работы по распашке земель и осушению болот. Аллювиальные земли, пустоши, болота (meerschen, broeken, woestijnen) принадлежали князю в силу его графских полномочий. Было необычайно выгодно распахать эту новь. Фландрские графы давно поняли это, и не подлежит сомнению, что уже в самом начале XI века они дали толчок большим и важным земельным работам. При Балдуине достигнутые успехи были уже настолько значительны, что реймский архиепископ мог поздравить графа с превращением непригодных до того территорий в плодородные земли и богатые пастбища для больших стад[280].
Сельскохозяйственные работы
Графы не ввели в приморской Фландрии на вновь освоенных землях поместного строя. Земли, которые нужно было распахать или заградить плотиной, были уступлены за денежные или натуральные повинности желавшим здесь поселиться держателям (hospites). Последние не теряли из-за этого своей свободы. Ни из чего не видно также, чтобы они обязаны были платить личный ценз и налог за разрешение вступать в брак, а также, чтобы они должны были соблюдать «право мертвой руки» или подчиняться вотчинной юрисдикции. Барщина, которую отбывали сервы крупных землевладельцев, была заменена им обязанностью содержать плотины и водоотводные каналы. Все те, кто получил земли в одном и том же болотистом районе, составляли своего рода трудовые ассоциации. Борьба с морем могла вестись успешно лишь объединенными усилиями всех и лишь путем строгого соблюдения мер, предпринятых для защиты отвоеванных у моря земель от нового их затопления. Можно, не боясь впасть в ошибку, утверждать, что жители побережья создали со времени устройства первых плотин те крайне любопытные объединения, с которыми мы встречаемся позднее под названием «wateringues» и которые организовали регулирование режима воды в приморской Фландрии. По всей видимости, графы тщательно следили с помощью своих нотариусов и своих министериалов (ministeriales) за ходом работ. Правда, надзиратели за болотами и плотинами (moermeesters и dijkgraven) появляются в источниках только в XIII веке, но все говорит за то, что их функции восходят к более раннему периоду[281]. В то время как крепостное состояние или личная зависимость стали в крупных поместьях обычным положением крестьян, вдоль морского побережья, по нижнему течению Шельды и нижнему Маасу, а также на обширных пустошах северного Брабанта, образовалось сильное население, состоявшее из свободных земледельцев. Хронисты единогласно прославляли силу и предприимчивость этих пионеров. В отличие от сервов, находившихся под защитой своих господ и получавших от них пропитание в голодное время, эти люди могли рассчитывать только на самих себя и обнаруживали поразительную находчивость. Большинство из них определенно состояло из пришельцев, явившихся из внутренних областей страны, где в XI веке были налицо неопровержимые признаки перенаселения. В самом деле: мы знаем, что масса фламандцев в 1066 г. вступила в армию Вильгельма Завоевателя и после окончания войны осталась в Англии, где в течение почти целого века к ним непрерывно прибывали, одна за другой, группы их соотечественников. Другим крестовые походы предоставили благоприятную возможность попытать счастья за границей. Некоторые же нанимались к соседним князьям в качестве солдат и под названием geldungi, cotereaux, брабантцы играли в военной истории XI и XII вв. ту же роль, что швейцарцы в военной истории XVI века. Совершенно очевидно, что значительная часть избыточного населения из внутренних областей страны, задыхаясь в рамках поместного строя, устремилась к неосвоенным землям побережья, а одновременно также и в нарождавшиеся города. Благодаря этому мирному внедрению новых пришельцев болотистая область быстро заселилась и покрылась деревнями, названия которых, кончавшиеся на «kerk» или «capelle» свидетельствовали об их относительно недавнем происхождении[282]. Колонизация шла так быстро, что в начале XII века колонистам уже не хватало земли. Смешавшись с голландцами, они направились осушать и заселять болота (mooren) Бременской области, распространились в Гольштинии и расчистили путь для германской колонизации на правом берегу Эльбы. В возделанных ими местностях Германии еще до сих пор сохранились явные следы произведенных ими работ. Еще до сих пор в них тянутся параллельными рядами королевские гуфы (Konigshufen), которые они оградили плотинами, и нидерландские названия немалого числа деревень Северной марки в Германии (Altmark) свидетельствуют о происхождении их первоначальных обитателей[283].
Глава шестая
Культура
I
С духовной жизнью в Бельгии дело обстояло так же, как с религиозной и политической. В этой, населенной двумя различными расами стране, которая была разделена между Германией и Францией и одни диоцезы которой зависели от Реймского архиепископа, а другие — от Кельнского, с самого же начала Средних веков сталкивались, смешивались, боролись или объединялись друг с другом романское и германское влияние. Находясь, так сказать, посередине между двумя культурами, Южные Нидерланды оказали влияние на каждую из них и, в свою очередь, подверглись воздействию обеих. Начиная с каролингской эпохи среди духовенства и высших классов общества было множество людей, одинаково владевших как романскими, так и германскими диалектами[284]. В аббатствах фламандские и валлонские монахи жили бок о бок, и известно, что в монастыре Сент-Аман были найдены два памятника, написанные одной и той же рукой в IX веке на разных языках: самое старинное стихотворение французской литературы — кантилена св. Евлалии — и один из наиболее древних памятников немецкой литературы — «Песнь о Людвиге» (Ludwigslied)[285]. В Льеже епископ Гартгар прославлялся Седулием за свое знание трех языков[286]. В Аррасе пробст Ульмар говорил на франкском наречии. Аббат из Лобба Урсмар и его преемник в X веке, Фолькин, одинаково пользовались как французским, так и немецким языком. В Теруане реймский архиепископ следил за тем, чтобы епископы умели говорить и на «варварских» языках[287]. Позднее, с XI века, эта тенденция обнаруживается еще яснее. Мы знаем, что многие проповедники одинаково умели быть доступными населению как в валлонских, так и во фламандских областях, таков был, например, лоббский аббат Ламберт (1149 г.), который говорил одинаково красноречиво на обоих языках[288]. В монастыри старались назначить аббатов, знавших оба языка. Так, например, монахи аббатства Сен-Пьер в Генте считали Теодориха из Сен-Трона достойным епископского жезла, так как он владел немецким и романским наречием. Другой сен-тронский монах, Рудольф, родом из Генегау, вынужден был изучить фламандский язык, чтобы его ученики могли его понимать; аналогичных фактов было, несомненно, очень много во всех частях страны[289] Со светской аристократией дело обстояло так же, как и с духовенством. Подобно всем диоцезам Южных Нидерландов, Фландрия, Брабант и Лимбург тоже были двуязычными, и не подлежит сомнению, что графы и бароны вынуждены были так же, как и епископы, говорить на обоих языках. Уже в XII веке знание французского было, по-видимому, необходимым условием всякого хорошего воспитания: фламандских детей посылали учиться ему в аббатства Ланского диоцеза[290]. Знание французского языка должно было распространиться также среди мелкого дворянства ввиду частого соприкосновения, установившегося благодаря турнирам между рыцарями Фландрии и Брабанта и рыцарями Генегау, Артуа и Пикардии. Его распространению способствовало также влияние, которым пользовались клюнийские монахи, из коих многие были французского происхождения. Наконец, этому содействовали также многочисленные браки, заключавшиеся между дворянскими семьями различных национальностей. Несомненно, в конце XI века значительная часть аристократии Фландрии и Лотарингии владела обоими языками и благодаря этому она была прекрасно подготовлена к тому, чтобы играть доминирующую роль в таком интернациональном предприятии, каким были крестовые походы. Только она могла дать космополитической армии, направлявшейся для освобождения гроба господня, нужного ей вождя. Готфрид Бульонский, по словам одного немецкого хрониста, стал во главе крестоносцев, «так как, получив воспитание на границе романских и германских народов, он знал одинаково хорошо их языки»[291]. Сосуществование двух языков в Южных Нидерландах вполне естественно объяснялось самой культурой этих областей. Оно соответствовало их смешанному составу и их одновременной зависимости от Германии и Франции. Распространение романского диалекта в германских частях Бельгии не было, как, например, у англосаксов, результатом завоевания и насилия. Оно было естественным и самопроизвольным явлением. Знание французского языка распространилось к северу от лингвистической границы, так как эта область находилась с ранних пор под влиянием французской культуры. Оно не было последствием чужеземного господства или политического подчинения. Впрочем, надо тут же заметить, что оно являлось исключительной привилегией высших классов общества. Французский язык стал во Фландрии вторым национальным языком для высшего духовенства и аристократии, но не оказал никакого влияния на язык народа., Народный язык остался чисто германским: здесь не было, как в Англии, растворения одного языка в другом или внедрения одного языка в другой. Французское влияние сказалось в Нидерландах в распространении французского языка, немецкое же отразилось главным образом в литературных памятниках. Со времени царствования Отгона I имперская церковь была главным орудием духовной культуры лотарингского духовенства. С X по XII век научнолитературная гегемония Германии в Лотарингии была нисколько не слабее ее политической гегемонии. Немецкие епископы не только управляли Лотарингией, но, кроме того, развили здесь широкую просветительную деятельность и покровительствовали наукам. Нашествия норманнов положили конец литературному оживлению, царившему, как мы видели, в Бельгии в каролингскую эпоху. Но положение не улучшилось и с исчезновением. варваров. Политические смуты, феодальная анархия, секуляризация монастырей помешали церкви восстановить свое прежнее положение. Единичные попытки делались то в одном месте, то в другом, но не было ничего такого, что походило бы на всеобщее стремление к возрождению. В аббатстве Лобб сохранилась школа, в общем, мало известная, но прославившаяся по крайней мере тем, что она насчитывала среди своих учеников Ратера. В Льеже епископ Стефан, в Утрехте Радбод, и в особенности наставник Бруно, епископ Бальдерик, пытались среди окружавшего их невежества поддерживать культ науки и заботиться о ее процветании. Правда, эти прелаты были запоздалыми представителями каролингской культуры в обществе, которое находилось в то время в переходном состоянии. Стефан и Радбод были воспитаны при дворе Карла Лысого; подобно Бальдерику, они были друзьями и корреспондентами того самого Гукбальда из Сент-Амана, который старался сохранить в своей монастырской школе традиции Алкуина[292]. После присоединения к Империи лотарингское духовенство прониклось совершенно новым духом. С этого времени будущие епископы стали получать свою выучку уже не при дворе французского короля, а в императорской часовне. Духовенство, руководимое немецкими прелатами, в течение нескольких лет приобрело совершенно иную физиономию. Церковная дисциплина была восстановлена, и вместе с ней возродились научные занятия. Во время правления Бруно достигнуты были поразительные результаты. Первый саксонский епископ Льежа, Эракл, был основателем или во всяком случае восстановителем главной школы епископства, которая вскоре ярко расцвела. При Нотгере она стала, пожалуй самым оживленным центром научной и литературной жизни во вceй империи[293]. Она с лихвой вернула Германии то, что когда-то получила от, нее. Ученики Нотгера составили блестящую плеяду епископов. Среди них были: Гюнтер из Зальцбурга, Ротард и Эрлуин из Камбрэ, Геймон и» Вердена, Гезелон из Туля, Герман из Меца, Адальбольд из Утрехта, Вольбодо, Дюран и Вазо из Льежа[294]. Льежские учителя преподавали В различных городах Империи, в Майнце, в Регенсбурге, в Брешии. Они проникли также во Францию, где один из них, Губальд, с блестящим успехом преподавал в монастыре св. Женевьевы в Париже. С другой стороны в Льеж съезжались французские, английские и славянские[295] студенты, умножившие ряды слушателей, стекавшихся со всех концов Германии. Первый историк Богемии, Козьма Пражский, Маврилий Руанский, Леофрик Экзетерский и рамсберийский епископ Герман были прежними учениками школы св. Ламберта[296]. Наряду с превосходными педагогами — вроде Эгберта, оставившего нам свою Fecunda ratis, являющуюся любопытным образчиком книги для чтения для школьников XI века, — здесь имелись ученые, слава о которых распространилась по всей северной Европе. Образование не ограничивалось только грамматикой, риторикой и поэзией, а простиралось также на музыку, математику[297] и теологию. Благодаря своим разнообразным связям с заграницей льежские учителя были в курсе всех возникавших на Западе научных теорий. Различные научные направления имели своих представителей в том своеобразном интернациональном университете, каким был тогда Льеж. При его посредстве идеи Фульбера Шартрского и Бернгара Турского нашли себе доступ в Германии около того же времени, когда здесь были введены, тоже пройдя предварительно через Нидерланды, клюнийская реформа и божий мир[298]. Камбрэ и Утрехт, с своей стороны, были тем же, что и Льеж, — только в более слабой степени. Здесь тоже немецкие епископы заботились о процветании литературы и науки. Впрочем, умственное движение, которое они всколыхнули, не ограничивалось только епископскими резиденциями. Каждое сколько-нибудь значительное аббатство обзавелось вскоре школой, и история литературы Средних веков с полным основанием сохранила имена многих из них для потомства. В Лоббе преподавали Фолькин и Геригер. Школа Ставело прославилась под руководством Поппо своим заботам о процветании наук и распространением клюнийской реформы, а школа Жамблу — своими учителями вроде Отберта и в особенности Зигеберта, сочинение которого De Scriptoribus ecclesiasticis (О церковных писателях), а также его хроника всеобщей истории непрерывно читались вплоть до эпохи Возрождения. Уже в императорский период в епископских и монастырских школах наблюдалось то явно выраженное пристрастие к истории, которое осталось с тех пор навсегда характерным для Бельгии. Труд Зигеберта из Жамблу (умер в 1112 г.) является в этом отношении высшим проявлением умственного движения в Лотарингии. Вокруг него существовала целая богатая литература из житий святых, хроник, анналов, биографий; ни одна другая литература не могла представить ничего подобного. «Деяния» (Gesta) епископов Льежа и Камбрэ, хроники аббатств Лобба, Жамблу, Сент-Юбера, Сен-Трона, житие Бальдерика Льежского, Triumphus Sancti Remacli (Торжество св. Ремакля) являются собранием превосходных источников, одинаково ценных как для изучения политических событий, так и для изучения нравов и культуры Бельгии. Эта историография отличалась, двумя характерными особенностями: она была религиозной и велась в областном масштабе. До конца XI века хронисты не интересовались светскими княжествами. С другой стороны, Лотарингия была слишком удалена от центра Германской империи, и ее политическая жизнь почти целиком сводилась к борьбе между светской аристократией и епископами, чтобы ее летописцы могли питать какой-нибудь интерес ко всеобщей истории. Зигеберт, единственный из своих соотечественников, простер свои взоры за пределы лотарингского герцогства и решился написать всеобщую историю. Горизонты остальных ограничивались пределами монастырского поместья или, в лучшем случае, отдельного диоцеза. Смуты, связанные с борьбой за инвеституру, и вызванная ею дезорганизация имперской церкви привели к упадку школ в Лотарингии. Льеж перестал быть «северными Афинами» и центром крещения умственных движений, шедших из Германии и Франции[299]. Наличие таких людей в XII веке, как теолог Альгер или Руперт из аббатства св. Лаврентия и в особенности Вибальд из Ставело, свидетельствовало о продолжавшейся еще духовной жизни, которая, хотя и ослабевая, все же оставалась по-своему замечательной; но тем не менее резиденция Нотгера утратила уже ту притягательную силу, которой она обладала еще в предыдущем столетии, и нидерландские студенты все в более широких размерах стали устремляться теперь в Парижский университет. Роль культурного центра, которую Льеж играл в Лотарингии, выпала во Фландрии на долю Турнэ, но здесь, разумеется, роль эта была более скромной и менее блестящей. Школа св. Марии ни в каком отношении не могла соперничать со школой св. Ламберта[300]. Чисто французская как по составу своих учителей, так и по преподававшимся в ней предметам, она чрезвычайно содействовала распространению французского влияния среди фламандского духовенства. В ней занимались, главным образом, как в Шартре, в Туре или в Париже, теологией и диалектикой. Самый выдающийся представитель ее, Одо, учился в Орлеане. Фландрские монастыри и в духовном отношении сильно отстали от лотарингских аббатств. После Гукбальда из Сант-Амана, они не дали больше ни одного сколько-нибудь значительного писателя. Но интересно отметить, что историография перестала здесь носить, как на правом берегу Шельды, исключительно религиозный характер. Родословные графов фландрских, продолженные и расширенные сен-бертенскими монахами, составили в начале XII века настоящую хронику правящей династии.II
До нас дошло очень много произведений лотарингских ученых, но зато следы искусства, существовавшего в X и XI веках в диоцезах Льежа и Камбрэ, в настоящее время чрезвычайно незначительны. В восточной части Бельгии нет ни одной церкви, которая могла бы пойти в какое-нибудь сравнение свеликолепными соборами Вормса, Шпейера или Майнца. А между тем нам известно, что вызванное немецкими епископами литературное возрождение сопровождалось также подлинным возрождением искусства. Прелаты не ограничивались только укреплением своих резиденций, но заботились также об их благоустройстве, застраивая их зданиями, украшенными скульптурами, росписью и мозаикой[301]. В Льеже еще до Нотгера Эракл построил церкви св. Павла и св. Мартина, и мы видели выше, с каким жаром его преемники следовали его примеру. Со времени правления Гергарда I Камбрэ тоже покрылся архитектурными памятниками. Великолепный собор, над которым трудились в течение семи лет, с 1023 по 1030 гг. заменил прежнюю церковь, которая стала уже мала и архитектура которой казалась слишком варварской. Вскоре вокруг него выстроились базилики св. гроба господня, св. креста и св. Вааста. Монастыри, со своей стороны, развили не меньшую деятельность. Хронисты наперебой отмечали строительство новых монастырей, новых трапезных и новых храмов. Маленькие деревянные церкви в деревенских приходах были снесены и заменены каменными сооружениями. При Аделарде II было начато строительство не менее 14 церквей в одном только Сент-Тронском аббатстве[302]. Лотарингские епископы, будучи сами большей частью немцами по происхождению, естественно, поручали строительство своих зданий немецким архитекторам. Поэтому архитектурный стиль, господствовавший в долине Рейна, быстро распространился на Западе. Мы встречаем его в самых старинных образцах романской архитектуры на берегах Мааса: в Маастрихте — в соборах св. Сервация и Божьей матери, в рурмондском соборе, в Льеже — в соборах св. Варфоломея, св. Якова и св. Иоанна, из коих последний был построен Нотгером по образцу аахенского собора. За архитекторами шли разного рода художественные ремесленники: скульпторы, каменотесы, художники, граверы, литейщики меди или бронзы. Епископы не упускали также случая привлечь в свои резиденции итальянских художников, отправлявшихся в поисках счастья к северу от Альп: так было, например, с тем живописцем Иоанном, который при Нотгере поселился в Льеже и покрыл фресками стены собора св. Якова[303]. Все эти иностранцы находили себе последователей в Бельгии. Многие их помощники стали по их примеру учиться, заимствовали их технические методы и вскоре оказались в состоянии соперничать с ними. Скоро стало совершенно ненужным тратить большие средства на доставку из Германии колонн и капителей, служивших для украшения церквей[304]. Каменоломни долины Мааса давали теперь не только строительный материал, но также и камни, необходимые для скульпторов. Однако местные художники не создали нового стиля. Они продолжали идти по стопам своих учителей. До XII века они свято хранили немецкие традиции. Маасская школа была подлинной дочерью Рейнской школы как в области архитектуры, так и в области миниатюры, скульптуры, эмалировального, ювелирного и гравировального искусств, а также искусства литья металлов. Но не следует думать, что она была рабски подражательной. Дошедшие до нас — к сожалению, чрезвычайно немногочисленные — произведения определенно свидетельствуют о жизненности и стихийной силе этого искусства. Флореффская библия является основным, из произведений того собрания живописи, самые богатые образцы которых мы находим у Гильдесгейма[305]. Скульптуры на дверях соборов Божьей матери и св. Сервеция в Маастрихте принадлежат к числу лучших скульптурных творений XI века[306], а купели собора св. Варфоломея в Льеже, созданные между 1107 и 1118 гг. Ренье из Гюи, являются редким шедевром как по величию и благородству своего замысла, так и по совершенству своего технического исполнения. Восторженное описание их, оставленное нам одним хронистом того времени, свидетельствует о том, как сильно было еще в Льеже в начале XII века художественное чутье[307]. Впрочем, в это время слава о лотарингских художниках распространилась по соседним странам, и мы знаем, что Сугерий обратился к их искусству при предпринятых им тогда работах в аббатстве Сен-Дени[308]. Но долина Мааса была до XII века не единственным центром искусства в Нидерландах. Маасским архитекторам и скульпторам нисколько не уступали — если даже не превосходили их — архитекторы и скульпторы Турнэ[309]. Об. Собор Турнэ, единственная большая романская базилика в Бельгии, может поспорить по величию и гармонии своих форм с самыми знаменитыми рейнскими соборами. Его боковой придел, заканчивавшийся двумя абсидами, по бокам которых находилось по две башни, — такое расположение часто встречалось в немецких церквях — несомненно, было произведением мастера, находившегося под влиянием немецкой архитектуры. Но господство последней в Турнэ отнюдь не было исключительным. Подобно Льежу в научной области, Турнэ в художественном отношении находился на стыке двух различных художественных направлений. Хотя в его соборе и доминировал немецкий стиль, но все же в нем были налицо также мотивы, заимствованные у тогдашних больших церквей Нормандии. Под этим двойным влиянием создалась туземная школа, воздействие которой вскоре испытали на себе соседние области в Пикардии, в Артуа и в особенности во Фландрии. Турнэ был в период раннего средневековья не только религиозной резиденцией Фландрии, но и ее главным художественным центром. До XV века большинство крупнейших памятников Фландрии было построено из великолепных камней, добывавшихся в окрестностях Турнэ и доставлявшихся на судах по Шельде. Повсюду, куда только попадали эти каменные глыбы, они обрабатывались архитекторами из Турнэ или их учениками. По следам архитектуры, используя ее успехи, шла ее неизменная спутница, скульптура. Скульпторы из Турнэ тут же на месте, в каменоломнях, изготовляли стержни колонн и купели, вывозившиеся затем в разные отдаленные места. Но они были не только хорошими рабочими. Поразительные барельефы Porte Mantile[310] свидетельствуют о том, что среди них были настоящие художники.
Книга вторая
Нидерланды в XII и XIII веках
С XII века в истории Нидерландов начинается новый период. Видоизменяются взаимоотношения с соседними державами, изменяется экономическое и социальное положение, и за этим идут соответствующие перемены в нравах, взглядах и учреждениях.
Прежде всего произошла коренная ломка существовавшего до этого политического положения. — Лотарингия, столь тесно связанная до конца XI века с Германией, начала постепенно со времени борьбы за инвеституру, отделяться от нее, и император вскоре стал только номинальным сюзереном небольших, образовавшихся здесь феодальных государств. Зато с другой стороны Фландрия, некогда совершенно независимая от Франции, сделалась теперь жертвой захватнических попыток династии Капетингов, стремившихся подчинить ее своей власти. В этой неравной борьбе Фландрия теряла одну позицию за другой: сначала Артуа, а затем большую часть валлонской Фландрии. При Филиппе Красивом она была на короткое время присоединена к французской короне, и заключенный в Лувр Гюи де Дампьер напоминает Ренье III, высланного Отгоном I в глубь Богемии. Французское влияние вскоре проникло по другую сторону Шельды и распространилось в землях Германской империи. В XII веке казалось, что французский король является настоящим сюзереном графов Генегау и герцогов Брабантских. Так всеобщая история Европы, для которой в то время характерны были растущее могущество Франции и все усиливавшаяся слабость Германии, нашла свое точное отражение — правда, соответственно уменьшенное — в истории Бельгии.
Но Европа XII века не состояла уже только из Франции и Германии. Рядом с ними стояла теперь Англия, которая, в свою очередь, выступила на арену борьбы за Нидерланды, чтобы принять участие в поединке, происходившем между более старыми державами. На равнинах Бувина войска графа Фландрского и герцога Брабантского сражались бок о бок с армиями трех крупнейших государей Западной Европы.
Подобно тому, как в аграрный период средневековья в Нидерландах сложилась необычайно сильная феодальная знать, точно так же со времени оживления промышленности и торговли доминирующую роль стали играть города. Действительно, находясь в центре соприкосновения трех великих западноевропейских государств, Бельгия в то же время лежала на скрещении больших торговых путей. Она была не только основным театром военных действий в Европе, но и главным европейским рынком. Эта страна широких эстуариев и больших судоходных рек была для Северного и Балтийского морей тем же, что Италия для Средиземного моря. Рост городов во фландрской равнине был почти столь же бурным, как и в Ломбардской долине, и как и там, так и тут экономическое могущество привело к политическому господству городов. Не было таких крупных политических событий, в которых они не принимали бы участия. Короли Франции и Англии точно так же вели переговоры с Брюгге и Гентом, как папа и император вели переговоры с Миланом, Вероной и Падуей. Территориальные князья вынуждены были считаться с бюргерством, и поэтому их феодальные войны, если к ним присмотреться ближе, часто принимали характер торговых войн. Однако бельгийские города не превратились, подобно итальянским городам или вольным городам Германской империи, в независимые республики. Им не удалось избавиться от зависимости от своих князей. Бельгийские князья в Средние века располагали, благодаря своим городам, настоящими королевскими бюджетами. Взимавшиеся ими с городских коммун денежные налоги позволяли им, — несмотря на незначительные размеры их территорий, — быть наравне с самыми могущественными государями. Доходы с поместий не были уже для них, как для других их современников, основной частью их бюджета.
Начиная с XII века основное содержание истории Нидерландов сводится к роли, которую играли в ней города. Именно этим Нидерланды резко отличались от своих соседей, в этом заключалось их своеобразие, наложившее на них совершенно особый отпечаток. Нигде, кажется, нельзя исследовать при более благоприятных условиях, какое влияние оказали города на средневековое общество, как в этих областях, не имевших собственной национальности. Действительно, это влияние здесь раскрывается в чистом виде, свободном от всяких осложняющих моментов. Оно не перекрещивается и не сталкивается ни с национальным сознанием, ни с политической программой могущественной монархии. Оно предстает перед нами, так сказать, во всей своей наготе, сведенное к своей основной сущности, как грандиозное проявление мощного и жизненного движения, зародившегося в бассейнах Мааса и Шельды.

Кафедральный собор в Турнэ (ХII — ХIII вв.)
Благодаря своему необычайно быстрому экономическому развитию, Фландрия сделалась в XII и XIII вв. могучим притягательным центром для всех частей Бельгии. Вся промышленность и торговая жизнь страны от Мааса до моря устремилась к ее портам. Вследствие этого обе территориальные группы, отделявшиеся франко-германской границей, стали все теснее сближаться друг с другом. Существовавший до этого определенный антагонизм между Фландрией и Лотарингией начал постепенно ослабевать, и между ними установились разнообразные и все упрочивавшиеся связи. Феодальные войны не происходили теперь только на правом или только на левом берегу Шельды: они распространяются одинаково на оба берега. В борьбе между д'Авенами и Дампьерами, к которой в XIII веке сводились почти все политические события, имевшие место в области между побережьем и Арденнами, действующими лицами были как вассалы французского короля, так и вассалы германского императора. Словом, хотя Нидерландам предстояло еще ждать до XV века, пока они будут объединены единой династией и составят единое государство, однако не подлежит сомнению, что во второй половине Средних веков они были уже на пути к этому. Ослабевшая Империя видела, что Лотарингия уходит из ее рук, ориентируется на Запад и объединяет свою судьбу с судьбами Фландрии. И именно от Фландрии зависели теперь судьбы Нидерландов в целом. Ставкой в борьбе, которую она вела против Франции, была не только ее собственная независимость, но и независимость всех соседних княжеств, и благодаря сопротивлению, оказанному ею Филиппу Красивому, она помешала монархии Капетингов добраться до рейнской границы. Духовное влияние Франции на Нидерланды превосходило даже ее политическое влияние. Французское искусство и литература проникли как в германские, так и в романские части страны, подобно тому, как в XI веке здесь распространились из Франции клюнийская реформа и рыцарство. Здесь переводили французский эпос, фаблио и поэмы, или подражали им. Во Фландрии, в Генегау, в Брабанте и Лимбурге дворянство усвоило французские нравы и язык. В архитектуре готический стиль заменил романский. Парижский университет стал объединяющим центром как для валлонских, так и фламандских студентов. Усвоение французской культуры прежде всего Фландрией явилось естественным следствием ее разнообразных связей с Францией. Именно при посредстве Фландрии, французская культура распространилась в Лотарингии, а затем из Лотарингии проникла в Германию, так что в XII и XIII вв. еще более, чем в XI, Нидерланды были своего рода посредниками в духовном общении между двумя большими западноевропейскими государствами, граница, которых проходила по их территории.
Глава первая
Происхождение городов
I
С того времени, как Европа ощутила первые признаки начавшегося возрождения промышленности и торговли, Бельгия приобрела тот облик, который она сохранила с тех пор на протяжении веков: она стала преимущественно страной городов. Нигде в другом месте к северу от Альп они не были многочисленнее, богаче и влиятельнее. Но в то время как итальянские города, — как, впрочем, и большинство французских и рейнских городов — были, если можно так выразиться, не чем иным, как воскресшими римскими городами, большинство бельгийских городов — дети средневековья. До вторжения варваров в Нидерландах существовало одно-единственное более или менее значительное поселение городского типа: это был Тонгр, гражданский административный и военный центр, и, в общем, искусственное порождение Римской империи. Поэтому он исчез вместе с нею, был покинут епископами и оставался с тех пор на положении маленького провинциального города. Фамар и Бавэ, являвшиеся просто гарнизонными городами, были заброшены в меровингский период. С этого же времени стены Арлона превратились в каменоломни[311]. Аррас, разрушенный до основания франками, не смог в дальнейшем оправиться, и тот город, который в настоящее время носит его название, не находится на месте старого Арраса. Теруань навсегда остался большой деревней. Из крупных пунктов в бассейнах Шельды и Мааса только Камбрэ и Турнэ возникли ранее V века. Но напрасно стали бы мы искать в Древности названий Лилля, Гента, Ипра, Брюсселя, Лувена, Мехельна, Валансьена, Гюи, Динана и Льежа. Таким образом, в то время как в Других странах колыбелью городских учреждений были прежние римские города, в Нидерландах, наоборот, эти учреждения — продукт нового социального строя — сложились в новых городах. Промышленность и торговля не только создали здесь городские учреждения, но и вызвали самый рост поселений городского типа. Мы уже говорили, что в начале каролингской эпохи в бассейнах Шельды и Мааса существовала уже довольно развитая торговля и что порты побережья находились тогда в оживленных сношениях с областями Северной Европы. Страны, расположенные между Рейном и Сеной, составляли центр франкской монархии, и поэтому здесь наблюдается весьма оживленное передвижение людей и товаров. Но так как благосостояние этих стран полностью зависело от существования франкского государства, то оно и исчезло вместе с ним. Разоренная войнами между наследниками Людовика Благочестивого, разграбленная норманнами, оспариваемая Францией и Германией и, наконец, разрубленная на два куска, Бельгия больше, чем какая бы то ни было другая страна, претерпела от разделов и потрясений, ознаменовавших собой начало феодального периода. К началу X века она была покрыта развалинами. Ее монастыри были разрушены, а поселения, основанные купцами в Квентовике, Дурстеде, Валансьене и Маастрихте, превращены были в груды пепла. Но хотя до конца XI века экономический строй Нидерландов носил — впрочем, как и повсюду в Европе, — преимущественно аграрный и ограниченно локальный характер, однако здесь раньше, чем в других странах, расположенных к северу от Альп, можно было заметить признаки, предвещавшие широкое развитие торговли. Нидерланды благодаря длине своей береговой линии соседству с Англией и трем глубоким рекам, пересекавшим их и соединявших их естественными путями с южной Германией, с Бургундией и с центральной Францией, — благодаря всем этим обстоятельствам Нидерланды призваны были сыграть в бассейне Северного моря ту же роль, что Венеция, Пиза и Генуя в Средиземноморском бассейне. Купцы, привозившие пряности из Италии или Прованса, судовщики, перевозившие по Мозелю и Рейну избыток продукции немецких виноградников, вынуждены были встречаться в Нидерландах ввиду направления путей сообщений, обусловленного рельефом Западной Европы. Через Нидерланды же проходили паломники и англосаксонские монахи, направлявшиеся в Рим или в аббатства, расположенные на континенте[312]. Кроме того, найденные в Дании, Швеции, Пруссии и России фламандские и лотарингские монеты показывают, что бельгийские купцы добирались в конце X и, в первой половине XI века — либо по Северному морю, либо пересекая Германию, — до берегов Прибалтики, где они встречались с восточными купцами, приезжавшими по Днепру[313]. Таким образом на фоне экономического застоя, царившего в северной Европе в начале Средних веков, Partes advallenses выгодно отличались своей богатой и разнообразной жизнью. По этим странам, служившим центром соприкосновения французской и немецкой культуры, непрерывно двигались караваны купцов и судовщики, занимавшиеся странствующей торговлей. Постепенно вдоль берегов их рек вновь появились, как и в каролингскую эпоху, пристани, места для выгрузки и зимние стоянки купцов; на Шельде это были — Валансьен, Камбрэ и Гент, на Маасе — Динан, Гюи, Льеж и Маастрихт. Торговля долины Мааса сосредоточилась прежде всего вокруг главного рейнского города — Кельна. Объединение Лотарингии с Империей, естественно, облегчило сношения между ней и Германией, и хотя многие льежские купцы высаживались в голландских портах, однако подавляющее большинство их направлялось на восток, к дорогам Тюрингии и Франконии, или к Рейну. На другом же конце Бельгии центром экономической деятельности было преимущественно морское побережье. С X по XI век завязались очень оживленные сношения между обоими берегами Северного моря. Фламандские, валлонские, германские, фрисландские и англосаксонские купцы встречались в» Брюгге, выросшем в глубине Звинского залива, и в Тиле, который заменил старый Дурстед. Эти нарождавшиеся города с самого же начала носили характер международных центров, и здесь, среди разноплеменных стекавшихся сюда людей, стало складываться торговое право. Влияние нового образа жизни, порожденного торговлей, вскоре привело к определенным последствиям. Мало-помалу образовался класс людей, живших куплей и продажей. Странствующие купцы исчезли, и на месте их появился вышедший из недр сельского населения новый слой профессиональных купцов. Он стал необычайно быстро расти благодаря постоянному притоку значительного числа тех безземельных людей, которых было так много во Фландрии в XI веке. Наряду с земельным богатством теперь появилось также богатство, состоявшее из движимого имущества. Собственность купца состояла из его судна и его ломовых лошадей. Работавшие на него по найму люди были не сервами, а свободными, нанятыми по договору слугами[314]. Сам он был странствующим и подвижным человеком, свободным от всех тех разнообразных уз, которые связывали в крупных поместьях крестьянина с землей и через посредство земли с сеньором. В странах, через которые ему приходилось проезжать, он был чужеземцем: здесь никто не знал его первоначального происхождения. Всюду, где бы он ни бывал, он считался свободным человеком. Его могли судить только государственные суды. Но мало того: князья покровительствовали ему и брали его под свою защиту. Это объяснялось тем, что купцы представляли для князей необычайную ценность. Они платили налоги за проезд по рекам, бродам, мостам, скрещениям дорог, рынкам. Благодаря купцам монетным мастерским обеспечен был сбыт вычеканенных ими оболов и денье. В случае войны суда mercatores (купцов) давали возможность снарядить флот. С другой стороны, они, и только они, были поставщиками тех шелков, пряностей, мехов и ювелирных изделий, которые составляли роскошь сеньоров[315]. Не подлежит сомнению, что значение, приобретенное нидерландской торговлей стало оказывать, начиная с XI века, соответствующее влияние на политику князей. Войны епископов Льежа и Утрехта против графов голландских были, по крайней мере частично, вызваны пошлиной за проезд, которую голландские графы взимали с судов, проходивших мимо Дордрехта. Роберт Фрисландский, как мы уже видели, устроил свою резиденцию вблизи Брюгге и пытался сделать фламандское влияние доминирующим во всей приморской области. А в другом конце страны льежский епископ Отберт приступил к осаде замка Клермон, сеньоры которого притесняли купцов долины Мааса. Завоевание Англии нормандцами дало сильнейший толчок экономическому развитию областей, расположенных вдоль морского побережья. Со времени победы при Гастингсе (1066 г.) началась широкая эмиграция с материка в Великобританию. Неизбежным последствием завоевания было мирное нашествие крестьян, рабочих и купцов. Дворяне, прелаты, аббаты, сопровождавшие Вильгельма Завоевателя по другую сторону канала, привели с собой множество людей, говоривших на французском языке, и установившиеся с этого времени регулярные сношения между обоими берегами канала вызвали широкое развитие морской торговли. Этим положением воспользовалась не одна только Нормандия. Последствия его были не менее благотворны и для Фландрии. Среди тех иностранцев, к которым хронисты без всякого различия применяли название «Francigene» (французы), особенно многочисленны были фламандцы[316]. И мы уже выше отмечали, что до начала XII века наблюдался постоянный приток колонистов в Англию из бассейна Шельды. Одновременно необычайно развилась торговля, и усилившееся значение Лондона способствовало процветанию Брюгге. Брюгге вместе с небольшими соседними портами сделался главным рынком сбыта для товаров, отправлявшихся в Нидерланды из Италии и Центральной Европы. Здесь грузились для Англии французские вина, прибывшие по Шельде, и немецкие, прибывшие по Рейну, камень, добывавшийся в каменоломнях Турнэ, привезенные ломбардцами пряности и шитые золотом ткани и, наконец, льняные и шерстяные ткани, изготовлявшиеся в самой Фландрии. Распевая «Kyrie eleison», моряки поднимались вверх по Темзе[317], они разгружали привезенные ими товары в склады, находившиеся на берегу реки, откуда они отправлялись в глубь страны на ярмарки и в города. В течение второй половины XI века судоходство Фландрии сделало поразительные успехи. Фландрские суда курсировали к берегам Дании, Норвегии и появлялись часто в Балтийском море. Роберт Фрисландский фигурирует в одной легенде, как вождь народа моряков[318], и он действительно сумел собрать флот, который мог попытаться сделать высадку в Англии. Благодаря такому расцвету Фландрии сюда все более устремлялась вся европейская торговля. Большие ярмарки стали происходить в Туру, Мессине, Лилле, Ипре и Дуэ. Они продолжались с короткими промежутками в течение всего лета и собирали множество купцов из Франции и Италии[319]. Поддерживая сношения через Северное море с немецкими народами, Фландрия благодаря своим ярмаркам находилась также в контакте и с романскими народами. Старая пословица, очень образно гласит: «De pauwen komen in het land met de waels op Thourouts feeste»[320] (Павлины являются в эту страну вместе с итальянцами на ярмарки в Туру.) Графы извлекали из этих международных ярмарок слишком большие выгоды, чтобы не быть заинтересованными в их охране. Изданные ими законы о соблюдении мира категорически предписывали оказывать уважение купцам и всем прибывшим из других стран людям. Герман из Турнэ хвалил Карла Доброго за то, что он установил во Фландрии такую дисциплину и спокойствие, как в каком-нибудь монастыре[321], и действительно в тот день, когда в Ипре было получено известие о его убийстве, собравшиеся сюда на ярмарку купцы поспешно разбежались[322]. Графы не ограничивались, однако, предоставлением защиты иностранным купцам. Они пытались также обеспечить и поддержать доброе имя фландрской торговли воспрещением порчи монеты. В начале XII века их денье считались лучшими на всем севере Франции[323]. Налоги и всякого рода пошлины, которыми обложены были находившиеся в обращении товары, приносили им достаточно доходов, чтобы они могли не в пример своим соседям, прибегавшим к порче монеты, обходиться без этого. Стремительное экономическое развитие Фландрии заставило ее тогда же порвать с грубыми обычаями, господствовавшими еще в соседних странах, где сохранялась чисто земледельческая культура. Успехи торговли, разумеется, способствовали развитию промышленности. Производство шерстяных тканей, которым издавна занималось население побережья[324], возродилось с новой силой, и его изделия вскоре составили значительную часть торгового оборота, центром которого были Нидерланды. Редкой удачей для Фландрии было наличие в ней туземной промышленности к тому времени, когда она сделалась складочным местом товаров, отправлявшихся из Италии, Германии и Франции в Англию. Ее сукна стали с ранних пор фигурировать наряду с винами и пряностями в числе важнейших предметов торговли. Фландрская промышленность обязана была своим процветанием исключительно благоприятному стечению обстоятельств. Стада, которые паслись на побережье и которые все умножались по мере того, как строилось все больше плотин в районе «польдеров», доставляли в изобилии шерсть, между тем как непрерывный рост населения заставлял множество людей добывать себе средства к существованию ткацким делом. Производство шерстяных тканей достигло в XI веке таких размеров, что местной шерсти уже не хватало, и землевладельцы из соседних областей находили на фландрских ярмарках великолепный сбыт для своей шерсти[325]. Подобное положение неминуемо должно было привести к коренным изменениям в организации промышленности. В каролингскую эпоху изготовление тканей производилось как свободными крестьянами побережья, так и крепостными служанками в «гинекеях» (девичьих) крупных поместий[326]. Но когда под влиянием роста торговли начался расцвет суконной промышленности, то постепенно в недрах сельского населения образовался класс ремесленников. Суконщик выделился из общей массы земледельческого населения подобно тому, как до него из среды его выделился купец. Он оставил земледельческий труд, чтобы всецело отдаться своему ремеслу. Он переселился из деревни в торговые центры, где он мог найти обеспеченный сбыт для своих продуктов, а для самого себя — товарищей, которые вели одинаковый с ним образ жизни и имели одинаковые с ним интересы и нужды. Таким образом, поселения, созданные купцами вдоль морского побережья или по берегам рек, оказались могучими притягательными центрами для ремесленников. Суконная промышленность, бывшая с самого же начала во Фландрии экспортной индустрией, стремилась войти в соприкосновение с торговлей. Она проникла во все города между Каншем и Звином как в романские, так и в германские части страны. Она придала Фландрии тот ее характерный облик, который она сохранила вплоть до XVI века. Бассейн Шельды был преимущественно страной сукна, подобно тому как долины Рейна, Мозеля, Луары и Гаронны славились своим виноделием. В одном из самых интересных, написанных здесь в XI веке, латинских стихотворений Conflictus ovis et lini («Спор овцы с оленем») воспевались благодетельные качества шерсти и прекрасные голубые с переливами ткани, изготовлявшиеся во Фландрии «для нужд сеньоров»[327]. Из Фландрии суконная промышленность проникла в те области, с которыми она связана была своими речными путями. Валансьен и Камбрэ — на Шельде, Маастрихт и соседний с ним Сент-Трон — на Маасе могут с полным основанием считаться форпостами фламандской суконной промышленности. Но не так обстояло дело с городами верхнего Мааса, в особенности с Гюи и Динаном, которые обязаны были своим благосостоянием металлической промышленности. Эта промышленность была, по-видимому, такого же давнего происхождения на Арденнской возвышенности, как разведение овец и выделка шерсти в сырых долинах побережья. В самом деле, если бы она была, как это обычно думают, занесена в Бельгию из Германии, то нельзя было бы понять, почему она разместилась в дикой местности, чрезвычайно удаленной от рейнских городов. Гораздо более вероятно, что месторождения медных и цинковых руд по берегам верхнего Мааса разрабатывались уже в римскую эпоху и, по-видимому, они продолжали доставлять сырье кузницам данного района и в период раннего средневековья. Результатом развития торговли в приморской области было оживление транзитной торговли, происходившей по Маасу, и рост локальной промышленности Гюи и Динана. Весьма вероятно, что именно из этих городов доставлялись металлические изделия, упоминающиеся в пошлинном тарифе Визе X века. Во всяком случае в начале XI века граф Намюрский взимал в Динане налог за взвешивание свинца, меди, цинка и латуни[328]. Жители Динана и Гюи запасались медью в Германии. Они доезжали до Кельна, спускаясь вниз по Маасу и поднимаясь затем вверх по Рейну. Отсюда они направлялись затем к рудникам Гослара[329]. Их промышленность, подобно фландрской, была экспортной. Она не ограничивалась только снабжением внутреннего рынка: ее изделия вывозились далеко во Францию и во Фландрию, откуда они попадали в Англию. Подобно тому, как за границей слова «фламандец» и «ткач» были синонимичны, точно так же во Франции литейщиков меди называли «dinantiers» (динанцы). Промышленность и торговля, как мы видели, очень быстро развились в течение XI века на побережье Фландрии и в долинах Шельды и Мааса, но совершенно не так обстояло дело внутри страны. Брабант, расположенный между обеими этими реками, сохранил дольше, чем соседние территории, свой преимущественно аграрный характер. Он был втянут в движение лишь тогда, когда создано было непосредственное сухопутное сообщение между Брюгге и Кельном. Это произошло в середине XII века[330]. С этого времени реки перестали быть единственными торговыми путями. Транзитная торговля происходила теперь не только в направлении с севера на юг по их течению. С востока на запад медленно двигались теперь по равнине тяжелые возы с Рейна к фландрскому побережью, пересекая Маас в Маастрихте[331] и проезжая, прежде чем попасть к берегам Звина, через Сен-Трон, Ло, Лувен, Брюссель, Алост и Гент: Два торговых потока пересекались с этого времени в Бельгии. Страна была открыта теперь со всех сторон для притока товаров; они ввозились теперь через все ее границы, и это благотворное обилие способствовало ее необычайному обогащению и оживлению. Впрочем, это положение было особенно выгодно для Фландрии, где все более сосредоточивалась экспортная торговля. К ней тяготела значительнейшая часть промышленности, находившаяся в бассейнах Шельды и Мааса. Голландские гавани — Тиль, Утрехт, Дордрехт — не могли выдержать конкуренции с ней. В течение XII века она стала центром притяжения для всей Бельгии. Купцы из Льежской области вместо того, чтобы направляться в Кельн, стали ездить в Брюгге. Вскоре английская медь вытеснила на динанском рынке медь из Гослара, и в Льеже, где никогда до этого не знали никаких других вин, кроме рейнских и мозельских, впервые в 1198 г. были выгружены вина из Ла-Рошели, доставленные по Звину[332]. Таким образом, под давлением экономических причин, оказавшихся еще более мощными, чем политические, Лотарингия окончательно отвернулась от Империи. Южные Нидерланды, разделенные сначала на две части, из коих каждая вела свою торговлю, стремились отныне объединиться в одно целое, и ориентировались на Фландрию. Теперь возник новый принцип объединения для областей, расположенных на обоих берегах Шельды.II
В самых старых источниках первые города, возникшие на территории Бельгии, носят два характерных названия. Источники называют их portus, т. е. пристань, место выгрузки, или emporia, т. е. товарные склады[333]. Таким образом, язык определенно предупреждает нас о том, что эти города обязаны были своим происхождением торговле. Они возникли одновременно с образованием наряду с прежним сельским населением нового населения, состоявшего из купцов и ремесленников, и появились прежде всего в таких местах, где налицо были наиболее благоприятные условия для экономического развития. Выбор занятых ими мест обусловлен тем направлением, которое диктовалось транзитной торговле рельефом почвы, расположением долин и конфигурацией побережья. Они расположились вдоль больших торговых путей, в тех местах, где движение товаров было всего сильнее и регулярнее. Одни из них, как, например, Брюгге и Ньюпорт, выстроились в глубине какого-нибудь залива или устья реки, другие — при слиянии двух рек, как, например, Гент или Намюр, третьи — на берегу какой-нибудь глубокой и судоходной реки, как, например, Сент-Омер на Аа, Лилль на Деле, Дуэ на Скарпе, Валансьен, Камбрэ и Антверпен — на Шельде, Мехельн — на Диле, Льеж, Гюи, Динан, Маастрихт — на Маасе. Аррас и Ипр были торговыми пунктами на пути из Франции в Северную Фландрию; Брюссель и Лувен расположились по дороге из Брюгге в Кельн, в том месте, где начиналось судоходство по рекам Сенн и Диль. Именно к этим наиболее удобным местам, как бы указанным самой природой, неизбежно направлялись люди, покидавшие деревню, с целью найти новое применение своим силам в промышленности и торговле. Первые городские поселения были, в полном смысле слова, колониями купцов и ремесленников[334], и городские учреждения возникли среди пришлого населения, явившегося со всех концов, чуждых друг другу людей[335]. Хотя эти пришельцы и являются предшественниками горожан, однако они не были самыми старыми обитателями городов. Действительно, колонии купцов не создались на пустом месте. Наоборот, они возникали повсюду у стен какого-нибудь монастыря, какого-нибудь замка или епископской резиденции (civitas, urbs, castrum, burgus, municipium)[336]. Новые пришельцы находили в тех местах, где они поселялись, более старое население «castrenses» (население замка), состоявшее из сервов, «министерйалов» (ministeriales), рыцарей и клириков[337]. Так было, например, с Гентом, где новый город, poort van Gent, образовался под стенами графского замка между двумя деревнями, зависевшими от аббатства св. Петра и св. Бавона; с Аррасом, который пристроился невдалеке от территории, занятой «familia» св. Вааста; с Брюгге, который расположился у подножия крепости, включавшей церковь св. Донациана, а также дом, место для хранения казны и амбары графа; с Камбрэ, который занял обширную территорию около укрепленной стены, окружавшей собор, замок епископа и монастырь св. Обера, и, наконец, с Дуэ, где castel bourgeois (городское укрепление) возникло против «castrum» (замка) князя. Таким образом, везде теперь имелись бок о бок две различные группы населения: одна, жившая доходами с поместий, и другая, искавшая средств к существованию в торговле или в каком-нибудь ремесле, причем ни одна из этих групп не растворялась в другой. Слияние их происходило лишь очень медленно. Только в результате длительного процесса купеческой колонии, разраставшейся с каждым годом и становившейся все более богатой, цветущей и сильной, удалось в конце концов поглотить все прежние элементы, около которых она возникла, и навязать всему городу свое право и свои учреждения. Понадобилось более 200 лет, чтобы добиться этого. Процесс этот полностью закончился только в XVIII веке. Пришельцы, оживившие своим появлением начиная с XI века «старые бурги», возникшие в предшествующий период, находились в одинаковом социальном, но не в одинаковом юридическом положении. Они вели одинаковый образ жизни, но различались по происхождению. Среди этих людей, которых источники того времени называли «mercatores», объединяя под этим названием купцов в собственном смысле слова и ремесленников, встречались в самом пестром сочетании свободные люди и крепостные, бежавшие из окрестных крупных поместий. Впрочем, практически эта разница не имела значения, ибо фактически родина новых пришельцев никогда не была известна. Это были чужеземцы, колонисты, и так как об их происхождении ничего не знали, то волей-неволей с ними приходилось обращаться как со свободными людьми. Благодаря этому они совершенно естественно ускользали от частной юрисдикции, осуществлявшейся местными сеньорами. Хотя они обязаны были платить фискальные взносы и земельные налоги, однако все же они, в общем, свободны были от права «мертвой руки» (afflief), и права на лучшую голову скота (coremede), которые лежали на крепостном населении. Они с самого же начала подчинены были компетенции государственной власти. В самом старом дошедшем до нас памятнике бельгийского городского права — перечне прав, принадлежавших графу Намюрскому, в Динане — определенно заявлялось, что те, кто поселится в «колонии города», будут зависеть от графа, а не от «министериалов» льежского епископа[338]. То же самое было и во Фландрии, где суд над населением города (portus) творил граф и его кастеляны, а не чиновники из поместий. Это правовое положение новых обитателей объяснялось не только тем, что они были иммигрантами, но также и тем, что они были купцами. В самом деле, поскольку они были купцами, они подлежали государственной юрисдикции. Налоги, взимавшиеся с обращения товаров, с покупки и продажи их, налоги, которые на языке того времени назывались «тонлье» (teloneurn), являлись регалией и, следовательно, принадлежали носителю верховной власти, т. е. князю. Суд в отношении мер и весов тоже входил в круг его полномочий. Неизбежным следствием этого было то, что купец, этот постоянный продавец и покупатель, именно в силу своей профессии изымался из ведения частных судов и подсуден был князю. Таким образом, подобно тому как крепостная зависимость была естественным и необходимым условием аграрного и поместного строя, личная свобода с самого же начала стала обычным положением жителей торговых городов. Они не добивались этой свободы ради нее самой: она была естественным результатом их образа жизни. Эта свобода тотчас же создала у них потребность в объединении друг с другом и во взаимной помощи. Действительно, ведь государственная юрисдикция, которой они подлежали, не была патриархальной властью, подобно частной юрисдикции, осуществлявшейся над населением иммунитетов. Так как купцы не в пример крепостным, рядом с которыми они поселились, не принадлежали никакому господину, то у них не было, как у крепостных, своего естественного защитника. Далее, поселяясь в городе, они покидали своих родных и потому чувствовали себя лишенными той помощи, которую семья, являвшаяся еще такой большой силой в то время, оказывала каждому из своих членов. Впрочем, странствующий образ жизни купцов с давних пор приучил их объединяться, повиноваться одному руководителю и помогать друг другу. Торговля, которую они вели, была караванной торговлей[339]. Летом они группами направлялись в соседние страны, и, находясь на чужбине, каждый из них должен был рассчитывать на моральную и материальную поддержку своих товарищей. Таким образом, среди этих людей, которых и так уже сближали их одинаковые занятия и общность интересов, еще сверх того устанавливались узы товарищества. Несмотря на скудость источников, мы можем констатировать в XI веке наличие купеческих корпораций[340] во всех почти бельгийских городах. Во всех немецких частях страны эти корпорации, подобно тому как это было в Северной Германии и в Англии, назывались гильдиями или ганзами, между тем как в валлонских областях их обыкновенно называли frames (братства), или charités (благотворительное общество). Впрочем, под какими бы названиями ни фигурировали эти объединения, они повсюду обладали одними и теми же характерными чертами, и повсюду результатом их было появление среди разнородной массы иммигрантов сплоченного объединения, самостоятельной организации, способной удовлетворять насущные потребность колонии. Правда, в епископских городах Лотарингии, где новые жители поневоле подчинены были административной и полицейской власти епископов, они играли лишь весьма незначительную роль. Но зато повсюду в других местах их влияние, несомненно, было очень глубоким и плодотворным. Уже во второй половине XI века в Сент-Омере кастелян официально признавал существование гильдии, объединявшей фактически всех купцов города[341]. Эта гильдия стала в дальнейшем мощной и цветущей организацией. В нейпредседательствовал старшина, она имела нотариуса и приставов, «eswardeurs» (custodes). У гильдии было свое особое помещение «Gildehalle», в котором члены ее собирались по вечерам выпить и потолковать о своих нуждах. Ясно, что интересы членов гильдии совпадали в это время с интересами города. Корпорация купцов добровольно возложила на себя несение общественных обязанностей, наиболее необходимых для данного городского поселения. Касса гильдии, содержавшаяся за счет налагавшихся старшинами штрафов и за счет самообложения «братьев», брала на себя уплату за сооружение укреплений и содержание улиц и площадей[342]. Не подлежит сомнению, что так же обстояло дело и в целом ряде других мест. Еще в XIII веке «братство святого Христофора» в Турнэ отдавало часть своих средств на работы по укреплению города и брало на свой счет расходы по охране дозорной башни и по несению караульной службы[343]. В некоторых местах здание гильдии, построенное на ее средства, стало затем городской ратушей. В Лилле графы ганзы, т. е. руководители купеческой корпорации, превратились в конце концов в казначеев городской общины[344]. Не имея на то официальных полномочий и законной власти, гильдия, однако, благодаря своей инициативе пользовалась большим влиянием с самого же начала своего существования. Она представляла собой начало порядка, дисциплины и прогресса. Постепенно купеческая колония, которой она фактически руководила, приняла вид города в настоящем смысле слова. Ее окружали рвом, частоколом или стенами. В центре ее, на рыночной площади, рядом с домом гильдии, возвышалась часовня, построенная жителями и обслуживаемая священником, содержавшимся за их счет. Она перестала быть местом, открытым для всякого приходящего и, в свою очередь, стала «бургом» («bourg»), который в отличие от старого, первоначального бурга называли иногда новым бургом[345]. Ее жители отличались теперь от окрестных крестьян не только своими занятиями и образом жизни, но также и своим пребыванием в укрепленном месте. Их называли уже не только купцами (negociatores, mercatores), но также и «горожанами» (burgenses)[346]. Превращение купеческих колоний в укрепленные бурги может считаться для большинства бельгийских городов исходным пунктом нового развития. Этим превращением в значительной мере объясняется дальнейший рост городских учреждений и городского права. Действительно, отныне нам приходится иметь дело уже не с простой совокупностью купцов и ремесленников, не с простым персональным объединением лиц, занимавшихся торговлей и промышленностью. Город стал уже единой территорией. В пределах городских стен, на одной и той же территории, очутились теперь люди разного социального положения: «mercatores» оказались теперь объединенными с крепостными, клириками, castrenses (населением замка), рядом с которыми они первоначально жили совершенно отчужденно. Общность местопребывания создавала неизбежным образом все более тесную и прочную связь между прежним поместным и новым торговым населением. У обеих сторон появилась склонность объединиться, слиться друг с другом. Чем шире развивалась промышленная деятельность, тем определеннее прежние обитатели стремились расстаться со своим исконным положением и приобщиться к торговле и промышленности. С другой стороны — между иммигрантами и коренным населением установились родственные отношения. Браки между почти всегда свободными новыми пришельцами и почти всегда крепостными женщинами старого бурга создавали все большую путаницу в юридическом положении населения. И точно так же, как и с людьми, обстояло дело с землями. В большинстве городов юридическая природа городской территории была очень сложна. Она была подчинена различным юридическим порядкам и подлежала разным юрисдикциям, смотря по тому, зависела ли она в данном месте от государственной власти, или от такой-то сеньории, такого-то монастыря, такого-то господского двора[347]. Таким образом, новые города XI века рисуются историку в виде социального уклада, находившегося в процессе эволюции. При этом происходило столкновение противоречивых тенденций и несовместимых друг с другом учреждений, и все это не могло прийти ни к какому равновесию. Существовавшие правовые нормы находились в непримиримом противоречии с образом жизни населения, ибо эти правовые нормы, соответствовавшие потребностям аграрного строя, были в условиях городского уклада лишь собранием устаревших постановлений, произвольных правил и «дурных обычаев». Препоны, которые это право ставило личной свободе и собственности, всякого рода привилегии, которые оно давало сеньорам-землевладельцам, волокита в судопроизводстве и применявшиеся при этом варварские приемы — все это были злоупотребления, которые необходимо было во что бы то ни стало искоренить. На пошлины, грубо взимавшиеся с покупки и продажи товаров, смотрели теперь как на несправедливую эксплуатацию торговли, как на незаконные поборы. Естественно поэтому, что именно купцы стали во главе оппозиции против старого режима. Во время разговоров, происходивших по вечерам в общем зале между членами гильдии, сложилось то, что можно было бы назвать программой политических требований горожан. Эта программа резюмировалась в одном слове, употреблявшемся во все времена оппозиционными партиями, — свобода. Свобода, т. е. полное искоренение поместного права, раскрепощение личности и земли, уничтожение разнообразных юрисдикции и превращение города в особую юридическую единицу, имеющую свое право, которое соответствовало бы интересам городского населения и обладающую специальным судом для применения этого права. Волнение, происходившее повсюду в городских поселениях, вскоре привлекло к себе внимание князей. С конца XI века для них возник «вопрос о городах», и они оказались вынужденными сделать выбор за или против горожан. Как общее правило, духовные князья были враждебны горожанам, светские же — относились к ним сочувственно. Это различное отношение вполне понятно[348]. В то время как у светских князей не было никаких установившихся политических взглядов, у епископов, наоборот, был совершенно определенный идеал политического и общественного устройства. Относясь весьма не сочувственно к торговой деятельности, церковь охотно называла ростовщичеством те торговые операции, к которым обычно прибегали в своих делах купцы. Она не хотела, кроме того, отказаться от своих судов, своих иммунитетов, своего права убежища и своих юридических и финансовых привилегий, которые все были одинаково ненавистны горожанам. Наконец, епископские города резко отличались от всех других городов. Они кишели монастырями и церквями, и были преимущественно городами священников. В связи с этим епископы, разумеется, стремились всячески удержать торговое население под своей властью и отказывали ему в независимости, в которой они видели угрозу безопасности и самостоятельности духовенства. Поэтому они шли на уступки только в результате долгой и упорной борьбы, и эти уступки «городам» обычно удавалось вырвать только восстаниями. При этих условиях второстепенным городам льежского княжества, вроде Динана, Гюи и Сен-Трона, удалось опередить столицу в смысле политической эмансипации. В 1066 г. Гюи, бывшему уже тогда значительным торговым центром, удалось получить от епископа Теодуэна взамен уступки ему сначала трети, а затем половины движимых имуществ городских жителей, хартию вольностей, дававшую городу ряд значительных преимуществ[349]. Дошедшее до нас, к сожалению, слишком краткое изложение этого документа, самого старого из всех подобного рода документов, существующих в Бельгии, неопровержимо доказывает, что целью его было урегулировать юридическое положение населения и ввести те изменения в судопроизводстве, которых требовали купцы. Жители, к которым в этом документе применяется новое название «горожан» (burgenses), выступают в нем как привилегированная. корпорация. На них возлагалась охрана городского замка, когда епископская кафедра оставалась незамещенной, и в случае войны они должны были браться за оружие лишь через восемь дней после льежцев. Это доказывает, что свобода Гюи была более раннего происхождения, чем свобода Льежа[350]. Вскоре, однако, борьба за инвеституру предоставила епископским городам в Нидерландах — так же, как это было и в Германии, — великолепную возможность избавиться от ига своих сеньоров. Мы плохо осведомлены о том, что происходило в Льеже во время правления Генриха IV, но нет никаких сомнений в том, что народ (враждебность которого по отношению к высшему духовенству известна нам со слов Зигеберта из Жамблу) сумел воспользоваться происходившими в этом время смутами для улучшения своего положения. В 1107 и 1109 гг. Генрих V предоставил каноникам Льежа и Маастрихта их стариннейшую привилегию (antiquissima privilégia) и признал за ними право творить суд в этих городах над их людьми и их землями[351]. Отсюда можно заключить, что горожане пытались присвоить себе эту юрисдикцию. Во всяком случае если им и не удалось полностью осуществить свою программу, то они все же добились широких уступок. Благодаря тому, что император изъял льежские города из ведения судов мира[352], они получили особый мир, сделались особыми в юридическом отношении территориями, и каждый город получил своих местных эшевенов. История Камбрэ дает нам возможность подробнее проследить развитие городского движения, ибо в отношении Льежа мы знаем лишь каковы были его результаты[353]. В течение XI в. Камбрэ достиг большого благосостояния. У подножия стен епископского замка образовалась купеческая колония, и в 1070 г. вокруг нее возведена была укрепленная ограда. Вследствие объединения со старым городом торговое население оказалось под властью кастелянов и епископских чиновников, которые, не считаясь с его интересами и нуждами, со всей строгостью применяли к нему поместное право[354]4. Вскоре среди новых обитателей началось глухое недовольство. Они стали втайне готовиться к восстанию, клятвенно обязались помогать друг другу и с нетерпением ждали благоприятного случая. Он представился в 1077 г., когда только что избранный епископ Гергард вынужден был отлучиться, чтобы получить инвеституру из рук императора. Едва только он успел выехать, как городские жители завладели воротами города и провозгласили коммуну. Нет никаких сомнений в том, каковы были их цели, если принять во внимание, что инициаторами и руководителями движения были наиболее богатые купцы города[355]. Коммуна Камбрэ бесспорно являлась, таким образом, прямым следствием экономических перемен, совершившихся среди городского населения. Это была насильственная попытка заменить устаревший режим епископского управления новым порядком вещей, соответствовавшим новым социальным условиям. Общественное мнение было, несомненно, на стороне восставших. Бедняки, и в частности ткачи, воодушевленные пламенными проповедями сторонника папы Григория — священника Рамирдуса, обвинявшего епископов в симонии, присоединились к восстанию[356]. Посреди всеобщего ликования коммуне, этому объекту религиозного рвения одних и практических стремлений других, была принесена торжественная присяга. Впрочем, ее существование оказалось очень недолговечным. Как только епископ узнал о происшедшем, он немедленно повернул назад и под предлогом желания вступить в переговоры добился, чтобы его впустили в город вместе с сопровождавшими его рыцарями. Как это бывает обычно в борьбе, где враждебные партии принадлежат к различным общественным классам, месть была ужасна. Рыцари разграбили дома горожан, масса |Жителей была убита или подверглась пыткам. Рамирдус погиб на костре. Таков был конец потопленной в крови первой коммуны, упоминаемой в истории средневековых городов[357]3. Но породившие ее экономические причины были слишком мощны, чтобы можно было надолго отсрочить вызывавшиеся ими последствия. Двойные епископские выборы и образование внутри духовенства двух враждебных партий, одной — из сторонников папы Григория и другой — императорской, позволили горожанам в начале XII века восстановить свое прежнее положение. В главе движение опять стали купцы; они восстановили коммуну, и епископ Вальхер, вынужденный потворствовать горожанам, чтобы не дать им перейти на сторону своего соперника Манассе, торжественно признал в официальной хартии новые, созданные ими учреждения (1101 г.). В течение шести, лет коммуна являлась почти независимой республикой: она имела свою, армию, вела войну с графом Фландрским, распоряжалась по своему усмотрению епископскими доходами, словом — походила в течение некоторого времени на вольные итальянские города. Это положение coxpaнялось вплоть до 1107 г., когда Генрих V восстановил в городе епископскую власть и уничтожил хартию коммуны. Однако не могло быть уже и речи о восстановлении прежнего положения и о подчинении населения власти министериалов и епископских вассалов. Городское устройство, созданное коммуной, сохранилось в своих основных чертах и после уничтожения ее. Город по-прежнему имел свое особое эшевенство и своих чиновников. Впрочем, они никогда не примирился с потерей тех неограниченных привилегий, которыми он располагал в начале XII века. Получение dominium civitatis (сеньориальных прав города) всегда оставалось целью его стремлений, и вплоть до середины XIV века его история сводилась в основном к ожесточенной борьбе с сеньором, чтобы восстановить коммуну, захватив в свои руки управление городом и ограничить власть епископа исполнением только духовных обязанностей. Между обеими сторонами существовал постоянный антагонизм, и никак нельзя было установить настоящего равновесия между правами сюзерена и правами горожан[358]. События, разыгравшиеся в Камбрэ с 1077 по 1107 г., встретили широкий отклик в соседних местностях. Они послужили толчком к ряду восстаний, которые стали перебрасываться из одного места в другое. Большинство епископских городов Пикардии — Нуайон, Бове, Лан, Амьен, Суассон — также провозгласили у себя коммуну. Перипетии борьбы жителей Камбрэ с их прелатом вызвали, по-видимому, столь же горячий интерес со стороны торгового населения Северной Франции, как три века спустя война жителей Гента с Людовиком Мальским у ремесленников Парижа, Руана и Льежа. В то время как епископские города охвачены были бурным движением и завоевывали себе независимость ценой ожесточенной борьбы, горожане Фландрии нашли себе, наоборот, открытых защитников в лице своих графов. Им нигде не пришлось вести войну с местными сеньорами. Благодаря сплоченному территориальному единству страны и могуществу князя, являвшегося верховным судьей над всей своей территорией, торговое население, где бы оно ни обосновывалось, с самого же начала находилось в непосредственном контакте с ним. Именно этим объясняется бросающийся в глаза одинаковый характер городского устройства Фландрии. Так как фландрские города подчинены были исключительно политической власти, то их рост не тормозился, как это было с Льежем или с Камбрэ, домениальным строем или церковными учреждениями. Граф стал для своих городов тем, кем он был уже с X века для своих аббатств, а именно — верховным фогтом. Он содействовал их развитию, подобно тому как он в свое время содействовал распространению церковной реформы Гергарда Броньского; он, так сказать, расчищал им путь и всячески помогал создавать необходимое им новое право. Действуя таким образом, графы, оставаясь по-прежнему блюстителями мира и права, в то же время заботились об интересах своей казны. Действительно, налоги, взимавшиеся с торговли, составляли значительную часть их доходов, и благосостояние графа непосредственно зависело от процветания городов. Таким образом диаметрально противоположное отношение епископов и фландрских графов к горожанам объяснялось вполне естественными причинами: разница в их действиях вызывалась различием в их положении, а не их личными особенностями. Первые привилегии, представленные нарождавшимся фландрским городам, относятся, по-видимому, ко времени правления Роберта Фрисландского[359]. Уже в конце XI века центральная графская власть вступилась за купцов, обосновавшихся в portus. Она признала законными их требования. Постепенно она сделала горожанам уступки по целому ряду пунктов их программы реформ. Были уничтожены судебные поединки[360]; были сделаны ограничения для церковной юрисдикции[361], и несение военной службы признано было обязательным только в случае неприятельского вторжения[362]. Уже в начале XII века некоторые местности пользовались торговыми привилегиями. Князь отказался от «seewerp» и уступил гильдиям право взимания пошлины (tonlieu)[363]. Вместе с устройством укрепленной ограды или рва вокруг города городская территория получала также особый мир. Этот мир носит в источниках название «cora» (keure), или закона (lex), и синонимичность этих обоих слов вскрывает особую природу фландрских городских учреждений[364]. Городской мир — это «keure», потому что горожане требовали, «избрали» его; это — «закон», потому что он был утвержден графом и гарантирован им. Введение «keure» неизбежно влекло за собой создание специального суда. Со времени правления Карла Доброго каждый «portus» имел свое особое эшевенство (de wet), поставленное князем в качестве местного судебного органа. Хотя это эшевенство, творившее суд над горожанами, и выбиралось из среды poorters (горожан), однако оно носило характер графской судебной корпорации. Фландрским городам не пришлось, подобно Камбрэ, насильственно порывать со своим князем и захватывать его юрисдикцию. Здесь без всякого труда было установлено равновесие между прерогативами князя и самоуправлением горожан. События, вызванные убийством Карла Доброго в 1127 г., отчетливо показали, какое значение приобрели уже в это время городские коммуны. Они выступили с этого времени на политическую арену, и первая попытка. французского короля подчинить своей власти Фландрское графство потерпела крушение, наткнувшись именно на сопротивление с их стороны[365]. Карл Добрый не оставил после себя прямых наследников. Поэтому известие о его смерти дало возможность многочисленным претендентам, находившимся в том или ином родстве с фландрским домом, заявить» свои права на наследование ему. Герцог Брабантский, графы Голландии и Генегау, Теодорих Эльзасский, сын герцога Лотарингского[366], Вильгельм Ипрский, Вильгельм Нормандский и английский король Генрих были главнейшими претендентами. Королю Франции, в силу его суверенитета, надлежало сделать между ними выбор. Людовик VI остановил его на Вильгельме Нормандском, который, получив Фландрию, должен был оказать ему столь ценную для него помощь против его смертельного врага — английского короля. Вильгельм был без всяких осложнений принят фландрскими баронами. Король не спросил при этом мнения городов и вскоре вынужден был жестоко раскаяться в этом. Карл снискал себе самые горячие симпатии со стороны торгового населения благодаря той решительности, с которой он охранял законы о мире и привилегии, пожалованные им горожанам. Его труп был вырван народом у аббата монастыря св. Петра, хотевшего перевезти его в свое аббатство. Вслед за тем жители Брюгге и Гента, под руководством кастеляна Гервазия из Прэ, предприняли осаду замка в Брюгге, где укрылись убийцы графа. Однако дело шло не только о мести за гибель популярного князя. Горожане отлично понимали, что при развернувшемся в стране кризисе на карту поставлены были ее важнейшие интересы. Будет ли новый князь, который займет фландрский престол, продолжать по отношению к ним политику Карла и его предшественников? Будет ли он так же, как и они, понимать их нужды и чаяния? Не следовало ли, наоборот, опасаться, что он объединится с дворянством, которое уже воспользовалось междуцарствием, чтобы грабить купцов. При этих условиях города решили поддерживать друг друга и действовать сообща. Они обязались признать верховную власть только такого князя, который даст им достаточные гарантии. Они потребовали участия в назначении графа и принесли присягу Вильгельму лишь после того, как они формально избрали его, так как они не считали себя связанными в своих решениях ни ратификацией французского короля, ни согласием дворянства. Впрочем, Вильгельм, торопившийся поскорее обеспечить за собой графскую корону Фландрии, пошел на самые широкие уступки. Он обещал снизить пошлины и земельный ценз, и даже предоставить гражданам Сент-Омера право чеканки монеты. Но он не исполнил этих обещаний. Не знакомый с Фландрией, он судил о ней так, как если бы дело шло о Нормандии, или Иль-де-Франсе. Он не понимал, что имел перед собой народ, далеко опередивший по своему социальному развитию народы соседних стран. Он сделал ту же ошибку, которая оказалась столь роковой два века спустя для наместника Филиппа Красивого. Он решил, что для сохранения своей власти ему достаточно поддержки дворянства и вскоре забыл о соглашениях, заключенных им с горожанами. Бароны и рыцари воспользовались случаем, чтобы открыто выступить против последних. На смену политике прежних графов, ориентировавшейся на города, явилась политика феодальной реакции. Но почти тотчас же в городах вспыхнули восстания, к которым, по-видимому, приложила руку Англия. Соперники Вильгельма подняли голову: Гент и Брюгге открыли свои ворота Теодориху Эльзасскому. Попытка вмешательства Людовика VI ни к чему не привела. На созванное им в Аррасе собрание никто не явился. Горожане обвиняли его в том, что он якобы продал графство Вильгельму за 1000 марок и утверждали, кроме того, что он не имел никакого права распоряжаться судьбами Фландрии. Разразилась война. Большая часть фландрского дворянства, поддерживаемая вспомогательными отрядами, посланными французским королем, была на стороне Вильгельма. На стороне Теодориха было все городское население, а также суровые обитатели приморской Фландрии. Борьба между обоими, князьями приняла, таким образом, характер социальной войны: на одной стороне стояла военная аристократия, на другой — оба новых общественных класса, за которыми было будущее, — горожане и свободные крестьяне. Смерть Вильгельма при осаде Алоста (27 июля 1128 г.) ускорила развязку конфликта, относительно исхода которого не могло быть никаких сомнений. Вся страна подчинилась Теодориху, и французский король, предоставив своим преемникам заботу о продолжении политики, первый опыт которой окончился крахом, признал совершившийся факт и дал победителю инвеституру. Таким образом во Фландрии воцарилась новая династия. Она обязана была получением престола горожанам, и Теодорих Эльзасский, пришедший к власти вопреки своему сюзерену через народное, восстание, напоминает Вильгельма Оранского, находившегося в таком же положении по отношению к Филиппу II. Впрочем, как и Оранская династия, Эльзасский дом никогда не забывал, кому он обязан был своей удачей. Он никогда не отделял своих интересов от интересов городов. Различные князья, которых он дал стране, всегда сознавали, что невозможно править вразрез с интересами городов. Они остерегались повторять опыт Вильгельма Нормандского. Они отлично видели, что в этой доставшейся им торгово-промышленной стране не было лучшего средства; для укрепления своей власти, чем тесный союз с городским населением. В связи с этим, чтобы привлечь его на свою сторону, они усвоили очень искусную политику. Они отвели городам определенное место во Фландрском государстве и сумели примирить сохранение своих суверенных прав с независимостью городов. Вместо того чтобы быть вынужденными идти на уступки, они предпочитали делать их заранее. Они одинаково шли навстречу всем крупным городам Фландрии. При Филиппе Эльзасском все города получили одинаковые учреждения и управлялись на основании одних и тех же Keure, так что права и обязанности каждого из них являлись нормой и гарантией прав и обязанностей остальных городов[367]. Здесь существовало в полном смысле слова фландрское городское право, общее для всех городов, и как в романских, так и германских частях графства бюргерство было столь монолитно и сплоченно, что мы напрасно стали бы искать чего-либо подобного в других частях Нидерландов. Несмотря на различие языка и обычаев, фламандские города — Брюгге, Гент и Ипр, и валлонские города — Аррас, Лилль и Дуэ, составляли единую городскую семью, члены которой пользовались одними и теми же вольностями и находились в одинаковом положении по отношению к графу. Основной городского права явилась не хартия Брюгге, этого крупного германского порта Фландрии, а хартия Арраса, распространенная на различные города. Аррас стал руководящим центром всех фландрских городов как к северу, так и к югу от лингвистической границы. Граф сохранил за собой, кроме того, право, в случае неправильного судебного решения, вызывать эшевенов других городов, чтобы они предстали перед судом эшевенов Арраса[368]. Мы слишком мало осведомлены об обстоятельствах, обусловивших пожалование первых Keures, чтобы понять каковы были причины указанной привилегии, предоставленной этому валлонскому городу. Аррас был, разумеется, при князьях Эльзасской династии одним из богатейших центров страны[369]; в его стенах находилась главная монетная мастерская Фландрии[370], и именно его значением, несомненно, объяснялось особое положение, занимавшееся его эшевенством. Брабантские города, как мы уже говорили, развивались гораздо медленнее фландрских городов. В то время как в начале XII века Брюгге, Гент и Лилль принимали уже доминирующее участие в политических событиях и их вмешательство решало исход борьбы между претендентами на фландрскую корону, Лувен, Брюссель и Антверпен не играли еще в герцогстве никакой роли и, казалось, совершенно не интересовали князя. Только во второй половине XII века брабантские герцоги занялись урегулированием положения горожан, обогатившихся благодаря торговле, влияние которой стало теперь ощущаться на территории между Маасом и Шельдой. Подобно фландрским графам и по тем же соображениям, они неизменно благожелательно относились к городам. Политика Генриха I (1190–1235 гг.) по отношению к городам напоминала политику Филиппа Эльзасского, только с меньшим размахом и с меньшей последовательностью. В Брабанте не было того единства, которое по ту сторону Шельды наложило столь глубокий отпечаток на городское устройство. Не все брабантские хартии составлены были по одному и тому же образцу и не свидетельствовали так же ясно, как это было во Фландрии, о решении совершенно одинаковым образом урегулировать права горожан. Герцог, наоборот, издавал для каждого города отдельные законы, не пытаясь свести к единому образцу различные городские конституции. Он оказал гораздо более слабое влияние на развитие городских учреждений чем фландрские графы. Фландрия и Брабант выделялись среди светских княжеств в Нидерландах многочисленностью и богатством своих городов. Генегау и Голландия сильно отставали по сравнению с ними. Голландские города выступили на историческую арену лишь в первой половине XIII века, а что касается Генегау, то здесь можно было бы назвать только один значительный город — Валансьен, который, будучи расположен на берегу Шельды, развивался одновременно с фламандскими городами и конституция которого была очень сходна с их конституциями. Что касается Турнэ, то он получил в 1188 г.[371] городскую хартию от французского короля Филиппа-Августа, но, будучи весьма удален от центра Франции, он был очень слабо связан с ней и являлся на протяжении всего средневековья своего рода городской республикой между Фландрией и Генегау. В Нидерландах этот французский город пользовался почти такой же самостоятельностью и независимостью, как и вольные города Германской империи.
Глава вторая
Феодальна политика до сражения при Бувине
I
Одновременно с тем, как промышленность и торговля видоизменяли физиономию Нидерландов, произошли также значительные изменения в условиях, определивших в первой половине Средних веков политическое положение Лотарингии и Фландрии. Интенсивная экономическая деятельность этих стран, их разнообразные связи с заграницей сделали их еще более восприимчивыми, чем это было в прошлом, к влияниям соседних народов. Они тотчас же испытали на себе отраженное действие событий, столь резко нарушивших в начале XII века равновесие Западной Европы. Кажущаяся сложность их локальной истории легко разъясняется в свете общеевропейской истории[372]. Борьба за инвеституру, разрушив имперскую церковь, дала возможность лотарингским князьям свергнуть иго епископов. Теперь покончено было с большой провинцией, прикрывавшей западную границу Германии между Маасом и Шельдой. Местные династии разделили между собой страну, и пестрая смесь небольших независимых территорий сменила собой более сплоченное целое. Название «Лотарингия» вскоре стало только географическим понятием. В XIII веке оно потеряло даже свое первоначальное значение и применялось лишь к территориям, зависевшим от брабантского герцогства: с этого времени совокупность областей, к которым оно столь долгое время применялось, стала называться Нидерландами, или Nederlanden[373]. Императорам не удалось удержать под своей властью эту ускользнувшую от них страну. Они вынуждены были беспомощно наблюдать за тем, как разрушалось дело, созданное Генрихом Птицеловом и Отгоном I. Генрих V был последним из императоров, явившимся в Бельгию во главе целой армии[374]. После него германские государи лишь в очень редких случаях в течение XII века переходили за Аахен, а в XIII веке и совсем не переходили[375]. Территории, расположенные на левом берегу Мааса, становились все более чуждыми Германской империи. Связывавшие их с нею узы сюзеренитета все более ослабевали, так что в конце концов.; они перестали их ощущать[376]. Гогенштауфенам не удалось укрепить этих связей, да, впрочем, они мало интересовались этим. При Фридрихе, Барбароссе самый верный им нидерландский князь считал себя, в общем, независимым и полагал, что он выполняет свои обязанности по отношению к императору, соблюдая нейтралитет как в отношении Франции, так и Германии[377]. Смерть Генриха V (1125 г.) может считаться исходным пунктом начавшегося отделения Лотарингии от Германской империи. Это отделение произошло без борьбы и насильственногол разрыва; его не домогались и не хотели. Здесь не было ничего похожего на те ожесточенные войны, которые Гизельберт и его преемники вели со своими сюзеренами. Бельгийские князья, всецело поглощенные своими феодальными междоусобицами, воздержались от участия в избрании Лотаря. Более того, когда в начале 1127 г. он прибыл в Аахен, они остались столь же безучастными; за исключением графа Фландрского, Карла Доброго, пославшего к нему аббата для передачи приветствия, никто из них не появился при его дворе[378]. Да и происходившие в это время в стране события ясно показывали, насколько пошатнулся здесь авторитет императорской власти. Генрих Димбургский продолжал носить герцогский титул, отнятый у него Генрихом V и переданный им Готфриду Лувенскому. Во время войны, разразившейся между обоими этими князьями, исчезли последние остатки учреждений, созданных Отгоном I. Но еще хуже обернулось дело, когда Лотарь, желая показать свою власть, в свою очередь лишил Готфрида герцогского титула и передал его Лимбургскому дому (1128 г.). Это решение следовало поддержать оружием, между тем Лотарь ограничился посылкой соответствующей грамоты через свою канцелярию. Никто, разумеется, не обратил никакого внимания на его решение; оба претендента продолжали называть себя герцогами Лотарингии, и борьба между ними разгорелась с еще большей силой. Впрочем, титул, за который они боролись, потерял всякое значение и превратился в громкое слово и никчемное украшение. В свое время так именовался наместник императора по ту сторону Рейна, светский правитель, на котором лежала обязанность охранять с помощью епископов права государя от все усиливавшейся феодальной знати[379]. Но победа этой самой феодальной знати как раз и лишила теперь герцогский титул всякого смысла. Он не соответствовал больше истинному положению вещей и не давал больше своему носителю никакой реальной власти за пределами его земель[380]. Впрочем, современники ясно отдавали себе в этом отчет. Они называли обоих герцогов по имени их владений: для них больше не существовало герцога Лотарингского, для них существовали только герцог Брабантский[381] и герцог Лимбургский. Даже и сам император вынужден был в конце концов примириться в этим положением, которое он не в силах был изменить; он помирился с Готфридом Лувенским, оставив за ним титул, который тот продолжал носить вопреки воле императора. Это было официальное признание исчезновения прежнего герцогства Лотарингского… Одновременно с тем, как герцогский титул перешел из рук императора к феодальной знати, церковь была отдана на милость светских князей. После смерти льежского епископа Отберта (1119 г.) капитул разделился на две партии, из коих одна избрала Александра Юлихского, а другая — Фридриха Намюрского. Генрих V дал инвеституру Александру, папа же признал Фридриха. Каждый из обоих претендентов представлял таким образом одну из больших религиозно-политических партий, противостоявших друг другу в то время в Германской империи, и казалось, что завязавшаяся между ними борьба должна быть принципиальной борьбой. В действительности же это была чисто феодальная борьба между Брабантским и Лимбургским домами, и нетрудно убедиться в том, что хотя противники ссылались один на свое повиновение императору, а другой — на свое повиновение папе, по существу, они домогались только расширения своих владений за счет епископского княжества. Готфрид Лувенский воспользовался этими обстоятельствами, чтобы захватить в свои руки Сен-Трон. Под предлогом поддержки императорского кандидата он пытался подорвать основы Лимбургской и Намюрской династий, и не исключено, что он причастен был к отравлению Фридриха (1121 г.). Во всяком случае он воспользовался его смертью, ибо вслед за тем как после краткого междуцарствия епископом назначен был его брат Адальберон, он тотчас же перестал поддерживать Александра. Более того, когда последний получил наконец диоцез, он повел против него войну. Однако Александр мог рассчитывать на этот раз на помощь герцога Лимбургского, решившего без всяких колебаний вступить с ним в союз с того момента, как он убедился в его враждебных отношениях с герцогом Брабантским, который ему когда-то помогал. Таким образом одни и те же князья то нападали, то защищали одного и того же епископа, и это как нельзя лучше доказывает, что вмешательство феодалов в дела церкви вызывалось исключительно их политическими интересами. После низложения Александра (1135 г.) перевес опять оказался на стороне Готфрида. Ему удалось навязать капитулу выбор своего шурина Адальберона II. Признание Адальберона императором Лотарем было, несомненно, той ценой, которой последний купил себе примирение с лувенской династией[382]. Мы видим из этого, какое значение приобрела светская аристократия в Нидерландах. Германским государям приходилось теперь считаться с ней. Чтобы сохранить хоть кое-какое влияние на левом берегу Рейна, они вынуждены были вступить в переговоры с этими могущественными феодальными династиями, о которых один современный им хронист образно писал, что «они закрывают своей тенью всю страну». Императоры принуждены были постоянно препираться и торговаться с ними, и для того, чтобы найти себе сторонников, им оставалось только оплачивать оказывавшиеся им услуги. Князья теперь, так сказать, продавали с аукциона свою верность, они отлично сознавали, что являются господами положения и что власть их сюзерена зависит от их доброй воли. В Лотарингии, находившейся отныне всецело во власти феодалов, у высшей знати зародилась теперь идея политического нейтралитета, которая стала впоследствии в XIV веке руководящей нитью в политике Якова ван Артевельде[383]: Непосредственная связь с императором сохранилась только у епископов благодаря инвеституре, которую они должны были получать до вступления во владение своими диоцезами. Но, терроризируя капитулы, светские князья почти всегда вершили судьбу выборов, и им нетрудно было в случае необходимости либо помешать прелату вступить против их воли в страну, либо противопоставить ему конкурента. При Конраде III германское влияние совершенно сошло на нет. Вибальд из Ставело (умер в 1158 г.) был последним бескорыстным представителем его, но он тщетно боролся за заведомо обреченное уже дело. Просматривая его переписку, проникнутую столь горячей лояльностью, на каждом шагу наталкиваешься на выражения, свидетельствующие о разочаровании и горечи. Этот ясный и сильный ум не строил себе больше никаких иллюзий. Он отлично видел, что раздробленная на части между соперничавшими династиями Лотарингия отошла от Империи. Он сознавал и писал, что она окончательно потеряна для Империи[384]. При этих условиях политика феодалов одержала верх в Нидерландах над политикой Империи. Отныне император перестал быть здесь повелителем; он считался, в зависимости от обстоятельств, то союзником, то врагом, но во всех без исключения случаях оставался неизменно чужеземцем[385]. Лотарингские династии оставались по-прежнему частью Священной Римской Империи, но ни одна из них не считала ее своим отечеством. Они не принимали никакого участия в событиях, происходивших на другом берегу Рейна, они не появлялись на полях сражения в Германии, они не сопровождали императоров в их походах в Италию, и в богатой литературе о них, которая особенно развилась начиная с XII века, лишь в очень редких случаях можно встретить краткие упоминания о судьбах и деяниях германских императоров. Было бы большой ошибкой объяснить это обстоятельство какой-нибудь национальной антипатией. В самом деле, оно одинаково наблюдалось как во фламандских, так и в валлонских княжествах. Наоборот, последние были, в общем, даже наиболее надежными союзниками императоров. Достаточно вспомнить в этом отношении графа Балдуина V Генегауского при Фридрихе Барбароссе и при Генрихе VI, а в XIII веке первого Иоанна д'Авена. Взаимоотношения Нидерландов с Германской империей отличались не враждебностью, а холодностью и равнодушием, вытекавшими из отсутствия общих интересов. У обеих сторон не было больше ни малейшего стимула к тесному сближению или объединению. Стремительное социально-экономическое развитие, совершавшееся в бассейне Шельды и Мааса, окончательно отдалило эти области от Германии, которая гораздо дольше сохранила свой, главным образом, аграрный строй. Они все более и более ориентировались на Фландрию, которая приобрела над ними настоящую торгово-промышленную гегемонию. Со времени правления Теодориха Эльзасского фландрские графы принимали участие почти во всех событиях, разыгрывавшихся на правом берегу Шельды. Они вмешивались сначала в дела Голландии, Брабанта, Генегау, а позднее, в XIII веке, их влияние распространилось также и на Гельдерн, Намюрскую область и Льежское княжество. Будучи одновременно князьями Германской империи и вассалами французского короля, они занимали привилегированное положение, и их политика создавала постепенно все более прочные и тесные связи между двумя обломками государств, деливших между собою со времени Верденского договора территорию Нидерландов. Благодаря им оба берега Шельды, объединенные уже общей экономической деятельностью, перестали быть чуждыми друг другу и в политическом отношении. У небольших феодальных государств, простиравшихся от Арденн до моря, появилась теперь общая история. Судьбы лотарингских княжеств объединились с судьбами Фландрии, и франко-германская граница, отделявшая восточную Бельгию от западной, постепенно в течение Средних веков сошла на нет. Первейшим результатом этой эволюции было вступление Лотарингии в более тесные сношения с Францией, и затем с Англией, — с державами, вмешательство которых в дела Фландрского графства в течение XII века все более усиливалось. Действительно, Фландрия, которая пользовалась полнейшей независимостью от своего сюзерена в то время, когда Лотарингия находилась под властью герцогов и имперских епископов, теперь очутилась в совершенно ином положении. Монархия Капетингов, первые шаги которой были столь робки и затруднительны, со времени царствования Людовика VI почувствовала себя достаточно сильной, чтобы вступить в борьбу со своими могущественными вассалами. После того как суверенитет императора над лотарингскими князьями сделался чисто номинальным, французские короли обнаружили стремление навязать свою власть фландрским графам. Теперь в политической ситуации, сложившейся в X веке, произошла полная перестановка. Влияние Германской империи на правом берегу Шельды ослабело, влияние же Франции на левом берегу усилилось, и в истории Нидерландов открылась новая эра. Первые симптомы этого обнаружились уже, как мы видели, после убийства Карла Доброго. Правда, политика французского короля, натолкнувшись на сопротивление городов, потерпела крушение, но достаточно было уже одного того, что Людовик VI попытался навязатьжителям Фландрии графа, являвшегося его креатурой[386]. Одно время он мог считать себя повелителем Фландрии. Он сопровождал Вильгельма Нормандского в Брюгге. Он был первым французским королем, проникшим в самое сердце Фландрии, подобно тому как его современник Генрих V был последним императором, дошедшим до границы Лотарингии. У Людовика VII, в отличие от его отца, не оказалось поводов для вмешательства в дела Фландрии. За то время, пока он сражался в долине Роны и на возвышенностях Оверни и Веле, Эльзасская династия успела, в частности в период правления графов Теодориха и Филиппа, прочно утвердить свою власть между Шельдой и морем. При втором из этих графов Эльзасская династия достигла апогея своего могущества. В 1164 г.[387], после смерти графа Рауля Прокаженного, Филипп Эльзасский получил в наследство, через свою жену[388], графство Вермандуа с его вассальными владениями Валуа и Амьенуа. Его владения простирались теперь, таким образом, от нижней Шельды до Иль-де Франса, и он занял отныне первое место среди вассалов французской короны и стал самым могущественным князем в Нидерландах. Он принимал деятельное участие в воспитании наследника престола, и когда в 1179 г. Людовик VII был разбит параличом и вынужден отказаться от управления государством, то именно он, естественно, стал первым советником молодого Филиппа-Августа[389]. В начале правления последнего, казалось, вернулись времена; Балдуина Лилльского, правившего в качестве регента от имени Филиппа. Похоже было на то, что новому королю предстоит стать послушным орудием в руках фландрского графа, который женил его (28 апреля 1180 г.) на своей девятилетней племяннице Изабелле (дочери его сестры Маргариты), графине Генегау, и который во время коронации всячески подчеркивал перед французскими князьями свое богатство, выставляя напоказ роскошь своих одеяний и чванясь своим положением. Брак Филиппа-Августа с Изабеллой Генегауской, по словам хрониста Якова Майера, положил «начало раздорам и вражде между французами и фламандцами, явился источником многих коллизий и войн и послужил исходным пунктом многочисленных катастроф и поражений»[390]. Это значит приписывать незначительному событию очень важные последствия. Разумеется, при заключении этого брака было условлено, что король после смерти графа Фландрского унаследует территории, составившие впоследствии графство Артуа[391]. Но он не стал так долго ждать, чтобы вмешаться в дела своего вассала. Столкновение между монархической политикой Филиппа-Августа и феодальной политикой графа Фландрского было неизбежным. Несчастная Изабелла принесена была в жертву честолюбивым комбинациям[392], она даже не была предлогом к войне, разразившейся вскоре между ее дядей и ее мужем. Филипп-Август был для Филиппа Эльзасского тем, чем Людовик XI оказался в XV веке для Карла Смелого[393]. Будучи настолько же терпелив и искусен, насколько граф был вспыльчив и высокомерен, Филипп-Август сначала скрывал свое твердо задуманное решение взять самому бразды правления Франции, в свои руки и подорвать могущество своих крупных вассалов. В течение некоторого времени Фландрский граф мог мнить себя повелителем Франции. Он поссорил короля с его матерью и прежними советниками Людовика VII. Шампанская династия, влияние которой до сих пор уравновешивало влияние фландрского дома, была удалена от двора и завязала тайные связи с Англией. Филипп же, со своей стороны, сблизился с императором, исконным врагом английского короля, поддерживавшего Вельфов в Германии, и навербовал себе также сторонников в Лотарингии. Он мог уже рассчитывать на помощь своего шурина, графа Генегауского, и ему удалось, кроме того, привлечь на свою сторону герцога Брабантского и графа Гельдернского. Никогда еще никто из его предшественников не пользовался подобным авторитетом, и в течение некоторого времени он лелеял самые несбыточные мечты. Но разыгравшиеся события вскоре рассеяли его иллюзии[394]. В 1180 г. Генрих II Английский, всецело поглощенный своими планами войны с Германией, заключил мирный договор с Филиппом-Августом. Одновременно последний примирился с Шампанской партией. Избавившись от своих врагов, он мог теперь подумать о том, чтобы освободиться от тягостной опеки Филиппа и обратить оружие против него. Он решил подорвать могущество Фландрии и, может быть, даже присоединить, к французской короне владения эльзасского дома, так как граф не имел прямых наследников. Война с Фландрией стала теперь его основной заботой, и, решившись на это, он вел ее до самого конца своего правления с той последовательностью и выдержкой, которые характерны были для всех его начинаний. «Либо Франция поглотит Фландрию, — сказал он однажды, — либо ей самой предстоит быть поглощенной Фландрией»[395]. Разрыв начался в 1181–1182 гг., а когда король, после смерти Елизаветы Вермандуа[396], жены Филиппа, потребовал от него уступки Вермандуа, разрыв между ними был окончательно завершен. Филипп Эльзасский без колебаний принял брошенный ему вызов. Этот пылкий темперамент был теперь обуреваем одной только мыслью — отомстить своему сюзерену и заставить его склониться перед собой[397]. Он носился раньше с планами о господстве над Францией, теперь он горел желанием во что бы то ни стало раздробить ее под пятой Германии. Он вступил в переписку с императором, послал к нему послов и, наконец, сам прибыл к его двору. Он умолял его вторгнуться во владения своего соперника, принес ему вассальную присягу за свои феоды, полученные им от французского короля и, пытаясь увлечь его грандиозными планами, рисовал перед ним заманчивые картины расширения границ Империи до берегов Британии[398]. Но Фридрих Барбаросса не двинулся в Нидерланды. Он ограничился несколькими письмами французскому королю и содействовал заключение перемирия между обеими воюющими сторонами. Помощь Филиппа-Августа была ему необходима против поддерживаемых Англией Вельфов, и он не считал целесообразным компрометировать свои интересы ради фландрского дома и развязывать европейскую войну ради феодальной усобицы. После пяти лет войны Филипп, наконец, решил заключить мир с французским королем. На основании договора в Бове (июль 1185 г.), подтвержденного в следующем году Амьенским миром, он отказался от Валуа, Амьена и большей части Вермандуа, остальная часть которого была сохранена за ним до его смерти. Таким образом он вышел побежденным из своего поединка с Филиппом-Августом. Французская корона, которая должна была капитулировать перед фландрскими графами при Филиппе I и Людовике VI, впервые взяла реванш. Франция внезапно обнаружила свою силу и поставила графство в новое для него положение, при котором Фландрия вынуждена была прилагать все усилия к тому, чтобы отбивать попытки королевства, стремившегося поглотить ее. Крупные сдвиги, происшедшие в это время в европейской политике, тотчас же отозвались на истории Нидерландов. Вражда между Францией и Англией, из коих первая опиралась на Гогенштауфенов, а вторая — на Вельфов, разделила Западную Европу на две большие партии. Повсюду англо-вельфская партия противостояла франко-гибеллинской, и бельгийские князья, очутившиеся посредине между враждующими сторонами, подобно тому как это было в XIV веке во время Столетней войны, оказались, разумеется, вынужденными принять участие в конфликте. Не интересуясь своими сюзеренами, они заняли такие позиции, которые были им наиболее выгодны. Сообразуясь со своими династическими и территориальным интересами, они становились на сторону то одного, то другого враждебного лагеря, и присоединяли свои интриги к войне, противопоставившей друг другу окружавшие их крупные державы. Граф Фландрский и граф Генегауский были вождями двух враждебных партий, на стороне которых они сражались. Балдуин V Генегауский, бывший шурином и предполагаемым преемником Филиппа Эльзасского, сначала оказывал ему активную помощь в его политике[399]. Но со времени разрыва Филиппа Эльзасского с Филиппом-Августом, жена которого, Изабелла, была дочерью Балдуина, в отношениях между обоими князьями наступило заметное охлаждение, не замедлившее вскоре перейти в открытую вражду. Филипп, желая обзавестись наследником и предотвратить таким образом, чтобы ему наследовали либо французский король, либо граф Генегауский, женился на Матильде, дочери Альфонса I (Португальского), предназначив ей в приданое большую часть Фландрии (август 1184 г.). Он пытался поссорить Балдуина с императором, поддерживал против него его врага герцога Брабантского и, наконец, обратил против Генегау немецкую армию, которой руководил архиепископ Кельнский и которая предназначалась для военных действий против Франции. В связи с этим Балдуин увидел себя вынужденным сблизиться с Филиппом-Августом. Заключение союза между королем и императором укрепило его положение в Нидерландах. Балдуин был посредником при свидании обоих монархов в Музоне (декабрь 1187 г.) и отныне он стал на западной границе Империи открытым сторонником союза с Францией и одновременно как бы поверенным в делах Барбароссы. Впрочем, он умел устраивать так, что оказывавшиеся им услуги щедро оплачивались. Фридрих предоставил ему Намюрское графство, на которое претендовали как Генрих Брабантский, так и Генрих Шампанский, и пожаловал ему титул маркграфа этой территории, возведя его таким образом в ранг князя Германской империи (1188 г.). Подобно Филиппу Эльзасскому и Балдуину, но по другим соображениям, Генрих Брабантский тоже присоединился к англо-вельфской коалиции. Этот неугомонный человек был одним из интереснейших типов лотарингской феодальной знати того времени[400]. Снедаемый жаждой расширения своих владений, он не отступал ни перед чем для удовлетворения ее. Не было таких насилий и хитростей, к которым бы он ни прибегал. Его жизнь была сплошной сетью интриг, и его клятвопреступлениям не было конца. В нем не было ничего похожего на неистовство и высокомерие Филиппа Эльзасского; если, одержав победу, он не знал пощады, то в, случае поражения он легко сдавался и шел на унижения. Он был; непревзойденным мастером в умении находить выход из самых скверных положений, если не к своей чести, то во всяком случае к своей выгоде, и за время его правления столь же искусного, сколь и беспринципного, Брабант решительно добился первого места в Лотарингии. Такой человек, разумеется, должен был находиться на стороне врагов своего сюзерена. Генрих Брабантский был почти всегда ожесточенным противником Гогенштауфенов. Он больше, чем кто-либо другой, содействовал уничтожению последних остатков императорской власти в Нидерландах. Смерть Филиппа Эльзасского при осаде Акры (1 июня 1191 г.) внесла новые изменения в политическую ситуацию. Канцлер графа Генегауского, Гизельберт, которому мы обязаны лучшим изложением событий того времени, узнал об этой новости в Италии, в Борго-Сан-Донино, по дороге в Рим, куда он направлялся просить папу от имени своего повелителя предоставить Льежское епископство Альберту Ретельскому, которому брабантская партия капитула противопоставила Альберта Лувенского. Он немедленно направил в Монс курьера, который так поспешил, что обогнал отправленных в Париж задержавшимся в Сирии Филиппом — Августом гонцов, которые должны были передать приказ о немедленном вторжении во Фландрию[401]. Балдуин[402] тотчас же завладел Фландрией. Города, признавая его законным наследником графа, открыли ему свои ворота. Ставка Филиппа-Августа оказалась битой, и присоединение Фландрии к французской короне стало невозможным. Даже Аррас, Эр и те пункты Артуа, которые по брачному контракту с Изабеллой Генегауской должны были вернуться к французскому королю после смерти Филиппа Эльзасского, призвали Балдуина на помощь в надежде избегнуть таким образом присоединения к владениям французской короны. Но новый граф остался верен договорам, которым он присягнул[403]. Он отказался от территорий, расположенных к югу от Neuf-Fosse (Нового Рва, около Сент-Омера), а Филипп-Август по своем возвращении отказался оспаривать его права на остальную часть страны[404]. Он удовольствовался на время своими первыми приобретениями. Отнятые им у Фландрии валлонские земли из лучших ее украшений, составили графство Артуа и были присоединены к королевским владениям. Таким образом Филипп-Август добился, в общем, очень многого. Не только южная часть графства вернулась опять к короне, но и Турнэ, находившийся до сих пор под властью Фландрии, теперь отошел королю. В 1187 г. Филипп-Август при посещении этого города, где не сохранилось воспоминания, чтобы здесь когда-либо до этого видели кого-нибудь из его предшественников, пожаловал горожанам права коммуны[405]. Если принять во внимание, что Турнэ стал с 1146 г. отдельной от Нуайона епископской резиденцией, простиравшей свою юрисдикцию на значительнейшую часть Фландрии, то нетрудно понять, какое значение Филипп придавал обладанию этим городом. Турнэ стал с этого времени ценнейшим орудием в руках Франции. Его епископы теперь преданно помогали королю в его политике. Их резиденция стала отныне центром французского влияния и оказывала Капетингам в их борьбе с Фландрией такие же услуги, какие в свое время Льеж и Камбрэ оказали императорам в их борьбе с Лотарингией. Если смерть Филиппа Эльзасского была удачей для французской политики, то она принесла прежде всего еще больше благотворных последствий для германской политики. Когда в лице Балдуина Генегауского на престол Фландрии вступил князь гибеллин, то Генрих VI, только что наследовавший Фридриху Барбароссе, поспешил привлечь на свою сторону этого ценного союзника. Он закрепил за ним имперскую Фландрию, на часть которой претендовал герцог Брабантский и не согласился освободить графа Голландского от вассальной присяги, которую он должен был принести Балдуину за Зеландские острова, и отказался дать ему титул князя Империи[406]. Никогда еще единение между Генегауской и Гогенштауфенской династиями не было более тесным. В Льеже Балдуин, поддерживая кандидата императора Аотаря Гохштаденского против Альберта Лувенского, брата герцога Брабантского, являлся угрозой для брабантского влияния[407]. Благодаря ему Генрих VI располагал объединенными силами Генегау, Намюрского графства и Фландрии. Нидерланды, казалось, были потеряны для англо-вельфской коалиции. Но такое положение не могло долго продолжаться. Став повелительницей Фландрии, Генегауская династия должна была вскоре сблизиться с Англией. Балдуин IX[408], наследовавший своему отцу в момент, когда началась борьба между Филиппом-Августом и Ричардом Львиное Сердце, не продолжал политики своего отца. Если Балдуин VIII вел себя, как граф Генегауский, то его сын зато вел себя, как граф Фландрский. Фландрия, несравненно более богатая и более могущественная, чем Генегау и Намюрская область, стояла у него на первом месте и определяла его действия. Будучи вынужденным выбирать между Капетингами и Плантагенетами, он стал на сторону последних. Он без всяких колебаний порвал с традиционной политикой своих предшественников, которые почти всегда поддерживали своих сюзеренов в их борьбе с англо-нормандскими королями. Действительно, победа Филиппа-Августа над Филиппом Эльзасским только что показала, что предоставленная самой себе Фландрия была не в состоянии противостоять французской короне. А где было найти более надежного союзника, чем этот исконный противник французской монархии? Эти политические соображения были тем более вески, что соответствовали интересам промышленных городов Фландрии. Английская шерсть стала необходимым сырьем для их промышленности, а война с Великобританией, несомненно, положила бы конец этому благодетельному экспорту. В общем, новый граф находился в конце XII века в таком же положении по отношению к Франции и Англии, в каком оказался в середине XIV века Яков ван Артевельде, и в обоих случаях — с перерывом в 150 лет — одинаковые обстоятельства заставили склониться чашу весов в одну и ту же сторону. 8 сентября 1196 г. Балдуин формально вступил в союз с Ричардом Львиное Сердце. Покрытый славой вышел Балдуин из своей борьбы с французским королем. В 1200 г. Филипп-Август вынужден был, на основании договора в Пероне (2 января), вернуть ему северную часть Артуа и признать его суверенитет над феодами Гин, Ардр и Бетюн. Таким образом Фландрия получила назад часть владений, потерянных ею после смерти Филиппа Эльзасского. К несчастью для страны, граф не мог устоять против желания принять участие в четвертом крестовом походе (1202 г.). Он предполагал уехать на три года, но дело обернулось иначе. Вскоре в Нидерландах стало известно, что он получил императорскую корону в Константинополе, а через некоторое время распространились сведения о том, что он попал в руки болгар (15 апреля 1205 г.). В течение долгого времени народ во Фландрии и в Генегау не хотел верить его смерти и продолжал надеяться на его возвращение. В 1225 г. один обманщик, выдавший себя за императора Балдуина, был принят с энтузиазмом и чуть не вызвал восстание против графини Иоанны. Отправляясь на Восток, Балдуин оставил беременную жену, которая несколько месяцев спустя родила дочь, названную Маргаритой. В двухлетнем возрасте она, как и ее старшая сестра Иоанна, отдана была на попечение льежского епископа. Смерть их матери, отправившейся в 1203 г. к своему мужу и погибшей по дороге от сирийской лихорадки, и последовавшая за этим адрианопольская катастрофа, приведшая к гибели Балдуина, сделали юных княжен сиротами и одновременно наследницами самых богатых и обширных владений в Нидерландах. Филипп-Август тотчас же пустил все в ход, чтобы получить этих девочек в свои руки. Обстоятельства благоприятствовали ему. Граф Филипп Намюрский, брат Балдуина, назначенный им при отъезде регентом Фландрии и Генегау, не сумел заставить вступиться за судьбу своих племянниц ни Англию, ни Германию, которые были в это время всецело поглощены происходившей в них гражданской войной[409]. Он чувствовал себя изолированным перед лицом исконного врага своей династии, герцога Брабантского, поведение которого становилось все более угрожающим. Он видел единственное спасение во Франции. В 1206 г. он принес присягу на верность Филиппу-Августу[410], обязавшегося выдать за него замуж одну из своих дочерей, а через два года (1208 г.) он, в результате новых обещаний, передал в руки короля судьбу обеих девочек, опеку над которыми он успел за это время откупить у льежского епископа[411]. Все бельгийские историки единодушно осуждали поведение Филиппа Намюрского, как преступление, и не подлежит никакому сомнению, что оно имело роковые последствия для Нидерландов. Между тем оно попросту объяснялось тогдашней ситуацией и господствовавшими в то время взглядами. Регент, как бы он того ни хотел, никак не в силах был противостоять воле французского короля. Как граф Намюрский, он к тому же чужд был Фландрии и Генегау, и нет ничего удивительного в том, что он пошел на комбинацию, всего значения которой он не мог предвидеть и которая вместе с тем давала ему множество преимуществ. Он поступил просто как феодальный князь, не поднимавшийся над узким кругом своих династических и территориальных интересов, не способный провидеть вперед и подняться до более высоких политических, а тем более национальных идей. Он не думал, что совершает государственную измену, передавая Иоанну и Маргариту на попечение французского, короля, который был им таким же дядей, как и он сам. Он слишком поздно убедился в последствиях своей уступчивости и умер, терзаемый угрызениями совести. Ходил слух, что в момент своего последнего издыхания он умолял аббатов Маршьена и Камброна, чтобы его труп волокли с веревками на шее по улицам Намюра, «так как собаке — собачья и смерть»[412]. Тем временем Филипп-Август успел добиться в Нидерландах благодаря своей дипломатии больших успехов, чем ему удавалось добиться с оружием в руках. Возможность располагать по своему усмотрению судьбами наследниц Балдуина позволила королю подчинить своему влиянию одно временно оба берега Шельды. Не только находившейся в феодальной зависимости от Франции Фландрии, но и находившемуся в такой же зависимости от Империи Генегау предстояло перейти в руки князя, которого французскому монарху угодно будет послать им из Парижа. Он остановил свой выбор на Ферране Португальском, племяннике графини Матильды, вдовы Филиппа Эльзасского. Этот выбор, несомненно, до известной степени объяснялся ливрами парижской чеканки, которыми старая графиня щедро осыпала Филиппа-Августа, но он определялся главным образом политическими соображениями. Казалось, что Ферран, не будучи совершенно связан с Фландрией и Генегау и незнакомый с нуждами и обычаями их жителей, никогда не в состоянии будет добиться здесь власти, которая могла бы внушать опасения. Таким образом его слабость должна была явиться гарантией его повиновения. Брак Иоанны и Феррана состоялся в королевской часовне в Париже, в январе 1212 г. Новый граф принес феодальную присягу и, в свою очередь, заставил присягнуть своих баронов и свои города, что в случае его неверности они будут помогать французскому королю в борьбе с ним. Филипп-Август принял все необходимые меры предосторожности и мог поэтому со спокойным сердцем смотреть, как молодая чета направилась во Фландрию.II
Сражением при Бувине открылся длинный ряд европейских битв разыгравшихся на территории Нидерландов. Результатом его было, не только установление надолго политического равновесия в Западной Европе. Оно привело также к необычайно важным последствиям для Бельгии, и потому стоит несколько подробнее остановиться на ходе предшествовавших ему, в течение нескольких лет, событий. Генрих Брабантский, как мы уже видели, был во время правления Фридриха Барбароссы и Генриха VI ожесточенным врагом императоров и постоянным союзником Англии. Но после победы Филиппа-Августа над Иоанном Безземельным и после победы в Германии Филиппа Швабского над его соперником, вельфом Отгоном Брауншвейгским которого поддерживала Англия, он отступился от, казалось, заведомо обреченного дела и сблизился с французским королем и Гогенштауфенами. Филипп Швабский щедро вознаградил эту перемену фронта: он уступил ему в 1204 г. сохранившиеся еще за Империей права на Нивелльское аббатство, на Маастрихт и Нимвеген и объявил, что в случае отсутствия мужского потомства дочери тоже будут иметь право наследования в герцогстве Брабантском[413]. В следующем году Генрих принес присягу на верность Филиппу-Августу и получил от него ежегодную ренту в 200 марок серебром. Он стал с этого времени, и вплоть до получения Ферраном Португальским в 1212 г. Фландрии и Генегау, самым влиятельным князем в Нидерландах. Смерть Балдуина IX, освободив его от единственного соперника, способного помешать его планам, позволила ему сосредоточить все свои силы и все свои способности на одной цели: создании в самом сердце Лотарингии единого сплоченного государства, которое настолько распространило бы свое владычество вокруг, что Брабантский дом стал бы главой и судьей всей совокупности территорий, тесно переплетенных друг с другом в бассейнах Рейна и Шельды. Авторитет, которым он пользовался благодаря герцогскому титулу, но в особенности центральное положение его земель, облегчали ему его планы, давая ему очень часто возможность вмешиваться в дела и раздоры своих соседей. Он выступал в роли посредника в епископстве Камбрэ, поддерживал в Голландии Вильгельма I против его соперника Людовика Лоозского, снова выдвинул свои притязания на приморскую Фландрию и заставил регента Филиппа Намюрского принести ему присягу на эту область. Но главные свои усилия он направил на Льежское княжество. В первые же годы XII века его предшественники всячески стремились подчинить это княжество своей власти. Для них было необычайно важно распространить свое владычество в центре диоцеза, обнимавшего большую часть их земель, и освободиться от юрисдикции суда божьего мира[414]. Со времени смерти Отберта (1119 г.) не было ни одних епископских выборов, при которых они не пытались бы доставить победу ставленнику своих интересов. В своей борьбе с герцогами епископы опирались то на Лимбургскую династию, то на Генегаускую. Но первая примирилась в 1165 г. с Брабантской династией, а что касается второй, представленной двумя находившимися под опекой детьми, то она не могла внушать никому никаких опасений. В связи с этим Льежское княжество оказалось изолированным, и тогда пробил час решительных действий против него. Генрих хотел теперь не только подчинить его своему влиянию, но решил уничтожить его. Он носился с мыслью, — сообщает Эгидий Орвальский[415], — перенести созданную еще в VIII веке в Льеже епископскую резиденцию в какой-нибудь другой город, само собой разумеется — брабантский. Эта позиция его обусловливалась глубокими изменениями, совершившимися за это время в экономическом положении Брабанта. Во время правления Готфрида II (1142–1190 гг.), под влиянием все более оживленных торговых сношений, завязавшихся между фламандским побережьем и долиной Рейна, промышленность и торговля сделали здесь значительные успехи. Лувен, Брюссель, Антверпен стали соперничать с фландрскими городами, и вокруг них быстро вырос целый ряд пунктов второстепенного значения, как Нивелль, Тирлемон, Лео, Вильворд и т. д. Мы уже видели, что Генрих постоянно заботился о преуспевании этих городов. Он не ограничивался только предоставлением им муниципальных вольностей, но озабочен был также развитием их торговли, и именно поэтому он вынужден был серьезно ввязаться в войну с Льежским княжеством. По своему географическому положению епископское княжество находилось как раз посередине между Брабантом и Рейном. Епископ был хозяином рынков сбыта, лежавших на большом торговом пути из Кельна в Брюгге, и распоряжался, кроме того, средним течением Мааса. Словом, он мог закрыть по своему усмотрению те пути, по которым богатство притекало с востока в Брабантское герцогство. Таким образом Льежское княжество занимало такое же положение по отношению к Брабанту, как графство Голландия по отношению к Фландрии[416], и борьба, которую фландрские графы вели в XII веке против своих соседей, чрезвычайно походила на войну, разразившуюся в начале XIII века между герцогом Генрихом и Гуго Пьеррпонским. Сигналом к началу военных действий послужило примирение Генриха с Филиппом Швабским в 1204 г. Епископ, повинуясь приказам из Рима, отказался принести присягу на верность Филиппу и по-прежнему стоял на стороне Оттона IV. Это давало великолепный повод для похода против него. Герцог направил армию в Маастрихт, который только что уступлен был ему германским императором, и должен был отдать в его руки путь на Кельн, проходивший по мосту этого города. Но епископу удалось очень ловко отвести угрожавший ему удар. Он покорился Гогенштауфенам, и Генрих, обманувшийся в своих надеждах, вынужден был отступить. Но убийство Филиппа Швабского (21 июня 1208 г.) позволило ему вскоре вернуться к своим прежним планам. Он подумывал одно время об использовании помощи французского короля, чтобы добиться германской короны, о которой он помышлял еще при жизни Генриха VI и которая отдала бы в его руки вею территорию Нидерландов[417]. Но он почти тотчас же убедился, что план этот неосуществим, и принес присягу на верность Оттону. Он вернулся, таким образом, снова в вельфскую партию, порвав с Филиппом-Августом, чтобы сблизиться с Иоанном Безземельным. Отлучение от церкви Оттона (18 ноября 1210 г.) не изменило его позиции, наоборот, это послужило для него поводом возобновить войну с льежским епископом, который, снова подчинившись решению папы, отошел от императора. Он добился, чтобы ему поручили привести епископа к повиновению. Он тайно собрал армию, затем, под предлогом похода против замка Моа, неожиданно двинулся на Льеж, плохо укрепленный земляными валами и заграждениями, и, захватив его врасплох, отдал его на разграбление (3 мая 1212 г.). Что касается Гуго Пьеррпонского, бежавшего сначала в Гюи, а затем в Динан, то он оставлен был в покое. Герцог, по-видимому, был очень мало заинтересован в том, чтобы он принес присягу на верность императору. Возложенное на него поручение послужило лишь поводом, чтобы нанести удар в самое сердце враждебной ему страны, разрушить ее столицу, завладеть переходом через Маас и захватить в свои руки большой торговый путь из Германии в Нидерланды. Победа герцога Брабантского привела к союзу Гуго Пьеррпонскго в французским королем. Он искал помощи у Филиппа-Августа для борьбы с Генрихом, ставшим опять вождем англо-вельфской партии в Лотарингии. Он надеялся таким образом привлечь на свою сторону графа Феррана, только что получившего во владение Фландрию и натравить ДРУГ на друга, как это уже бывало, Генегаускую династию на Брабантскую. Но он просчитался. Через год после разграбления Льежа произошло полное изменение политической ситуации. Генрих Брабантский снова стал союзником французского короля, на дочери которого он женился (апрель 1213 г.)[418], меж тем как Ферран, порвав со своим сюзереном, принес присягу верности Иоанну Безземельному. Можно было думать, что неожиданно вернулись времена Филиппа Эльзасского и Балдуина IX. Прибыв во Фландрию, Ферран Португальский убедился, что Эр и Сент-Омер захвачены были силой Людовиком, сыном Филиппа-Августа, и вынужден был присягнуть, что он отказывается от этих городов, совсем еще недавно уступленных Балдуину IX по Пероньскому договору. Эта грубая ловушка сулила новому графу печальное царствование. Однако она была лишь предвестницей еще более горьких испытаний. Во время слабого регентства Филиппа Намюрского французский король сумел повести во Фландрии очень ловкую политику. Он привлек на свою сторону, путем пожалования феодов и денежных пенсий, значительную часть влиятельнейших баронов страны. Он сумел вновь оживить у аристократии ее стремление к независимости, в которой он видел столь же надежное, сколь и удобное средство парализовать на будущее время могущество фландрских графов. Поощренные этой французской политикой, фландрские сеньоры стали присваивать себе права и владения графов. Под их непрерывными ударами правительство, столь крепкое во времена Эльзасской династии, очутилось теперь под угрозой гибели. Образовалась дворянская партия, которая являлась одновременно продуктом и орудием французского влияния и представителей которой можно было, уже во времена Филиппа-Августа, назвать «Leliaerts» (приверженцами лилии), названием, нашедшим себе столь широкое распространение в конце XIII века. У Феррана был только один способ справиться с образовавшимся против него союзом своих вассалов с его сюзереном. Это — противопоставить приверженцам Франции приверженцев Англии. Чуждый стране, он не мог рассчитывать на горячую преданность, которая поддерживала в тяжелые минуты Филиппа Эльзасского и Балдуина IX. Но золото Иоанна Безземельного могло помешать росту числа новых сторонников французской партии, и граф пошел таким образом на то, чтобы на его глазах во Фландрии завязалась борьба влияний между Капетингами и Плантагенетами. Сам же он озабочен был только тем, чтобы не скомпрометировать себя и соблюсти внешний декорум. Нидерланды являли в это время странное зрелище. Все чувствовали, что между Францией — с одной стороны, и Англией и Германией — с другой, вот-вот разразится война, и каждый старался продать свою помощь тому, кто подороже заплатит. Повсюду шли интриги и препирательства о цене. Подобно тому, как это повторилось 150 лет спустя, в начале Столетней войны, эмиссары английского короля, запасшись стерлингами и заманчивыми посулами, проникли во все области между Северным морем и Маасом. Они вербовались из самых различных общественных классов. Среди них можно было встретить наряду с графом Рено Булонским, смертельным врагом французского короля, отнявшего у него его землю[419], простых горожан, вроде Вальтера Спронка и Симона Сафира из Гента[420]. Иоанн Безземельный не брезговал никакими средствами, чтобы привлечь на свою сторону князей, дворянство и города[421]. Он послал поздравление герцогу Брабантскому по случаю его победы над льежцами, ссужал деньги графине Фландрской[422], давал охранные листы купцам, вел переговоры с коммунами, покупал услуги рыцарей, находившихся в стесненном положении, ввиду уменьшения их доходов, и жадно протягивавших руки к блестящим денье, непрерывно притекавшим из его сундуков. Движение было слишком всеобщим, чтобы не втянуть в конце концов Феррана, озлобленного против своего сюзерена и вынужденного из-за измены части дворянства пойти на союз с Англией. Он отказался принять участие в походе, подготовлявшемся Францией против Великобритании. Это был разрыв. За невозможностью напасть на Иоанна Безземельного, ввиду вмешательства папы, Филипп двинул свою армию и флот против Фландрии. Его войска вторглись во фландрское графство с юга, а французские военные суда появились на рейде в Дамме (май 1213 г.). Это неожиданное нападение застало страну врасплох. Большинство городов было в это время защищено еще только рвами и, за исключением Гента, никто из них не оказал сопротивления. Задуманный поход превратился в действительности в военную прогулку. Не встречая препятствий на своем пути, король продвинулся в глубь Фландрии и дошел до болотистых берегов Западной Шельды, которые его панегирист, Вильгельм Бретонский, в пылу восхищения перед столь далекими завоеваниями торжественно сравнивал с покрытыми льдами полярными странами[423]. В то время как солдаты из Пуату и Бретани грабили Брюгге и «как саранча» набросились на товары, хранившиеся в порту в Дамме, Ферран, заключив договор с Иоанном Безземельным, укрылся на острове Вальхерен. Вскоре в Звине появился английский флот. Французские суда, на которых находились бочки с золотом для уплаты жалования войскам, подверглись нападению и были преданы огню. Король, наложив колоссальные военные контрибуции на города, вынужден был отступить. Результаты французского завоевания исчезли так же быстро, как они были достигнуты. Ферран преследовал по пятам отступавшего короля, отнимая у него пядь за пядью завоеванные части страны. Филипп надеялся, по крайней мере, сохранить за собой валлонскую часть Фландрии. Уходя, он оставил гарнизон в Лилле. Но едва только он удалился, как горожане открыли свои ворота графу. Зато, [вернувшись сюда обратно, французская армия предала город огню, чтобы отомстить ему за «измену»[424].
Вооруженные граждане Гента (XIV в.)
Генрих Брабантский не мог помочь Филиппу-Августу в его походе на Фландрию. Он опять всецело поглощен бы войной с Льежским княжеством. В октябре его армия проникла в Газбенгау. На этот раз он натолкнулся на всеобщее сопротивление. Действительно, в этих областях постепенно развился сильный местный патриотизм. Войны происходили — теперь уже не только между князьями, но и между группировавшимся; вокруг них населением. Мы только что видели, как застигнутая врасплох вторжением Филиппа-Августа Фландрия сумела собраться с силами и; свернуть чужеземное иго. Теперь льежцы, в свою очередь, тоже восстали поголовно против брабантцев. Проходя через деревни, отлученный год тому назад герцог находил в церквях заросшие терниями распятья, лежащие на плитах перед алтарями. Церковная служба прекратилась, звон колоколов умолк. Когда он очутился перед Льежем, то нашел его готовым к обороне, защищенным крепкими стенами, с башнями по краям. Так как он не в состоянии был взять его внезапным ударом, то он удалился в направлении на Монтенакен. Здесь именно льежская армия, подкрепленная фландрскими частями, прибывшими из графства Лооз[425], заставила герцога принять бой на равнинах около Степпа (14 октября 1213 г.). Она состояла, главным образом, из отрядов городской милиции. Из пятисот рыцарей, насчитывавшихся тогда в Газбенгау, на призыв епископа откликнулось не больше пятнадцати[426], так как все остальные, нанявшись на службу Англии, отправились во Фландрию. Впервые в Нидерландах городским войскам предстояло сразиться с феодальной армией. Они блестяще выдержали это испытание: атака брабантской конницы, натолкнувшейся на воткнутые в землю пики пехоты, состоявшей из горожан Льежа, Гюи и Динана, потерпела неудачу. Сражение при Степпе, было предвестником, хотя и в более скромной обстановке, происшедшего спустя сто лет сражения при Куртрэ. Оно не только показало силу городской пехоты, когда во главе ее стоят искусные вожди и когда она умеет держаться оборонительной тактики, но льежская армия обязана была своей победой, главным образом, моральным причинам. Мы ясно видим в возникших в связи с этим сражением легендарных преданиях непосредственное выражение подлинных патриотических чувств и тон автора Triumphus Sancti Lamberti (Торжество св. Ламберта) не менее восторженный, чем тон ван-Вельтема, воспевшерр впоследствии сражение при Куртрэ. Передавались рассказы о предзнаменованиях и явлениях, предвещавших победу, и путешественнику проходившие ночью по полю сражения, якобы слышали, как души мертвецов продолжали битву[427]. Хоругви св. Ламберта, развевавшиеся над льежскими отрядами, стали с тех пор национальным знаменем страны, долгое время в Льеже ежегодно происходило торжественной богослужение в память этого дня. В то время как льежцы, используя свой успех, вторглись в Брабант сжигая на своем пути деревни и разграбив город Лео, Ферран, сочетая свой план действий с епископом, в свою очередь вторгся в герцогство и дошел до ворот Брюсселя. Герцог вынужден был вступить в мирные переговоры. Ему пришлось унизиться перед Гуго Пьеррпонским, явиться просителем в его столицу и умолять на коленях о снятии с него отлучения от церкви (28 февраля 1214 г.). Но, уже целуя в знак мира епископа, он замышлял новые козни. Неожиданно переменив фронт, он переметнулся от Филиппа-Августа и заключил союз с Отгоном Брауншвейгским, направлявшимся в это время в Нидерланды для соединения во Фландрии с английской армией, предназначенной для военных действий против Франции. Подобно тому, как когда-то он в качестве союзника Гогенштауфенов женил своего старшего сына на дочери Филиппа Швабского и сам взял себе в жены дочь Филиппа-Августа, точно так же теперь он устроил. обручение императора Отгона со своей дочерью Марией (19 мая 1214 г.). Эта Брабантская династия, состоявшая одновременно в родстве с Вельфами, гибеллинами и Францией, вполне была под стать потребностям зигзагообразной и непрерывно меняющейся политике ее главы[428]. Впрочем, последняя перемена фронта Генриха столь же мало была бескорыстной, как и предыдущие. Герцог видел в своем новом зяте лишь помощника против льежского епископа. Он предусмотрительно остерегался слишком сильно связываться с ним. Он не порывал отношений с французским королем и, если можно верить Вильгельму Бретонскому, то как раз накануне сражения при Бувине он якобы сообщил Филиппу-Августу о передвижении союзных войск[429]. Тем временем императорский лагерь был центром интриг против Гуго Пьеррпонского, владения которого князья заранее делили между собой. Генрих заставил признать за собой Гюи, Рено Булонский получал Динан, Ферран требовал освобождения его от вассальной присяги, принесенной им епископу в отношении графства Генегау[430]. Но все эти заманчивые планы рассеялись, как дым. Победа Франции при Бувине (27 июля 1214 г.) нанесла смертельный удар англо-вельфской коалиции и одним ударом уничтожила всю сеть созданных ею территориальных комбинаций. Сложилась совершенно новая ситуация. Теперь было надолго покончено с политикой балансирования, применявшейся до сих пор князьями, переходившими поочередно от Капетингов к Плантагенетам и от Плантагенетов к Капетингам, от Гогенштауфенов к Вельфам и от Вельфов к Гогенштауфенам. Они оказались теперь лицом к лицу с единственной державой — Францией, настолько превосходившей их и доминирующей, что всем попыткам сопротивления ей пришел конец. И до конца XIII века Нидерланды, казалось, превратились в простой придаток к монархии Капетингов. Генрих Брабантский сейчас же примирился с победителем. Он не решался больше ни на какие выступления против льежского епископа и почитал себя счастливым, что ему удалось принести присягу новому германскому императору, Фридриху II, и получить от него признание своих прав на город Маастрихт. По влиянию, приобретенному Филиппом-Августом в не принадлежавшей ему Лотарингии, нетрудно догадаться, как он должен был вести себя в зависевшей от него Фландрии. Теперь, наконец, он пожал здесь плоды своих двадцатилетних трудов. Днем его триумфа был день, когда Феррана пленником ввели в тот самый Париж, на мосту которого Филипп Эльзасский льстил себя надеждой водрузить свой стяг. Иоанне, правда, предоставлено было владение графством, но на каких условиях! Она должна была обещать срыть укрепления Валансьена, Ипра, Оденарда и Касселя и оставить все остальные укрепленные пункты в том состоянии, в каком они были до сих пор[431]. Крупные города страны должны были дать заложников[432]. Знать письменно обязалась не служить впредь графу и внесла в обеспечение верности своего слова определенные залогиtitle="">[433]. Вожди французской партии во Фландрии, кастеляны Брюгге и Гента, вместе со своими приверженцами вернулись в страну, и в октябре король приказал графине вернуть им их земли. Филипп-Август, по-видимому, решил пожизненно держать Феррана в плену. Сыну Филиппа-Августа, родившемуся от Изабеллы Генегауской, принадлежало право наследования во Фландрии в том случае, если Иоанна умрет бездетной, и это порождало соблазн присоединить когда-нибудь графство к владениям французской династии[434]. Однако этот сын, став королем, вернул Феррану свободу. Герцог Бретани подумывал о женитьбе на Иоанне и добился от папы расторжения ее первого брага. У Людовика VIII не было никаких других способов помешать осуществлению этого плана, который создал бы нового опасного врага французской короне, чем освободить побежденного при Бувине противника. Иоанна и Ферран обвенчались вторично после того, как графиня обещала заплатить выкуп в 50 000 парижских ливров и согласилась признать условия Меленского договора (5 апреля 1226 г.)[435]. Этим договором установлены были вплоть до конца XII века отношения между Фландрией и Францией. Граф и графиня обязались верой и правдой служить своему сюзерену, не возводить новых крепостей поч эту сторону Шельды и обновлять старые укрепления лишь с его прямого разрешения. Они должны были заставить рыцарей и все фландрские города, под страхом изгнания или конфискации имущества, принести присягу на верность королю и обещать ему помогать словом и делом, если упомянутые обязательства будут нарушены. Наконец они обязались получить от папы буллу, угрожавшую им отлучением от церкви в случае, если они нарушат эти условия. Ферран вернулся во Фландрию после двенадцатилетнего плена. Следом за ним прибыли «метр» Альберик Корню и Гуго Атисский, присланные из Парижа для объявления во всеуслышание текста договора и принятия присяги от дворян и городов. Никто не оказал никакого сопротивления, и во французских архивах до сих пор еще сохраняются грамоты, в которых бароны, рыцари, бальи и эшевены доносили о том, что они принесли на мощах присягу поддерживать короля против их «весьма любимого государя», если он, упаси господи, нарушит данное им слово[436]. Ферран был с этого времени самым покорным и самым преданным из крупных вассалов Франции. Он не только не принял никакого участия в восстании французских князей против Бланки Кастильской, но сделал даже диверсию „в Артуа в пользу королевы[437]. Его честолюбие было сломлено, и он чувствовал, что его влияние подорвано. После его смерти (1233 г.) Иоанна согласилась отдать на попечение Людовика IX свою дочь и единственную наследницу Марию, как только ей исполнится 8 лет, с тем чтобы она воспитывалась при дворе до своего брака с Робертом Артуа, братом короля[438]. Но для Фландрии еще не пробил час, когда ей предстояло получить французского государя: смерть Марии в 1236 г. привела к крушению возлагавшихся на нее надежд.
Глава третья
Феодальная политика в XIII веке
С начала XII века и до начала XIV в. к Франции, освободившейся от соперничества Англии и Германской империи, перешла гегемония в Западной Европе. Она заняла господствующее положение не только в политическом, но и в духовном отношении, и Нидерланды раньше и больше, чем все другие страны, испытали на себе последствия этого. Французское влияние при Людовике Святом и Филиппе Красивом было в Нидерландах сильнее, чем когда-либо впоследствии, если не считать очень близких к нам времен правления Наполеона I.
Феодальные династии Фландрии и Лотарингии сумели искусно воспользоваться в XII веке войнами, происходившими между великими нациями Западной Европы. Они становились по очереди на сторону то вельфов, то гибеллинов, то французов, то англичан, переходя от одной партии к другой, в зависимости от игры случая и смотря по тому, что им было выгоднее, с точки зрения их интересов. Самым типичным представителем этой системы был, как мы видели, Генрих Брабантский. Но у него не оказалось последователей. После сражения при Бувине пришлось перейти к другой политике. Теперь покончено было с тактикой союзов, которые то заключались, то расторгались, с постоянными переменами фронта, с непрерывным балансированием. Отныне единственной целью князей было добиться расположения французского короля, привлечь его на свою сторону и поссорить его со своими врагами. Все они стали придворными льстецами, и многие старались сделаться его подзащитными. Они получали от него феоды и денежные пенсии. Они добивались для себя самих или для своих детей чести вступления в королевскую семью. Они имели при дворе своих доверенных людей, а иногда шпионов, обязанных держать их в курсе происходивших там интриг, к которым они нередко причастны были сами. Париж перестал быть для них чужим городом, они часто живали в нем и некоторые даже обзавелись в нем дворцами.
Французским королям, начиная с Филиппа-Августа и до Филиппа Красивого, не приходилось больше прибегать к вооруженному вмешательству в дела Нидерландов. Не покидая своей столицы, они улаживали дела этих, почти всегда столь податливых и сговорчивых по отношению к ним, князей. Они держались с ними как повелители, вызывали их ко двору и сообщали им через простых рыцарей свои приказания, которые они должны были принимать со всеми знаками уважения и повиновения. При Филиппе Красивом, герцог Иоанн Брабантский, гордившийся своим каролингским происхождением, не стеснялся заискивать милости у мессира Муша, одного из итальянских советников короля, и слыть в Париже лицом, пользующимся его покровительством[439].
Это постоянное вмешательство Франции было первой характерной особенностью политической истории Нидерландов в XIII веке, но она была не единственной. Наряду с внешнеполитическим влиянием Капетингов большое внутриполитическое значение приобрели города. Князья увидели себя вынужденными все больше считаться с ними. Разоренное падением земельных доходов рыцарство несло теперь военную службу только за деньги и не могло поставлять достаточного количества войск. Армии пришлось усилить за счет наемников и иностранных вспомогательных отрядов. Война стала, таким образом, очень дорогим делом. Чтобы справиться с вызывавшимися ею расходами, для покрытия которых не хватало доходов с собственных доменов, князья обращались за помощью к городскому населению. Они требовали с него налогов или просили его гарантировать заключавшиеся ими займы. В силу этого их политика зависела теперь не только от их усмотрения, но и от доброй воли их подданных. Раньше они воевали с помощью военного сословия, всегда готового двинуться по первому их приказанию. Теперь невозможно было воевать без согласия городов. Интересы страны стали учитываться наряду с интересами князя. Войны стали происходить несколько реже, но они были более продолжительными и приводили к более решительным последствиям, так как они развязывали более грозные силы. Они завершались новыми территориальными перегруппировками и приближали таким образом Нидерланды к тому единству, которого им предстояло добиться в XV веке.
Впрочем, города не всегда поддерживали политику своих князей. Наоборот, часто они противодействовали ей в тех случаях, когда она не отвечала их интересам. Им приходилось неоднократно прибегать к помощи иностранных держав против своего государя. Во Фландрии они объединялись с французским королем, чтобы сломить сопротивление своего графа; в Льежском княжестве они вступали в союз с герцогом Брабантским, чтобы справиться со своим епископом.
Если присмотреться поближе к истории Нидерландов после сражения при Бувине, опуская второстепенные подробности чисто местного значения, то она вся сконцентрирована вокруг двух важнейших событий: вокруг лимбургской войны за наследство и борьбы между д'Авенами и Дампьерами. Обя эти события позволят нам оценить роль различных только что указанных нами факторов.
I
Из крупных феодальных династий Бельгии только один дом герцогов Брабантских пережил XIII век. В то время как Фландрия, Генегау и Голландия в силу случайностей наследования и различных политических комбинаций переходили под власть новых и чужеземных династий, крепкий род Ламберта Лувенского продолжал по-прежнему управлять его наследственными аллодами феодами. Благодаря своему многовековому существованию он стал популярен, а популярность сделала его сильнее всех его соперников или его соседей. Брабантское дворянство и брабантские города искони отличались своей лояльностью. Герцог был в их глазах прирожденным представителем и как бы олицетворением страны. Пробуждение патриотизма было связано с его личностью; развитие династического и национального сознания происходило здесь одновременно. В конце века, при Иоанне II, они нашли себе яркое выражение в рифмованной хронике Иоанна ван Гелю. Герцогская династия, брабантская по своему происхождению, усвоила себе также и вполне брабантскую политику. Она никогда не питала чересчур честолюбивых замыслов и не носилась с неосуществимыми планами. Она соразмеряла свои начинания со своими силами и не отделяла своих интересов от интересов своих подданных. Начиная с Генриха II и до Иоанна I, она с поразительной последовательностью и настойчивостью старалась достигнуть цели, поставленной уже Генрихом I, именно, приобретения того торгового пути между Рейном и Северным морем, от которого зависело экономическое процветание Брабанта. К этой основной заботе сводились все переговоры герцогов и все начинания брабантских герцогов. Они отказались от своих давнишних притязаний на имперскую Фландрию, чтобы всецело отдаться делу расширения и укрепления своего влияния в восточных областях. Они устанавливали сообща с графами Голландскими и Гельдернскими пошлины на Рейне и на Маасе; они построили башню Вик, которая должна была вести постоянное наблюдение за Маастрихтским мостом, и для обеспечения своих сношений с этим городом они пытались — правда, безуспешно — завладеть — Сен-Троном. При Генрихе II и Генрихе III, как и при Генрихе I, Аьежское княжество по-прежнему привлекало к себе, в первую очередь, внимание герцогов. Правда, они не могли уже больше использовать для вмешательства в его дела тот способ, который они так удачно применяли в XII веке, ибо после окончательной победы пап над Империей они вынуждены были отказаться от вмешательства в епископские выборы. Но если в XIII веке исчезли религиозные конфликты, то их сменили кризисы другого порядка, хотя и не меньшей силы. Со времени правления Гуго Пьеррпонского епископы находились в состоянии непрерывной войны со своими городами. В 1129 г. население городов Льежа, Гюи, Динана, Сен-Трона, Маастрихта и Тонгра, воспользовавшись тем, что епископская кафедра оставалась незамещенной, создали союз, который часто возобновлялся впоследствии. Епископ чувствовал себя совершенно бессильным перед этим союзом, объединявшим против него благодаря общности интересов как фламандские, так и валлонские, города княжества. Он добился осуждения союза германским императором и знаменитого решения, принятого Вормским сеймом (20 января 1231 г.), запрещавшего во всей Империи образование коммун и городских союзов. Но все это было ни к чему, и положение нисколько не изменилось. Ему оставалось только искать себе союзника, и он нашел его в лице герцога Брабантского. С этого времени герцоги активно вмешивались во все смуты, происходившие в княжестве, они поддерживали, смотря по обстоятельствам, то епископа против горожан, то горожан против епископа, и сумели таким образом держать в одинаковой зависимости от себя обе стороны и нейтрализовать одну другой. Брабантские князья поддерживали, минуя льежского епископа, разнообразные связи с кельнскими архиепископами. Генрих I благодаря своему корыстному участию в борьбе вельфов с гибеллинами оказался в оживленных сношениях с Филиппом Гейнсбергским и его преемниками, которые чаще всего были его союзниками. Не то было при Генрихе II, жившем в менее бурное время и не нуждавшемся в помощи архиепископов. Он, наоборот, видел в них лишь конкурирующую силу, лишь помеху к осуществлению своих замыслов в странах, расположенных между Рейном и Маасом. В 1239 г. он воевал вместе с герцогом Лимбургским против архиепископа Конрада Гохштаденского. Опустошив окрестности Бонна, он отступил, успев, однако, захватить замок Далем, являвшийся для Брабанта форпостом на правом берегу Мааса. Смуты, царившие в Империи в середине XIII века, были как нельзя более на руку герцогам. Генрих II мог бы, по-видимому, добиться титула императора, который так соблазнял когда-то его отца. Но он не стремился к титулу, ради которого ему пришлось бы отказаться от своей роли территориального князя. Понимая, что более выгодно распоряжаться короной, чем иметь ее, он помог своему шурину Вильгельму Голландскому получить титул императора, будучи уверен, что, возведя на престол простого графа, он обеспечит брабантской династии в Лотарингии гораздо больший престиж, чем мог бы ей дать императорский титул. События вскоре показали, что он не ошибся. Как только началось великое междуцарствие в Германии, Альфонс Кастильский поспешил обратиться за помощью к Генриху III. Последний не склонен был отказывать ему в своих услугах и признал Альфонса, тем более кельнский архиепископ поддерживал Ричарда Корнульского. Впрочем, он заставил своего кандидата очень щедро заплатить ему за обещания, которые он не спешил выполнять. Помимо полученных им от Альфонса значительных субсидий, он добился от него также передачи себе обязанностей фогта в отношении вассалов и городов Германской империи, расположенных между Брабантом и Рейном и от границ Трирского диоцеза до Северного моря. Прежняя герцогская власть казалась теперь восстановленной во всем своем объеме, и брабантские князья обладали теперь титулом, дававшим им возможность вмешиваться, по своему усмотрению, в дела рейнских областей. Это была первая и весьма существенная победа, одержанная над кельнским архиепископом. Вступление на престол Рудольфа Габсбургского (1273 г.) не изменило положения. Начиная с его правления, римские короли или германские императоры, внимание которых все более устремлялось к востоку и югу Германии, поддерживали с Нидерландами только весьма нерегулярные и далеко не близкие отношения. Герцоги перестали интересоваться своими невидимыми сюзеренами, они не принимали больше участия в их выборах, и, когда образовалась коллегия курфюрстов, им не предоставлено было в ней места. Фактически Лотарингское герцогство стало с этого времени чуждой для Германской империи страной. Лотарингские князья пользовались полнейшей независимостью, и французские короли вновь, как и в X веке, стали обращать свои взоры к рейнской границе. Могущество брабантской династии, естественно, должно было привлечь к себе прежде всего внимание Капетингов. Филипп-Август издавна пытался склонить ее на свою сторону. Его союз с Генрихом I, претерпевший вначале ряд колебаний в связи с поведением этого непостояннейшего человека, после сражения при Бувине упрочился, и еще более укрепился при его преемниках. Старшая дочь Генриха II была выдана замуж за Роберта Артуа, брата Людовика IX; Мария, дочь Генриха III, стала женой Филиппа Смелого; а герцог Иоанн I женился на Маргарите Французской. Иоанн I был самым выдающимся нидерландским князем конца XIII века[440]. С первого взгляда он производил впечатление героя-рыцаря во французском стиле. Это был страстный любитель турниров и поединков на мечах, большой поклонник дам, покровитель поэтов, а когда нужно — и сам поэт. Он умер сорока лет во время боя на копьях, в момент, когда он всецело поглощен был новой любовной интригой и замышлял похитить графиню де Бар[441]. Он оставил по себе репутацию смелого, доброжелательного и лояльного человека, которого наперебой славили, как валлон — Адне ле Руа, так и фламандец — ван Гелю. Но за этой блестящей внешностью, вызывавшей восхищение и зависть его современников, скрывался очень практичный и весьма предусмотрительный человек, настоящий брабантскии князь, проникнутый сознанием своего древнего и благородного происхождения, необычайно привязанный к своей стране и подданным, человек, добившийся в конце концов благодаря своей смелости и ловкости победы традиционной политики своих предков. Несмотря на свой беспокойный нрав и светские привычки, Иоанн был в течение всего своего царствования другом городов и покровителем купцов. Времена крестовых походов теперь безвозвратно миновали, преследовать грабителей и разрушать замки дворян, стремившихся поправить свои расшатанные финансовые дела всякими незаконными поборами с торговли, было теперь, по мнению горожан, столь же почтенным делом, как и освобождение гроба господня. Ван Гелю, например, писал следующее:II
Война, закончившаяся победой при Воррингене, была венцом традиционной политики брабантских герцогов. Иоанн I сам вызвал ее и провел, и если Филипп Красивый в самом конце ее явился посредником между воюющими сторонами, то это произошло по просьбе герцога, причем он выступил не в качестве повелителя, а в качестве судьи. Совсем иную картину представляла борьба между домом д'Авенов и Дампьеров, занимающая всю вторую половину XIII века. Она привела к ряду столь же существенных, сколь и неожиданных перемен в Нидерландах. Она радикально изменила положение ряда династий и княжеств. Но — и это особенно важно — эта борьба с самого начала и до конца целиком находилась под иностранными влияниями. В общем, она производит впечатление как бы главы из истории взаимоотношений Франции и Империи во второй половине Средних веков. Она превратила бассейны Шельды и Мааса в арену, на которой решался своего рода «западный вопрос»[451]. Со времени сражения при Бувине постоянной целью французских королей было отдать фландрскую корону какому-нибудь французскому князю. С этой целью Людовик IX устроил обручение наследницы фландрского графства с Робертом Артуа, а затем, после внезапной смерти юной принцессы, брак Томаса Савойского, дяди королевы Бланки Кастильской, матери короля, с графиней Иоанной[452]. Но этот брак не дал потомства. Поэтому наследство Иоанны должно было достаться ее младшей сестре Маргарите, которая жила до этого вдали от всяких дел и известна была во Фландрии и Генегау лишь по еще недавнему скандалу. В 1212 г. Маргарита в десятилетнем возрасте вышла замуж в Кеноу за генегауского барона Бурхарта д'Авена, бывшего в то время по назначению Иоанны и Феррана бальи Генегау. Впрочем, этот брак был недействителен, так как Бурхарт, предназначавшийся сначала для служения церкви, принадлежал к духовному сословию, из которого он в дальнейшем вышел, как и многие другие младшие сыновья, и вступил в рыцари. Эти обстоятельства не были широко известны, но маловероятно, чтобы о них могла не знать Иоанна, для которой они являлись удобным предлогом расторгнуть брак своей сестры, когда ей вздумается. Она тотчас же решилась на это, как только Бурхарт потребовал от имени своей жены часть наследства Балдуина IX. Маргарита осталась сначала верна своему мужу, несмотря на обрушившееся на него отлучение от церкви. Они удалились вместе в замок Гуфализ, где в течение шести лет вели сельскую жизнь владельцев замка, проводя время в охоте на кабанов и оленей в обширных арденнских лесах. Тем временем у них родились два сына. В 1222 г. Маргарита, уступив настояниям своей сестры или подчинившись в конце концов приказаниям церкви, неожиданно уехала от своего мужа и поселилась при дворе Иоанны, выдавшей ее через год замуж за рыцаря из Шампани Вильгельма Дампьера, которому она родила нескольких детей. Каково же должно было быть теперь юридическое положение ее детей от первого брака? В 1237 г. папа Григорий IX, применив к ним со всей строгостью каноническое право, объявил их незаконнорожденными. Со своей стороны император Фридрих II признал их вполне законными. Это решение приобретало первостепенное значение, так как, поскольку в Нидерландах повсюду было в силе право первородства и неделимости княжеского наследства, то тем самым Иоанн д'Авен — старший сын Бурхарта и Маргариты — вправе был считать себя единственным наследником Фландрии и Генегау, которые после смерти Иоанны, в 1244 г., достались ее сестре Маргарите. Но с этим решением не могли примириться ни дети Вильгельма Дампьера, ни сама Маргарита, возненавидевшая своих старших сыновей со времени своего нового брака. В конце концов по общему решению обратились к третейскому суду папы Иннокентия Ш и французского короля. Не входя в рассмотрение вопроса о законности, они должны были вынести решение относительно эвентуальных прав д'Авенов и Дампьеров на наследство их матери. Заинтересованные стороны, а равным образом рыцари и «добрые города» Фландрии и Генегау заранее обязались признать это решение. Оно было объявлено в 1246 г. На основании его графство Генегау должно было быть предоставлено во владение Иоанна д'Авена, а графство Фландрское — молодому Вильгельму Дампьеру. Ни один политический акт не имел в XIII веке большего значения для судеб Нидерландов, и если Людовик IX предвидел все последствия его, то его, несомненно, следует считать одним из самых проницательных дипломатов средневековья. Однако более вероятно, что он не в состоянии был оценить всего значения его и вполне искренне желал разрешить предложенный на его усмотрение спор, не упуская при этом из виду выгод Франции. В самом деле его решение несомненно продиктовано было интересами капетингской политики. Разделив владения Маргариты между двумя конкурирующими династиями, он неминуемо ослаблял территориальное могущество фландрской династии; одновременно он создавал против Дампьеров опасного конкурента, который должен был заставить их рано или поздно искать поддержки у французской короны и заплатить полнейшим повиновением за помощь, которая будет им оказана. Но решение 1246 г. являлось, кроме того, крупной победой Франции над Германской империей. В самом деле, король вынес решение не только относительно зависевшей от него части Фландрии, но и относительно Генегау и имперской Фландрии, являвшейся составной частью Германской империи. Он как будто забыл, что Шельда была границей его королевства, и, воспользовавшись смутами в Империи, самовластно распоряжался не принадлежавшими ему территориями так, как если бы Нидерланды были выморочным имуществом, res nullius. Это обстоятельство и послужило предлогом для Иоанна д'Авена оспаривать решение Людовика IX. Он решил привлечь на свою сторону Германию, выступить в Нидерландах в роли защитника прав Империи от посягательств Франции и вызвать между обоими государствами конфликт, который должен был быть ему на руку. Но, кроме того, он позаботился обеспечить себе еще и менее отдаленного союзника. Он нашел его в лице графа Голландского, имевшего, подобно ему, свои притязания на Фландрию. Вражда между Фландрией и Голландией была давнишнего происхождения. Обе эти территории, объединенные на короткое время благодаря браку Роберта Фрисландского с графиней Гертрудой, окончательно отделились друг от друга в конце XI века. С этого времени Голландия, подобно другим лотарингским княжествам, воспользовавшись слабостью церкви в Империи, сделала, как и они, большие успехи[453]. Голландские графы заняли такую же позицию по отношению к утрехтским епископам, как брабантские герцоги по отношению к льежским епископам. По их образцу они вмешивались в епископские выборы и поддерживали города против прелатов. В начале XII века Теодорих VI одержал крупную победу над Андреасом Кейком (1128–1138 гг.), и с этого времени влияние голландских графов в «Стихте» росло с каждым новым царствованием. Во время войны за голландское наследство в первые годы XIII века Теодорих ван дер Аре высказался за Людовика Лоозского. Поражение, нанесенное последнему Вильгельмом I, привело к роковым последствиям для епископства. Спустя короткое время восстание в местности Дрант нанесло чувствительный удар территориальному могуществу утрехтского епископства, которое после этого события подпало, вплоть до конца Средних веков, под влияние голландских графов. Последние, обезопасив себя со стороны Утрехта, смогли теперь направить все свои усилия на завоевание Фрисландии. Борьба между голландским рыцарством и свободными крестьянами севера была долгой и упорной. Война происходила зимой, посреди снегов и туманов. Благодаря неожиданно ударившим морозам рвы и болота покрылись льдом, и это дало возможность тяжелым феодальным эскадронам вторгнуться в страну. Флоренции III (1157–1190 гг.) был побежден, Вильгельм II (1234–1256 гг.) убит фрисландцами. Однако, несмотря на все это, завоевание страны продолжалось. Флоренции V (1256–1296 гг.) закончил покорение всей страны до острова Тексель и прибавил к своему титулу графа Голландского титул сеньора Фрисландского. Голландия, расширяя свои владения вовне, за счет Фрисландии и «Стихта», одновременно претерпела и ряд внутриполитических изменений. В течение долгого времени единственным крупным городом на севере был Утрехт. Но во второй половине XII века на побережье начали возникать торговые центры, и голландским князьям, подобно их южным соседям, пришлось заняться интересами своих городов. Именно это и послужило толчком к конфликту их с Фландрией. Действительно, Фландрия, суверенитет которой простирался на всю южную Зеландию, владела правами над устьями Шельды и частично Мааса и Рейна. Голландские графы издавна пытались избавиться от этого. Они обложили фландрских купцов сбором за право «провоза» и потребовали от них новых речных налогов. Война разразилась. Это была настоящая торговая война, под видом феодальной междоусобицы. Она привела к роковым последствиям для Голландии. В 1168 г. Флоренции III должен был признать сюзеренитет Филиппа Эльзасского над Зеландией, уничтожить введенные сборы за провоз и вынужден был обязаться не возводить здесь никаких крепостей. В 1204 г. Людовик Лоозский признал этот договор с целью обеспечить себе поддержку Фландрии против своего конкурента Вильгельма. Он навлек этим на себя ненависть городов, объединившихся с Вильгельмом, подобно тому как столетие тому назад фландрские города объединились вокруг Теодориха Эльзасского против Вильгельма Нормандского. Впрочем, Вильгельм и после своей победы над Людовиком Лоозским не решился порвать с Фландрией. Он соблюдал порядок, установленный соглашением 1168 г. Его преемник Флоренции IV сделал попытку избавиться от него. Но военное счастье ему изменило, и вплоть до 1246 г. в Зеландии сохранялся статус-кво. Однако, преемник Флоренция, Вильгельм II, выжидал только благоприятного повода, чтобы перейти опять в наступление. Этим поводом явилось для него решение, вынесенное французским королем по поводу детей Маргариты Фландрской. Он поспешил вступить в союз, предложенный ему Иоанном д'Авеном, и выдал за него замуж свою сестру, Алису. Таким образом династические интересы дома д'Авенов объединились теперь с торговыми интересами Голландии против Фландрии. Момент начала военных действий был уже близок, и Вильгельм только что присоединил к своему титулу граф Голландии слова «и Зеландии»[454], когда он вдруг был избран императором Священной Римской империи (1247 г.). Это было большим выигрышем для врагов Фландрии. Разумеется, власть императора не пользовалась уже больше никаким престижем в Лотарингии, и Вильгельм не ставил перед собой невыполнимой задачи восстановить ее. После выборов, как и до них, его политика в Нидерландах была в большей степени политикой территориального князя, чем политикой германского монарха[455]. Но он мог по крайней мере использовать к вящей выгоде голландской и д'Авенской династии верховные права короны и не преминул это сделать. Задержавшись сначала в связи с осадой Аахена и своими переговорами с рейнскими городами и князьями на правом берегу Мааса, он ограничился пожалованием Иоанну д'Авену в 1248 г. Намюрского графства, последний граф которого, Балдуин де Куртенэ, наследник императорской короны в Константинополе, не только пренебрег принести ему присягу верности, но, отправляясь на Восток, оставил свои владения на попечение французского короля. Только в 1252 г. Вильгельм открыто занялся Фландрией. Ввиду того, что Маргарита не принесла ему феодальной присяги за зависевшие от Империи феоды, он объявил их конфискованными. Последовавшая за этим война была неудачна для графини, войска которой были разбиты у Весткапеля, на острове Вальхерен (1 июля 1253 г.). Графиня тотчас же обратилась за помощью к Франции. Она поспешила в Париж предложить Карлу Анжуйскому[456], брату Людовика IX, взять на себя защиту Фландрского графства и уступила ему графство Генегау, признав одновременно сюзеренитет короля над Ваасской областью. Это означало передачу Капетингской династии территории, зависевшей от Империи. Решение 1246 г. принесло свои плоды: чтобы справиться с коалицией своих противников, Фландрия вынуждена была стать орудием французской политики. Но именно в силу этого ее победа была обеспечена. На основании состоявшегося в 1256 г. мира были, правда, признаны права Иоанна д'Авена на графство Генегау, оставленное Карлом Анжуйским, но в то же время он вынужден был отказаться от Намюрского графства, и восстановлен был сюзеренитет Фландрии над Зеландией. Таким образом, перевес оказался на стороне Маргариты. И неизбежным следствием этого были новые успехи французского короля в Нидерландах за счет Германии. Однако Иоанн д'Авен и не думал отказываться от своих планов втравить Францию в войну с Империей. Он втайне лелеял мечту стать самому императором[457]. Внезапная смерть Вильгельма Голландского во льдах Фрисландии (28 января 1256 г.) застигла Иоанна д'Авена врасплох, но не обескуражила его. Под влиянием притязаний Ричарда Корнуольского на германский престол в его изобретательном мозгу тотчас же зародился план восстановления союза Германской империи с Англией против Франции. Он сделался ходатаем Ричарда и, не щадя себя, обрабатывал в его пользу германских князей. Но его иллюзии вскоре рассеялись. Он скоро убедился, что европейская война против Франции неосуществима. Империя всецело поглощена была смутами великого междуцарствия. Ричард был лишь тенью короля, и Иоанн получил от него всего-навсего бесплодное признание своих прав на Намюрское графство. Иоанн д'Авен умер в 1257 г., завещав своему сыну свою ненависть к Франции и Дампьерам. Тотчас же после избрания Рудольфа Габсбургского (1273 г.) Иоанн II поспешил взяться за дело. Как и его отец, он хотел раздавить конкурирующие династии под пятой Империи. Если бы дело было только за ним, то, франкогерманская война разразилась бы тотчас же. В полных горечи выражениях он умолял Рудольфа двинуться на Нидерланды. Он изображал ему, как князья пользовались постоянным отсутствием сюзерена и освобождали себя от повиновения ему, какие оскорбления Франция наносила императорскому величеству и как граф Фландрский нагло издевался «над притупившимся мечом Германской империи»[458]. Но этому настойчивому зову не суждено было быть услышанным. Рудольф не явился защищать германскую границу, а ограничился посылкой грамот. Он пожаловал Иоанну д'Авену имперскую Фландрию и объявил Гюи де Дампьера изгнанным из Империи. Последний не обратил никакого внимания на эти указы. Он был совершенно прав, когда издевался над мечом Империи. Никогда еще его положение в Нидерландах не было более благоприятным. Его династия одержала решительную победу над д'Авенами. И хотя он вынужден был уступить графство Генегау Иоанну II, однако он получил за то крупную компенсацию, приобретя графство Намюрское, купленное им в 1263 г. у Балдуина де Куртенэ, несмотря на вынесенное в свое время решение Вильгельма Голландского. Он состоял в союзе с графом Люксембургским и графом Гельдернским, один из его сыновей стал в 1282 г. льежским епископом, а в 1290 г. Флоренции Голландский, застигнутый врасплох вторжением Фландрии на остров Вальхерен, отказался на время от своих притязаний на Зеландию[459]. Эти успехи фландрскойдинастии в Лотарингии нетрудно объяснить. Действительно, в то время как Рудольф Габсбургский предоставил Иоанна д'Авена его собственным силам, французский король, наоборот, деятельно помогал всем начинаниям Гюи. Повсюду во владениях Империи, куда только проникало фламандское влияние, за ним тотчас же устремлялось и французское влияние. Развитие феодальной политики и королевской политики происходило одновременно, первая расчищала путь для второй, которая за то предоставляла к ее услугам свои силы. Мы видели, как тотчас же после приобретения Намюрского графства Гюи Дампьером французский король вмешался в дела льежского епископства, которым он до этого совершенно не интересовался. В 1276 г. именно он содействовал заключению мира между графом и епископом[460]. Последний обещал тогда подчиниться de alto et basso решению короля, и его письма по этому поводу были письмами покорнейшего вассала своему сюзерену. С этого времени французское влияние сделало большие успехи в Льежском княжестве. В 1304 г. епископ Теобальд Барский принес присягу верности Филиппу Красивому, которому около этого времени льежская церковь стала выплачивать десятину со своих доходов. Если, с другой стороны, принять во внимание, что с конца XIII в. установились тесные взаимоотношения между парижским двором и люксембургскими графами[461], если далее вспомнить, что король был союзником Брабантского герцога и благодаря своему посредничеству положил конец воррингенской войне, то вполне понятно, что Капетингская династия могла льстить себя надеждой вскоре опять завладеть той самой Лотарингией, которую Каролинги потеряли в X веке. Французская культура и французский язык, неуклонно распространявшиеся на Шельде, содействовали успехам политики Франции. Казалось, недалек час, когда Нидерланды испытают ту же участь, что и Арльское королевство. Однако час этот не настал. При этих столь благоприятных обстоятельствах, бывших на руку французскому королю, он вдруг увидел непреодолимое препятствие на своем пути. Он сумел привлечь на свою сторону князей, но не сумел сделать того же самого в отношении городов. Экономические интересы больших фландрских городов, социальная борьба, ареной которой они стали, придали внезапно истории Нидерландов совсем иное направление. Подобно тому как лотарингская феодальная знать свергла в XI в. иго имперской церкви, точно так. же в начале XIV в. фландрские города поднялись против Филиппа Красивого. Крушение политики Капетингов в момент, когда она казалась на вершине своей славы, было вызвано промышленным и торговым развитием бассейна Шельды. Сражение при Куртрэ уничтожило дело, начатое сражением при Бувине. Но между обоими этими событиями была огромная разница. Сражение при Бувине было развязкой большого международного конфликта, сражение же при Куртрэ являлось закономерным следствием внутренней истории Фландрии. Чтобы понять вызвавший его кризис и связанные с ним последствия, нам необходимо бегло рассмотреть, каково было положение Нидерландов в конце XII века.
Глава четвертая
Политические и социальные перемены, происшедшие под влиянием торговли и промышленности
I
«Существование и прокормление графства Фландрского, которое не может обойтись своими продовольственными ресурсами, если оно ничего не получает со стороны, — писал в 1297 г. Гюи де Дампьер Филиппу Красивому, — покоится на товарах, которые обычно прибывают сюда морем и сушей из всех стран мира»[462]. Эти слова можно применить также к большей части южных Нидерландов во второй половине XIII века. Действительно, наиболее характерная черта этих областей в то время заключалась в преобладающей роли торговли и промышленности в социальной жизни страны. В тогдашней Европе Бельгия была страной купцов и ремесленников — по преимуществу. Они создали здесь совершенно своеобразную цивилизацию, отпечаток которой население[463] сохранило в течение веков. Особенности этой цивилизации можно резюмировать в двух словах: она была городской и космополитической. Она зародилась в городах, но в городах, которые были открыты для мировой торговли или промышленность которых имела своим рынком всю Европу. Экономическая и политическая история Нидерландов сходны между собой. Обе они в одинаковой степени — продукт интернациональной жизни Западной Европы. Поразительное благосостояние Фландрии в XIII веке объясняется общим расцветом торговли в ту эпоху. Страна эта благодаря своему центральному положению между Францией, Англией и Германией сделалась важнейшим складочным пунктом для торговли в Северной Европе. Она приобрела тогда непреодолимую притягательную силу для соседних стран, задержав тем самым надолго развитие голландских портов, а также антверпенского порта. На набережные Брюгге, непосредственно связанного с морем и находившегося на полпути между Зундом и Гибралтарским проливом, стекались товары как с севера, так и с юга. Уже в ранний период старая гавань города оказалась недостаточно обширной и недостаточно глубокой, чтобы принимать суда, входившие в Звин. В правление Филиппа Эльзасского в Дамме построили новую гавань, соединенную каналом с Брюгге. В следующем году на берегах залива появились другие «городки»: Термейден, от которого осталось теперь лишь несколько домов вокруг развалин церкви, Мюникереде, который исчез, Хоуке, представленный теперь дюжиной разбросанных по равнине ферм, наконец, Слецс, колокола которого возвещали путешественникам прибытие в рейд[464]. Огромные плотины, воспетые Данте[465], отмечали берега фарватера, бакены и буи указывали на мели, огромные башни Термейдена, Осткерке, Дамма, Лиссевега тянулись одна за другой вдоль берега, подобно маякам[466], а вдали поднимавшиеся в небо шпили брюггских колоколен указывали мореплавателям на конечную цель их путешествия. Фарватер Звина был так же известен морякам, как фарватер венецианских лагун, а на «Groote Markt» (большом рынке) можно было наблюдать такое же оживление и такую же пеструю толпу, как на площади св. Марка. Купцы всех стран, берега которых омываются морем, начиная с Прованса до далей Балтийского моря, навещали тогда брюггский порт. Немцы, англичане и скандинавы смешивались здесь с нормандцами, флорентийцами[467], португальцами, испанцами и жителями Лангедока[468]. Город отличался своим космополитическим характером, который тогда нигде нельзя было встретить в другом месте к северу от Альп. Он был общим рынком германских и романских народов[469]. Благодаря ему морское право, зародившееся в портах Средиземного моря, перешло под названием «Seerecht van Damme» к мореплавателям Севера. Любопытная и недостаточно отмеченная вещь: параллельно тому, как Брюгге становился великим рынком Запада, он утрачивал свой торговый флот. Чем многочисленнее становились иностранные суда, теснившиеся в его порту, тем реже были здесь фландрские суда. Брюггские моряки занимались еще каботажным плаванием[470], а также рыбной ловлей, но они принимали лишь ничтожное участие в дальнем плавании. Во Фландрии XIII века, как и в современной Бельгии, роль торговли нисколько не соответствовала морскому значению страны, и не Лондон или Гамбург, а Антверпен напоминает в наши дни то, чем был Брюгге 600 лет тому назад. Впрочем, легко понять упадок фландрского судоходства с середины ХIII века. До тех пор пока товары из Испании, Германии или Франции прибывали к берегам Звина по течению рек и сушей, брюггские, гравелингские, ньюпортские, даммские и арденбургские суда переправляли их в Англию и на север. Промышленный подъем Фландрии со своей стороны содействовал развитию национального судоходства. На отечественных судах отправлялись в Англию, Шотландию, Ирландию купцы лондонской ганзы, везя с собой туда сукно, а при возвращении — шерсть. Эти суда заходили в Балтийское море, где жители Арденбурга получили в 1238 г. крупные привилегии от графа Адольфа Гольштейнского. С XII века они поднимались вверх по течению Рейна, и в 1178 г. архиепископ Кельнский предоставил гентцам право свободного плавания по реке, право, долго затем оспаривавшееся кельнскими горожанами, желавшими помешать этим чужестранцам провозить самим свои товары до подножья Альп[471]. Борьба между графами Эльзасского дома и графами Голландскими из-за зеландской пошлины со своей стороны свидетельствует о роли, которую играло в это время фландрское судоходство в дельте Шельды и Мааса. Словом, с конца XI века до середины XIII века фландрские купцы встречались повсюду, куда вывозились фландрские товары. Их тяжелые фуры двигались по дорогам, поднимающимся к Сен-Бернарскому перевалу, а их суда плавали по всем морям Севера. Но положение дел изменилось, когда транзитной торговлей в Северном и Балтийском морях и Бискайском заливе стали заниматься английские суда и особенно суда ганзейских городов Германии. Фландрские моряки, гораздо менее многочисленные, чем их конкуренты, были оттеснены. Начавшиеся в правление графини Маргариты торговые столкновения между Фландрией и Англией были, по-видимому, своего рода морской войной, в которой окончательно рухнуло морское могущество графства. Во всяком случае в конце XIII века мелкие фландрские порты перестали снаряжать суда, и их гавани опустели. Арденбург, где жизнь била ключом 50 лет назад, перестал быть городом моряков к моменту начала правления Гюи де Дампьера. Во фландрской торговле произошла резкая перемена: из активной, какой она была раньше, она стала теперь пассивной. Купцы, перестав перевозить сами свои товары, переложили отныне эту заботу на других. Этот отказ от традиции, разорительный для второстепенных портов, обеспечил зато благосостояние Брюгге, сосредоточив в нем всю морскую жизнь, сделав из него место встречи иностранных судов, которые вскоре захватили целиком транспортное дело. С тех пор фламандцы перестали посещать чужие страны. Находясь на скрещении главных потоков экономической жизни, они не нуждались больше в далеких экспедициях и в устройстве за границей своих торговых отделений. Богатство само шло к ним, и им оставалось только спокойно ожидать его. Правда, до конца XIII века их еще встречали на берегах Балтийского моря, и в особенности в Англии и Шампани. Но они уже нигде больше не поселялись[472]. По мере того как росла их торговля, она принимала, если можно так выразиться, оседлый характер, и их торговая роль свелась к роли маклеров или посредников между различными народами Запада. В начале XIII века разнообразие и изобилие товаров, грудами высившихся на набережных Дамма, вызвали взрыв восторга у солдат Филиппа-Августа, а Вильгельм Бретонский велеречиво описывает шелковые изделия, драгоценные металлы, меха, вина и сукна, которыми были переполнены склады. Но в это время Брюггский порт был еще далек от того расцвета, которого он достиг через 50 лет, когда он стал поддерживать регулярные сношения не только с Англией, Нормандией и Гасконью, но и с Португалией, Испанией и Провансом, с одной стороны, и ганзейскими городами — с другой. Действительно, с этого времени товары с севера и юга очутились здесь рядом с французскими винами и английской шерстью, являвшимися раньше основными статьями крупной торговли. С Средиземного моря прибывали в огромных количествах пряности, цветное дерево, изделия восточной промышленности, в то время как ганзейские корабли привозили из Германии, России и Швеции хлеб, строительный лес, копченую рыбу, меха и металлы. В конце XIII века одна составленная для купцов грамота упоминает более 30 различных стран, как христианских, так и мусульманских, «из которых прибывают в Брюгге товары», и заключает, что «ни одну страну нельзя сравнивать по богатству товаров, с Фландрией»[473]. Однако брюггская торговля не достигла еще в это время полного своего расцвета. Она достигла своего апогея в начале следующего века, когда регулярные рейсы связали Звинский порт с Генуей и Венецией[474]. Своим поразительным благосостоянием Брюгге был обязан не только своему географическому положению. Этому в значительной мере содействовали и графы фландрские. Если от Балдуина и до Карла Доброго они употребили все свои силы для установления порядка и мира в стране, если при Теодорихе и Филиппе Эльзасских они выступали в качестве защитников горожан, то начиная с Балдуина IX они постоянно заботились о развитии торговых сношений с чужими странами. По сравнению с политикой современных им государей, их собственная политика носила явно либеральный, и, можно сказать, фритредерский характер[475]2. Они — отлично понимали специфические условия, в которых находилась их страна. Вместо того чтобы эксплуатировать торговлю с иностранцами, обременять ее тяжелыми пошлинами, подвергать ее строгому фискальному надзору, они, наоборот, устраняли все препятствия, которые могли бы мешать ее свободному развитию. Вместо того чтобы упорствовать в защите фландрского судоходства от иностранной конкуренции и тщетно пытаться сохранить за ним монополию транспорта, они поняли, что их интересы повелительно предписывают им содействовать превращению Брюгге в международный порт. Если в XII веке они пытались получить для своих подданных торговые привилегии за границей, то в настоящее время они стали привлекать иностранцев к себе. Эта политика явно обнаруживается в ряде привилегий, данных в 1252 г. графиней Маргаритой «остерлингам» (так во Фландрии называли немецких купцов)[476]. Эти привилегии давали им право селиться в Дамме. Они уменьшали пошлины в их пользу, уничтожали береговое право и устанавливали таксу для платы услуг маклеров (makelaeren). Немецкие купцы могли быть арестованы за долги в том случае, если они были principales debitores (основными должниками), и их нельзя было заключать в тюрьму, если они могли дать залог. Они были подчинены исключительно юрисдикции эшевенов, обязанных решать их дела в течение недели. На суда с грузом арест мог налагаться только на основании законной жалобы. Если кто-нибудь был ранен снастями какого-нибудь судна, то собственник последнего оставался на свободе. Чтобы гарантировать беспристрастие судей в торговых делах, бальи и эшевенам было запрещено занимать должности сборщиков пошлины. Наконец, если бы между Фландрией и каким-нибудь немецким городом началась война, то неприятности могли угрожать лишь купцам этого города, да и то им давался срок в три месяца, чтобы покинуть страну и вывезти из нее свое имущество. Аналогичные привилегии даны были в следующие годы купцам Пуату, Гиени и Гаскони (1262 г.)[477] и испанским купцам (1280 г.)[478]. В то время как в Венеции над иностранцами, теснившимися в своих fondachi (факториях), был учрежден бдительный надзор и республика заставляла их вести торговые дела только с венецианцами, в Брюгге они могли свободно торговать, объединяться между собой или с местными жителями; им была запрещена только розничная торговля, предоставленная местным горожанам. Им было разрешено приобретать дома в городе, и они пользовались особо благоприятными условиями при найме необходимых им погребов, подвалов или складов. Неудивительно поэтому, что они селились в Брюгге на постоянное жительство. В XIV веке здесь упоминаются колонии гасконцев, испанцев, венецианцев, генуэзцев, и португальцев. Но численностью своих членов и размерами своих привилегий выделялась с самого начала, в особенности, немецкая фактория. В 1356 г. она перешла под руководство Ганзы, став с тех пор самым крупным торговым центром, который имел когда-нибудь этот могущественный союз[479]. Брюггские горожане первоначально протестовали против исключительных привилегий, дарованных иностранцам Маргаритой и Гюи де Дампьером. Но государи руководились «интересами общего блага» Фландрии и не давали в обиду своих подзащитных. После некоторых кратковременных столкновений их политика восторжествовала над городским партикуляризмом, и Брюгге окончательно принял вид космополитического города. Его маклеры, через посредство которых происходили все торговые сделки, являлись в середине XIII века первой из всех местных корпораций. Среди них встречались многочисленные имена богатейших патрицианских семейств[480]. Кипучая торговая жизнь, центром которой был Брюгге, должна была развить в нем с ранних пор торговлю деньгами. Уже в конце XIII века Аррас был во Фландрии городом заимодавцев и ростовщиков: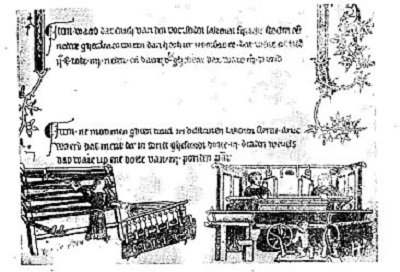
Сукноделы за работой (миниатюра XIV в.)
В ходе исторического развития суконная промышленность стала в Средние века перемещаться с юга Нидерландов на север. Она покинула сначала Артуа, затем валлонскую Фландрию, все более концентрируясь в Ипре, Генте и Брюгге. Но в то же время она распространилась в Брабанте, и в XIV веке Лувен, Брюссель и Мехельн стали соперничать со своими соседями по ту сторону Шельды. Причину этой эволюции следует искать в экономической и политической истории страны. В то время, когда торговля велась главным образом по сухопутным дорогам и по течениям рек, фландрские сукна распространились в чужих землях благодаря местным или заграничным ярмаркам. Иностранные купцы приезжали за товарами на пять фландрских ярмарок — в Туру, Мессин, Лилль и Дуэ, в то время как бельгийские купцы, со своей стороны, отправляли свои ткани на английские ярмарки, на ярмарки рейнских областей и в особенности на знаменитые ярмарки Шампани[495]. Эти последние оставались до конца XIII века одним из главных рынков фламандской промышленности. Суконщики Дуэ, Лилля и Ипра сбывали туда лучшую часть своих товаров. Каждый год они приезжали сюда обменивать под руководством «eswardeur» (надсмотрщика) свои ткани на товары, привозившиеся из Бургундии, Прованса, Италии и Испании, и их тамошние сделки были так значительны, что для выписывания долговых и кредитных обязательств пришлось создать в городах должность особых клерков, которых называли «шампанскими клерками»[496]. Благодаря развитию морской торговли роль ярмарок уменьшилась к концу XIII века. Фландрские ярмарки пришли в это время в полный упадок. Иностранные купцы не приезжали больше в Мессин или в Туру. Они облюбовали Брюгге, откуда отправлялись для закупок по своему усмотрению в города внутри страны. В правление Гюи де Дампьера крупнейшие промышленные города видели в сохранении ярмарок лишь препятствие для свободных торговых сношений[497]. Отвернувшись от фландрских ярмарок, иностранцы стали мало-помалу покидать также и ярмарки Шампани. Их упадок начался в царствование Филиппа Красивого, когда итальянцы перестали приезжать туда в большом количестве. С тех пор жители Нидерландов стали все реже пользоваться дорогами Франции. Если в XIV веке Дуэ, Мехельн и Аувен имели еще свои ряды в Бар-сюр-Обе, то их торговля здесь все более и более хирела. Вся промышленность устремилась теперь к Звинскому порту. Присоединение валлонской Фландрии к Франции в тот момент, когда завершалась эта эволюция, нанесло смертельный удар ее промышленности. Оторванная от Брюгге, валлонская Фландрия должна была отказаться от соперничества с городами севера. Это нетрудно понять, если принять во внимание, что море было необходимо не только для сбыта изделий фландрской суконной промышленности, но для получения перерабатывавшегося ею сырья. Действительно, уже с ранних пор местной шерсти оказалось недостаточно для нужд промышленности и пришлось прибегнуть к ввозу ее из-за границы. Для этого обратились, конечно, к Англии. Овцы этой страны богатых пастбищ славились тонкостью и длиной своего руна, и вскоре после нормандского завоевания начался усиленный ввоз английской шерсти во Фландрию. Купцы, приезжавшие продавать свои сукна на ярмарках островного королевства, возвращались оттуда с полным грузом шерсти. Они имели в Дувре и в Лондоне склады, в которых скоплялась в период стрижки драгоценная шерсть. Английские крупные земельные собственники, уверенные в наличии постоянного рынка сбыта, стали развивать в своих поместьях во все большем масштабе овцеводство. Особенно отличались этим цистерцианские аббатства. Шерсть каждого из них была известна и котировалась на брюггском рынке[498]. Пошлины с вывозимой шерсти составляли в XIII веке один из значительнейших источников дохода английской короны[499]. Таким образом, Фландрия и Англия стали необходимы друг другу. Первая не могла обойтись без своей соседки для своей промышленности, а вторая — для своего сельского хозяйства. Начиная со второй половины XIII века в каждом из крупнейших городов Фландрии купцы, посещавшие английские порты и ярмарки, стали объединяться в компании или гильдии, которые) обыкновенно назывались ганзами. Их примеру последовали купцы небольших городов, и вскоре различные ганзы сорганизовались, сперва в местные группы, а позже — в обширную ассоциацию, которая охватила всю страну и которую назвали Лондонской ганзой[500]. Брюгге назначал «Hansgrave» («графа ганзы») этой могущественной организации; «Schildrake», или знаменосец, должен был быть из Ипра. Лондонская ганза монополизировала вывоз сукна и шерсти в течение большей части XIII века, т. е. вплоть до того момента, когда фландрская торговля перестала быть активной торговлей. Города, входившие в ее состав, получили от английских королей значительные привилегии. В 1232 г. Генрих III объявил, что он берет под свое покровительство всех ипрских горожан, и издал указ, что они могут быть арестованы лишь за долги, за которые они лично поручились[501]. Четыре года спустя, в 1236 г., фландрские купцы получили от того же государя за подарок в 400 марок обещание, что их не будут тревожить в случае войны между Францией и Англией, если только Фландрия сама не примет непосредственного участия в военных действиях[502]. Благодаря этим привилегиям торговые сношения между обоими берегами Северного моря очень оживились, и в Лондоне чуть было не возникла фландрская фактория. Однако этого не случилось. Исчезновение фландрского торгового флота к концу XIII века и создание в Брюгге складочного пункта для английской шерсти избавили купцов графства от необходимости ездить самим за этим товаром на его родину. Они покинули берега Темзы, и Лондонская ганза, ставшая бесполезной, отныне лишь прозябала. Филипп Красивый добился у Эдуарда I перенесения складочного пункта шерсти из Брюгге в Сент-Омер, но это не дало никаких результатов: Звинский порт представлял для английских экспортеров слишком много преимуществ, чтобы они могли надолго отказаться от него. Однако Фландрия не поглощала всей шерсти, вывозившейся из Англии в Нидерланды. Значительная часть ее шла в Антверпен для нужд брабантской промышленности. Производство сукна приняло с середины XIII в. такие размеры, что для него потребовался ввоз в Нидерланды шерсти из Испании и Наварры. Одни только слишком жесткие и грубые сорта шерсти не находили сбыта; ими было запрещено пользоваться для изготовления тканей, предназначавшихся для торговли[503]. Исключительное процветание суконной промышленности оказало неизбежным образом влияние на организацию труда во фландрских и брабантских городах. В этих крупных мануфактурных центрах цехи, занимавшиеся обработкой шерсти, имели совсем иной вид, чем тот, который представляли вообще рабочие корпорации в Средние века. Легко понять причину этого. Вместо того чтобы производить, подобно другим цехам, на местный рынок, они производили для широкого сбыта, на вывоз. Ткачи, валяльщики, красильщики нисколько не походили на булочников, кузнецов или сапожников. Последние, будучи одновременно ремесленниками и торговцами, продавали непосредственно своим клиентам продукты своего труда; первые же, наоборот, были низведены до роли простых промышленных рабочих. Они не приходили в непосредственное соприкосновение с покупателями, они имели сношения только с дававшими ими работу предпринимателями, т. е. с «суконщиками». Суконщики распределяли между ними перерабатывавшуюся ими шерсть, и суконщики же продавали на рынках готовые ткани. Таким образом, между купцом и производителем появилось резкое разделение: первый был капиталистом, второй — наемным рабочим. Труд последнего служил лишь для поддержания торговли первого, и промышленный рабочий оказался в конце концов подчиненным купцу[504]. Это положение выступает с большой ясностью в «Jteures» и муниципальных уставах («bans»). Повсюду эшевены предоставили купеческой гильдии надзор за цехами, занимавшимися изготовлением сукна. Во Фландрии до конца XIII века, а в Брабанте до конца Средних веков[505], гильдия надзирала за различными отраслями производства и регулировала их. Чтобы обеспечить безупречное качество товаров, она подвергала их непрерывному и мелочному контролю. Ремесленники были связаны очень строгой и искусной регламентацией, имевшей целью подчинить их правилам безупречной техники. Промышленные указы, длинный ряд которых открывается уставом стригалей Дуэ (1229 г.)[506], свидетельствуют о бдительности и внимании, от которых ничто не могло ускользнуть, причем новые правила каждый раз усиливали или уточняли старые. Исконные способности фландрских рабочих к операциям, связанным с изготовлением сукна, получали, таким образом, толчок к дальнейшему развитию. Многообразным операциям, требующимся при изготовлении тканей, соответствовало такое же множество различных групп ремесленников: ткачей (wevers), валяльщиков (volers), стригалей (scherers), красильщиков (vaerwers) и т. д. Каждая из них находилась под надзором особых надсмотрщиков (conservatores drapperie, rewards, eswardeurs), которые назначались отчасти эшевенами, а отчасти гильдиями, и которые заведовали районами или «ommegangs», созданными в промышленных городах для наблюдения за порядком работы. Полномочия этих надсмотрщиков были весьма обширны. Они имели право входить в любое время дня в мастерские и производить там обыски, ибо неприкосновенность жилища, провозглашенная городскими хартиями, фактически не существовала для ремесленников. Поощрялись даже доносы на ремесленников, причем часть штрафов, падавших на них в случае обмана или небрежной работы, уделялась доносчикам. Ремесленники обязаны были работать на виду у прохожих, перед своим окном или своей дверью, так чтобы над ними всегда тяготела угроза быть уличенными в каком-нибудь нарушении правил работы. Цехи, занимавшиеся обработкой шерсти, отличались от других городских цехов главным образом количеством своих членов. Крупная, работающая на вывоз промышленность, рынок которой бесконечно растяжим и продукция которой непрерывно росла, могла кормить большие массы людей, и с XIII века в нее со всех сторон притекали люди, искавшие работы. Правда, у нас нет цифр для XIII века, но можно утверждать, что в начале XIV века Гент насчитывал по меньшей мере 2100–2400 ткачей[507]. Рабочие массы больших городов жили, по-видимому, в условиях, довольно близких к условиям жизни современных пролетариев[508]. Их существование было не обеспечено и зависело от кризисов и безработицы. Если не хватало работы, если приостанавливался вывоз шерсти из Англии, то станки переставали повсюду работать, и толпы безработных рассыпались по стране, выпрашивая хлеб, которого они не могли больше добыть своим трудом. Несомненно, положение этих больших цехов, на которых покоилось богатство страны, значительно уступало, в смысле устойчивости и независимости, положению других корпораций. Этим объясняется их буйный и бунтовщический характер, в котором их так часто упрекали, многочисленные примеры которого они действительно дали. Если не говорить о периодах вынужденной безработицы, то положение мастеров (meesters), собственников или нанимателей мастерских было сносным, но совсем иным было положение работавших у них подмастерьев (сnареn). Последние жили в предместьях, состоявших из жалких хижин, которые сдавались понедельно. Большей частью у них не было иной собственности, кроме бывшей на них одежды. Они переходили из города в город в поисках работы. В понедельник утром их можно было встретить на площадях, рынках, вокруг церквей, в тревожном ожидании хозяев, которые наняли бы их на неделю. Всю неделю рабочий колокол (werkklok) возвещал своим звоном о начале работы, коротком промежутке для еды и конце рабочего дня. Заработок выдавался в субботу вечером, по муниципальным правилам он должен был выплачиваться деньгами, но это нисколько не мешало процветанию Truck-system (оплата труда товарами), дававшей своими злоупотреблениями повод к постоянным жалобам. Таким образом ткачи, валяльщики, красильщики образовали особый класс внутри городского населения. Их можно было узнать не только по их «голубым ногтям»[509], но и по их одежде и нравам. Их считали низшими существами, и с ними обращались соответственным образом. Они были необходимы, однако с ними не церемонились, ибо было известно, что место тех, которые не выдержат штрафов или будут изгнаны из города, не останется долго незанятым. Рабочие руки всегда имелись в избытке. Массы рабочих отправлялись искать счастья в чужие страны, их можно было встретить во Франции и даже в Тюрингии и Австрии[510]. Торговая и промышленная жизнь придала большинству нидерландских городов очень характерную физиономию. Ни один из крупных торговых городов не был, в отличие, например, от Кельна, Страсбурга или Реймса, центром какого-нибудь епископства. Это были чисто городские и светские образования. Башня, указывавшая их путнику издалека, была не церковной башней, а башней каланчи. В самом городе лишь ничтожная часть земли принадлежала капитулам и монастырям; она была почти целиком в руках разбогатевших благодаря торговле патрициев, а часть ее, остававшаяся еще в обладании церкви, была выкуплена городскими советами в течение XIII века. Большинство привилегий, которыми пользовалось в других местах духовенство, здесь не существовало: здесь не было ни иммунитетов, ни монастырских домов, ни монастырских погребов, где бы продавалось безакцизно монастырское вино. Городское законодательство энергично боролось со всяким ростом богатства или влияния духовенства. Оно запретило завещать недвижимости церквям, так что в Ипре в 1258 г. капитул св. Мартина жаловался на то, что он не имеет других источников дохода, кроме добровольных приношений верующих, да и те запрещены эшевенами[511]. В Брабанте города добились от Иоанна I запрещения строить в них новые монастыри. В Генте эшевены яростно оспаривали у церковных властей право руководить школами, в которых сыновья купцов учились письму и счету[512]. Мало того, городские суды постоянно посягали на права клириков отвечать только перед церковным судом и нападали даже на синодальную юрисдикцию[513]. Враждебно относясь к привилегиям клириков, они чинили им всяческие неприятности. Жилль ле Мюизи, благодушный аббат св. Мартина в Турнэ, рассказывает, что когда ему пришлось добиваться от суда эшевенов оставленного ему его родным наследства, то он вынужден был, прежде чем быть допущенным к защите своих интересов, оставить свой монастырь, поселиться в городе и добыть себе светскую одежду[514]. Городские общины явно желали быть хозяевами у себя в городах и заставить всех жителей подчиниться им. С течением времени городские общины стали принимать все более и более светский характер. Корпорации клириков (calende), процветавшие еще в правление Гюи де Дампьера, по-видимому, исчезли в начале XIV века. Что касается старых бенедиктинских монастырей, существовавших в некоторых городах, то они с трудом боролись с антипатией горожан, часть которых, однако, происходила от их бывших оброчников. Церкви бенедиктинцев были заброшены, их право патроната над городскими приходами оспаривалось, а предметом религиозного рвения стали теперь храмы нищенствующих орденов, францисканцев и доминиканцев. Дворянство постигла та же участь, что и духовенство. До XII века рыцари и министериалы (ministeriales), составлявшие некогда феодальные гарнизоны, обязанные защищать замки, вокруг которых поселилось торговое население, были довольно многочисленны в городах. Но с течением времени они должны были уступить место горожанам. Не допущенные в гильдии, они не могли удержаться долго рядом с патрициями, в руках которых быстро скоплялись движимые имущества. Уже с ранних пор богатые купцы выкупили пошлины и различные доходы, которыми пользовались дворяне[515]. Мало-помалу дворяне удалились в деревню, распродав свои земли и замки. В Бельгии было очень немного городов, в которых они слились бы с патрициатом, как это имело место в Германии. В большинстве из них они бесследно исчезли. Подобно тому, как горожане подчинили себе духовенство и избавились от дворянства, так под конец они завладели и графской крепостью, вокруг которой они когда-то поселились. Во второй половине XIII века исчезла разница между «ilrbs comitis» (городом графа) и «burgus mercatorum» (купеческим бургом). Торговый город поглотил феодальный город, который он теснил со всех сторон[516]. Князья перестали жить в своих старых замках, предоставив их городам. Они поселились в деревне, где построили себе пышные дворцы графы фламандские поселились в Мале или Винендале, герцоги брабантские — в Кортенберге или в Тервуерене, графы генегауские — в Кенуа. Кое-где, например, в Генте или Брюгге, над кирпичными или соломенными крышами продолжали возвышаться каменные башни и зубцы «Steen», превращенного в тюрьму; в других местах, например, в Валансьене, он был куплен городом, снесен, а на его земле возвели новые постройки. С XII века городское население стало расти с необыкновенной быстротой. В Аррасе во времена Филиппа Эльзасского фруктовый сад аббатства Сен-Вааст, разделенный на участки и уступленный горожанам, вскоре покрылся домами[517]. В Дуэ в 1225 г. effrenata populi multitudo[518] (огромное множество народа) сделало необходимым создание новых приходов. В 1277 г. пришлось раздвинуть границы пригородов Ипра[519]. В Генте в 1213 г. к городу был присоединен Upstal, затем в 1254 г. — квартал Оверсхельде, в 1274 г. — Старый Город, а в 1299 г. — судебный округ кастелянов. Брюгге купил в 1277 г. сеньории Мандагсхе и Вормезельсхе, а в 1288 г. — землю сеньора Прат. Впрочем, Брюгге и Гент оставались до бургундской эпохи самыми крупными нидерландскими городами, и можно без преувеличения определить в 50 000 численность их населения в период от конца правления Гюи де Дампьера до начала Столетней войны. Широкая гладкая равнина, посреди которой возвышались города, благоприятствовала их расширению. Их новые кварталы росли во всех направлениях, и еще в настоящее время легкораспознать во многих из них старые, превращенные теперь в каналы, рвы, через которые они должны были последовательно перешагнуть при своем росте[520]. Небольшие города соперничали в смысле быстроты своего роста с крупными центрами. Слейс, построенный на берегах Звина в 1293 г., имел через тридцать лет уже 5000 жителей[521]. В Поперинге в 1270 г. образовались два новых прихода, ибо население его настолько увеличилось, что одной церкви не хватало для совершения таинств[522]. Таким же образом поступили в Нивелле в 1231 г.[523] В 1298 г. Диет заключал в себе multitudo populorum (множество народа)[524]. По мере удаления от области, занимавшейся производством сукна, картина меняется. Камбрэ, Турнэ и Валансьен, принимавшие до конца XIII века участие в фландрской промышленной жизни, были еще крупными городами, но далее, к востоку, Генегау является уже земледельческой областью. Монс, Авен, Бинш и Ат представляли лишь крупные бурги. Еще далее в Арденнской области два наиболее населенных пункта Намюр и Люксембург насчитывали в конце XIII века не более 8000 и 5000 жителей[525]. К северу, в Голландии и Гельдерне, города были многочисленнее, и им предстояло блестящее будущее. Но, несмотря на старания графов развить здесь промышленность и торговлю, они должны были еще долго оставаться в тени, отбрасывавшейся их блестящими фламандскими и брабантскими соседями: до конца Средних веков ни в одном из них население не превышало, по-видимому, цифры в 10000 душ[526]. В долине Мааса, Маастрихт представлял картину значительного оживления, благодаря судоходству по реке и транзитной торговле, направлявшейся из Германии в Брабант. В Льежской области города Сан-Торн и Гюи, первый — фламандский, второй — валлонский, занимались суконной промышленностью, но не могли, конечно, соперничать с брабантскими городами. Динан значительно превосходил их своей экономической деятельностью и активным характером своей торговли. В Нидерландах этот город занимал особое и своеобразное место, благодаря обработке меди и латуни. Его изделия были распространены, подобно фландрским сукнам, во всей Европе, а торговля Динана с Англией, откуда его купцы с XIII века получали необходимый им для их работы металл, была так значительна, что он имел в Лондоне свой особый рынок и был единственным бельгийским городом, вошедшим в немецкую ганзу[527]. Льеж среди окружавших его мануфактурных центров представлял совершенно отличную картину. Это был вполне духовный, как бы ощетинившийся церковными башнями, город, в котором вокруг кафедрального собора и епископского дворца сгруппировалось бесконечное множество монастырей и всяческих храмов. Он был полон иммунитетов и монастырских домов[528], земля его принадлежала большей частью капитулам и аббатствам. Духовенство здесь стояло выше горожан, и между ними возникали по всякому поводу конфликты. Постоянно тревожная история Льежа в XIII веке резко выделялась на фоне мощного и спокойного развития фландрских городов. Муниципальная жизнь не могла здесь развиваться свободно, ибо этому мешали разные, шедшие вразрез с нею, права, привилегии, интересы[529]. Город не сумел даже установить коммунального налога. Всякий раз, когда он собирался взимать «фирму» (fermete), духовенство налагало на него интердикт, переставало отправлять богослужение и, в случае упорного сопротивления, удалялось в Гюи. Тогда приходилось уступать, ибо Льеж обладал промышленностью и торговлей лишь местного значения, и без епископского двора и священников, дававших заработок его многочисленному населению, он не мог существовать[530]. Только с конца Средних веков добыча угля и изготовление оружия превратили его в крупный промышленный центр. Но до тех пор он играл лишь ничтожную роль в экономической истории Нидерландов. Никакая крупная международная магистраль не проходила через него. Вниз по течению Мааса торговое движение не шло дальше Маастрихта; вверх по течению река перевозила только камни из Намюрской области и строевой лес из арденнских лесов, экспортировавшийся в Голландию и Фландрию. Льежские купцы лишь в редких случаях упоминаются в чужих странах, за исключением рейнских областей. Городской патрициат не имел того торгового или промышленного характера, который наблюдался во Фландрии или в Динане. Многие из составлявших его семейств, имели предками епископских «министериалов» (ministeriales), мало занимаясь торговлей, они старались разбогатеть, ссужая деньги под проценты, в случае нужды, многочисленным церковным учреждениям страны[531]. Словом, среди крупных бельгийских городов Льеж имел совершенно особую физиономию. Своим значением он был обязан тому, что являлся центром диоцеза и территориального княжества, резиденцией епископа, что в нем было множество монастырей, капитулов и жила масса священников и клириков. Его следует сравнивать не с Гентом или Брюгге, — а, помня, конечно, о масштабе — с Парижем. Подобно Парижу он был, по существу, столицей, постоянным центром многочисленной духовной и светской администрации, поддерживавшей в нем непрерывно жизнь и движение. При этих условиях городская конституция Льежа представляла, понятно, совершенно иную картину, чем конституции торговых и промышленных городов. Льежу удалось лишь частично освободиться от влияния епископа и кафедрального капитула. Эшевены города не были общинной властью. Эшевены, назначавшиеся пожизненно епископом и капитулом св. Ламберта, были фактически изъяты из-под влияния городского населения. Кроме того, они, вероятно, были древнее его, ибо все говорит за то, что они происходили от эшевенов, созданных, может быть, в каролингскую эпоху для отправления суда на церковных землях. Когда эти земли сделались могущественным княжеством, то, соответственно, возросло значение эшевенов. Находясь в самом центре епископской территории, они составили верховный суд, которому мало-помалу были подчинены все местные эшевенства и все мелкие судебные округи страны. В конце XIV века, по свидетельству Якова де Гемрикура, «названному верховному суду подчинялось больше трех тысяч высших судов, не говоря о судах присяжных и разных низших судах, которым нет числа»[532]. В качестве «феодальной курии» и «аллодиальной курии» они обладали очень обширной юрисдикцией: их полномочия простирались как на валлонские, так и на фламандские части епископства[533]. Несомненно, они являлись также привилегированным судом льежских горожан и блюстителями городского обычного права. Но власть свою они получили от князя, а не от города, и до конца Средних веков ряд особенностей продолжал еще свидетельствовать об их происхождении: так, для разбора дел они собирались в доме, расположенном в монастыре св. Лаберта, около площади перед собором. Попытки горожан превратить эшевенство в муниципальную власть потерпели неудачу из-за сопротивления епископа и каноников. В отличие от Фландрии, городская автономия нашла в Льеже свое выражение и свой орган не в эшевенах, а в присяжных. Последние были созданы революционным порядком во время conjurationes (союзов) и communiones (объединений), которые упоминаются так часто в истории города с конца XII века; хотя их каждый раз уничтожали, но они каждый раз восстанавливались. Первоначально продукт мятежа, они с течением времени стали постоянными учреждениями, и после восстания при Генрихе Гельдернском всех льежских городов, как валлонских, так и фламандских, восстания, с которым связано имя Генриха Динанского, они заняли окончательно место в городских конституциях. Отныне городской совет состоял из присяжных и двух «makres», позднее «бургомистров». Но этот совет не сумел забрать в свои руки юрисдикцию эшевенов. До конца Средних веков последние продолжали быть представителями верховного правосудия и юрисдикции по земельным делам. Мало того, только в XIV веке они исчезли из совета и перестали вмешиваться в дела городского управления. Таким образом в муниципальных учреждениях Льежской области налицо были две различные власти, отличные по природе и давности. Более старые, эшевены, образовали сеньориальный суд; более молодые, присяжные городского совета, были представителями общины. Первые отправляли правосудие от имени епископа, вторые — от имени горожан: их полномочия простирались лишь на муниципальные постановления и поддержание мира. Льежский юридический язык очень точно характеризовал полномочия присяжных как «юрисдикцию статутов», в то время как юрисдикцию эшевенов он называл «юрисдикцией закона». Этого дуализма властей, этого различия между сеньориальной и коммунальной юрисдикцией не существовало во фландрских городах[534]. Конституционная эволюция этих крупных торговых городов происходила гораздо более органическим образом, потому что князь не пытался здесь ставить ей препятствий. В отличие от Льежской области, городские эшевенства во Фландрии были созданы для городов. Они не были древнее их, и в Брюгге, например, и в Генте можно ясно различить рядом с муниципальными эшевенами старых эшевенов кастелянства, прямых продолжателей скабинов каролингской эпохи, не имевших ничего общего с первыми[535]. У муниципальных эшевенов с самого их возникновения была совершенно особая роль. Они были привилегированными судьями горожан, органами городского права. Никакой другой суд не разделял с ними их компетенции и не ограничивал их юрисдикции: им принадлежала земельная, уголовная и полицейская юрисдикция. Они составляли естественный и необходимый суд poortet'oв (горожан), и по мере того как расширялись привилегии города, росли и их полномочия. Так, например, в конце XII века они добились юрисдикции по вопросу о пошлинах. Если по составу своих членов, избиравшихся среди «viri hereditarii» «ervachtighe liede» (знатных людей) города, а также по природе своих полномочий, эшевенства были городскими судами, то все же они являлись одновременно с этим сеньориальными судами. Когда им приходилось разбирать важные дела, то в них председательствовал граф или его представитель — до XII века — кастелян, а после этого бальи. Точно так же и князь вмешивался в выборы их. Но с течением времени они стали все более и более принимать коммунальный характер. Очень скоро они превратились в городской совет: они стали собирать налоги, издавать постановления об общественных работах, подчинили своему контролю различные функции полиции и управления. В XII веке они назначали надсмотрщиков («eswardeurs», «rewards», «vinders»), которые должны были надзирать за торговлей и промышленностью; они назначали в различные кварталы города констеблей (constaveln), которым было поручено пожарное дело и забота о собирании городской милиции. Издававшиеся ими правила («bans», «keures», «core», «vorboden») образовали вокруг дарованной графом хартии, устанавливавшей основные принципы городского права, особое, все более и более разраставшееся, законодательство. В их архиве скоплялись «хирографы», содержавшие документы о сделках между купцами, о создании рент, о продаже недвижимостей и т. д. Кроме того, в качестве блюстителей порядка, они должны были постоянно выступать как «миротворцы» и третейские судьи; они приводили к присяге при заключении перемирий и заключали в «Ghiselhuis» или сторожевые башни заложников, служивших поручителями примирения между двумя враждовавшими семьями. Чтобы закончить перечень их полномочий, надо упомянуть еще, что они заведовали имуществом сирот, следили за больничным делом, старались лишить духовенство руководства школами и в периоды экономических кризисов выступали в роли посредников между купцами и рабочими суконной промышленности для установления заработной платы. Одним словом, они не были чужды ни одному из проявлений городской жизни. Фландрское эшевенство являлось во всех городах наиболее полным воплощением городской общины. В. течение долгого времени муниципальные эшевены назначались пожизненно. Но в конце XIII века произошла важная перемена. Многообразные и обременительные задачи, лежавшие на эшевенах, мешали им, несомненно, выполнять с необходимым рвением и добросовестностью свои обязанности. Ввиду этого горожане потребовали и добились назначения магистратов на один год. Это нововведение упоминается впервые в 1194 г. в Аррасе[536] Судьба института годичных эшевенов была такая же, как в свое время судьба артуасского права: он мало помалу завоевал север графства. Ипр получил его в 1209 г., Гент — в 1212 г., Дуэ — в 1228 г., Лилль — в 1235 г., Брюгге — в 1241 г. Принятая в различных городах система выборов зависела, конечно, от местных условий. Но повсюду результатом этого было фактическое освобождение эшевенства из под власти графа. В этом можно легко убедиться, если принять во внимание, что несмотря на принцип избрания эшевенов на год, городской суд составляли всегда одни и те же лица. В итоге эшевенство попало во всех городах в руки известного числа семейств. По букве хартии избиратели эшевенов должны были наметить из числа горожан: «meliores et utiliores ad opus comitis et oppidi» (лучших и наиболее пригодных для пользы графа и города); фактически же они ограничили свой выбор только патрициями. Мало-помалу установилось правило, что для того чтобы стать эшевеном, надо быть членом Лондонской ганзы. А вскоре пришли даже к выводам, диаметрально противоположным тем, которые имели в виду при установлении годичного срока эшевенства. Любопытный пример в этом отношении представляла Гентская коллегия XXXIX. Эта коллегия образовалась, вероятно, тотчас же после введения годичного срока эшевенства. Она состояла из трех групп по 13 должностных лиц в каждой: 13 эшевенов текущего года, 13 эшевенов предыдущего года, продолжавших выполнять обязанности под названием советников, и, наконец, 13 «vacui» («vagues»), т. е. лиц бывших эшевенами до 13 советников. Между этими тремя группами установлено было правильное чередование, по которому в конце каждого года эшевены становились «vacui», советники — эшевенами и «vacui» советниками. Таким образом, патрициат окончательно завладел городским управлением, и графиня Иоанна вынуждена была в 1228 г. ратифицировать положение вещей, в силу которого она отныне не могла вмешиваться в назначение городского совета. То, что случилось в Генте, произошло также, хотя и в менее законченном виде, в других городах. В том самом году, когда Иоанна признала коллегию XXXIX, она отказалась также от вмешательства в выборы ипрских эшевенов, и изданная ею по этому поводу хартия показывает, что наряду с 13 эшевенами в собственном смысле слова имелась еще другая группа эшевенов, члены которой обладали несомненно полномочиями, сходными с полномочиями гентских «советников». В Брюгге в 1241 г. тоже имелся наряду с эшевенами «consilium» (совет). Таким образом, городская магистратура, освобождаясь от власти графа, одновременно с этим усложнялась: ее функции специализировались в руках различных коллегий. В общем, эшевены в собственном смысле составляли городской суд (scepenen van der Keure), в то время как советники заведовали земельной юрисдикцией (scepenen van gedeele) и следили за соблюдением общественного мира (paysierers). Что касается управления городскими делами, то ими занимались как те, так и другие. Эшевены фландрских городов кажутся, на первый взгляд, совершенно похожими на «consules» (консулов) или «Rathherren» немецких городов. Однако они отличались от них в одном существенном пункте. Действительно, как ни велики были их автономия и независимость, они не сумели окончательно освободиться от власти князя. С конца XII века рядом с ними в каждом городе находился графский чиновник, бальи (baillivus, baljum), заменивший прежнего феодального кастеляна. Различие между этим бальи и эшевенами было очень резким. Эшевены были представителями города, бальи — агентом князя. Будучи наемным и сменяемым служащим, он был подотчетен только князю и считал себя орудием его воли. Если эшевены были неподвластны графу, то бальи, со своей стороны, был совершенно неподвластен городу. Так как его постоянно переводили с одного места на другое и выбирали не из населения того города, которым он управлял, то он не мог нигде пустить глубоких корней: это был перемещавшийся с места на место чиновник, зависевший только от князя, назначавшего его и платившего ему. Городские магистраты и чиновники князя, деятельность которых протекала скорее параллельно друг другу, чем во взаимной координации, представляли столь различные тенденции и идеи, что рано или поздно они должны были прийти в столкновение друг с другом. Первые являлись воплощением городской автономии и партикуляризма, вторые представляли агентов территориальной власти. Первые опирались на привилегии, вторые — на обычное право. С середины XIII века между ними возникают уже трения. Гармония, столь долгое время царившая во взаимоотношениях между графом и городами, уступила место все более и более обострявшемуся соперничеству. Идеал больших городов был явно республиканским и они, достигнув вершины богатства и могущества, лишь с трудом выносили вмешательство своего сеньора. Вдали уже раздавались раскаты грозы, разразившейся в следующем веке. Нет надобности останавливаться так же подробно на описании брабантских городов, как городов фландрских[537]. Действительно, в обоих случаях наблюдается в основных чертах только что описанный нами конституционный тип. Как и во Фландрии, эшевенство, члены которого назначались князем из среды горожан, составляло городской суд. Рядом с ним находились присяжные, сходные с присяжными льежских городов, и бывшие как органом юрисдикции мира, так и представителями городской общины. Но, в отличие от льежских присяжных, они под конец почти повсюду исчезли в XIII веке и были поглощены институтом эшевенов, представлявшим с тех пор городскую власть по преимуществу. Первоначальное влияние герцога на эшевенство, значительно ослабело в это время, ибо в каждом городе члены его должны были отныне принадлежать к «родовитым семьям» (geslachten, lignages). Число этих «родов» повсюду равнялось числу эшевенских мест, и это совпадение было, несомненно, не случайным. Брабантские «роды», по-видимому, представляли искусственные группы из патрицианских фамилий, созданные для обеспечения монополии выбора эшевенов. Эшевенство оставалось в герцогстве пожизненным гораздо дольше, чем во Фландрии; только с 1234 г. (Брюссель) введен был принцип избрания на годичный срок. Оригинальная особенность городских конституций Брабанта заключалась в роли, предоставленной ими гильдиям. Можно сказать, что и в этом отношении брабантские конституции носили, по сравнению с городскими конституциями Фландрии, архаический характер. Мы видели, что неподвижный и пассивный характер, приобретенный фландрской торговлей в конце XIII века, лишил гильдии их прежнего значения. Наоборот, в Брабанте, где экономические перемены произошли позже и не так резко, они сохранились, но в соответственно преобразованном виде. Эшевены, уступили им контроль над промышленностью, которым они и занимались до конца Средних веков. Таким образом, они стали необходимым элементом городской организации, но именно благодаря этому они должны были отказаться от своей автономии. Гильдии были строго подчинены коллегии эшевенов, и их деканы (guldekene oudermannen), назначавшиеся ею, приняли характер городских чиновников[538]. Демократическое движение во Фландрии смело последние следы гильдий, в Брабанте же гильдии в XIV веке столь глубоко укоренились в городских конституциях, что они могли противиться демократическому движению. Они пережили упадок суконной промышленности, и следы их можно встретить даже в XVII веке. Хотя брабантские города со своими «знатными родами» и гильдиями имели физиономию довольно отличную от фландрских городов, учреждения которых были проще и менее архаичны, однако по отношению к князю они занимали такое же положение, как и последние. Подобно им они не стали вольными городами, городскими республиками. В каждом из них герцог имел представителя своей власти. Единственная разница за, — ключалась в том, что брабантские чиновники имели менее современный характер, чем фландрские бальи, они сохранили старые названия «villicus» или «mayeur» (в Аувене), «amman» (в Брюсселе), «ecoutete» или «schoutheet» (в Антверпене). Антагонизм между ними и городами был менее резок, чем во Фландрии, и мы еще увидим, что грозное восстание в XIV веке городов левого берега Шельды против их графа миновало Брабант[539].
II
Легко понять, что в такой промышленной и торговой стране, как Нидерланды, условия жизни сельского населения и земельные отношения должны были измениться с ранних пор. Образование множества городов радикально преобразило аграрный строй. До конца XI века крестьянин работал лишь для удовлетворения потребностей своего сеньора и своих собственных. Как общее правило, продукты сельского хозяйства не вывозились. Если они были в избытке, то их хранили в амбарах на случай возможного неурожая. Продукты сельского хозяйства потреблялись на месте. Никто не имел стимулов производить больше известного и неизменного количества, установленного обычаем. Но когда города стали привлекать в свои стены непрерывно возраставшее население, которое нужно было кормить хлебом и мясом, то для деревни началась новая эра. Так как горожанин необходимо зависел в своем пропитании от крестьянина, то последний стал производить теперь для продажи. Он расстался со своей вековой неподвижностью, он старался увеличить свои доходы, стремился, в свою очередь, развить экономическую деятельность, но сделать это он мог лишь обладая свободой, которой он был лишен до тех пор. Таким образом в XII веке старая земледельческая цивилизация рушилась под напором социальных и экономических причин, приведших к возникновению городов. Крепостная зависимость стала вскоре исключением. Вообще же крестьянин, следуя за горожанином, судьба которого был связана с его судьбой, стал, подобно ему, свободным человеком. Параллельно с этим расцвет торговли радикально изменил жизнь и даже вид деревень. Быстрое падение стоимости денег, вызванное этим расцветом в начале XII века, было для крупных церковных собственников подлинной катастрофой. Доходы с их поместий, в которых обычай указывал каждому его место, роль и права, в которых установленные раз и навсегда повинности сервов и цензитариев были освящены обычаем, вскоре катастрофически упали. Перед увеличивавшимся из года в год дефицитом монастыри оказались бессильными, ибо ничто не возмещало их потерь. Щедрые пожертвования земель со стороны князей прекратились; некогда столь обильные приношения верующих иссякли; горожане, враждебно настроенные к крупным аббатствам, препятствовавшим своими привилегиями развитию торговли, жертвовали теперь только на городские больницы и на новые монастыри нищенствующих орденов. Таким образом, старая домениальная организация распадалась. Поместья (curtes) стали дробиться, а управляющие или «villici», которым был поручен надзор за ними, стали наследственными, присвоив себе большую часть их доходов[540]. Обильным источником дохода оставались еще одни только десятины, размеры которых были пропорциональны продуктам сельского хозяйства. Но многие из них были отданы в виде феодов кредиторам, а остававшихся было недостаточно для уплаты огромных процентов ломбардским банкирам или богатым купцам, к которым вынуждены были обращаться нуждавшиеся монастыри[541]. Словом, крупные аббатства, бывшие столь характерными и благотворными организациями в чисто аграрный период Средневековья, не могли больше существовать в новой обстановке, к которой они не были приспособлены[542]. Безвозвратно миновало время, когда люди массами вступали в familiae (в подчинение) аббатств, чтобы, жертвуя на алтарь свою свободу, пользоваться покровительством святого. Теперь благодаря князьям в сельских местностях царил порядок; благодаря городам в них распространялось богатство. Теперь нуждались уже не в покровительстве, а в свободе. Вместе с экономической ролью старых монастырей закончилась и их социальная роль. Все они переживали в XIII веке упадок. Параллельно тому, как слабело управление поместьями, падала дисциплина и хирели научные занятия. От одного края страны до другого — в Сен-Бертене, Сизуэне, Аншене, Лисси, Флоренне, Сен-Троне, Ставело — аббаты вели безнадежную борьбу со все возраставшим беспорядком и надвигавшимся банкротством. Светские земельные собственники страдали от кризиса не меньше духовных. Класс свободных рыцарей (milites), необычайно многочисленный еще в XI и XII веках, сильно уменьшился в XIII веке. Рост расходов, связанных с военным образом жизни, разорял их. Отправляясь на турниры, они уже не довольствовались, как прежде, копьем, щитом и полотняной одеждой. Доходы с их мелких поместий не позволяли им уже вести жизнь, соответствующую их положению. Поэтому многие из них, впавшие в долги ломбардским банкирам или богатым горожанам, очутились в нужде[543]. В одном только приходе Аев-Сен-Пьер в Брабанте число их уменьшилось с шестидесяти до одного или двух[544]. Чтобы иметь возможность существовать, одни из них нанимались в случае войны к какой-нибудь из воюющих сторон[545]; другие отправлялись искать счастья в крестовых походах; третьи, наконец, брали оплачиваемые должности княжеских бальи. Лишь ничтожная часть их потомков была представлена в дворянстве XIII века, в том изящно воспитанном и культурном рыцарстве Фландрии, Брабанта и Газбенгау, которое пользовалось такой блестящей репутацией во всей Северной Европе. Рыцарь XIII века был гораздо более крупной фигурой, чем рыцарь XI века. Он владел значительным феодом и почти всегда являлся сеньором какой-нибудь деревни или хотя бы господского двора. Очень часто родоначальником его семьи был «министериал» (ministerialis), управляющий (maire, ecoutete), который, став наследственным, передавал своим преемникам более или менее значительное земельное состояние и право на судебные доходы. Впрочем, это дворянство, в отличие от рыцарей (milites) феодальной эпохи, полуземледельцев, полусолдат, перестало интересоваться обработкой земли. Дворянство ограничилось теперь получением ренты со своих земель и, подобно церковным земельным собственникам, страдало от падения стоимости денег. Однако лекарство от болезни было под руками. Если старые методы эксплуатации и управления землей не годились при новой обстановке, то надо было решительно отказаться от них и перейти к соответствующей новым условиям экономической организации. Инициатива реформы исходила от цистерцианских аббатств и территориальных князей. Рядом со старыми монастырскими поместьями, организованными по плану «Капитулярия о поместьях», цистерцианцы, монастыри которых быстро распространились в первые годы XII века в Нидерландах, создали поместья совершенно нового типа. Селясь почти всегда на невозделанных землях, посреди лесов, степей или болот, они усердно занялись распашкой земли. Монахи, которые согласно суровым правилам своего устава должны были бы жить трудом своих рук, мало-помалу собрали вокруг себя послушников (lekebroedere), которым была поручена в значительной мере обработка земли. Вскоре возникли крупные фермы вокруг аббатств, которые обычно сохраняли здесь за собой лишь десятины с распаханной нови («novaeltienden»). Эти фермы стали независимыми сельскохозяйстг венными центрами[546]. В них возделывали хлебные злаки и разводили скот не для непосредственного потребления монастыря, как прежде, но для продажи на городских рынках. Ни барщины, ни тяжелый и громоздкий механизм надзора «villici» не ставили здесь препятствий работам, которыми руководил «grangiarius». Крестьяне, работавшие здесь рядом, с послушниками, были свободными людьми, пришедшими со стороны: на цистерцианских землях почти не было крепостной зависимости. Благодаря этому здесь с ранних пор стали получать крупные доходы. Новые аббатства относились, несомненно, в XII и XIII вв. к числу самых богатых капиталистов страны. Разбогатев благодаря продаже своих продуктов, они могли затем приступить ко все более и более крупным предприятиям и продолжать распашку земель и рубку лесов. Значительная часть степей Кампина и лесов Генегау были разработаны ими, и вдоль всего фламандского побережья протянулись их польдеры[547]. О быстроте их достижений можно судить по одному факту. Дюнское аббатство насчитывало в 1150 г. 36 послушников, а в 1250 г. — 1248[548]. Впрочем, в конце XIII века аббатства от последних отказались и приняли еще более выгодную систему свободного фермерства. Так как период крупных распашек закончился, то послушники сделались бесполезными, и монахи стали сдавать в аренду светским лицам за недорогую цену большую часть своих ферм и своих польдеров[549]. Пример цистерцианцев вскоре нашел подражателей в лице старых земельных собственников из дворян и духовных лиц. Он показал преимущества свободного труда и крупных сельскохозяйственных предприятий, уверенных в регулярном сбыте своих продуктов на городском рынке. Он доказал воочию необходимость порвать с осужденными жизнью методами. Вскоре старые бенедиктинские аббатства отказались ют своей прежней системы хозяйствования. Господские дворы, некогда обрабатывавшиеся крепостными, были разбиты на участки и сданы в аренду или исполу. Были организованы крупные фермы, которые сдавались в аренду светским лицам. Отказались от далеких угодий, надзор за которыми был очень труден и дорого стоил, чтобы скупать земли в окрестностях монастырей. Удалось вернуть отчужденные десятины, выкупить у управляющих и у фогтов их права юрисдикции. Крестьянам позволили выкупить за деньги не только барщины, но и поголовную подать (census capitis), пошлину за брак, право «мертвой руки» — словом, все пережитки прошедшей эпохи, ставшие теперь бесполезными[550]. Как ничтожны стали в середине XIII века эти повинности, видно из того, что в Сен-Троне в 1250 г. поголовная подать составляла только 5 марок из общего бюджета в 920 марок[551]. Даже феодальная и помещичья юрисдикция, требовавшая расходов, значительно превышавших доставлявшийся ею доход, была либо отчуждена, либо отменена, либо сведена к необходимому минимуму. Словом, старались путем более гибких и жизненных методов добиться увеличения доходов с земельного капитала, бывшего до тех пор в значительной мере непроизводительным. Натуральные повинности, взимание которых происходило медленно и стоило дорого, были повсюду заменены денежными, параллельно с этим личная свобода заменила крепостную зависимость. Светские князья и крупные бароны способствовали еще более чем цистерцианцы распашке и колонизации страны. В течение XIII века обширные пустоши, или, пользуясь выражением тогдашних документов, «пустыни» (solitudines), которые занимали еще значительную часть Брабанта, Генегау, Фландрии и Намюрской области и которые, по-видимому, никогда не возделывались, были распаханы, и покрывавшие их раньше леса, степи и болота исчезли. В начале следующего века распашки приобрели такие размеры, что в целях сохранения лесов начали запрещать их[552]. Но в Арденнской области, более отставшей в своем развитии, по-видимому, только в XIII веке началась эра распашек. Рядом со старыми поместьями, старыми земельными участками и деревнями, восходившими либо к римским «villae», либо к эпохе германского поселения, возникли «новые города» (villes neuves), названия которых, оканчивающиеся в валлонских областях на «sart» или на «ster», а во фламандских областях — на «rade» или на «kerke», еще и в настоящее время указывают на их относительно недавнее происхождение[553]. Инициаторами этого дела были, разумеется, крупные сеньоры, и в особенности князья. Действительно, невозделанные земли (warescapis, warets, woestinen, moeren) были подчинены их «верховным правам» или их «юрисдикции», и они одни имели право распоряжаться ими[554]. Передавая обширные участки новым аббатствам, они стали также энергично заселять их. Заселение земель могло происходить лишь при совершенно особых условиях. Нужны были значительные привилегии, чтобы привлечь колонистов на неосвоенные еще земли. Повсюду была гарантирована самая полная личная свобода «новоселам» (hospites) или «летам» (leaten), поселившимся в новых селениях. Земля была уступлена им за ничтожную подать и умеренные повинности[555]. Им было гарантировано право, обычно копировавшееся с права соседнего города и тщательно регулировавшее тариф штрафов и юрисдикцию. Большинство новых городов Генегау получили право Монса или Валансьена, брабантские города — право Лувена, а города Аьежской области — право столицы. Вновь освоенные места получили повсюду свои особые эшевенства, бывшие органом их права и служившие судом для их жителей. Не было больше речи о старых помещичьих повинностях, праве «мертвой руки», праве на лучшую голову скота, пошлине за брак. В этих деревенских колониях, как некогда в городских колониях, «крепостные» (manants) сразу стали свободными людьми, «franci homines». Их отношения к сеньорам не носили больше следов личной зависимости. Они должны были выполнять повинности только по отношению к государству, именно воинскую повинность и «талью» (taille). Поставленный во главе их мэр (maire) не имел ничего общего с помещичьим управляющим: это был административный чиновник. Очень часто им предоставлялось даже право принимать участие в его назначении[556]. Так возник новый тип крестьянина. Свободный человек встречался теперь не только в городах; он появился также в сельских местностях, и часто можно было наблюдать, что жители новых деревень назывались «горожанами». Эти новые свободные крестьяне-собственники оказали на общее положение сельского населения такое же влияние, как цистерцианские поместья на старые бенедиктинские поместья. В обоих случаях существовавшие на старых землях порядки изменились в соответствии с порядками, создавшимися на девственных землях. Вместе с дальнейшими успехами колонизации в исстари возделывавшихся областях смягчалось поместное право и крепостная зависимость. В 1245 г. графиня Маргарита заменила в Генегау обычай, в силу которого она взимала половину наследства у каждого из «людей церкви» (homme de sainteur, homme de I'Eglise) очень легкой податью, правом на лучшую голову скота[557]. В 1252 г. она распространила эту меру на крепостных своих фландрских поместий[558]. В 1248 г. герцог Брабантский пошел еще дальше по этому пути, уничтожив без всяких возмещений право «halve — have» на своих собственных землях, т. е. в «s'herren dorpen» (герцогских деревнях)[559]. В 1221 г. было уничтожено в области Алоста и Термонда право преследовать беглых крепостных[560].
Косец
Впрочем, не следует думать, будто для изменения положения крестьян был необходим письменный документ. С того момента как в старом социальном здании появились огромные трещины, оно должно было само собою рухнуть в результате подражания. Мало-помалу крестьяне освободились повсюду. Разумеется, старые «кутюмы» (coutumes) не совсем исчезли. Вплоть до самого конца старого порядка не снимается вопрос о праве «мертвой руки», праве на лучшую голову скота, пошлины за брак. Но даже там, где эти повинности были особенно распространены, например, в области Алоста и в Генегау, их природа изменилась. Они приняли характер фискальных повинностей, простых личных налогов. Люди церкви («hommes de saintem»), потомки старых церковных familliae, стали теперь свободными людьми, вносившими ежегодную подать в несколько денье графу, как фогту аббатств, а взимавшаяся после их смерти с оставленного ими имущества «лучшая голова скота» была в действительности лишь налогом с наследства[561]. Словом, с конца XIII века личная крепостная зависимость стала встречаться очень редко[562], и достаточно пробежать «Cartulaire des cens et rentes dus au comte de Hainaut» (Картулярий цензов и рент для графа Генегау) (1265–1286 гг.), чтобы убедиться, что право преследования беглых крепостных применяется с тех пор лишь в очень немногих деревнях и что вообще огромное большинство населения стало свободным. Любопытная вещь! Во многих случаях можно убедиться даже, что прямые потомки прежних крепостных церкви превратились в привилегированных лиц. Действительно, хотя они перестали быть крепостными, но они все же сохранили преимущества, некогда принадлежавшие «familia», в которую они входили. Так, например, в Генегау «люди церкви» монастыря св. Альдегунды были освобождены от уплаты пошлин[563], а в Брабанте крепостные монастыря св. Петра в Лувене (S. Pietersmannen) подлежали непосредственной юрисдикции герцога: они составляли замкнутую корпорацию, и, чтобы иметь возможность пользоваться их привилегиями, надо было доказать, путем показаний свидетелей, что владеешь этими привилегиями по наследственному праву[564]. Одновременно с тем как население старых деревень получило свободу, оно получило также устройство, сходное с устройством новых деревень. Господские дворы стали простыми имениями, «cours de tenans», laethoven, и утратили личную юрисдикцию над жителями. Каждый приход получил свое эшевенство, и начиная с середины XIII века территориальные хартии унифицировали положение этих мелких судов, подчинили их вышестоящим эшевенствам, словом, дали деревне судебное устройство, которое она сохранила без заметных изменений до конца XVIII века. В то время как внутри страны основывались новые города, а «Угольный лес» (Silva carbonaria), столь продолжительное время отделявший друг от друга фламандцев и валлонов, под ударами топоров дровосеков с севера и с юга мало-помалу покрывался возделанными землями, не менее крупные изменения происходили во всей приморской области. Начатые уже в XI веке работы по возведению плотин и по осушке земель стали подвигаться вперед с исключительной быстротой. Вид морского побережья от Бурбура до Антверпена преобразился: море стало окаймляться все более широкой полосой польдеров. С начала XIV века эстуарий Изера, глубоко изрезывавший до тех пор морской берег, совершенно исчез[565]. Издержки, требовавшиеся возведением плотин для защиты польдеров, не позволяли прибегнуть здесь к системе новых поселений. Чтобы приступить в крупном масштабе к такому предприятию и довести его до конца, нужны были большие капиталы. Как и в предыдущую эпоху, за дело решительно принялись графы фландрские. Филипп Эльзасский построил большие звинские плотины; в своих хартиях он хвалился тем, что высушил «за свой счет» обширные территории[566]. Его преемники продолжали работать в том же направлении. Гюи де Дампьер передал в 1282 г. и 1286 г. своему сыну, Иоанну Намюрскому, земли, отвоеванные у моря в области Четырех Округов, и большая плотина, проведенная тогда от Бланкенберга до Тернейзена, еще и теперь называется плотиной графа Иоанна (s'graven Jans dijk)[567]. В 1293 г. тот же самый Гюи приказал защитить плотинами в один прием 1045 мер земли в Осенессе, т. е. приблизительно 450 гектаров[568]. В то же самое время колоссальные площади болот и засыпанных землею пространств (schorre) были переданы аббатствам или уступлены в качестве феодов вассалам. В одном только округе I юльста дюнское аббатство владело в 1245 г. 5000 мерами защищенной плотинами земли и 2402 мерами незащищенной земли[569]. В XIII веке богатые горожане тоже принялись за дело осушки почвы. Когда море снесло плотины Зандлифта и Бейрендрехта, то собственники близлежащих земель доверили восстановление их сиру ван Гистелю и гентскому горожанину ван Свинардену[570]. Среди лиц, имена которых носят еще и до сих пор многие польдеры, вероятно, немало восходит к каким-нибудь капиталистам-предпринимателям XIII века.

Крестьянин, свозит жатву в амбар (миниатюра XIV в.)
С середины XII века в источниках появляется слово «польдер», начавшее заменять тогда старое название «moer», которое до тех пор носили аллювиальные земли, защищенные от наступления моря[571]. Появление этого нового термина указывает, несомненно, на какое-то усовершенствование в искусстве возведения плотин, усовершенствование, ставшее возможным благодаря новым обширным ресурсам, которые предоставляло предпринимателям экономическое развитие страны. Быстрота, с какой производились работы, неопровержимо свидетельствует о том, что страна была очень богата. Победы над морем шли так быстро, что в некоторых хартиях уже заранее предвидели перенос сбора пошлин из одного места в другое, из-за aque interclusionem[572] (запруженной воды). Польдеры, величина которых была не одинаковой и границы которых в том случае, если они принадлежали какому-нибудь аббатству, отмечались крестами, делились на известное число «мер» (gemeten)[573]. Часть этих мер сохранял за собой собственник, обрабатывая ее сам, а остальная часть сдавалась в аренду или за ценз[574] Собственники, несмотря на протесты церкви, обычно оставляли себе десятину с нови польдера. В построенных на определенных расстояниях друг от друга амбарах хранились продукты соседних польдеров. В 1245 г. дюнское аббатство имело такие амбары в Зандуме, Нортгофе иФранкендике[575], и еще в настоящее время можно любоваться замечательным образчиком их в Дудзеле, около Аисвега. Различные польдеры одной и той же области были по необходимости связаны друг с другом. Их плотины входили в одну и ту же систему защиты от моря и взаимно охраняли друг друга. С другой стороны, приходилось принимать совместные меры для устройства стока вод, постройки шлюзов и т. д. Благодаря этому с ранних пор возникли объединения, которые появились в XIII веке в источниках, под названием «wateringen» (wateringues) и которые еще и в настоящее время существуют во всей приморской части Бельгии[576]. В территориальной конституции Фландрии эти «wateringues» занимали такое же место, как и гильдии в городских конституциях Брабанта. Действительно они были в одно и то же время автономными корпорациями и государственными учреждениями, ибо государство постоянно контролировали их при помощи особых надзирателей «watergrafen» и «moermeesters». Капиталистическая система эксплуатации, результаты которой оказались столь эффективными в применении к польдерам, была применена также к пустошам и болотам внутренней части страны. В XIII веке эта форма эксплуатации земли сделалась, по-видимому, более распространенной, чем основание новых городов. Граф Фландрский приказал распахать за свой счет обширные пространства земли, а другие передал аббатствам; аналогичные факты наблюдались в Брабанте[577]. Обширные пустыри, поросшие вереском, отделявшие приморскую Фландрию от внутренней части страны, начали исчезать. Как и в польдерах, распаханная земля была разделена на две части: одна, окруженная обыкновенно рвом, составляла крупную ферму, эксплуатировавшуюся самим собственником, другая, разделенная на участки, сдавалась «летам» (laeten). Интенсивная распашка земли предполагала, кроме наличия капиталов, значительное население, и, действительно, мы уже констатировали, что с конца XI века число жителей — по крайней мере во Фландрии — сильно выросло. С тех пор оно не переставало быстро увеличиваться. В течение всего XII века эмиграция фламандцев в Германию и Англию продолжала быть значительной. В XIII веке она замедлилась и под конец совсем исчезла. Объясняется это, несомненно, тем, что в это время крестьянам, нашедшим в городах клиентов, всегда готовых покупать их продукты, стало хватать труда по обработке земли у себя на родине. Поэтому плотность населения стала быстро увеличиваться. В 1218–1220 гг. территория Брюггского превотства, не очень обширного, заключала 2000 очагов[578]. Жилль ле Мюизи определял численность населения одной villa campestris (деревни) в 1500 жителей[579]. Если эта цифра, несомненно, преувеличена, то список фламандцев, убитых в битве при Касселе, все же показывает, как многолюдны были в начале XIV века приморские деревни. Гондсхот потерял 122 человека, Адинкерке — 76, Альверингем — 77, Беверн — 80, Варгем — 76 и т. д.[580] На основании этого можно заключить о чрезвычайно большой рождаемости, ибо не все крестьяне примкнули к восстанию 1328 г., а кроме того, не следует забывать ужасающей смертности, вызванной страшным голодом 1315 г. Далее следовало бы прибавить для каждой деревни число людей, вернувшихся домой, к числу лиц, погибших на поле битвы. Мы это знаем, для двух из них: для Эльвердинга, весь отряд которого состоял из 49 человек (8 погибших и 41 оставшихся в живых) и Вату, выставившего 172 человека (71 погибших, 101 оставшихся в живых). Если принять в расчет женщин, детей и стариков, а также крестьян, отказавшихся принять участие в войне, то можно прийти к выводу, что число жителей обеих этих общин значительно превосходило цифру в 200–400 душ, являвшуюся, по-видимому, средней цифрой населения деревень в большей части Западной Европы. Кроме того, если трудно выразить в числах увеличение народонаселения, то оно обнаруживается ясно в фактах. В середине XIII века оно приняло такие размеры, что пришлось приступить в широком масштабе к созданию новых приходов. В 1258 г. епископ Турнэ разделил приходы Горена и Рамкруа по причине «множества верующих и обильных доходов церкви»[581]. Другой епископ, Вальтер Марвинский (1219–1251 гг.), поступил таким же образом во многих местностях Западной Фландрии[582]. Прекрасные готические церкви, встречающиеся еще и в настоящее время во многих деревнях этой области, построены по одинаковому плану: они состоят из трех нефов одинаковой ширины, без фасадов; такое расположение, позволявшее легко расширять здание храма, было принято, по-видимому, в расчете на непрерывный рост числа верующих. Вместе с ростом населения становилась более интенсивной[583] и обработка земли. Начали отказываться от системы оставления земли под паром. До XIII века землю удобряли еще при помощи высушенного камыша, но с этого времени широко стал применяться навоз. Это нововведение объясняется разведением скота, которое стало все более и более распространяться с целью снабжения городов мясом. Огромные размеры оно приняло в особенности в фламандских областях. Крупные фермы брали у окрестных крестьян[584] за определенную плату свиней и коров для откорма на своих пастбищах. Фландрия производила, кроме того, в изобилии молоко и сыр. Хлебные злаки возделывались, главным образом, в областях с небольшим количеством городов, в частности, в Генегау. В Брабанте процветали промышленные культуры, например, культура красильной вайды[585]. Повсюду упоминается ячмень в связи с изготовлением пива, этого национального напитка по преимуществу. Однако и вино было очень распространено; оно встречалось на столе зажиточных людей, в трактирах подавали исключительно вино. Его привозили либо из Бордосской области, либо с Рейна или Мозеля. Вместе с тем виноградники разводились и в самой стране, вплоть до холодных областей Кампина; виноградники же долины Мааса доставляли вино для торговли[586]. На морском побережье усиленно занимались ловлей рыбы в Дюнкирхене, Ломбардзиде, Бланкенберге. Особенно много рыбаков было, по-видимому, в этой последней местности. Наряду с рыболовством они занимались малым каботажем и привозили из Англии на своих небольших суднах мешки с шерстью и кузнечный уголь[587]. В середине XIII века фландрские деревни стали принимать свой характерный вид. За исключением обширных поросших вереском пустырей Бульскампфельда и Беверхоутсфельда, последние следы которых сохранились до наших дней, не осталось никаких других общинных земель, кроме краев дорог и откосов плотин[588]. Небольшие ольховые рощи, еще столь многочисленные в этой области в XII веке, стали редкими; но поля были окружены деревьями, так что в этой безлесной местности горизонт был повсюду окаймлен листвой. На определенных расстояниях друг от друга высились приходские церкви, вокруг которых располагались жилища священника, кузнеца и трактир общины. Число недавно введенных тогда ветряных мельниц быстро увеличивалось[589]. В конце века их число было уже необычайно велико: вокруг одного только Ипра их было 120. Речное плавание облегчалось запрудами (rabots, rabats); суда проходили их при помощи наклонной плоскости, которая была снабжена воротами и которая называлась «overdrag». Подъемные мосты позволяли беспрепятственно двигаться по рекам[590]. Каналы облегчали как торговые сношения, так и снабжение городов продуктами. В 1183 г. упоминается канал от Фюрна до Диксмюде. В 1188 г. был проведен другой канал по направлению к Поперингу, чтобы облегчить доставку пищевых продуктов на пятничный рынок. В 1243 г. был проложен канал от Арденбурга к морю, в 1251 г. началась постройка канала от Ньюпорта к Ипру и Ливского канала, соединившего Гент с Даммским портом; в 1285 г. Гюи де Дампьер приказал сделать реку Дендру судоходной при помощи канала между Граммоном и Алостом. Ежегодно производилось общее обследование больших грунтовых дорог (Heistrate) и дорог местного значения (Кеrkstrate). Если в XIII в. положение крестьян в Европе было, в общем, сносным, то, по-видимому, оно было особенно благоприятным в Нидерландах. В частности, во Фландрии сельское население отличалось от крестьянства Франции не только своей свободой[591], но также своим здоровьем и своим превосходным питанием[592]. Существование крестьянина, собственника или фермера было тем более независимым, чем богаче были в его области города, рынок которых он обслуживал. Действительно, благодаря небольшой ренте, которую он должен был платить за свою цензиву или благодаря долгосрочности аренды, именно он, главным образом, воспользовался непрерывным увеличением количества сельскохозяйственных продуктов. В XIII веке производилось бесчисленное множество покупок земли, и страна покрылась множеством мелких хозяйств. Крепостной труд почти совершенно исчез. Образовался класс сельскохозяйственных рабочих (cossaten, coppers), владевших хижиной и клочком земли. Им предоставляли право пастбища на краю дорог и плотин и право рыбной ловли[593]. Кроме того, прядение шерсти, которым занимались в деревне, явилось значительным побочным источником их доходов. Лучшим доказательством экономического процветания Бельгии служит крайне ничтожное количество продовольственных кризисов, о которых упоминается здесь в XIII веке. Их было в этот период лишь два, между тем как в Южной Германии и в Австрии их насчитывали от 4 до 7[594]. Единственной крупной катастрофой, вызванной непрерывными дождями, был голод 1315 г., во время которого цена хлеба достигла вдруг десяти золотых флоринов за «мино». Этот голод, как говорили, унес треть населения[595].

Водяная и ветряная мельница
В Генегау и в Льежской области сельское хозяйство было менее развито, чем во Фландрии, ввиду меньшего значения здесь городов. Крестьяне занимались не только сельским хозяйством, но наряду с ним стала развиваться добыча каменного угля. Об угле, как о превосходном горючем, в источниках идет речь, начиная с 1198 г.[596] В XIII веке имелись уже многочисленные шахты вокруг Льежа и Монса; в 1251 г. одна хартия упоминает не меньше 39 шахт в Кареньоне[597]. Впрочем, это были совершенно мелкие предприятия. В них было запрещено добывать уголь от Иванова дня до праздника всех святых, несомненно для того, чтобы дать возможность рабочим заниматься полевыми работами. Словом, в эту эпоху добыча угля являлась лишь побочной отраслью сельского хозяйства. В Намюрской области и в Арденнах крестьянство изменилось не так быстро, как в остальной части страны. Это следует, несомненно, приписать немногочисленности городов и недостатку капиталов в этих лесных областях. Старый порядок исчезал здесь довольно медленно. Барщины, хотя и в меньших размерах, все еще продолжали существовать в деревнях; промышленные культуры не разводились, число крепостных было сравнительно велико; дворянство сохранило грубые и воинственные нравы. В Намюрской области вплоть до XV века продолжались частные войны, носившие название «войн друзей»[598]. Даже в Брабанте и в льежском Газбенгау они еще далеко не исчезли к концу описываемого нами периода, как это, по-видимому, имело место во Фландрии. В 1296 г. вспыхнула знаменитая ссора между Аванами и Вару, втянувшая в течение 40 лет в борьбу все «знатные роды» газбенгауского рыцарства.
III
В XIII веке большинство нидерландских княжеств обладало совокупностью территориальных институтов, аналогичных которым нельзя найти в эту эпоху в других странах Западной Европы. В этом отношении Германия могла начать соперничать с ними лишь в следующем веке. Что касается Франции, то рост королевского могущества после Филиппа-Августа воспрепятствовал здесь князьям добиться такой независимости, какой они пользовались в Бельгии. Этот мощный расцвет территориальных институтов следует, несомненно, тоже приписать экономическому процветанию страны. Огромные доходы, получавшиеся князьями от торговли и промышленности, давали им средства на те расходы, которых требовал усложнившийся аппарат управления. С другой стороны, происшедшие в XI веке изменения в самом составе населения, которое отныне складывалось в значительной мере из купцов, ремесленников и свободных крестьян, повелительно требовали создания нового политического строя. В правильности этой точки зрения легко убедиться, если принять во внимание, что Фландрия являлась тем бельгийским княжеством, в котором экономическая жизнь была особенно интенсивной и в то же время административный механизм — наиболее усовершенствованным и законченным. В конце XII века нидерландские территории окончательно сформировались. Они перестали быть конгломератом из доменов, графств и фогств; они стали небольшими автономными государствами, связанными более или менее слабыми узами с далеким сюзереном, французским королем или германским императором. Границы их были отчетливо установлены, и можно сказать, что вплоть до конца XVIII века пограничная линия, отделявшая тогда друг от друга Брабант, Фландрию, Генегау и Льежское княжество, не изменилась заметным образом[599]. В то же время внутри каждой территории произошел процесс концентрации. Князь положил конец той независимости, которую прежде сохраняли по отношению к нему его самые могущественные вассалы. Графы Фландрские приобрели в 1165 г. владения Алостского дома, графы Генегауские подчинили себе сеньоров д'Авенов, а герцоги Брабантские — сеньоров Гримбергенских. В Льежской области Гуго Пьеррпонский уступил в 1227 г. Мезьер мецскому епископу, получив от него в обмен за это город Сен-Трон, который был необходим для прикрытия княжества со стороны Брабанта. Словом, княжеская власть имела отныне точно установленные границы. И власть эта с течением времени становилась все более однородной. В XI веке князь должен был пользоваться самыми разнообразными титулами, чтобы заставить население своего княжества признавать себя. В зависимости от обстоятельств, он выступал то как верховный судья, то как фогт, то как владелец доменов, то, наконец, как сюзерен своих вассалов. В XII и XIII вв. наблюдается совершенно иная картина. Князь обладал теперь верховными правами, imperium, в котором слились, усиливая друг друга, различные элементы, составлявшие его власть. Осуществлявшаяся им власть состояла из сочетания разнородных прав, функций и прерогатив, смешавшихся и скомбинированных между собой таким образом, что их невозможно было отделить друг от друга. В ранний период средневековья княжеская власть носила феодальный характер. Кастеляны (castellani), управляющие, экутеты (ecoutetes), составлявшие то, что можно было назвать его административным аппаратом, были все наследственными вассалами[600] и были соединены с ним лишь непрочной связью «оммажа» и верности. Поэтому он был вынужден для сохранения за собой своих прерогатив вмешиваться лично во все дела. Он непрерывно объезжал свои земли, отправлял самолично правосудие, председательствовал на собраниях эшевенов, приказывал вешать воров и разбойников, рубить им головы или варить их в кипятке в своем присутствии. Возникновение городов и раскрепощение сельского населения в XII и XIII веках сильно способствовали росту могущества князей. Города и освобожденное крестьянство помогли князьям ослабить влияние вассалов, ибо, как мы видели, свободные люди старались отдаться под непосредственную власть князя, чтобы освободиться от власти местных сеньоров, более докучной, так как они были ближе к ним. Кроме того, большинство городов непосредственно подчинялось графам, и на графской же земле строились почти все новые города и происходило большинство крупных распашек. Благодаря этому можно было приступить к новой системе управления. Вместо того чтобы передавать своим вассалам наследственные права юрисдикции и управления горожанами и свободными крестьянами, князь удержал их в своих руках. Во Фландрии он стал назначать со второй трети XII века бальи (bajuli, baliuw, bailliu), настоящих сменяемых чиновников, которых он вознаграждал не пожалованием земли, а денежным жалованием и которые должны были отдавать ему ежегодно отчет в делах. Вместе с ними появился новый тип территориального чиновника. Действительно, для бальи не было никакого места в феодальной иерархии. Он по всему своему существу отличался от наследственных кастелянов или экутетов (ecoutetes). Между ним и ими была такая же разница, как между старыми поместными держаниями и арендой на срок. Одни и те же экономические причины преобразили и земельную, и политическую организацию. Подобно тому, как они дали крестьянам возможность освободиться, а землевладельцам заменить цензиву арендой, точно так же они позволили князьям захватить при помощи находившихся на жалованье чиновников, непосредственное управление своими территориями. Политическая реформа, как и сопутствовавшие ей социальные нововведения, предполагала широкое распространение движимого богатства и денежного обращения. Бальи, как известно, имелись не только во Фландрии. Их можно было встретить в значительной части Западной Европы, в Нормандии, в Шампани, в Бургундии и на землях французской короны, а также на всем протяжении Нидерландов. Во всяком случае, они появились во Фландрии так рано, что нет никаких оснований думать, будто они были здесь созданы в подражание чужеземным образцам. Они являлись, несомненно, видоизмененной формой «министериалов» и нотариусов, которыми пользовались с X века при управлении графскими поместьями. Князь усовершенствовал штат не наследственных чиновников, которым он располагал в своем домене, и придал ему общий характер, а вовсе не заимствовал его из-за границы. Фландрский бальи был делом рук графов Фландрских. Только название его было французским, и в этом нет ничего удивительного, если вспомнить о поразительном распространении в XIII веке французского языка в средневековой Фландрии[601]. Начиная с правления Филиппа Эльзасского, бальи распространились по графству, укрепляя повсюду, куда они проникали, авторитет князя. В 1180 г. их функции были единообразно определены на всей территории княжества[602]. Легко понять успех этого института, если принять во внимание, что он отвечал как интересам населения, так и князя. Горожане и крестьяне видели с радостью, как он подрывает власть наследственных кастелянов, прерогативы которых, покоившиеся на обреченном порядке вещей, были лишь стеснительным анахронизмом. Поэтому кастеляны легко уступили свое место бальи. Мало-помалу они превратились в простых вассалов, обладавших феодами и доходами, но не вмешивавшихся уже в дела государственного управления. В XIII веке часто бывало даже, что граф выкупал сохранившиеся еще у них иммунитетные права. Фландрия оставалась до конца XVIII века разделенной на кастелянства (casselrit); но отныне князя в них представляли бальи[603]. Феодальный чиновник исчез, уступив место чиновнику нового типа. Бальи почти всегда назначались из мелкого дворянства, многие члены которого нашли себе таким образом карьеру в чиновничьей службе. Как правило, они исполняли свою должность в одном и том же округе лишь короткий срок, обычно год или два. Они должны были быть родом из другого места, чем тот округ, которым они управляли, и им было запрещено жениться на уроженках этого округа[604]. В городах они не могли принадлежать к местным жителям, сильно напоминая этим итальянских подест (podesta). Эти меры были выгодны как графу, так и его подданным: графу, потому что они гарантировали верность и послушание его чиновников, а жителям, потому что они защищали их от злоупотреблений властью, которые мог бы себе позволить бальи, имевший сильных родственников, или очень влиятельный в округе. Бальи имели около себя — во всяком случае начиная с XIII века — известное количество полицейских служащих (sergents, prendeurs, vangers), составлявших настоящий полицейский отряд. Что касается функций бальи, то они были одновременно судебными, финансовыми и военными. Они делали указания («manen») эшевенствам, взимали налоги, домениальные доходы, штрафы, а в случае войны созывали милицию, направляя ее в армию. Они же председательствовали на судебных заседаниях, которые собирались в XIII веке периодически под названием «doorgaende», «stille waerheden» и которые являлись, может быть, видоизмененной формой старых, «placita majora» (судебных заседаний) франкской эпохи. Они должны были ежегодно давать отчет в собранных ими и истраченных деньгах; мы имеем замечательное собрание их отчетов с середины XIII века. Если они позволяли себе злоупотреблять властью, то на них можно было жаловаться князю, от которого они непосредственно зависели[605]. В конце XIII века была даже создана на некоторое время комиссия из заседателей, обязанных расследовать, как они вели дела[606]. Словом, в лице бальи граф получил замечательное орудие управления. Благодаря им он непрерывно расширял свою власть за счет власти феодалов и церковной юрисдикции; он подчинил себе мейеров, экутетов, амманов и ввел порядок и систему в дела управления. Недовольство высшей фландрской аристократии графами, недовольство, которое с конца XIII века так искусно использовала французская политика, имеет, несомненно, одной из своих главных причин непрерывное усиление власти бальи. Наиболее полные результаты институт бальи дал, главным образом, в приморской Фландрии. В то самое время, когда Вальтер Марвиский основал здесь новые приходы, графиня Иоанна создала здесь политическое устройство, сохранившееся без существенных изменений до конца старого порядка. До сих пор не было обращено достаточного внимания на то, что все территориальные хартии Фландрии относятся к той области польдеров, которая тянется вдоль моря от Дюнкирхена до Западной Шельды. Это нетрудно понять, если вспомнить, что феодализм не пустил глубоких корней в этой местности, и что почти все население было здесь свободно. Благодаря этим обстоятельствам здесь возможно было в полном объеме установить совершенно простую и логическую систему управления. Дело было начато в крупном масштабе, и за три года (1240–1243 гг.) Фюрнский округ, округ Берг-Сен-Винок, кастелянство Бурбурское, области Ваасская и Четырех Округов[607] получили каждая «Keures», устанавливавшие компетенцию и иерархию эшевенств, права населения и права князя, представленного своим бальи. Эти территориальные «Keures» давались первоначально, несомненно, только деревням, непосредственно зависевшим от графа, но мало-помалу они стали обычным правом и деревень, зависевших от частных сеньоров, так что с течением времени все прибрежье было «подчинено закону» (mise a loi). Для кастелянств внутренних областей графства мы не имеем хартий, аналогичных хартиям приморской Фландрии. Однако и здесь графская власть сделала быстрые успехи. Уже Филипп Эльзасский и Балдуин Константинопольский могли издать указы, имевшие силу для всех их земель, и в источниках XIII века мы часто встречаем доказательства того, что повсюду укоренился «communis lex patrie» (общий закон государства). Впрочем, куда ни кинуть взор, повсюду ясно видны были поразительные достижения графской власти. Так, например, в военном деле исчезло право на освобождение от воинской повинности, на которое претендовало население земель, являвшихся феодом какого-нибудь иностранного сюзерена, или принадлежавших ему. Все крестьяне, как свободные, так и несвободные, были отныне обязаны в случае нападения нести службу в ополчении (ost commun, lantwere). Точно так же в финансовом отношении «талья», взимавшаяся от имени князя, получила все более и более широкое распространение, так что дворяне и духовные лица должны были в большинстве случаев мириться с взиманием ее на своих землях[608]. Словом, княжеская власть усиливалась во всех областях с невероятной быстротой и энергией. Он сломала одну за другой все рогатки старой феодальной системы, нанося ей столь же чувствительные удары, как и те, что незадолго перед тем ей нанесли города. Однако было бы ошибочно думать, будто князья вдохновлялись примером городов. Городское управление и территориальное управление представляли очень различные вещи. В основе их лежали одни и те же социально-экономические условия, заменившие натуральное хозяйство и крепостную зависимость денежным хозяйством и личной свободой, но принципы, которых они придерживались, и применявшиеся ими методы не имели ничего общего друг с другом[609]. Города создали для своего населения политическое устройство, приспособленное к потребностям последнего и функционировавшее только для него; их конституция покоилась в конце концов на привилегии. Наоборот, князья, исходя из идеи о своей верховной власти, стоящей выше всех частных прав и привилегий, считали себя одновременно и верховными земельными собственниками, и верховными судьями своего государства. Они старались подчинить последнее целиком своему авторитету и авторитету своих чиновников. Теоретически они считали подвластных им людей своими подданными. Они требовали не только феодальной присяги и верности, но и послушания, и восстание влекло за собой лишение жизни и имущества[610]. С середины XIII века их старая курия (curia), объединявшая периодически вокруг них баронов, преобразовалась. Из нее выделился постоянный совет, которому графы Фландрские пытались, подражая в этом французским королям, придать в XIII веке название парламента[611]. В этом совете заседали оплачивавшиеся из шкатулки князя юристы, в большинстве своем иностранцы, «профессора права», придававшие ему характер подлинного органа управления[612]. Таким образом князь, окруженный слугами, которые были обязаны ему всем, управлял по своему усмотрению своими делами, непрерывно усиливая свою власть. Благодаря своим легистам он нашел в арсенале римских законов аргументы, в которых он нуждался для обоснования своих притязаний. Разумеется, от теории до практики было далеко, но нетрудно заметить, что все его усилия направлены были к непрерывному расширению его прерогатив и сосредоточению в его руках максимума власти. Преследовавшаяся им цель ясно видна из учения об «особых случаях» (cas reserves), которое было отчетливо формулировано во Фландрии в XIII веке и которое подчиняло непосредственной юрисдикции графского двора множество преступлений, относившихся раньше к компетенции обыкновенных судов[613]. Противоречия между. князем и городами проявлялись не только в их политических принципах, но и в методах управления. Действительно, сравнивая различные отрасли управления в городах и на княжеских территориях, можно тотчас же заметить глубокие различия между ними. Чтобы убедиться в этом, достаточно кинуть взгляд на самую важную из них, а именно финансовое ведомство. Как известно, города для покрытия своих расходов прибегали к акцизам[614]. Ничего подобного нельзя было встретить в княжествах XIII века — большинство князей впало в долги. Деньги, необходимые им для военных и административных расходов, они требовали либо у своих городов, либо — все чаще и чаще — просили их у ломбардских банкиров страны. В правление Гюи де Дампьера эти последние стали во Фландрии подлинными поставщиками графской казны. Из них Граф выбирал главных сборщиков своего финансового ведомства; им он отдавал на откуп значительную часть своих доходов и предоставлял им право чеканки монеты[615]. Но это обстоятельство помешало в конце концов князьям как во Фландрии, так, в других княжествах, достигнуть той степени могущества, можно даже сказать абсолютизма, к которому они стремились. Преследуемые своими кредиторами, они должны были обращаться за помощью к городам, чтобы выполнить свои обязательства, сохранить свой кредит, или избегнуть банкротства[616]. Они добивались от городов, чтобы последние ручались за них перед ломбардскими банкирами и признавали их долги. В других случаях князья просили у городов безвозмездного дара (bede), на который те соглашались в обмен на обещание разных привилегий и вольностей. Словом, в XIII веке граф фландрский зависел от своих городов так же, как многочисленные разорившиеся мелкие помещики того времени зависели от богатых горожан. Если бы города не дали ему своих гарантий или отказались ссужать ему деньги, то он очутился бы в катастрофическом положении. Поэтому между графом и городами с давних пор создались весьма своеобразные отношения. Хотя городам не было даровано формально права вмешательства в дела управления, но они стали оказывать значительное влияние на общую политику. Чтобы получить от них денежную помощь, надо было вести переговоры с ними, склонять их на свою сторону, давать им требовавшиеся ими привилегии. Разумеется, они заставляли платить дорого за свою помощь. Они ловко спекулировали на денежных затруднениях своего государя с целью усилить свое могущество. Они не удовлетворялись уже тем положением, в котором они находились при Филиппе Эльзасском; они стремились стать государством в государстве. Была организована коллегия из эшевенов пяти «добрых городов»: Брюгге, Гента, Ипра, Лилля и Дуэ, коллегия, которая стала играть, вопреки графу, все более и более важную роль в управлении страной[617]. Так, сам ход вещей привел к какому-то неустойчивому положению, вытекавшему из скрытого конфликта между двумя противоположными тенденциями. Князь вынужден был позволить городам широко вмешиваться в свои дела, но он сделал это лишь в силу необходимости. В глубине души он был непримиримо враждебен всякому дележу власти с привилегированными лицами, безразлично, клириками, дворянами или горожанами. Ему удалось устранить оба первых сословия, но он не смог добиться этого в отношении горожан, могущество и богатство которых были слишком велики и в которых он слишком остро нуждался. Но если он уступал, то не добровольно, а под давлением тяжелого положения. Он выжидал лишь благоприятного случая, чтобы вернуть себе обратно утраченные им права и не упускал ни одной такой возможности. Гюи де Дампьер, вынужденный терпеть во Фландрии коллегию эшевенов, действовал совершенно иначе в своем Намюрском графстве, где он мог не считаться с городским населением[618]. Если граф вместе с усилением своей территориальной власти стал все более и более считать себя верховным повелителем государства, то со своей стороны города, осмелев благодаря росту своего богатства и своего могущества, начали обнаруживать диаметрально противоположные притязания. С конца XIII века их идеалом становится, несомненно, как почти во всех торговых и промышленных государствах, республиканский идеал. Между княжескими бальи и городскими эшевенами происходили частые конфликты. В то время как граф стремился ограничить привилегии и юрисдикцию городов, последние, наоборот, стремились непрерывно расширять их. Вскоре они стали вмешиваться в дела за пределами городских стен и захватывать права фогства над окружавшими их небольшими городами[619]. Таким образом рядом с законной и традиционной властью князя образовалась новая и незаконная власть, созданная горожанами и работавшая на них. Между этими двумя властями не было места для соглашения и примирения. Борьба была неизбежна, а тут рядом находился союзник, готовый вмешаться в пользу городов и воспользоваться, в целях своей политики, конституционными смутами во Фландрии: мы имеем в виду французского короля. Начавшаяся в конце XIII века война между Филиппом Красивым и Гюи де Дампьером была вызвана в значительной мере борьбой обеих этих властей за гегемонию. Конституция Фландрии была в это время, так сказать, незаконченной. Она заключала в себе внутреннее противоречие, коренной порок, последствия которого ясно обнаружились лишь в XIV веке. Обе крупные политические силы, в которых воплотилась жизнь страны, князь и города, не могли объединиться в едином общем действии. Тем не менее следует признать, что с точки зрения территориального управления графство со своим государственным административным аппаратом стояло значительно выше соседнего государства, которым оно послужило образцом. Повсюду, где правили князья из фландрского дома, они ввели институт бальи. Восстание Генегау в эпоху графини Маргариты, восстание, которое предание разукрасило более или менее фантастическими легендами[620], имело, вероятно, причиной рост власти графских чиновников, и в этом отношении его можно считать кризисом, вызванным переходом от старой феодальной системы управления к новой системе фискального и централизованного характера. Институт бальи был создан также в Намюрском графстве, учреждения которого были в правление Гюи де Дампьера организованы по фландрскому образцу. Иначе обстояло в Брабанте, который сохранил свою старую династию и не подчинялся непосредственно фландрскому влиянию. Однако и в этом княжестве укрепилась новая система управления, но позднее, и в менее четкой форме, чем во Фландрии. Хотя при Иоанне I четыре важнейших феодальных сановника — сенешал, маршал, камергер и знаменосец — продолжали оставаться наследственными и получать свое установленное обычаем содержание, но для фактического выполнения их функций появились особые, состоявшие на жалованье, чиновники[621]. Реальные сенешалы — или «дросты» герцога — по роду своих обязанностей и по своему характеру княжеских чиновников, совершенно походили на бальи графа Фландрского. То же самое можно сказать о лувенских и тирлемонских мэрах, о брюссельских амманах, о нивелльских и жодуэньских бальи, об антверпенских и буа-ле-дюкских экутетах. Таким образом, если положение чиновников носило здесь более архаический характер, чем во Фландрии, если новое название «бальи» было менее распространено, то, однако, в своих основных чертах брабантская конституция подверглась глубоким изменениям. Как и во Фландрии, государство было окончательно разбито на крупные административные округи, подразделявшиеся, в свою очередь, на мэрии, которые вначале включали лишь герцогские деревни ('s heeren dorpen), но мало-помалу распространились на всю страну. Как и во Фландрии — и даже больше, чем во Фландрии, — во всем герцогстве было установлено одно общее кодифицированное в великих хартиях 1292 г. право, нормы которого имели силу как во фламандском, так и в романском Брабанте. Следует заметить, что брабантская конституция не страдала, в отличие от фландрской, противоречием между княжеской власть и властью городов. Действительно, как ни велико было могущество Лувена и Брюсселя, но в этом отношении они уступали фландрским городам. С другой стороны герцог, домены которого были несравненно обширнее доменов графов Фландрских, не так нуждался, как этот последний, в займах или налогах. Далее, его династия, продолжавшаяся в мужском потомстве с X века, стала национальной и популярной. Преданность ему дворянства, духовенства и городов была безгранична. В Брабанте сохранилась лояльность, которой уже нельзя было встретить во Фландрии после смерти Балдуина Константинопольского. Кроме того, подданные герцогов не имели возможности, подобно подданным графов, апеллировать против своего государя к его сюзерену. Германский император стал для них чужестранцем, и они не знали власти высшей, чем власть брабантского дома, который генеалогисты выводили от Карла Великого, а народное предание — от рыцаря Лебедя[622]. Таким образом, в герцогстве с ранних пор создалась простая и сильная конституция. Интересы князя и интересы страны сумели приспособиться друг к другу. Между ними установился «modus vivendi», из которого с течением времени развился наиболее законченный и наиболее гармонический политический организм старой Бельгии. Льежская область отличалась от Фландрии, Брабанта, даже Генегау прежде всего слабостью княжеской власти. В то время как власть светских князей непрерывно усиливалась, власть епископов, столь крепкая в императорскую эпоху, непрерывно ослабевала. С тех пор как епископ стал назначаться капитулом, он располагал властью, значительно уступавшей власти его избирателей. Действительно, с конца XII века страной управлял скорее капитул св. Ламберта, чем епископ, так что государство приняло характер церковной республики. Некоторые прелаты, как, например, Гуго Пьеррпонский в начале XIII века, Генрих Гельдернский в середине его, Гуго Шалонский — в конце, тщетно пытались сбросить с себя это иго. Конечно, епископ представлял княжество в сношениях с иностранными державами, принимал присяги вассалов льежскои церкви, но он был лишен инициативы во всяком мало-мальски важном вопросе, и о нем можно было бы сказать довольно точно, что он царствовал, но не управлял. Действительно, ему недоставало той силы, которую придавали светским князьям преемственность их рода и принцип наследственности. До начала XIV века ни разу два епископа не избирались подряд из одной и той же семьи. Если в XII веке многие из них были навязаны при выборах каноникам графами Генегаускими и герцогами Брабантскими или Лимбургскими, то начиная с XIII века это вмешательство светских князей в выборы прекратилось. Свобода капитула была отныне гарантирована папой, и он избавился от вмешательства как императора, так и соседних князей. Но автономия его достигла своего апогея тогда, когда епископы стали совершенно бессильны. Сменявшие друг друга Иоанн Эппский, Вильгельм Савойский, Роберт Торотский, Иоанн Энгиенский, Гуго Шалонский, Адольф Вальдекский — были одинаково бесцветны. Все они, будучи посторонними для страны людьми, нисколько не интересовались ею; они довольствовались выполнением своих епископских обязанностей и получением связанных с этим доходов. Иное дело капитул. На его стороне была преемственность и устойчивость, которых не хватало епископам. Он мог проводить последовательную политику, составлять планы на далекое будущее. Управление княжеством сосредоточилось фактически в его руках. Благодаря этому положение капитула в Льежской области напоминало положение герцога Брабантского или графа Фландрского в их государствах. На первый взгляд может показаться, что одинаковая власть принадлежала в одном случае — одному человеку, а в другом — корпорации. Но при более внимательном рассмотрении нетрудно убедиться, что это сходство обманчиво. Действительно, капитул не обладал, в отличие от светских князей, всеми признанными, если не всеми почитаемыми, верховными правами. По существу, он составлял привилегированное сословие, и его политика, тесно связанная с его частными интересами, не могла не нарушать чужих интересов. Этим объясняются гражданские войны, которые непрерывно разражались в XIII веке в княжестве, и благодаря которым его история так резко отличается от истории соседних государств. Между капитулом, представлявшим главным образом крупное землевладение, и городами, благосостояние которых основывалось на торговле и промышленности, борьба вспыхнула с самого же начала и ликвидировать ее было невозможно. Мелкое воинственное дворянство Газбенгау и Кондроза бурно ринулось в эту борьбу, помогая, в зависимости от обстоятельств, то одной стороне, то другой. Под давлением капитула в борьбу почти всегда вмешивался сам епископ. Поэтому страна представляла зрелище соперничавших клик, которые беспрепятственно боролись между собой, благодаря бессилию князя, неспособного справиться с ними. Развитие льежской конституции происходило под ударами гражданской войны. Характерно, что все тексты, из которых она составилась, представляют «компромиссы» и «миры». С течением времени из этих непрерывных конфликтов выделился принцип, который, будучи вписан в 1316 г. в Фекский мир, остался до конца старого порядка основой льежского публичного права, — именно обязанность епископа управлять княжеством в согласии с «волей страны», т. е. в согласии с тремя привилегированными сословиями: капитулом, дворянством и городами. С тех пор политическое устройство княжества сохранило в своих основных чертах, несмотря на многочисленные попытки наступления со стороны князя, республиканскую форму. Ни в одном из других нидерландских государств «штаты» не пользовались такими широкими прерогативами и таким огромным авторитетом. Но благодаря именно тому, что Льжеская область почти целиком зависела от привилегированных групп и что ей не хватало противовеса прочной центральной власти, стоящей выше частных интересов, в ней не создалась та столь активная и столь благотворная система управления, которая с XIII века функционировала во Фландрии, Брабанте и Генегау. Льежская область обладала очень значительной политической свободой, но в ней было мало безопасности, порядка и дисциплины. Бальи появились здесь лишь очень поздно, а территориальное законодательство было очень слабо развито. В созданном в XI веке суде божьего мира сохранилась до конца Средних веков устаревшая процедура[623]1. Финансовая система и судебная организация остались здесь в зачаточном состоянии. Наконец, нормальным институтом княжества остались до середины XIV века частые войны[624].
Глава пятая
Язык, литература, искусство, религиозная жизнь
I
В XII и в XIII вв. литературная и художественная жизнь Нидерландов представляла ту же картину, что и их политическая жизнь: в ней царило французское влияние. Легко понять, что иначе оно и не могло быть: ведь эпоха, когда капетингская монархия выдвинулась в первый ряд великих европейских держав, была в то жевремя классической эпохой средневекового французского искусства и литературы. Первой испытала это влияние, естественно, Фландрия, которая была политически связана с Францией и на юге которой романский язык был национальным языком, подобно тому как она же первая переняла в XI веке рыцарство, клюнийскую реформу и институт божьего мира. Поэтому при описании как интеллектуальной, так и экономической деятельности Бельгии Фландрию следует поставить на первый план. Лучший способ понять во всем его объеме влияние, оказанное Францией на Фландрию, — это проследить за успехами французского языка в германских частях этого государства. Действительно, здесь произошло с очень ранних пор настоящее офранцуживание, которое, правда, не захватило широких народных масс, но благодаря которому, тем не менее, французский язык сделался в конце концов для высших классов общества вторым национальным языком[625]. Нет никаких сомнений в том, что в XIII веке Фландрия представляла с лингвистической точки зрения такую же картину, как и в настоящее время. Это обстоятельство не было вызвано какими-нибудь изменениями в самой природе народа. Действительно, после завоевания V века фламандская народность не знала никаких смешений с чужеземцами. Французский язык не был навязан ей насильственно в результате завоевания, как это произошло в Англии, или благодаря чужеземной иммиграции, как это было с немецким языком в Богемии или в славянских и литовских областях Прибалтики. Во Фландрию, частично населенную людьми, говорившими на французском языке, и связанную с Францией своим географическим положением, политической зависимостью, церковными округами и интересами своей торговли, французский язык проник естественным образом, без всяких усилий, благодаря ходу вещей. Мы имели уже повод указать на роль этих различных факторов для предыдущего периода. Но ясно, что их действие должно было усилиться вместе с ростом культуры и могущества капетингской монархии. В XII в. богатые валлонские города южной Фландрии, и в особенности Аррас[626], стали наиболее оживленными центрами романской литературы и культуры, которые быстро распространились отсюда на север графства. Рост французского влияния происходил тем более бурно, что ему не приходилось при этом преодолевать никаких препятствий. Действительно, Англия, с которой Фландрия поддерживала в XII и XIII веках столь оживленные сношения, была сама в это время государством с французской речью, а что касается Германии, то мы уже знаем, что ее былая гегемония над Нидерландами отошла в прошлое. Таким образом, французский язык не был навязан Фландрии силой. Он проник в нее вместе с французской культурой и вслед за ней. Для всех тех, кто принимал участие в интеллектуальной жизни, он стал привычным и часто необходимым орудием. Если в XI веке клюнийцы ввели знание его в большинство бельгийских монастырей, говоривших на фламандском языке, то цистерцианцы, тоже прибывшие из Франции, дали ему в XII веке право гражданства в многочисленных аббатствах, основанных ими в Нидерландах. Многие монастыри получили своих аббатов и приоров из Франции. В 1207 г. андрские монахи жаловались, что их приор, присланный из Шару, не говорит по-фламандски и что они не могут его понять[627]. Однако факты подобного рода встречались очень редко. Почти во всех больших монастырях монахи, говорившие на фламандском языке, и монахи, говорившие на валлонском языке, жили бок о бок и приучались понимать друг друга. Некоторые из них оставили нам кое-где в писаниях макаронического стиля свидетельство о своих знаниях. Мы знаем, что в Сен-Троне в правление аббата Вильгельма II (1277–1297 гг.) многие монахи были «facundi in theutonico, gallico et latino sermone» (красноречивы на фламандском, французском и латинском языках)[628] и если иногда случалось, что какой-нибудь монах «modice litteratus» (недостаточно образованный) не знал латыни, то во всяком случае можно было надеяться, что он поймет, если заговорить с ним по-французски[629]. Как ни распространен был французский язык в монастырях, но он, несомненно, был еще более распространен в аристократических кругах. Первые графы Фландрские, управлявшие двуязычной страной, говорили на нем, по-видимому, с самых древних времен. То же самое, несомненно, можно сказать о Теодорихе Эльзасском, ибо жители его родной Лотарингии были отчасти романской расы, а отчасти — германской[630]. Хотя его сын Филипп почти в течение всего своего правления оставался смертельным врагом французского короля, но все же он был насквозь французским князем, по своему воспитанию, нравам и языку. При нем графский двор представлял своего рода кружок романских поэтов и ученых, и достаточно сослаться на один только этот факт, чтобы показать, как ошибочно было бы датировать распространение французского языка во Фландрии с правления дома Дампьеров. Впрочем, совершенно верно, что национальность князей, преемников Филиппа Эльзасского, сильно способствовала ускорению начавшегося еще до них процесса. Балдуин VIII и Балдуин IX были по происхождению валлонами; графини Иоанна и Маргарита воспитывались с детства в Париже, и сомнительно, чтобы они научились когда-нибудь фламандскому языку, одни только начатки которого были им, должно быть, известны и на который они, несомненно, смотрели как на недостойный двора жаргон. То же самое имело место и еще с большим основанием при Гюи де Дампьере и всем его роде. В XIII веке единственный язык, которым пользовались графы и на котором говорило их окружение, был французский. На французском языке составлялись отчеты их дворцового ведомства и велась их частная переписка, на французском же составлялись по их приказам инструкции для их бальи и распоряжения, исходившие из их канцелярии. Действительно, французский язык стал с тех пор официальным языком центрального административного аппарата Фландрии. Дворянство было не менее офранцужено, чем князья. С тех пор как оно утратило свой сельский характер и посвятило себя военному делу и рыцарскому образу жизни, оно переняло у Франции ее нравы, ее костюмы и ее язык. Представители дворянства отличались от остального населения своими обычными занятиями и своим кастовым духом не менее, чем языком, на котором они говорили. Знание французского языка было бесспорным признаком «куртуазности», и чтобы научиться ему, не отступали ни перед какими жертвами. С начала XII века молодых дворян стали посылать с этой целью в Турнэ, Лан или Артуа[631]; у других были наставники-иностранцы. Кроме того, весьма многочисленные браки, заключавшиеся между дворянскими семьями Фландрии, с одной стороны, и семьями из Генегау, Шампани и Пикардии — с другой, способствовали распространению у первых знания валлонских наречий[632]. Французские песенки, весьма вероятно, убаюкивали детство немалого числа фландрских рыцарей, так что для многих из них французский язык был не только языком светского общества и различных торжественных церемоний, но занимал место национального языка[633] в домашнем быту. Словом, фландрские феодалы, подобно своем сюзерену, говорили и писали обычно по-французски. Достаточно перелистать какой-нибудь картулярий, чтобы убедиться, что в XIII веке большинство исходивших от них хартий написано на этом языке. Единственная дошедшая до нас с того времени земельная книга фландрской дворянской семьи, именно Viel Rentier (старая книга рент) одерандрских сеньоров, — тоже написана по-французски, и наличие французских стихов, нацарапанных на обложке рукописи, показывает, насколько романизованы были те, кто некогда держал ее[634] в руках. Французский язык не остался монополией дворянства: его усвоила также значительная часть горожан. Богатые патриции, подражавшие роскоши и прекрасным манерам рыцарей, организовывавшие по их примеру в городах турниры и «круглые столы», носившие, подобно им, бархатную одежду и золотые цепи и сражавшиеся, подобно им, верхом на лошади в выставлявшихся городами войсках, эти патриции переняли также и их язык. Но еще большую роль сыграли, конечно, потребности торговли. Постоянные сношения фландрских купцов с шампанскими ярмарками заставили их научиться французскому языку[635]. Он был для них также необходим, как необходим в наше время английский язык для крупных континентальных экспортных фирм, ведущих торговлю с заокеанскими странами. Не только дела велись в Провене, Ланьи, Труа, Ба-Сюр-Обе на французском языке, но на этом же языке писались ярмарочными клерками векселя и долговые обязательства, словом, всякого рода кредитные документы, которыми пользовалась тогдашняя торговля[636]. В самой Фландрии ломбардские и флорентийские банкиры не прибегали к другому языку, так что незнание французского языка поставило бы торговавших шерстью и сукном перед невозможностью вести свои дела[637]. Поэтому нет никаких сомнений в том, что все лица, прикосновенные к крупной торговле, члены гильдий и ганз, стали уже с ранних пор говорить на столь важном для них языке. Пока шампанские ярмарки являлись для фландрской промышленности главным континентальным рынком, рост романизации в городах происходил с поразительной быстротой. Сент-Омер, население которого было чисто германским по происхождению, стал начиная с XIII века городом, в котором говорили по-французски[638]. Конечно, присоединение его к Артуа при Филиппе-Августе должно было способствовать этому, но одного этого недостаточно для объяснения указанного факта. Действительно, в Ипре, всегда входившем в состав фландрского графства, можно было наблюдать аналогичную картину в правление графини Иоанны. На французском языке писались с тех пор — почти до конца XIV века — все документы его архивов. Во французском переводе до нас дошел текст его городской хартии[639]. Гентские и брюггские архивы слишком бедны источниками XIII века, чтобы позволить нам прийти к столь же бесспорным выводам. Однако, по вполне явным признакам можно убедиться в том, что, несмотря на значительное расстояние этих городов от лингвистической границы, французский язык был здесь в ходу у богатых «poorters» (горожан). Сохранились многочисленные печати горожан с французскими надписями на них[640], и хотя документы, составленные на романском языке от имени патрициев до начала XIV в., редки, но все же в примерах их нет недостатка. Знаменитый Венемар, один из вождей аристократической партии Гента в правление Людовика Неверского[641], приказал составить в 1323 г. на этом языке акт об учреждении больницы, носящей до настоящего времени его имя. Французский язык, уже глубоко укоренившийся во Фландрии, благодаря обычаям и потребностям торговли, нашел могучее орудие для своего распространения в системе государственного управления. На помощь ему пришло мощное и быстрое развитие муниципальной жизни и княжеского чиновничества. Действительно, эшевены отказались, подобно бальи, в своих распоряжениях и счетах от латинского языка и начали пользоваться общераспространенным французским языком, лучше отвечавшим тому новому практическому духу, которым они были проникнуты. Движение началось, конечно, с романских частей графства. Для, социального и политического состояния Фландрии характерно то, что первый известный нам на французском языке документ происходит из Дуэ (1204 г.). В течение всей первой половины XIII века французский язык непрерывно вытеснял латинский в судебных и административных актах. До 1250 г. он был как в валлонских, так и во фламандских областях страны единственным общеупотребительным языком во всех отраслях управления. Этот официальный французский язык Фландрии представлял довольно странное наречие, лишенное часто гибкости и правильности и до того перегруженное нидерландскими словами, что германские филологи могли бы здесь сделать иногда счастливые находки. Впрочем, он был менее странным, чем романское наречие, которым пользовались в это же время в Англии, и удивительно даже, что он не исказился еще более под пером фламандских писцов. Действительно, многие из тех, кто писал на нем, несомненно, научились ему в результате упорного труда и прилежания. Если можно допустить, что бальи, принадлежавшие почти все к мелкому дворянству, знали его с детства, то этого наверное нельзя сказать об эшевенах и низших судьях, вышедших из народа. Так как графские чиновники употребляли лишь французский язык, то все те, кто имели сношения с правительством, должны были научиться понимать его и писать на нем. Впрочем, следует заметить, что этого результата здесь добились, не прибегая к принуждению и насилию[642]. Начиная с середины XIII века, когда фламандская проза настолько развилась, что стала годиться для изложения официальных распоряжений, власти, имевшие непосредственные сношения с публикой, начали пользоваться фламандским языком, не встречая никаких препятствий со стороны графа. Однако французский остался вплоть до правления Людовика Мальского единственным языком, которым почти исключительно пользовалась центральная администрация. Княжеские чиновники продолжали употреблять язык князя, так что даже для эшевенов, переставших им пользоваться как постоянным языком, знание его все же было обязательно. Чтобы составить себе точное и живое представление о лингвистической обстановке во Фландрии до конца правления Гюи де Дампрьера, достаточно перелистать наугад какой-нибудь тогдашний сборник документов или реестр. Здесь встречаются вперемежку тексты на латинском, на французском и на фламандском языках, и подобно тому, как от историков Фландрии требуется теперь знание этих трех языков, так оно требовалось в самой Фландрии 600 лет тому назад от всех чиновников и государственных писцов[643]. Несмотря на свое необычайно широкое распространение среди дворян, представителей крупной буржуазии, чиновников и даже богатых крестьян[644], французский язык не проник в гущу народных масс. Низшие слои городского населения, как и крестьяне, продолжали говорить по-фламандски. Так, например, из ипрских архивных актов видно, что в XIV веке городские низы в те периоды, когда они захватывали муниципальную власть, заменяли французский язык в административных делах фламандским[645]. Словом, французский язык был в XIII веке во Фландрии языком двора, дворянства и деловым языком. Если в XIII веке благодаря ему в военный, юридический и торговый лексикон проникло множество чужеродных слов, то в отличие от того, что имело место в Англии, он не изменил, по существу, ни повседневного, ни литературного языка. Он не исказил их, а стал рядом с ними[646]. Подобное существование в одной и той же стране двух языков, на каждом из которых говорила одна часть населения, не могло, разумеется, не вызвать довольно серьезных затруднений. В 1175 г. папа Александр III подтвердил старое обычное право гентцев вести тяжбы по церковным делам лишь перед своим деканом и разрешил им не являться в суд турнэского официала, в котором пользовались иностранным языком[647]. Позже, в конце XIII века, среди доводов, приводившихся фламандцами, чтобы добиться от Бонифация VIII создания особого диоцеза, можно найти ссылку на то, «что большая часть графства пользуется фламандским языком и не может руководствоваться наставлениями своих епископов, не знающих их языка»[648]. Французский язык проник в Брабант, как и во Фландрию, но в более слабой степени. Подобно графам, герцоги жили в окружении людей, говоривших на романском языке[649], и людей, говоривших на нидерландском языке, ибо они, подобно им, управляли отчасти валлонским, отчасти фламандским населением. Но благодаря влиянию Франции и авторитету ее культуры, существовавшее при их дворе равновесие между обоими языками вскоре было нарушено. Покровительство, которое оказывала в Англии французской литературе Алиса Лувенская (1121–1135 гг.), супруга короля Генриха I, позволяет думать, что она научилась ценить ее еще раньше, на своей родине[650]. В XIII веке французский язык стал, бесспорно, излюбленным языком герцогского дома. Правда, у этой древней местной династии он не достиг такого исключительного значения, как у чужеземных князей, правивших после Теодориха Эльзасского на другом берегу Шельды. Герцоги пользовались им в своей переписке и в своем домашнем быту, но не для сношений со своими подданными. Во фламандских областях Брабанта чиновники перестали составлять документы по-латыни, лишь для того, чтобы начать пользоваться фламандским языком. Впрочем, народный язык стал употребляться в Брабанте позже, чем во Фландрии, что является лишним доказательством более замедленного развития Брабанта[651]. Древнейшая французская хартия герцогства относится к 1253 г., а древнейшая фламандская — к 1275 г.[652] Но если власти остались верными национальному языку, то зато французский язык утвердился среди высшей аристократии одновременно с «придворными нравами», от которых он был так же неотделим, как в настоящее время английский язык неотделим от всего, связанного со спортом. Но известно, что брабантцы «считались в чисто германских странах образцовыми представителями рыцарских совершенств и их часто ставили в воздававшихся им похвалах в один ряд с французами»[653]. Вольфрам фон Эшенбах говорит о тех, кто знает французский язык, «что они французы или брабантцы», а Адне ле Руа пишет, со своей стороны, что:II
По следам французского языка в германские области Нидерландов проникла, разумеется, и французская литература. Это произошло тем легче, что, собственно говоря, она не была для Фландрии и для Брабанта иностранной литературой. Действительно, валлонские области этих двух государств относятся к тем странам, которые занимали до конца XIII века особенно блестящее место в истории романской литературы. Главной причиной этого могучего расцвета литературы следует без всякого сомнения считать изумительное богатство и бурное экономическое развитие этих областей. В самом деле, характерно, что писатели появились в довольно значительном числе только в тех валлонских областях Бельгии, которые были усеяны большими городами и принимали деятельное участие в тогдашней экономической жизни. Всецело сохранивший свой аграрный характер Люксембург не дал вообще ничего, а Льежская область, промышленная и торговая деятельность которой не может идти ни в какое сравнение с экономической активностью бассейна Шельды, дала в смысле литературного творчества лишь несколько проповедей и несколько текстов морализирующего характера[657]. Наоборот, в богатых городах бассейна Шельды — в Аррасе, Дуэ, Лилле, Камбрэ, Турнэ, Валансьене — было множество поэтов, хронистов и переводчиков. В то же время здесь культивировались все тогдашние литературные жанры: рядом с рыцарской и придворной поэзией «особенно развился порожденный первым крестовым походом новый эпос, как это естественно было ожидать в стране, давшей главных героев его»[658]. В недрах городского населения зародилась шутливо-сатирическая поэзия[659], но наряду с этим стал пользоваться все большими симпатиями и дидактический жанр, так отвечающий практическому духу трудолюбивого общества. Вся эта романская литература валлонской Фландрии и Генегау носила вполне почвенный характер. Она не была занесена из Франции и не подражала иностранным образцам. Она жила собственными соками и была высококачественна и оригинальна. Она пользовалась местным пикардским наречием и громко требовала своей независимости наряду с собственно французской литературой. В середине XIII века Конон Бетюнский противопоставлял еще свой язык французскому языку:Wat waelsch is valsch is («Все французское — фальшиво»)писал он и, сжегши то, чему некогда поклонялся, обратился к Винсенту из Бовэ, Петру Коместору, Томасу из Кантимпрэ, за полезными истинами которых не могут дать эти:

Гентская башня
Большинство церквей, сооруженных: во Фландрии в XIII веке, было приходскими церквями. Построенные на средства жителей, они свидетельствуют о богатстве и могуществе больших городов страны. Однако они не являются еще наиболее ярким проявлением этого процветания; подлинное свое выражение любовь горожан к блеску нашла в гражданских памятниках. Если во Франции, Германии и Англии можно встретить церкви, значительно превосходящие нидерландские храмы благородством своих линий и гармонией пропорций, то зато мы тщетно стали бы искать здесь зданий, могущих соперничать с Брюггским и особенно с Ипрскими торговыми рядами. Здесь мы имеем перед собой совершенно новое искусство, ничем никому не обязанное. Фландрия нигде не заимствовала образцов тех грандиозных и строгих сооружений, практическое назначение которых так удачно сочетается с их характером, захватывающим по своему героизму и величию. Это — творения того городского гения, который наложил свою печать и на литературу, освободив ее от рабского подражания французским образцам. Но результаты, достигнутые в искусстве, были еще более блестящими; свое наиболее благородное и характерное выражение фламандская культура XIII века нашла в сооружениях городских торговых рядов. Этот очерк культуры Нидерландов в XII и XIII вв. был бы неполон, если бы мы не закончили его несколькими беглыми указаниями на своеобразные проявления религиозного чувства в Бельгии в эту эпоху. Мы уже знаем, какого рвения достигала религия в XI веке и с какой силой она проявилась во время первого крестового похода и борьбы за инвеституру. Ее тогдашний мощный порыв сохранился затем в течение долгого времени. На протяжении более чем ста лет Бельгия оставалась рассадником крестоносцев и все более покрывалась сетью аббатств. Второй крестовый поход вызвал в Бельгии такой энтузиазм, что из некоторых местностей, как утверждают, ушла большая часть мужского населения. Теодорих Эльзасский четырежды отправлялся в святую землю; Филипп Эльзасский — умер в ней в 1191 г.; Балдуин IX — играл в четвертом крестовом походе ту же роль, что Готфрид Бульонский в первом. В то же время непрерывно продолжалось создание новых монастырей. Не одни только князья стремились строить их. С ними соперничали дворяне и даже простые бюргеры. Новые ордена премонстрантов и цистерцианцев распространились из Франции в Бельгию с такой же быстротой, с какой в предшествующий период проник клюнийский орден. При жизни св. Бернара (умер в 1153 г.) в Бельгии было основано не менее семи цистерцианских монастырей[690]. Эти монастыри появились во всех частях страны. Валлонская область перестала быть исключительным районом монастырей. Из Нидерландов новые ордена распространились в Германии, и колонии бельгийских монахов заселили по ту сторону Рейна не одно цистерцианское аббатство[691]. Религиозное чувство было не менее сильно в городах, чем в сельских местностях, но оно приняло в них особую форму. Горожане пытались с ранних пор освободиться от вмешательства аббатств в свою религиозную жизнь, подобно тому, как они старались освободиться от вмешательства феодалов в свою экономическую и юридическую жизнь. Они хотели сами назначать священников своих приходов, учителей своих школ. С XII века патриции стали строить часовни, которые они пытались превратить в общественные церкви. Уже в XI веке у гильдий были свои капелланы. Вскоре возникло множество всякого рода религиозных братств. Число больниц росло с неслыханной быстротой.

Старый Гент (Склады товаров)
В противоположность старым монастырям и капитулам, к которым относились с явной враждой, нищенствующие ордена были приняты с энтузиазмом. Не было такого мало-мальски крупного города, который не имел бы уже с первой половины XIII века своих францисканских и доминиканских монастырей, и в борьбе этих орденов против белого духовенства и старых монастырей общественное мнение стояло на стороне новоприбывших. Последние стали активно вмешиваться в городскую жизнь; они проповедовали в городских церквях; они сопровождали городские армии в качестве священников, наконец, один из них оставил нам наиболее волнующий и наиболее правдивый рассказ о предстоявшей вскоре фландрским городам героической борьбе с Францией[692]. Одушевлявший его демократический дух можно было встретить и у его собратьев. В начавшейся в XIII веке борьбе между патрициями и ремесленниками их симпатии были явно на стороне бедноты, подлинными духовными руководителями которой они стали[693]. Свободомыслие, характерное для религиозного чувства в городах, небезопасно было для правоверия. В этих оживленных, полных движения местах, где сталкивалось такое множество людей совершенно различных положений, само религиозное рвение могло легко толкнуть на путь ереси. Ересь распространилась так же, как само христианство во времена Римской империи среди городских купцов и ремесленников. С XII века значительная часть ткачей стала увлекаться подозрительными, с точки зрения ортодоксии, учениями. В Антверпене пропагандой манихейских идей среди населения занялся Танхельм, и в течение всего XII века еретические учения, подобно плохо потушенному пожару, непрерывно вспыхивали — то в одном, то в другом месте[694]. Социальные и моральные потрясения, вызванные движением городов, в достаточной мере объясняют это положение вещей. Впрочем, духовенство смело выступило против опасности. Мужественные священники поставили себе задачей проповедовать Евангелие и преподавать нравственные истины народу. Они вступили в тесное общение с народом, составляли для него на народном языке духовные песни, принимали участие в его воскресных развлечениях. Таков был, например, в Льеже, Ламберт Косноязычный, эта чрезвычайно своеобразная и в равной мере привлекательная и характерная фигура. Он осуждал заморские паломничества, стоящие слишком дорого, и ставил гораздо выше их раздачу милостыни и любовь к униженным. Он утверждал, что менее грешно трудиться в воскресенье, чем присутствовать на представлениях фигляров, предаваться пляскам и пению на площадях перед церквями и на кладбищах[695]. Эти проповеди принесли свои плоды. В XIII веке опасность была предотвращена, и в дальнейшем речь шла лишь о спорадических вспышках ереси в Дуэ и в Аррасе, являвшихся мелкими и не имевшими никаких последствий эпизодами. Пропаганда Ламберта Косноязычного и его подражателей характерна для того тревожного и смутного периода, которым сопровождалось образование городов. Наиболее яркими представителями успокоившегося и вернувшегося к ортодоксии городского благочестия были бегинские общины. Первыми бегинками были вдовы или девушки, которые, не приняв монашества, предавались молитвам, умерщвлению плоти и уходу за больными. Их мы встречаем с XII века в городах, где избыток женского населения обрекал многих на безбрачие. Самым совершенным образцом их была Мария из Уаньи, которая после нескольких лет брака разошлась с мужем, посвятила себя долгое время уходу за прокаженными и под конец поселилась с несколькими подругами около маленького монастыря Уаньи в Намюрской области, где ее образ жизни поразил Якова Витри[696]. Эти мистически настроенные женщины, число которых с начала XIII века сильно возросло во всей валлонской области, стали объединяться. Так возникли бегинские общины. По-видимому, первая из них была основана в Льеже Ламбертом Косноязычным, имя которого осталось за сгруппировавшимися вокруг него «бегинками»[697]. Общины бегинок тотчас распространились в городах, где они вскоре утратили свой аскетический характер и приспособились к потребностям городской жизни. Они по-своему способствовали здесь разрешению «женского вопроса». Бегинки не давали вечных обетов. Они могли вернуться в свет и выходить замуж. Их образ жизни не был исключительно созерцательным; если их средства не позволяли им вести независимый образ жизни, то они прибегали к ручному труду. Многие бегинки занимались в XIII веке прядением шерсти, другие — обучали детей из бюргерских семей[698]. Бегинские общины достигли в середине XIII века невиданного расцвета. Из валлонских частей страны, где они возникли первоначально, они вскоре распространились во фламандские области, проникнув здесь даже в самые небольшие города. Так, например, во Фландрии до 1275 г. бегинские общины существовали в Генте, Брюгге, Лилле, Ипре, Арденбурге, Оденарде, Исендике, Остбурге, Дамме, Гистелле, Куртрэ, Дейнзе, Алосте, Термонде и т. д.[699] Создание бегинских общин вызвало вскоре появление бегардов (beghini), которые были отмечены в Брюгге уже в 1252 г. Они жили согласно уставу св. Франциска или св. Доминика, и занимались ткачеством[700]. Менее многочисленные, чем бегинки, они распространялись, подобно им, в других странах и проникли в Германию и Францию. Таким образом Нидерланды, с давних пор получившие от своих южных соседей новые монашеские ордена и новые стимулы духовной жизни, передали им, в свою очередь, новый институт, родившийся на их почве из взаимодействия их общественных сил.
Книга третья
Борба между Фландрией и Францией
В летописях Нидерландов внимание историков и интерес читателей прежде всего привлекают к себе особенно XIV и XVI столетия. Действительно, оба они отличаются одинаковыми чертами — героизмом и страстной энергией. Но сходство не ограничивается только этим. Революция XVI века была национальным и религиозным движением. В противоположность ей революция XIV века происходила на социальной почве. Она была совершенно чужда национальной идее, и участники ее совершенно и не помышляли об изменении политического строя Нидерландов и объединении их различных территорий в одну общую родину. Было бы глубоко ошибочным считать Якова Артевельде предтечей принца Оранского.
Однако есть все основания придавать особое значение XIV веку. Развернувшаяся тогда внутри страны ожесточенная социальная борьба повлекла за собой величайшие политические последствия. Она привела к полувековой войне между Фландрией и Францией, закончившейся окончательным крахом анексионистской политики, которую капетингская монархия преследовала со времени Филиппа-Августа. В связи с этим Фландрия имела в XIV веке решающее влияние на судьбу Нидерландов. Благодаря своему упорному сопротивлению Франции она избавила их от участи, которая, казалось, была им суждена в конце XIII века. Филипп Красивый был последним французским королем до Людовика XI, серьезно угрожавшим границам Бельгии: вместе с ним исчезла исключительная гегемония Франции над Бельгией, установившаяся после битвы при Бувинё.
Как это наблюдалось и раньше, политические события, развернувшиеся в XIV веке, были тесно связаны с общей историей Европы. Предоставленная своим собственным силам, Фландрия, разумеется, не сумела бы оказать сопротивления своему сюзерену. Но, как и во времена Феррана Португальского, она заключила союз с Англией, и подобно тому как битва при Бувине поставила ее в зависимость от Франции, так сражения при Слейсе, Креси и Азенкуре избавили ее надолго от опасности того ига, которое она сбросила с себя после сражения при Куртрэ.
Но Фландрии удалось сохранить свою независимость лишь ценой тяжелых утрат. При Филиппе-Августе она потеряла Артуа, при Филиппе Красивом — валлонскую Фландрию. Лилль и Дуэ вышли из того объединения больших городов, которое в течение столь долгого времени задавало тон культуре страны, и графство перестало быть двуязычной областью. С другой стороны, приобретение домом д'Авенов Голландии и Зеландии непосредственно связало с южными областями эти территории, которые до тех пор почти не имели сношений с ними. Таким образом, политическая жизнь Нидерландов приняла более отчетливо фламандский характер, а французское влияние в них соответственно уменьшилось.
Упадок шампанских ярмарок и политическое ослабление Франции, со своей стороны, тоже немало способствовали этому. Поэт Бундале уже не испытывал того восхищения перед этой страной, которое так явно вдохновляло ван Марланта. У него можно встретить совершенно недвусмысленное заявление о его принадлежности к фламандской национальности.
Но хотя влияние Франции и ослабело, тем не менее оно не было заменено влиянием какого-либо другого государства. Германия продолжала оставаться чуждой Нидерландам, а Англия, с которой они поддерживали столь тесные сношения, не оказывала на них никакого заметного влияния. Но именно в силу этого на нидерландской почве постепенно выработалась своеобразная культура, которой предстояло в XV веке засверкать таким несравненным блеском. В обстановке борьбы, столкнувшей между собой в пределах городов патрициев и ремесленников, а в рамках территорий — города и князей, родились те художники, которые обессмертили своими шедеврами бургундскую эпоху. В Нидерландах, как и в Италии, политическая жизнь, закалив характеры, разбудив мысль, породив индивидуализм, подготовила расцвет искусства. Век Артевельде сделал возможным век ван Эйка.
Глава первая
Социальный и политический характер борьбы
I
С момента окончательного установления городских конституций, города различных нидерландских территорий в течение долгого времени управлялись одними только патрициями. Как известно, это явление наблюдалось повсюду в средневековой Европе, и сама эта универсальность доказывает неизбежность его. Города, бывшие по преимуществу торговыми центрами, должны были естественно пройти в своем развитии через такую политическую стадию, когда власть находилась в руках крупных купцов. Но кроме этой причины имелись еще и другие. В самом деле, городское право предоставляло всю полноту гражданских и политических прав только земельным собственникам и владельцам некоторого движимого капитала. С другой стороны, городские должности были бесплатны и поглощали все время занимавших их, так что добиваться их можно было только богачам. Почти все первые патриции (за исключением льежских и лувенских, среди которых встречались, как и в некоторых германских городах, «министериалы») были разбогатевшими купцами. С очень ранних пор — во всяком случае с начала XII века — в среде зарождавшегося бюргерства появились крупные состояния. Gesta episcoporum Cameracensium (Деяния епископов Камбрэ) сообщают с множеством подробностей — столь же живописных, сколь и поучительных, — историю некоего Веримбольда, который, не имея ничего, нажил в несколько лет большое состояние[701]. Накопленные таким образом купцами богатства, позволили им превратиться в земельных собственников. Деньги, заработанные торговлей, были помещены в земли или пошли на покупку рент с домов. В XIII веке почти вся городская земля принадлежала богатым «знатным родам», geslachten[702], и многие бюргеры, отказавшись от торговли, жили комфортабельно на свои доходы, не перестававшие возрастать вместе с ростом городов и городского строительства[703]. Зти привилегированные лица, которых грамоты называют «vin hereditarii, hommes heritables, erwachtige lieden» (родовитые люди), получили в народе прозвище «otiosi, huiseux, lediggangers» (бездельников). Многие из них, кроме того, увеличили свои богатства либо взяв на откуп взимание налогов, доходы с княжеских поместий и городских «акцизов», либо принимая участие в банковских операциях какой-нибудь ломбардской кампании[704]. Наряду с этой группой, которую можно считать группой «старых патрициев», существовала еще купеческая гильдия, приобретавшая все более аристократический характер. Удалив в конце концов из своей среды ремесленников и начав допускать в качестве членов только торговцев шерстью и сукном, она заключала в себе наиболее энергичные и активные элементы высшего бюргерства. Впрочем, между viri hereditarii и купцами гильдии (comanen) всегда поддерживались тесные взаимоотношения. В каждой родовитой семье имелись представители обеих категорий. Первая непрерывно пополнялась за счет второй, а эта — в свою очередь, была открыта для сыновей «lediggangers», желавших заниматься торговлей. Многие граждане были одновременно купцами и родовитыми бюргерами (marcans et bourgeois heritables)[705]. Словом, хотя отдельные патриции и занимались различными делами, тем не менее в целом все они составляли особый класс, с ясными отличительными признаками. На них смотрели, как на бюргерство в собственном смысле слова (poorterij), хронисты называли их то majores, то ditiores, то boni homines (могущественными, богатыми или славными людьми). Контраст между этим плутократическим классом и остальной частью городского населения резко бросался в глаза. По своим обычаям, одежде, часто даже по языку, на котором они говорили, патриции обособились от «простонародья», от «ремесленников» (communitas, gemeen). Безвозвратно прошло то время, когда в первых городских поселениях купцы и ремесленники были слиты между собой под названием mercatores. Разница в богатстве положила между ними непроходимую грань и сделала невозможным какое бы то ни было общение. Во всех проявлениях социальной жизни патриции надменно афишировали свое превосходство. Они присваивали себе звания here, sire, damoiseau; их увенчанный зубцами каменные дома (steenen) высились со своими башенками над убогими соломенными крышами рабочих жилищ[706]; в городских войсках они составляли конницу; в доме гильдии, ghiselhuis, тщательно различали и обращались совершенно по-разному с ремесленником и буржуа, привыкшим пить вино за своим столом[707]. Эта кастовая надменность, так открыто проявлявшаяся патрициатом, имела свои основания. Действительно, начиная с середины XII в. до конца XIII в., крупное бюргерство представляло поразительное зрелище. Своим умом, энергией и трудолюбием, своими деловыми способностями, своей преданностью общественному делу, оно невольно напоминает, несмотря на разницу во времени и обстановке, парламентскую аристократию, управлявшую Англией в VII и XVIII вв. Правда, ее дело оставалось анонимным, и лишь случайно до нас дошли имена некоторых «poorters» (горожан), причастных к тогдашней политической жизни: таким был, например, Симон Сафир из Гента, к которому неоднократно обращался английский король Иоанн, как к посреднику в Нидерландах. Но если роль отдельных лиц нам неизвестна, то о роли всего коллектива можно судить по ее результатам. Во время правления патрициата окончательно сформировались города, были возведены их стены, построены их рынки, приходские церкви, дозорные башни, вымощены городские улицы, упорядочены водопроводы, проведены каналы. При этом же строе в городах была введена та финансовая, военная и административная система, которую они с тех пор сохранили без существенных изменений до конца Средних веков. Правление патрициев дало городам народные школы[708], освободило города от юрисдикции церковных судов, уничтожило феодальные повинности, тяготевшие еще на городских землях или городских жителях, и сделало, наконец, все выводы из вписанных в грамоты привилегий. Патриции не только в качестве городских правителей придали городам тот блеск, которого они достигли в конце XIII в. Они, кроме того, щедро жертвовали свои состояния на городские дела. Так, камбрэский хронист восхвалял только что упомянутого нами Веримбольда за то, что он выкупил за свой счет обременительный налог, взимавшийся у одной из — городских застав[709]. Но горячий местный патриотизм, одушевлявший высший слой городского населения, проявился в особенности в строительстве городских больниц. С конца XII века создававшиеся ими благотворительные учреждения множились с поразительной быстротой[710]. И подобно тому, как хоры церкви св. Иоанна в Генте, Ипрские и Брюггские торговые ряды, канал от Гента до Дамма и трубы Зилебеке и Дикебусхе, питавшие ипрский водопровод, — еще и в настоящее время напоминают о величии и плодотворности патрицианского правления, точно так же благотворительные учреждения современной Бельгии обязаны в значительной мере своими богатствами пожертвованиям этих «erwachtige lieden» (родовитых бюргеров) и этих «comanen» (членов гильдий), щедро жертвовавших для облегчения участи бедных часть барышей, которые они получали со всех концов Западной Европы от продажи фландрских сукон. Но те же причины, которые породили могущество патрицианского строя, привели также и к его гибели. Имея все достоинства классового управления, он под старость приобрел все недостатки его. Привилегии патрициата и занимавшееся им повсюду исключительное положение первоначально признавались всеми. Было естественно, что самым богатым купцам досталась городская власть. В этих населенных пунктах, живших торговлей и промышленностью, олигархия богатства стала неизбежной с самого же начала, подобно тому как в свое время неизбежен был феодальный строй, соответствовавший потребностям эпохи, когда главной экономической силой была крупная земельная собственность. Но в то время как в XII веке княжеские бальи и чиновники постепенно заменили феодалов, положение которых не отвечало больше новому порядку вещей в стране, патрициат не желал отказаться ни от одной из своих прерогатив. С течением времени его власть становилась все более стеснительной и обременительной; он упорно не допускал «простой народ» к каким бы то ни было должностям и отказывал ему в каком бы то ни было контроле. Недостатки системы, передававшей политическую власть над массой ремесленников в руки тех самых людей, на которых работали эти ремесленники, не замедлили сказаться со всей силой. Рабочий класс, в котором в XII веке происходило брожение под влиянием еретических учений, в XIII веке охвачен был бурными социальными требованиями. Священники и нищенствующие монахи, отдавшиеся делу проповеди Евангелия среди бедняков, и пробудившие у них чувство человеческого достоинства, часто, сами того не желая, сеяли среди них своей проповедью христианского смирения презрение и ненависть к богачам. Так, например, в Антверпене Вильгельм Корнеций заявлял, что богач, даже добродетельный, хуже проститутки[711]. Какое же негодование должна была вызывать среди усвоивших подобные взгляды людей безнаказанность, которой пользовался, например, согласно гентской «Keure» тот, кто похищал «дочь бедняка», чтобы сделать из нее свою любовницу?[712] В промышленных городах недовольство усиливалось и питалось главным образом волнующим вопросом о заработной плате. Правда, некоторые слишком вопиющие злоупотребления были уничтожены, по крайней мере номинально; так, например, Truck-system (оплата труда товаром) была запрещена[713]. Но тем не менее тарифы заработной платы устанавливались исключительно эшевенами, избиравшимися из среды патрициата, т. е. из среды тех же предпринимателей. Кроме того, эти самые предприниматели, злоупотребляя своим положением, эксплуатировали работавших на них ремесленников, либо не выплачивая следуемой им платы, либо обманывая их насчет количества сырья, которое они им давали[714]. Если прибавить к этому запрещение рабочим ручного труда вступать в гильдии и продавать сукно, предоставление надзора за цехами, обрабатывавшими шерсть, исключительно только купцам, тайну, в которой городские советы держали свои совещания, то легко понять, почему во всех торговых городах между Маасом и морем образовались две классовые партии: партия бедняков и партия богачей. С одной стороны — патриции (majores, goeden, bons); с другой — ремесленники (minores, kwadien, mauvais). Это — буквальное повторение того противоречия, которое наблюдалось в это же время в Италии между «popolo minuto» («тощий народ») и «popolo grasso» («жирный народ»). Борьба была тем более неизбежна, что ремесленники противостояли купцам, будучи объединенными между собой. Правда, независимые цехи со своей корпоративной юрисдикцией и с правом назначать своих старшин и своих присяжных появились лишь в следующем веке. Но уже с XII века внутри рабочего класса образовались религиозные братства[715], а в течение XIII века сами городские власти для лучшего контроля над трудом разбили представителей различных профессий на особые группы (officia, ministeria, metiers, ambachten, neeringen). Как сурово ни контролировали они ремесленников, как ни запрещали им собираться без разрешения, как ни требовали, чтобы во главе их стояли гильдейские купцы[716], — они не могли помешать росту в рабочем классе чувства товарищества и солидарности, усугублявшегося сознанием общности его интересов и подготовлявшего его к борьбе против патрициата. Было бы ошибкой думать, будто уже в XII веке в городах имелись какие-нибудь следы народного движения[717]. Отмечаемые в эту эпоху источниками частые бунты были направлены против духовенства и феодалов, в них принимало участие все население, без различия классов, и их целью было окончательное устранение последних помех, мешавших развитию городских конституций. Впрочем, до 1200 г. социальная дифференциация была еще слабо выражена. Вспомним, что слово «mercatores» относилось тогда как к купцам, в собственном смысле слова, так и к ремесленникам. Но иначе обстояло дело в следующем веке. Теперь брожение внутри «простонародья» распространилось на всю территорию Нидерландов. В Льеже в 1253 г. Генрих Динанский поднял бедноту против эшевенов и против епископа[718]. В Динане в 1255 г. ковачи меди пытались путем насильственной революции свергнуть экономическое господство эксплуатировавшего их патрициата[719]. В Гюи в 1299 г. ткачи вели борьбу с «conservatores drapparie», т. е. с купцами гильдии[720]. Аналогичную картину представлял Брабант. Валяльщики Лео составили в 1248 г. заговор против городских властей; в 1267 г. Лувен сделался ареной восстания ремесленников[721]. Но особенной силы достигли волнения во Фландрии и в соседних областях. В 1225 г. беспорядки, которыми было отмечено появление лже-Балдуина, носили явно демократический характер[722]. Беднота («vilains» и «menues gens») с восторгом приветствовала появление мнимого императора. Она ожидала от него конца своих бедствий и приветствовала его, как социального реформатора.
Собрание горожан (миниатюра XV в.)
Но сопротивление не заставило себя ждать. Если ремесленники, пытавшиеся главным образом сломить господство патрициата, по-видимому, мало озабочены были посягательствами графа, то нельзя того же сказать о тех бюргерах, которые объединились с народом для свержения городских олигархий. Они вовсе не желали, чтобы падение последних пошло на пользу князю. Они боролись лишь с пристрастной и закрытой для них системой городского управления; они тоже желали принимать участие в делах управления, от которых их устранили. Что касается городской автономии, то они твердо решили защищать ее, и дальнейшее развитие событий должно было вызвать у них горькое разочарование. Поэтому они вскоре сблизились с прежними городскими властями. Недовольство бюргерства росло по мере того, как все яснее раскрывались планы графа. Словом, вчерашние враги объединились теперь для защиты муниципальной независимости, противопоставив монархическому идеалу князя явно республиканский идеал. Признаки этого поворота обнаружились очень скоро. В 1283 г. Гюи оказался вынужденным мягче отнестись к прежним ипрским эшевенам и простить им их поведение в 1280 г.[741] В Генте, при устроенном по его распоряжению (в 1297 г.) расследовании ведения дел советом XXXIX, многие опрошенные свидетели заявили, что они согласны принять институт годичного эшевенства лишь при том условии, чтобы это нововведение не усилило графской власти[742]. В 1295 г. Брюгге выступил против графа с длинным списком жалоб[743]. Для успешной борьбы с политикой князя патрициату необходим был союзник. Выбор этого союзника диктовался сам собой: это был французский король. Союз патрициата фландрских городов с Филлипом Красивым имел столь важные последствия для истории Бельгии, что на нем необходимо остановиться несколько подробнее. Большинство бельгийских историков, писавших под влиянием современных предубеждений, создало совершенно неправильную концепцию этого союза. С легкой руки Кервина де Летенгове сторонников короля почти неизменно считали виновниками французских захватов. Для них не жалели слов презрения и ненависти, и кличка «Leliaerts» (приверженцы лилии) стала в Бельгии, да и теперь еще является в ней синонимом государственного изменника и предателя родины. Между тем следовало бы принять во внимание, что патриотизм, или, если угодно, — национальное чувство, развилось во Фландрии лишь позднее, под влиянием войны с чужеземцами. Для фламандского народа борьба с Францией была тем, чем были войны с Англией для французского народа. Зарождение фламандского национального сознания можно датировать с битвы при Куртрэ; тщетно стали бы мы искать следов этого чувства в общественной жизни предыдущих эпох. Далее, обвинять патрицианскую партию в том, будто она желала присоединения страны к Франции, значит — либо ничего не понимать в средневековой политике городов, либо выражаться двусмысленно. Патриции призвали французского короля на помощь против графа не для того, чтобы пожертвовать своей независимостью, а наоборот, чтобы сохранить ее. Им, республиканцам и партикуляристам, совершенно чужда была мысль о том, чтобы дать Франции поглотить себя, подчиниться управлению бальи Филиппа Красивого и платить французской короне «тальи» и субсидии («aides»). Их поведение объясняется столь же естественно, как и поведение вольных городов Германии того времени. Чтобы избавиться от опеки территориального князя, от своего «промежуточного сеньера» («seigneur moyen»), они пытались стать в непосредственную зависимость («immediatete») от своего высшего сюзерена, они стремились, подобно немецким городам, к Reichsunmittelbarkeit. Они желали стать не французами, а непосредственными вассалами французского короля, и уничтожить таким образом узы, связывавшие их с князем. Разумеется, если бы они могли предвидеть будущее и устремить свой взор за грани узкого горизонта их текущих интересов, то они поняли бы, что подобная политика неминуемо должна будет обернуться против них. Непосредственная зависимость от германского императора давала немецким городам свободу, но непосредственная зависимость от Капетинга — неизбежно должна была принести рабство фландрским городам. Городские республики могли процветать в Германии, где центральная власть была бессильна и лишена авторитета, во Франции автономия городов была несовместима с усилением королевской власти и централизации. Патриции не поняли наивности тактики, заключавшейся в том, чтобы апеллировать против Гюи де Дампьера к тому самому Филиппу Красивому, который в своем государстве уничтожал городские коммуны, сносил их городские башни и конфисковывал их хартии. Они видели в нем лишь покровителя; они обращались к нему, подобно тому, как льежцы обращались против своего епископа к герцогу Брабантскому, или подобно тому, как еще раньше камбрезийцы по тем же причинам умоляли о помощи графа Генегауского[744]. Впрочем, инициаторами этой политики были не города. Приняв ее, они лишь последовали примеру дворянства. Недовольство последнего учреждением института бальи и постоянным ограничением его прерогатив побудило его с начала XIII века вступить в союз с французским королем против графа. Дворяне с радостью приняли тот пункт Меленского договора, который обязывал их, в случае войны с Францией, покинуть своего сюзерена. В первой половине XIII века лишь очень немногие дворяне не видели во французском короле своего естественного покровителя. Самые крупные из них, находившиеся в родстве с высшей французской аристократией, охотно сливались с ней и фактически не признавали больше графской власти. То же самое относилось к некоторым из крупных аббатств, со своей стороны пытавшихся добиться покровительства французской короны. В 1287 г. аббат монастыря св. Петра в Генте заявлял перед парижским парламентом, что он находится под защитой короля, а не графа[745]. До тех пор пока одни только дворяне и аббаты апеллировали против своего сюзерена к верховным правам короны, ничто не угрожало серьезно положению Дампьеров. Но опасность надвинулась вплотную, когда ту же позицию заняли и города. Действительно, было совершенно очевидно, что в тот момент, когда граф не сможет больше рассчитывать на повиновение и, в особенности, на финансовую помощь этих могущественных коммун, питавших его казну, власть его, подточенная в корне, должна будет рухнуть от малейшего толчка. Опасность эта обнаружилась уже в царствование Филиппа Смелого (1270–1285 гг.), но она не была тогда еще очень серьезной. Уже в 1275 г. члены коллегии XXXIX, в ответ на отмену их Гюи и Маргаритой, апеллировали к парижскому парламенту. После расследования им было отказано в их жалобе и семь из них были смещены. Однако их коллег парламент оставил на прежних местах, и данное городу новое устройство не могло быть проведено[746]. Это была первая и очень осязательная неудача графской политики. Тем не менее отношения между Гюи де Дампьером и его сюзереном из-за этого не испортились. В царствование Филиппа Смелого фландрский дом распространил свое влияние на все части Нидерландов, и, если королевские распоряжения и вмешательство агентов короны в дела графа должны были быть ему крайне неприятны, то с другой стороны, король, поддерживавший все его начинания, тем самым давал ему более чем достаточную компенсацию, чтобы побудить его терпеливо сносить кое-какие унижения[747].
II[748]
В тот момент, когда Филипп Красивый вступил на французский престол (1285 г.) Гюи де Дампьер был самым могущественным из нидерландских государей. Этот граф, в котором большинство историков видело только хорошего отца семейства, озабоченного будущностью своих многочисленных детей и вечно занятого поисками денег для их приданого, был в то же время большим честолюбцем и политиком. До этого времени он знал в своей карьере одни лишь удачи. Он восторжествовал над домом д'Авенов, приобрел Намюрскую область, распространил свое влияние на Льежскую область, Люксембург и Гельдерн. Помощь, которую ему постоянно оказывали французские короли, играла огромную роль в этом быстром возвышении. Но должен был наступить момент, когда французская корона откажется помогать росту фландрской династии, когда она увидит опасность, которой грозит ей образование на ее самых незащищенных границах княжества, становившегося по мере своего расширения все более независимым, и когда она попытается подчинить его своей власти. Чем более укреплялась монархия, чем более управление государством концентрировалось в руках короля в ущерб крупным вассалам, чем более выдвигалось благодаря деятельности парламента и легистов понятие о суверенитете короны, а значит — и суверенитете государства, тем более неизбежным становилось столкновение. Если оно разразилось между Филиппом Красивым и Гюи де Дампьером, то ни тот, ни другой во всяком случае не ответственны за это, ибо ни один из них не мог бы помешать этому. Политический кризис, от которого страдала Фландрия в конце XIII века, дал новому королю отличный повод вмешаться в ее дела. В 1287 г. он вмешался в нескончаемый конфликт между графом и коллегией XXXIX[749], причем в его поведении видна та холодная решимость и сознательная грубость, которые характерны для всей его политики. Уже не один только парламент поднял перед ним вопрос об этой тяжбе. Филипп пустил для этого в ход своих чиновников. Вермандуаский бальи стал своего рода королевским прокурором во Фландрии. Он наблюдал и контролировал все действия графа, он присутствовал на заседаниях его суда, он обращался с ним, как с одним из подсудных ему лиц. Иногда он не удостаивал даже самолично показываться. Вместо него делегировались сен-кантенский прево или простые судебные «сержанты» («sergents»). В 1289 г. король отдал приказ, что если на графском суде будет присутствовать один из его «сержантов», то при разбирательстве дела следует пользоваться французским языком, для того чтобы этот «сержант» мог без труда следить за прениями. Не остановившись перед неслыханным до тех пор актом самовластия, он в то же время поручил «сержанту» Онорэ де Мустье отправиться в Гент и взять под свою защиту тамошних граждан. Члены коллегии XXXIX поспешили торжественно принять «блюстителя» («rewaert», «gardien»), которого посылал им король. Находясь благодаря ему под непосредственной защитой короны, они могли теперь безнаказанно игнорировать графа и его бальи. Вышитый лилиями стяг, поднятый на городской башне, делал город неприкосновенным, и патриции оказывали ему такие же почести, как некогда союзники римского иарода оказывали консульским фасциям. Они повсюду афишировали этот грозный символ верховной власти, и ремесленники в насмешку назвали их «Leliaerts», т. е. приверженцы лилии. Но этим еще не кончились унижения графа. Недостаточно было отнять у него юрисдикцию над гентцами; он должен был, кроме того, еще согласиться платить жалованье тому самому «сержанту», который лишил его власти над ними. Вскоре в Брюгге и Дуэ были назначены тоже королевские «блюстители». Поощренные многозначительным поведением короля, все недовольные поспешили воспользоваться благоприятным случаем. Не только города, но и частные лица стали апеллировать к парламенту, а последний постановил, что во время процессов тяжущиеся будут совершенно освобождены от власти графа. Можно задать себе вопрос: почему Гюи де Дампьер согласился покорно примириться со столь нетерпимым положением? Однако его поведение легко понять, если принять во внимание тогдашнюю политическую обстановку. Порвать с Филиппом Красивым, отказаться от старого союза фландрского дома с французской короной и, в одно мгновение, уничтожить связанные с этим крупные выгоды, — значило вступить в борьбу с графом Генегауским, который не отказался от своих притязаний на имперскую Фландрию и ненависть которого не улеглась. Кроме того, произошли события, на основании которых граф мог предполагать, что тот самый французский король, который не переставал унижать его в его собственном государстве, во внешней политике был склонен подстрекать его к новым приращениям его владений. В 1290 г. Валансьен восстал против Иоанна д'Авена[750]. Это восстание было вызвано теми же причинами, которые определяли тогда поведение фландрских городов. Опираясь на «бедный народ», граф желал покончить с правлением патрициата. Началась война, и Иоанн повел осаду города. Чтобы избавиться от угрожавшей им опасности, патриции обратились к Филиппу Красивому. Они составили докладную записку, в которой доказывали, на основании Меровингских и Каролингских дипломов, что их город принадлежал французскому королевству, а не Германской империи. Филипп не мог, конечно, упустить такой прекрасный случай расширить свои владения. Он согласился принять просьбу Валансьена и позволил ему отдаться под покровительство Гюи де Дампьера или одного из его сыновей (1292 г.). Возможность приобретения самого крупного города Генегау, являвшегося одновременно превосходной базой для военных операций против своего соперника, должна была заставить графа Фландрского забыть много унижений. Он вообразил себе, что сможет с помощью французского короля вернуть часть наследства своей матери, которое было отдано д'Авенам, соединить, в случае овладения Генегау, свое Фландрское графство со своим Намюрским графством и, наконец, установить свою гегемонию Над всеми южными Нидерландами. Но его иллюзии вскоре рассеялись. В 1293 г. Иоанн д'Авен примирился с Филиппом Красивым, и заманчивые планы, которыми одно время тешил себя Гюи, рухнули. Однако в это время надвинулись крупные политические события, которым предстояло оказать решающее влияние на судьбы Фландрии. После продолжительного мира Франция и Англия стали снова готовиться к тому вековому поединку, который однажды уже имел столь тяжкие последствия для Нидерландов. Эдуард I, как некогда Иоанн Безземельный, искал союзников повсюду на континенте. Он вел переговоры с герцогом Брабантским, графом Голландским и графом Гельдернским. Собственно говоря, ни один из них не желал брать на себя серьезных обязательств. Иоанн Брабантский очень правильно изложил их политику, когда незадолго до своей смерти сообщил одному из приближенных свое намерение соблюдать в надвигавшейся войне нейтралитет до тех пор, пока он сможет заставить того или другого из противников дорого заплатить ему за его помощь[751]. Английский король не мог, конечно, не стараться склонить на свою сторону графа Фландрского. Действительно, Фландрия являлась для англичан, после потери ими Нормандии, естественным путем при всяком вторжении во Францию. Брюггский порт был идеальным местом высадки. Правда, с 1270 г. вечно возобновлявшиеся трения политического и экономического характера сильно испортили отношения между графами и английскими королями. Но нужда заставила забыть это. Весной 1293 г. начались переговоры между Эдуардом и Гюи. В следующем году по Льеррскому договору (31 августа 1294 г.) было решено, что Филиппина Фландрская вступит в брак со старшим сыном английского короля. К моменту этих переговоров уже шла война между Францией и Англией, и армии противников сражались в Гиени. Филипп Красивый поспешил расстроить английские планы относительно Фландрии. При известии о заключении Льеррского договора, он, под предлогом апелляции членов гентской коллегии XXXIX к парламенту, пригласил Гюи в Париж и здесь заключил его в тюрьму вместе с двумя его сыновьями. Старый граф был отпущен на свободу лишь после того, как он уступил своему сюзерену невесту английского принца, которую Филипп приказал впредь воспитывать вместе со своими детьми и которая умерла в Лувре в 1306 г.[752] Впоследствии Гюи де Дампьер торжественно заявил, что брак его дочери с сыном Эдуарда не помешал бы ему лояльно служить своему сюзерену[753]. Действительно, все говорит за то, что он не собирался заключить в 1294 г. формальный союз с английским королем. Ни в одном из известных нам документов, относящихся к этому году, нет никакого намека на соглашение между обоими государями. Кроме того, если бы Гюи находился в это время в рядах противников Франции, то Филипп, очевидно, не отпустил бы его на свободу и не ограничился бы запрещением ему «содействовать браку одного из своих детей с членом семейства английского короля, или какого-либо другого врага королевства». Впрочем, никто и не обвинял графа в присяге Эдуарду. Его враги ограничились составлением фальшивых писем с его печатью, чтобы доказать, будто он послал в Англию лошадей и вооруженных людей[754]. Словом, поведение Гюи объясняется очень просто. Сначала он пытался соблюдать нейтралитет как по отношению к Франции, так и Англии. Он питал фантастическую надежду отдалить военные действия от своих границ, сохранив при этом необходимые для фландрской торговли рынки на Западе и на Юге. К этой политике вернулись впоследствии и после него: так поступил сорок лет спустя Яков Артевельде в начале Столетней войны. Но в обоих случаях она фатально потерпела крах. Фландрия, находясь между двумя воюющими странами, должна была высказаться в пользу одной из них и стать на чью-либо сторону, чего бы ей это ни стоило. Однако Гюи колебался еще в течение трех лет, прежде чем сделать решительный шаг. После заключения Филиппины в Лувр положение графа оказалось одинаково фальшивым как по отношению к Англии, так и по отношению к Франции. Вопреки своему желанию он оказался втянутым в распри своего сюзерена. Король лишал его всякой свободы и всякой инициативы как во внешней политике, так и во внутренней. Поэтому нет ничего удивительного, что он попытался найти выход из колебаний и противоречий своей политики. Вынужденный занять ложную позицию и прибегать к всяческим мелким уловкам, он, в промежутке между 1295 и 1297 гг., по-видимому, совсем потерял голову. Действительно, трудности, с которыми ему приходилось бороться, были непреодолимы. Внутри страны — города не прекращали своей оппозиции; на границах — старые враги Фландрии, воспользовавшись ее затруднениями, поспешили напасть на нее: Иоанн д'Авен угрожал Валансьену, в то время как Флоренции Голландский, союзник английского короля, вторгся в Зеландскую Фландрию[755]. При этих обстоятельствах Эдуард обнаружил гораздо больше дипломатического искусства, чем Филипп Красивый. Он сумел не порвать с графом, продолжая переговоры с ним и пытаясь привязать его к себе многочисленными доказательствами своей дружбы. 6 апреля 1295 г. он выплатил ему 100 000 ливров, которые был ему должен граф Гельдернский; несколько дней спустя, 28 апреля, он постарался устроить ему перемирие с Флоренцием Голландским[756]; в октябре он возобновил переговоры на счет брака Филиппины с его сыном. Но, завоевывая таким образом доверие старого графа и обеспечивая себе его признательность, он в то же время вел себя непримиримо по отношению к городам. Он запретил вывоз английской шерсти, рассчитывая таким образом задушить фландрскую промышленность и заставить горожан стать на его сторону. Он знал по опыту всю силу этой тактики. Двадцать лет тому назад она заставила в три месяца капитулировать фламандцев (1274 г.). Король рассчитывал и на этот раз добиться аналогичных результатов и, несмотря на огромные жертвы, которых требовало от его подданных прекращение торговли шерстью, он, не колеблясь, прибегнул к этому средству[757]. В то время как Эдуард всячески помогал своими услугами очутившемуся в тупике Гюи де Дампьеру, Филипп, наоборот, вел себя по отношению к нему более сурово и требовательно, чем когда-либо. Он приказал прекратить торговлю с Англией. Однако предвидя, какое недовольство эта мера вызовет у городских купцов, он поручил следить за выполнением ее не королевским «сержантам», столь многочисленным во Фландрии, а графским чиновникам. Таким образом, на одного Гюи обрушилось все недовольство, вызванное королевским решением, а доход от конфискации арестованных товаров, который оставлял ему Филипп, не стоил потери им остатков своей популярности. Столь же пагубным были для него королевские указы относительно монеты. Известно, как усердно Филипп Красивый занимался порчей французской монеты. Заставить Фландрию принимать эти порченные деньги, значило нанести самый тяжкий удар торговле страны. Но Филипп не остановился перед этим. Граф должен был следить за строгим выполнением этих драконовских указов, запрещавших, под угрозой самых суровых наказаний, пользоваться какими бы то ни было деньгами, кроме французских, и заставлявших богачей превращать свою прекрасную золотую и серебряную утварь в обесцененную монету. При всей своей покорности Гюи де Дампьер не мог подчиниться в этом приказаниям своего сюзерена. Он натолкнулся на упорное сопротивление горожан. Королевские указы остались мертвой буквой, и на лиц, не выполнявших их, были наложены огромные штрафы. Но король скоро понял, что он идет по ложному пути. Недовольство, вызванное его политикой, грозило толкнуть Фландрию в объятия Англии. Поэтому в начале 1296 г. он согласился пойти на большие уступки. Чтобы ослабить удар, нанесенный фландрцам разрывом торговых сношений с Англией, он освободил их сукна от всякой иностранной конкуренции внутри королевства. Он отменил штрафы за невыполнение его монетных указов. Он дал двухгодичную отсрочку всем долговым обязательствам, сделанным графом и бюргерами. В то же время он ограничил полномочия во Фландрии своих «сержантов», отвергнул апелляцию к парламенту гентской коллегии XXXIX и позволил Гюи де Дампьеру судить своим судом всех тех, кто совершил какой-нибудь проступок во время разбора их апелляций к королю. Однако Филипп требовал вознаграждения за свою уступчивость. Взамен за доставленные графу выгоды он получил от него право взимания двухпроцентного налога со всех движимых и недвижимых имуществ его подданных. Взимание этого налога должно было производиться чиновниками Гюи де Дампьера, а доход с него должен был делиться пополам между ним и королем (16 января 1296 г.). Ведя эту политику, Филипп одновременно вступил в тайные переговоры с врагами своего вассала. Едва только было заключено указанное нами соглашение, как Филипп вступил в союз с Иоанном д'Авеном и с Флоренцием Голландским, внезапно покинувшим английского короля (9 января 1296 г.)[758]. Гюи очутился в опасном положении. Первого ноября 1295 г. парижский парламент заставил его вернуть Валансьен королю. Было очевидно, что Филипп заплатит этим городом за союз с Иоанном д'Авеном. Действительно, в феврале 1296 г. он приказал городу открыть свои ворота графу Генегау. Но патриции вовсе не желали снова подчиниться своему князю. Вместо того чтобы повиноваться, они призвали Гюи де Дампьера и признали его верховную власть над городом. Гюи торжественно обещал считать отныне Валансьен фландрским городом, никогда не возвращать его Иоанну д'Авену и защищать его против всех, даже против французского короля[759]. Досада на то, что он был так обманут своим сюзереном, ненависть к дому д'Авенов и, наконец, снедавшая его всегда страсть к расширению своих владений — все это толкнуло его на этот раз на разрыв. Возможно также, что недавние уступки Филиппа Красивого придали ему больше веры в себя. Он, несомненно, считал свое положение во Фландрии укрепившимся. Однако он жестоко в этом ошибался. Не успел он обнаружить эти первые признаки независимости, как рука французского короля обрушилась на его плечи с большей тяжестью, чем когда бы то ни было. Достаточно было нескольких указов, чтобы дать понять несчастному, что он был игрушкой в руках своего сюзерена. Действительно, взимание двухпроцентного налога ожесточило города. В марте они обратились к Филиппу Красивому с просьбой освободить их от этого налога, взамен за взнос ими определенной суммы. 7 апреля их предложение было принято, король объявил об отмене налога, и сообщил о своем решении графу. Он обещал уступить ему половину субсидии, полученной от городов, но не выполнил этого обещания. Таким образом нарушенное одно время согласие между королем и патрициатом было восстановлено во всей своей силе. Амьенскому бальи было поручено, как некогда Вермандуаскому, заставить графа покориться. 30 мая король приказал Гюи «беспрекословно» повиноваться ему. В следующем месяце положение еще ухудшилось. Фландрские города снова оказались под наблюдением королевских «сержантов». Гюи, привлеченный брюггскими горожанами к суду парижского парламента, должен был предстать перед ним. Между тем Иоанн д'Авен возобновил войну, а Филипп, чтобы помешать своему вассалу защищаться, вторгнувшись, со своей стороны, в Генегау, принадлежавший Империи, запретил Генту, Брюгге, Ипру, Лиллю и Дуэ вывести свои войска из французского королевства. Он «не без жестокой иронии» велел графу «следить за тем, чтобы его приказания строго выполнялись» (7 июля 1296 г.)[760]. Гюи де Дампьер предстал перед парламентом во второй половине августа 1296 г. Произнесенный в присутствии делегатов от его городов приговор обязывал его возвратить Валансьен и ничего не предпринимать против горожан, допустивших «королевских сержантов» и подчинившихся их власти. На следующем заседании он испытал еще горшее унижение. Суд вынес решение о конфискации его графства, и он должен был символическим вручением железной перчатки передать королю владение им. Правда, Филипп вернул ему его земли и ограничился сохранением за собой Гента. Но если Гюи питал еще по прибытии в Париж какие-нибудь иллюзии, то теперь они навсегда рассеялись. Он увидел, как его сюзерен, поддерживал против него его злейшего врага, открыто поощрял мятеж его подданных и привлек его, несмотря на его протесты, к суду своего парламента, вместо того чтобы позволить ему защищаться перед судом «пэров». Против теории легистов, против монархической централизации, против безжалостной политики, которая, опираясь на римское право, приносила в жертву абсолютизму государя традиции и привилегии, которая подчинила пэра Франции контролю бальи и позволила собранию докторов права конфисковать графство, он апеллировал к феодальной теории. Правда, сам он во Фландрии всегда игнорировал ее. Действительно, разве оппозиция городов, которой бил его Филипп Красивый, не была результатом попыток Гюи подчинить их своим чиновникам, своему суду, своей верховной власти? Разве они не восстали против него во имя своих попранных вольностей? Таким образом, по отношению к современному государству, стремившемуся порвать с прошлым, положение было одинаковым как во Фландрии, так и во Франции. Городской патрициат защищал муниципальный партикуляризм против Гюи де Дампьера, подобно тому как сам Гюи де Дампьер защищал свою независимость крупного вассала против своего сюзерена. Обе стороны находили в старом праве доводы против нового права, и Гюи лишь подражал поведению патрициев своих городов, когда, приняв чисто феодальную доктрину, заявил, что считает себя свободным от своих обязанностей вассала по отношению к государю, которого он обвинял в нарушении своих обязанностей сюзерена. Впрочем, Гюи решительно нечего было бояться разрыва с Францией; Меленский договор, обязывавший его вассалов покинуть его в случае неповиновения королю, не мог его удерживать, ибо он уже теперь испытывал последствия его, хотя и не нарушил его. Ему оставался только один шанс — вернуть свою власть над своими подданными и отразить нападение Иоанна д'Авена — именно: союз с Англией. В то время как отношения между Филиппом и Гюи де Дампьером все ухудшались, Эдуард I не переставал искусно опутывать последнего своими сетями. Он не жалел ничего, чтобы склонить его на свою сторону: он обещал ему большие денежные субсидии, браки для его детей, возвращение Артуа. И в то время как его посланники рассыпали эти обещания старому графу, число союзников Англии с каждым днем увеличивалось: граф Гельдернский, сир Фокмонский, герцог Брабантский, граф Бар принесли присягу Эдуарду. Германский король Адольф Нассауский, примкнувший в 1294 г. к союзу, обещал помощь Германской империи. Флоренции Голландский, перешедший на сторону Франции, был убит (27 июня 1296 г.). При этих обстоятельствах присоединение Гюи к коалиции было только вопросом времени. Уже осенью 1296 г. он стал вести себя характерным образом. Он отказался предстать 20 сентября перед новым заседанием парламента. В самой Фландрии он старался склонить на свою сторону ремесленников, одновременно возбуждая их против патрициев. С этого времени в городах к социальному размежеванию между патрициатом и «простонародьем» прибавилась еще и политическая дифференциация. Образовались две партии — королевская и графская. Первая приняла знамя белой лилии, вторая — фландрское знамя с черным львом: «clauwaerts» противостояли теперь «leliaerts». Дело графа стало казаться равносильным торжеству городской демократии; его победа над французским королем должна была свергнуть навсегда ненавистное господство патрициев. Феодальные интересы Гюи совпали теперь с экономическими интересами ткачей и валяльщиков, так что в народе пробудилось одновременно горячее чувство лояльности по отношению к династии и ненависти к его врагу — французскому королю. Гюи не пренебрег ничем, чтобы поддержать и укрепить столь благоприятное для него настроение масс. В конце 1296 г. ив начале 1297 г. он энергично выступил в пользу «простонародья». В Генте он приказал произвести расследование, как вели дела члены коллегии XXXIX, затем сместил их и отправил в изгнание[761]; и в то же время он даровал городу хартии, оставшиеся до конца Средних веков основой его привилегий, В Дуэ он пытался заменить аристократическое управление демократической конституцией[762]. Он не только вернул Брюгге отобранные у него в 1280 г. вольности, но и расширил их[763]. Чтобы склонить на свою сторону города, он пошел на величайшие жертвы и отказался на время от своей монархической политики. Он соглашался со всеми требованиями и восстановил в пользу народной партии ту городскую автономию, с которой он так упорно боролся, пока во главе городов стояли патриции. Всецело поглощенный текущими интересами, он предоставил городам полное самоуправление и осыпал их привилегиями, которые он, впрочем, надеялся отнять у них впоследствии, как идущие «вразрез с правом и с разумом[764]. К тому времени, когда Гюи стал так отчаянно искать помощи партии ремесленников, он успел уже порвать с Филиппом Красивым и заключить союз с Эдуардом. 9 января 1297 г. два прелата Намюрского графства, аббат из Жамблу и аббат из Флорефа, покинули Винендале, чтобы передать французскому королю вызов его вассала. До нас дошло длинное письмо, которое они везли с собой; в нем, под официальной фразеологией той эпохи, нетрудно прочесть страстное выражение долго сдерживаемого негодования и гнева[765]. Граф тщательно перечисляет все свои обиды. Чаша его унижения переполнилась, и его послание превращается в грозный обвинительный акт против Филиппа Красивого. Ничто здесь не забыто: ни заключение Филиппины, ни союз короля с Иоанном д'Авеном, ни отказ судить графа судом «пэров», ни монетные указы, ни запрещение торговли с Англией, ни соглашение короля с городами во время взимания двухпроцентного налога. Письмо написано не просто вассалом, защищающим свои права, но и территориальным князем, защищающим независимость своей власти и интересы своего государства. Экономические соображения причудливо сочетаются с доводами, почерпнутыми из феодального права, придавая манифесту одновременно и очень старый, и новый характер. Гюи то говорит подобно тому, как мог бы выражаться за сто лет до него Филипп Эльзасский, то подобно тому, как станет выражаться через сорок лет Яков Артевельде. В то время как оба аббата ехали в Париж, Гюи обратился к Эдуарду I с мольбой о помощи. Несколько дней спустя, 2 февраля, в уолшингемской часовне был подписан договор[766]. Эдуард обещал поддерживать графа деньгами и войсками и обязывался не заключать мира, без участия графа. Кроме того, 25 января, для предотвращения отлучения, которое должно было, согласно Меленскому договору, быть наложено на Фландрию в случае ее разрыва с Францией, в церкви св. Донациана в Брюгге было зачитано торжественное обращение к папе[767]. Но, несмотря на все, граф не был готов к борьбе, ибо события заставили его слишком поторопиться. Объявив войну королю, он не имел средств для ведения ее. Он мог рассчитывать только на ничтожную часть дворянства. Укрепления его городов, разрушенные в начале XIII века, были затем лишь частично восстановлены. Сам он, больной старик, не мог руководить военными операциями. Он поручил руководство ими своим сыновьям и своему внуку Вильгельму Юлихскому. Молодые князья не пали духом и, перед лицом опасности французского вторжения, мужественно выполнили свой долг. Они разделили между собой защиту страны: Роберт Бетюнский и Гюи Намюрский выбрали себе Лилль, Вильгельм Кревекер — Дуэ, Иоанн Намюрский — Ипр[768]. Войска, которыми они располагали, состояли в большей своей части из немецких рыцарей и наемников, поспешно навербованных в Рейнской области. Тем временем тревоги Гюи росли с каждым днем. Адольф Нассауский написал ему 31 августа, что политическое положение Германской империи не позволяет ему прийти к нему на помощь[769]. Эдуард, задержавшийся в Лондоне из-за переговоров с парламентом, не спешил с высадкой своих войск[770]. Герцог Брабантский оставался нейтральным. В Голландии могущественная партия отказывалась признать графом Иоанна I — сына Флоренция V, простое орудие в руках английского короля, и призвала Иоанна д'Авена, со своей стороны вербовавшего войска в Генегау. В тот момент, когда французская армия достигла фландрской границы (15 июня 1297 г.), никто из союзников графа не пришел к нему на помощь. Он стоял один против короля. Вторжение произошло быстро. В сентябре королевская армия завладела Лиллем, разбила перед Фюрном Вильгельма Юлихского, захватила Бурбур и Берг; ее легкая кавалерия подошла даже к стенам Ипра, гарнизон которого не решился преградить ей переход через реку Лис. Прибытие Эдуарда замедлило ее дальнейшее продвижение. Однако было слишком поздно, чтобы спасти положение. Английская армия сосредоточилась в Генте, между тем как французская армия остановилась в Ингельмюнстере, куда прибыли брюггские патриции, чтобы передать Филиппу Красивому ключи от своего города. Оба короля явным образом боялись начать враждебные действия. 9 октября в Вив-Сен-Бавоне было заключено перемирие, после чего французские войска вернулись во Францию, а английские в Англию. Но пока что значительнейшая часть Фландрии очутилась в руках Филиппа Красивого. У Гюи остались только — Дуэ, Ипр, Гент, Ваасская область и область Четырех Округов. Вив-Сен-Бавонское перемирие скоро превратилось благодаря посредничеству папы, в окончательный мир между Францией и Англией. Эдуард, вопреки своим обещаниям, отступился от Гюи де Дампьера: в договоре, заключенном в Монтрейле-Приморском 19 июня 1299 г., не было никакого упоминания о Фландрии. Между тем граф почти исчерпал все свои ресурсы. Он знал, что Филипп Красивый будет неумолим, и поэтому не пытался даже смягчить его. Чтобы спастись от угрожающего ему удара, он делал лихорадочные усилия, соглашался на всяческие жертвы. Он отказался в пользу Иоанна Голландского от сюзеренитета над Зеландией, которого так гордо требовали его предки; он принес присягу верности новому германскому императору Альбрехту Австрийскому и отправился в Аахен присутствовать на его коронации. В Риме его сын, Роберт Бетюнский, и его послы осаждали своими просьбами папу и кардиналов[771]. Но все было напрасно! Иоанн Голландский, бессильный и слабоумный недоносок, умер в ноябре 1299 г., Альбрехт Австрийский вступил в союз с французским королем, а Бонифаций VIII принял участие в борьбе лишь тогда, когда было уже слишком поздно. В самой Фландрии Leliaerts (приверженцы белой лилии) подняли голову в городах, еще покорных графу. Патриции Дуэ призвали французов; терроризированные народные массы боялись пошевелиться. Срок перемирия истек 6 января 1300 г. Тотчас же королевская армия под командованием Карла Валуа вторглась во Фландрию. Сопротивление оказали только Ипр, где войсками командовал Гюи Намюрский, и Дамм, защищавшийся Вильгельмом Кревекер. Но относительно исхода кампании не могло быть никаких сомнений. У графа оставалась только тень армии. Вильгельм Кревекр располагал для сопротивления врагу лишь 800бойцами. В Ипре доведенные до отчаяния городские власти желали сдать город. Энергичный Гюи Намюрский, искусно распространяя в массах ложные сведения, сумел удержать его до мая. В этот момент старый граф отказался от борьбы. Вместе со своим старшим сыном, Робертом Бетюнским, и с Вильгельмом Кревекер, он отправился к Карлу Валуа, отдавшись целиком на милость короля. 24 мая пленники, в сопровождении небольшого отряда оставшихся им верными лиц, прибыли в Париж. Филипп Красивый отказался принять их. Продержав их в течение двух недель в Шатлэ, он назначил местом заключения Гюи де Дампьера Компьенский замок, Роберта Бетюнского — Шинонский замок, Вильгельма Кревекер — Иссуденский замок. Их спутники были заключены в различных местах королевства: в Монлерийской башне в Нонетте (в Оверни), в Фалезе (в Нормандии), в Людене, в Иссудене, в Ниоре, в Шиноне и в Жанвиле около Шартра[772]. Второй раз на протяжении XIII века граф Фландрский стал пленником французского короля. Но катастрофа, обрушившаяся на Гюи, была тяжелее той, которая постигла в свое время Феррана, а победа Филиппа Красивого была более полной, чем победа Филиппа-Августа. На сей раз графства Фландрского больше не существовало. Было покончено с этим крупным северным феодом, дававшим некогда опекунов французским королям. Сбылись слова Филиппа-Августа: Фландрия была поглощена Францией, она составляла отныне лишь одну из королевских провинций, она была включена в земли французской короны. Филипп Красивый поспешил послать туда наместника. Сам он прибыл с большой пышностью в мае 1301 г., чтобы показаться своим новым подданным. Бальи и чиновники были замещены новыми людьми. Эмблема белой лилии заменила черного льва на знаменах и гербах. Это была подлинная аннексия. И эта аннексия, казалось, предвещала в скором времени аннексию Нидерландов в целом. Действительно, Филипп Красивый, захватив Фландрию, мог в то же время убедиться, что его политика восторжествовала и в Лотарингии. Иоанн д'Авен, ставший самым верным его союзником, получил в 1299 г. наследство Иоанна I Голландского[773]. Владея Голландией, Зеландией и Генегау, он приобрел огромное могущество. С его помощью французский король мог надеяться на самые блестящие результаты. Ему не приходилось бояться сопротивления со стороны Германии, бессилие которой только что убедительнейшим образом показал Альбрехт Австрийский. Действительно, Альбрехт, безуспешно запретив Иоанну д'Авену завладеть Голландией, выступил против него и дошел до Нимвегена; но, узнав о продвижении графа, поспешил отступить[774]. Таким образом, Франции, казалось, суждено было вскоре расширить свои владения до берегов Рейна и уничтожить результаты Верденского договора. Герцог Брабантский чувствовал создавшуюся для него угрозу, пронесся уже слух, что Филипп намеревается лишить его престола[775]. Характерны были, с другой стороны, посягательства Франции на берега Шельды. Камбрэ казался вполне французским городом. Наконец, Филипп, захватив Фландрию, присоединил к своим владениям как ту часть графства, которая зависела от его короны, так и ту, которая зависела от Империи.
Глава вторая
Битва при Куртрэ
I
Филипп Красивый сумел захватить Фландрию, но он не сумел удержать ее за собой. Королевская политика, так искусно использовавшая борьбу между графом и патрициями, натолкнулась, в свою очередь, на грозную оппозицию. Французское завоевание произошло благодаря верхам бюргерства; освобождение страны было делом рук ремесленников. В обоих случаях города сыграли главную роль. В начале XIV века судьба Нидерландов зависела от победы брюггских ткачей и валяльщиков над рантье и купцами. В этой стране крупной торговли и крупной промышленности политическая история и на этот раз определялась социальной историей[776]. Действительно, было бы ошибочно приписывать восстание Фландрии против Филиппа Красивого стихийному взрыву национального чувства. Конечно, уступки, сделанные Гюи де Дампьером народной партии в момент его разрыва с королем, вызвали у ремесленников взрыв сочувствия к графу и, соответственно, ненависти к Франции. Но ни это сочувствие, ни эта ненависть не проявились в каком-либо энергичном выступлении. Цехи приняли аннексию, не взявшись за оружие, и Гюи с печалью констатировал, что привилегии и вольности, дарованные им своим добрым городам, «чтобы добиться их благосклонности», ему «дали мало»[777]. В 1298 г. он так мало рассчитывал на восстание в его пользу городской демократии, что пытался добиться от папы аннулирования сделанных им ей обещаний. Итак, казалось, что не исключена возможность заставить «простой народ» принять навязанный Фландрии новый порядок. Для этого нужно было только, чтобы король отказался от своего союза с патрициями, решительно пожертвовал ими ради народной партии, выступил в роли покровителя «minores» (народа) и предоставил им управлять по своему усмотрению городами. Первоначально Филипп Красивый, кажется, понял это. При посещении Гента он, по просьбе ремесленников, отменил один новый налог; несколько дней спустя он уничтожил коллегию XXXIX и заменил ее избиравшимся на год советом эшевенов из 26 членов, которые были разделены на две «скамьи» и половина которых выбиралась из народа[778]. Но такая политика явно противоречила традициям французской монархии. Согласие между королем и городской демократией не могло быть длительным. Неумелая политика наместника, которого Филипп поставил во главе Фландрии, только ускорила неизбежный ход событий. Жак Шатильон не имел ни одного из качеств, необходимых для выполнения порученной ему деликатной миссии. Это был высокомерный и несдержанный человек, настоящий представитель феодальной знати, относившийся грубо и презрительно к народу, не способный понять интересы, стремления, могущество больших городов, которыми ему пришлось управлять. Находясь, кроме того, в родстве с самыми знатными семьями фландрской аристократии, он вскоре подпал под их влияние. Его правление было сигналом к злейшей реакции. Дворянство, состоявшее почти исключительно из «leliaerts» и давно лишенное графами права вмешательства в государственные дела, поспешило воспользоваться благоприятной ситуацией. Шатильон, захлестнутый волной его требований, совершил ту же ошибку, какую совершил за двести лет до него другой агент Франции — Вильгельм Нормандский. Во Фландрии, где бюргерство было всем, он желал управлять при помощи феодалов. Вскоре со всех сторон поднялись протесты против алчности чиновников: в Брюгге даже иностранные купцы стали жаловаться на новые взваленные на них налоги[779]. Между тем патрициат, многие члены которого находились в родстве с мелким дворянством, сблизился с наместником. В Брюгге верхи бюргерства искали поддержки у Иоанна Гистеля, одного из вождей аристократии и одного из советников Шатильона. Когда Филипп Красивый покинул Фландрию, то озлобление народной партии дошло до последних пределов. Она увидела, что результатом французского завоевания было лишь усиление в городах господства патрициев, а в сельских местностях — господства рыцарей[780]. Поводом к восстанию послужило взимание в Брюгге особого налога для покрытия расходов, связанных с празднествами в честь короля во время посещения им города. Ткачи, валяльщики, стригали, все бедняки, все пролетарии взялись за оружие. Во главе их стал некий ткач Петер Конинк, кривой, малорослый и щуплый человек, который «никогда не имел собственных десяти ливров», но который умел находить слова, возбуждавшие в сердцах гнев и жажду мести[781]. Он организовал «простой народ», дал ему вождей и двинул его против богатых «leliaerts». Последние стали умолять о помощи Иоанна Гистеля и Жака Шатильона. К городу подошел отряд из пятисот рыцарей. По условному сигналу он должен был овладеть городскими воротами, в то время как патриции напали бы на народ. Но заговор был раскрыт. Ремесленники взялись за оружие и оттеснили своих врагов в тот замок, в котором некогда укрылись убийцы Карла Доброго. Часть их была перебита, часть — взята в плен, и ремесленники захватили власть над городом. Шатильон беспомощно присутствовал при этих событиях. Он призвал на помощь своего брата, графа Сен-Поля. Во главе отряда французских наемников из гарнизона Куртрэ и массы «leliaerts» он снова подошел к Брюгге, открывшему ему свои ворота. Он приговорил город к лишению всех его привилегий и сносу городских стен, а для обеспечения его покорности приказал заложить фундамент мощной крепости[782]. Это унижение заставило патрициев и ремесленников забыть на время свои раздоры и объединиться для защиты городской автономии. Город обратился с апелляцией к парламенту, который некогда оказал ему такую помощь против графа. Но времена изменились, и весной следующего (1302) года парламент подтвердил приговор Шатильона. Между тем сведения о случившемся дошли до старшего из сыновей Гюи де Дампьера от второго брака — Иоанна, укрывшегося в Намюрском графстве. Он знал ресурсы Брюгге и настроение рабочего населения и решил, что, может быть, с помощью ткачей и валяльщиков он сумеет свергнуть Шатильона и вернуть обратно графство. Зимой 1301 г. он выработал следующий план. Он свяжет дело своего отца с делом городской демократии и в качестве искусного политика использует возбуждение, царившее во Фландрии[783]. Конинк, тайно поощряемый им, вернулся в Брюгге. Ремесленники снова поднялись. Королевский бальи, понимая, что всякое сопротивление бесполезно, покинул город в сопровождении большого числа патрициев, боящихся оказаться скомпрометированными, если они останутся в городе во время восстания. Тогда Конинк открыто выступил против Шатильона. Он приказал прекратить снос городских стен и сооружение королевской бастилии. Несколько недель спустя Гент последовал примеру Брюгге. В нем вспыхнуло грозное восстание против патрициев, которым наместник Филиппа Красивого разрешил взимать новый налог, «maltote», так что и здесь борьба против патрициев превратилась в борьбу против поддерживавшего их французского режима. Чтобы придать народному движению единое руководство, собрать городской пролетариат под знаменем Фландрии и направить его против Франции, необходим был вождь, который был бы приемлем для всех городов. Он нашелся в графской семье: это был Вильгельм Юлихский. Вильгельм был, по своей матери, внуком Гюи де Дампьера и младшим братом другого Вильгельма Юлихского, который сражался с французами в кампании 1297 г. и был убит в сражении при Фюрне. Приняв духовный сан, он был маастрихтским пробстом к тому времени, когда разразилась война. Но он был духовным лицом лишь по одежде. Совсем еще молодой, изысканно одетый, красавец, одаренный ярким красноречием и незаурядным умом, он горел желанием отличиться в сражениях и мечтал о чести восстановить авторитет своего дома[784]. Его дядя, Иоанн Намюрский, поступил правильно, отправив его во Фландрию. Едва вступив в Брюгге, он стал идолом толпы. «Считали чудом, — говорит ван Вельтем, — что этот мальчик явился с востока, чтобы помочь народу в борьбе против Франции… благословляли небо за его прибытие». Но если ремесленники приняли его с энтузиазмом, то богачи держались в стороне. Стало известно, что Шатильон решил свирепо отомстить за нанесенное королю оскорбление и что в Генте «leliaerts» опять вернулись к власти. Положение казалось безнадежным. Вильгельм удалился в область Четырех Округов, а вскоре затем — в Намюрское графство. Брюггцы, покинутые им, пали духом. К Шатильону была отправлена депутация, которая сдала ему город при условии, что наиболее скомпрометированным в последних мятежах лицам дано будет время, чтобы покинуть город. На следующий день (17 мая 1302 г.) Шатильон, чувствуя себя хозяином положения, прибыл окруженный грозной военной свитой. Народ считал, что для него все потеряно. Беглецы были еще недалеко, их вернули. Воспользовавшись ночной темнотой, они добрались до краев крепостных рвов, легко перешли через наполовину разрушенные крепостные валы, вырезали французских часовых и проникли в город. — Это послужил сигналом к общей резне. Солдаты Шатильона, захваченные во сне, были легко перебиты. По улицам раздавался клич Schild et Vriend (щит и друг)[785]; французы, пытаясь скрыться в толпе, провозглашали его вместе с другими, но их выдавал французский акцент и их беспощадно убивали. В эту страшную ночь, вместе с французами было убито много патрициев. Шатильон с несколькими приближенными к нему лицами успел бежать. Теперь между королем и Фландрией легло нечто непоправимое. Социальная ненависть сделала свое дело, война была объявлена[786]. Пять дней спустя Вильгельм Юлихский и Петер Конинк прибыли в Брюгге, где они были встречены радостными криками. Во всей приморской Фландрии к ним примкнули небольшие города и сельские жители, озлобленные дворянской реакцией, последовавшей за французской аннексией. Как и во времена Роберта Фрисландского, сигнал к восстанию был дан энергичным приморским населением, свободными крестьянами польдеров. Прибывший со своей стороны Гюи Намюрский был восторженно встречен жителями Оденарда и Куртрэ. В Ипре ремесленники заставили «leliaerts» открыть ему ворота города. Только Гент, оставшийся под властью совета XXXIX, сохранил верность королю. В других местах повсюду «clauwaerts» стали хозяевами страны, сменили эшевенов, конфисковали имущество патрициев и сбросили знамя белой лилии. Торжество демократической партии усилило национальный энтузиазм. Присутствие князей влило в сердца мятежников несокрушимое доверие к себе. Все ожидали «с львиным мужеством»[787] битвы, которая, как они знали, была неизбежной. Она произошла под стенами Куртрэ 11 июля 1302 г.[788]. Сам состав обеих армий показывал, что этот день должен был решить судьбу не только политического конфликта, но и борьбы классов. За Робертом Артуа шли, рядом с французской пехотой и наемными войсками, составленными из генуэзских арбалетчиков и немецких рыцарей, блестящие эскадроны дворян из Артуа, Нормандии, Пикардии, усиленные отрядами, посланными Иоанном д'Авеном, и множеством «leliaerts». Наоборот, фландрская армия состояла исключительно из пехотинцев и простолюдинов, валяльщиков, ткачей, крестьян из Вольного Округа Брюгге, которые все были вооружены тяжелыми пиками и носили железные шлемы на голове. К ним присоединились, несмотря на запрещение эшевенов, семьсот гентцев, под командованием Яна Борлюта. Так как дворяне и патриции предали национальное дело, то фландрская армия состояла почти исключительно из пехотинцев. Лошади были только у Гюи и Вильгельма, кроме того, было еще около тридцати рыцарей, среди которых один знатный голландский дворянин Ян Ренесс, враг д'Авенов и несколько мелких дворян из Брабанта, Лимбурга и прирейнской Германии, нанятых фландрскими князьями[789]. Впервые, вероятно, можно было наблюдать зрелище городской демократии, которую вели в бой феодальные князья и которая помогала им отвоевать себе назад свое наследие. По не повторившемуся более в истории стечению обстоятельств, события приняли такой оборот, что восставший народ был заодно с сыновьями своего государя, так что династические интересы и социальное восстание странным образом переплелись и слились в одно общее дело. Все пестрело противоречиями во фландрской армии, в которой молодые князья, воспитанные на французский лад и говорившие только по-французски, командовали массами рабочих и крестьян, язык которых они едва понимали[790]. Против всякого ожидания эта армия одержала победу. Она победила не только потому, что ею командовали отличные полководцы, что на ее стороне было преимущество местности, пересеченной рвами и неудобной для кавалерийских атак, что Роберт Артуа в своем нетерпеливом стремлении победить позволил своим войскам беспорядочно броситься на неприятеля, но и потому еще, что она сознавала, что борется за свое существование. Она ощетинилась против неприятельской конницы несокрушимым барьером своих пик, никто не покинул рядов, никто не брал пленников. Как и в Брюгге, все говорившие по-французски были перебиты. Сам Роберт Артуа, вместе с множеством графов и знатных баронов, остался на поле брани. Никогда еще не было подобного сражения, где победители отказывались брать выкуп у выбитых из седла рыцарей. Дворяне, привыкшие биться с феодальными войсками, оказались беспомощными перед этой мрачной энергией и суровостью народной армии. Они были охвачены паникой, и сражение закончилось полным разгромом их рядов. Вечером Жилль ле Мюизи мог наблюдать под стенами Турнэ смертельно усталых, голодных, полуживых от страха беглецов, продававших за кусок хлеба свои доспехи горожанам[791]. Во Франции битва при Куртрэ надолго сохранила характер какой-то трагимистической катастрофы. Вызванный ею страх в значительной мере обусловил ту нерешительность, которой отличались в последующие годы военные операции Филиппа Красивого. Впрочем, вскоре распространился слух, что участь сражения при Куртрэ решена была только изменой. Были сочинены неправдоподобные рассказы о ловушках, в которые фландрцы завлекали французское рыцарство, и легенды эти распространялись за границей возвращавшимися по домам наемниками. Под конец они проникли даже в Бельгию, так что по странной иронии истории именно они популяризировались фламандской живописью и фламандскими гравюрами, вплоть до наших дней[792]. Политические последствии битвы при Куртрэ были столь же значительны, как и битвы при Бувине. Последняя подчинила Нидерланды французскому влиянию, первая освободила их от него. Но в то время как сражение при Бувине относится к общей истории Европы, битва при Куртрэ является исключительно национальном событием. Она объясняется самим характером фламандской культуры, она есть продукт социальных и политических движений, волновавших страну. Она разразилась внезапно, столь же неожиданная, как и революция, и столь же радикальная — по своим последствиям. Нескольких часов этой битвы было достаточно, чтобы установить во Фландрии демократическое правление и вернуть графство династии Дампьеров. Патрициат, Филипп Красивый и Иоанн д'Авен были побеждены одновременно. Нидерланды не только не были на сей раз увлечены потоком общеевропейской политики, но, наоборот, изменили направление ее. Битва при Куртрэ была первым ударом, нанесенным французской гегемонии. В Риме Бонифаций VIII посреди ночи поднялся с постели, чтобы выслушать рассказ о ней. Почти одна только приморская Фландрия приняла участие в борьбе под руководством Брюгге. Находившийся во власти патрициев Гент, занятые французами Лилль и Дуэ не могли присоединиться к ней[793]. Но после победы восстали все крупные города. Одинаковые причины породили одинаковые последствия в валлонских и фламандских городах. Борьба с Филиппом Красивым была не национальной, а социальной войной. Лишь только лилльские и дуэсские ремесленники узнали радостную весть, они тотчас же призвали победителей на помощь против сторонников короля[794]. Гюи Намюрский немедленно поспешил к ним на помощь. При Куртрэ фландрская армия ограничилась отражением нападения; теперь она смело перешла от обороны к нападению.II
Героическая борьба Фландрии с Францией в течение первых двадцати лет XIV века, борьба, которую она вела только своими собственными силами, представляет, несомненно, одно из самых поразительных и грандиозных явлений средневековой истории. В течение всего конца царствования Филиппа Красивого, в течение царствования Людовика X, в течение значительной части царствования Филиппа Длинного, французские короли тщетно истощали все свои ресурсы на то, чтобы положить конец сопротивлению Фландрии. После различных мирных договоров и договоров о союзах, прекращавших на время борьбу, она снова оказывалась каждый раз еще более упорной и ожесточенной. Разумеется, конфликт Филиппа Красивого с Бонифацием VIII и гражданская война, охватившая Францию при Людовике X и Филиппе Длинном, были на руку фландрцам. Однако как ни серьезны были эти события, они не могли настолько ослабить королевское могущество, чтобы устранить колоссальную диспропорцию между силами обеих воюющих сторон. Если бы победа зависела только от численности войск, то Фландрия, несомненно, была бы обречена. Но нехватку в материальных силах она возмещала моральным перевесом. О фландрских армиях начала XIV века можно сказать то же самое, что об армиях французской республики конца XVIII в. В обоих случаях — импровизированные солдаты, навербованная наспех милиция, могли выдержать натиск регулярных войск лишь потому, что к патриотизму у них присоединялась вся страсть победоносной партии. Республиканцы, сражаясь с эмигрантами, в то же время сражались с Австрией; а фландрские ремесленники видели во Франции прежде всего союзницу «leliaerts» и патрициев. Борясь с Гюи Намюрским и Вильгельмом Юлихским, французский король полагал, что он имеет перед собой только возмутившихся крупных вассалов; в действительности же он имел перед собой вождей восставшего социального класса. Этим объясняются огромные размеры принесенных Фландрией жертв и массы выставленных ею бойцов. Ремесленное население предместий ее больших городов являлось неисчерпаемым человеческим резервом, из которого она могла брать людей без счета. Конфискованные мятежниками богатства патрициев составили военные фонды[795]. К этому надо прибавить, что сырая почва Фландрии, пересеченная рвами и глубокими реками, превращавшаяся осенью благодаря дождям в непроходимые болота, ставила продвижению французских армий такие же препятствия, на какие наткнулись в XI веке имперские армии. Наконец, следует заметить, что городские войска, составленные большими сомкнутыми батальонами, поражали и сбивали с толку королевские армии своей неожиданной тактикой. В конце июля 1302 г. фландрская армия осадила Лилль. Начальник французского гарнизона, покинутый «простонародьем», обещал сдать город, если король не придет к нему на помощь до середины августа. То же самое произошло и в Дуэ. Иоанн Намюрский, прибывший во Фландрию и принявший здесь верховное командование, знал, что французский король не может собрать в такой короткий срок новую армию. Поэтому он распустил городскую милицию и, оставив себе лишь несколько всадников, и нескольких ставших на сторону народа патрициев, ожидал сдачи обоих городов, которая и произошла в указанный срок. Вся Фландрия, до «Нового Рва» (Neuf-Fosse), отделявшего ее от Артуа, была отвоевана у Франции. Между тем король лихорадочно готовился к новой кампании. Парижская буржуазия требовала суровой мести за унижение, испытанное при Куртрэ. Она смотрела на фландрцев, как на дерзких и безумных бунтовщиков. Введенная в заблуждение именем П. Конинка (Pierre Li Roi), она думала, что они выбрали себе королем какого-то ткача.
Книга четвёртая
Князья и города в XIV веке
Глава первая
Политическое положение перед Столетней войной
В политической истории Бельгии до начала XIV века можно наблюдать двоякий процесс.
Лотарингия, тесно связанная с Германией сильной рукой Отгона I, потеряла в X и XI вв.независимость, которой она пользовалась почти непрерывно при всех перипетиях своего исторического существования, начиная со смерти Лотаря I. В течение примерно 150 лет, она составляла лишь одну из провинций Германии. Затем великое потрясение, вызванное борьбой за инвеституру, позволило ей, начиная с XII века, мало-помалу отделиться от этой державы. Ее светские государи освободились от власти епископов; ее герцог перестал быть императорским наместником. Она вскоре распалась на ряд княжеств, которые во время смут великого междуцарствия (1254–1273 гг.) добились полной независимости и над которыми Священная Римская Империя отныне утратила всякую реальную власть.
Эволюция Фландрии протекала первоначально совершенно иначе. Благодаря слабости первых капетингских королей ее графы с ранних пор добились весьма значительной власти над своей территорией и в течение долгого времени их династия могла свободно усиливаться, что еще более подчеркивало то зависимое положение, до которого герцог и имперские епископы довели их соседей из Генегау и Брабанта. Но в то время как силы Германии стали убывать, силы Франции начали, наоборот, прибывать.
Таким образом в то время, как благодаря своеобразному изменению предшествующей ситуации, князья с правого берега Шельды могли уже больше не опасаться императоров, левобережные государи вынуждены были защищать против Капетингов свое наследственное достояние и свой суверенитет.
Начиная с царствования Филиппа-Августа (1180–1223 гг.) опасность стала быстро возрастать. Франция не только старалась ослабить Фландрию, но обуреваемая более грандиозными честолюбивыми планами, она стала отныне смотреть на графство, как на ось обширного обходного движения, которое должно подчинить ей все Нидерланды и благодаря которому ее границы раздвинутся вплоть до Рейна. При Филиппе Красивом могло одно время казаться, что план этот вот-вот осуществится. Но король учел лишь роль владетельных князей. Он полагал, что для достижения своих целей ему достаточно уничтожить Дампьеров, вступить в союз с д'Авенами и склонить на свою сторону герцога Брабантского, графа Голландского и епископа Льежского, или вступить с ними в соглашение. Он не учел роли богатых фландрских городов, которые с давних пор были раздираемы сильнейшей социальной борьбой и простой народ которых видел в победе французского короля конец всем своим самым заветным чаяниям. Как только графство было аннексировано, ремесленные массы восстали с неудержимой силой, разбили вопреки всем ожиданиям французское рыцарство на равнинах Куртрэ, снова посадили на трон Роберта Бетюнского и закрыли Филиппу Красивому путь в Бельгию. Правда, Фландрия вышла из борьбы урезанной. По миру 1320 г. она уступила королю еще принадлежавшие ей остатки тех обширных валлонских земель, которые некогда простирались до Канша. Но если эта последняя жертва и уменьшила ее территорию, зато она усилила ее способность к сопротивлению. Ее граница, непрерывно отступавшая с начала XIII в. к северу, окончательно остановилась у реки Лис. Потеряв сперва (1191–1212 гг.) Артуа, а теперь — Лилль, Дуэ и Орши, Фландрия отныне стала чисто фламандской территорией. От Франции ее отделяло теперь уже не просто течение реки, а главным образом, как это понимал уже Виллани[823], различие в языке и нравах. Долгая война с французским королем пробудила в ней национальное сознание. Будучи двуязычной, Фландрия чувствовала некогда свое родство с Францией; теперь же, сделавшись чисто фламандской, она почувствовала, как в ней пробудилось национальное самосознание. Отныне, став более чем когда-либо недоступной для аннексии, она будет, подобно крепкой твердыне, защищать Нидерланды в наиболее слабом их пункте.
Если ход политических событий вызвал это первое ослабление французского влияния, то тому же одновременно содействовал еще ряд других причин. В самом деле Франция перестала быть главным рынком Бельгии. Ярмарки в Шампани, бывшие до конца XIII в. главным местом сбыта для основной индустрии страны — суконной промышленности, потеряли свое исключительное значение с тех пор, как благодаря успехам мореплавания установились легкие и быстрые сношения между бельгийским побережьем и странами Севера и Юга. Морская торговля, которой очень благоприятствовала географическая конфигурация страны, стала главным источником экономической жизни Нидерландов. Имея своим главным центром Брюгге, затем — Антверпен, она распространилась постепенно на различные территории страны, стремясь все больше и больше связать их друг с другом и установить между ними солидарность интересов, значительно содействовавшую подготовке того государства, которое здесь основали впоследствии бургундские герцоги. В течение всего XIV в. Франция играла в экономической жизни Нидерландов несравненно менее важную роль, чем Англия или Ганза.
Наконец, если желать точно судить о положении, наметившимся примерно около 1320 г., то не следует забывать, что наследники Филиппа Красивого не в состоянии были продолжать его политику. Феодальная реакция, начавшаяся в их царствование, а вскоре затем — война с Англией, парализовали их силы. Правда, французские короли продолжали довольно активно вмешиваться в дела Нидерландов, особенно если сравнить их деятельность с деятельностью германских императоров. Но времена, когда они могли обращаться с бельгийскими государями как с подзащитными, нуждающимися в их покровительстве, уже миновали. Они перестали им приказывать, а старались снискать их расположение при помощи брачных союзов или всякого рода милостей. Они отлично понимали, что могут отныне использовать их, лишь склонив их на свою сторону, и их поведение по отношению к ним напоминает то, как вели себя более ста лет тому назад Гогенштауфены по отношению к Балдуину Генегаускому.
Впрочем, поведение бельгийских князей в XIV в. довольно сильно напоминает их поведение в XII в. Не чувствуя больше давления всемогущей Франции, которая со столь давних пор заставляла их трепетать, они снова обрели свою прежнюю свободу действий. Находясь между двумя великими державами, которым предстояло вскоре вступить в Столетнюю войну, они производили выбор в зависимости от своих интересов. Они были теперь сторонниками англичан или французов, подобно тому, как они в свое время были вельфами или гибеллинами, не из убеждения, а по расчету. Они всегда были готовы перебежать в тот лагерь, который сулил им больше выгод. С другой стороны, сложный переплет политических вопросов, занимавших тогда Европу, облегчал им возможность действовать по своему усмотрению. Необычайно удобно было перед лицом французского короля, законность власти которого оспаривалась Англией, и императора Людовика Баварского (1314–1347 гг.), отлученного от церкви папой, ссылаться на угрызения совести, когда повиновение становилось тягостным или казалось невыгодным! Кроме того, чего бояться государей, которые были заняты другими делами, и которые не только не питали захватнических планов, но, наоборот, считали себя счастливыми, если могли купить за недорогую цену ненадежный союз феодального князя?
Таким образом положение Нидерландов в XIV в. резко отличалось от их положения в XIII в. Они получили по отношению к Франции почти такую же свободу действий, какой они пользовались с давних пор по отношению к Германии, и оказались как бы предоставленными самим себе, благодаря отсутствию державы, достаточно сильной, чтобы подчинить их своему влиянию. Поэтому их политическая жизнь приобрела совершенно новый характер. Приступая к изучению периода, столь богатого всякого рода событиями, чрезвычайно важно разобраться в происшедших изменениях и, если возможно, попытаться распутать их сложный клубок.
I
Вместе с Робертом Бетюнским, умершим 17 сентября 1322 г., во Фландрии исчез последний представитель традиционной политики Дампьеров. Действительно, Роберт в течение своего долгого царствования неизменно оставался верным двоякой цели, которую преследовал его отец, именно: сохранить по отношению к французской короне феодальную независимость графства и уничтожить в Нидерландах дом д'Авенов. Если он был вынужден заключить мир с Францией, если он должен был решиться после столь упорной борьбы отдать Лилль, Дуэ и Орши, то лишь уступая силе и отнюдь не считая случившееся непоправимым. Убедительное доказательство этого он дал, выбрав местом своего последнего успокоения церковь св. Мартина в Ипре, и отказавшись от того, чтобы его тело покоилось рядом с останками его предков в аббатстве Флин, до возвращения Фландрии отнятой у нее области[824]. Подписывая тяжкий мир со своим сюзереном, он, впрочем, рассчитывал вознаградить себя за него победоносной войной с Вильгельмом д'Авеном. Он постарался устранить его от участия в договоре 1320 г., и нет сомнений в том, что с тех пор он ждал лишь благоприятного случая, чтобы снова начать борьбу. Совершенно иную позицию предстояло занять его преемнику. Вместе с ним оборвалась старая традиция, уступив место другим честолюбивым планам. Согласно условиям договора от 1320 г. наследником Роберта Бетюнского был назначен его внук Людовик, к которому после смерти его отца (22 июля 1322 г.) перешло графство Неверское[825]. Ему было всего восемнадцать лет, когда он получил в наследство Фландрию; он совершенно не был подготовлен к обязанностям, которые возлагало на него управление ею. Воспитанный с детства при парижском дворе, он не знал ни языка, ни нравов, ни интересов своих подданных. Его советники были подобраны министрами Филиппа Красивого. Один из них, аббат из Везле, был даже сыном того самого Пьера Флота, который погиб в битве при Куртрэ[826]. Король позаботился о том, чтобы вполне изолировать Людовика от влияния его отца и деда, и поставленная им себе цель была достигнута. Женатый на принцессе королевской крови[827], граф считал себя членом царствующего дома Франции и признавал своим гербом белую лилию. Не следует поэтому удивляться, если его правление было продолжительным и трагическим недоразумением. Он прибыл во Фландрию, столь же мало подготовленный к управлению этой страной, как Вильгельм Нормандский в начале XII века, или Жак Шатильон — в конце XIII в. Хотя в первом порыве лояльности, знаменующей вступление на престол нового государя, большие города радостно раскрыли перед ним свои ворота, но конфликт между ними и им был неизбежен. Народ вскоре почувствовал, что во главе его стоит чужестранец. И вскоре народ начал сожалеть о временах «доброго графа Роберта»; распространился даже слух, что Людовик собирается обменять Фландрию на графство Пуату[828]. Надо, впрочем, признать, что король, не довольствуясь гарантиями, которые давало ему воспитание его молодого вассала, поспешил лишить его последних помыслов о независимости. Когда Людовик решился вступить на престол до принесения присяги на верность королю, он получил суровый урок в виде временной конфискации графства. С другой стороны — выдвинутые перед королевским судом его дядей Робертом Кассельским и некоторыми членами его семьи требования своей доли в наследстве Роберта Бетюнского, заставили его добиваться благосклонности короля в тот самый момент, когда он получил этот унизительный урок. Этого было более чем достаточно, чтобы раскрыть ему глаза. Он понял, что он может рассчитывать на помощь лишь своего сюзерена, и отныне все его помыслы были устремлены на то, чтобы любой ценой снискать его расположение. Усердие, с каким от стал добиваться выплаты жителями Фландрии штрафа, наложенного на них на основании Атисского мира, вызвало вскоре грозное восстание. Впрочем, этот мятеж, чуть не стоивший ему короны и даже головы, нисколько не повлиял на его поведение. В его памяти осталась только крупная услуга, оказанная ему Филиппом Валуа, разбившим мятежников в битве при Касселе, и с тех пор благодарность еще теснее привязала его к царствующему дому Франции; когда разгорелась Столетняя война, ему предстояло принести в жертву этому дому свои насущнейшие интересы, обнаружив, таким образом, больше рыцарской преданности, чем политического смысла. Но Людовик Неверский отличался от Роберта Бетюнского не только своей уступчивостью по отношению к Франции. Его линия поведения в Нидерландах указывает в то же время на совершенно новую ориентацию. Свободный от династических чувств, под влиянием которых его предки так долго боролись с д'Авенами, он не видел никаких оснований продолжать длительную и бесплодную войну. Став чуждым своему дому, он мог хладнокровно признать необходимость закончить безысходную борьбу, и одним из первых актов его правления было заключение мира с Вильгельмом I Генегау. 6 марта 1323 г. он окончательно отказался от Зеландии, взамен чего Вильгельм отказался от всяких претензий на имперскую Фландрию[829]. Таким образом закончилась, наконец, самая продолжительная феодальная усобица, нарушавшая до тех пор покой Нидерландов. Но в то же время радикально изменилось и положение фландрской династии по отношению к соседним династиям. Людовик, так сказать, ликвидировал старые долги своего наследства. Он покончил с прошлым и решительно отказался от вмешательства в дела Генегау и Голландии. Если, с другой стороны, принять во внимание, что в 1305 г. пришла к концу личная уния между Намюрской областью и Фландрией[830], то нетрудно составить себе ясное представление об изменениях во внешней политике графства, происшедших с наступлением нового правления. Династическая традиция, оборвавшаяся во Фландрии, продолжала однако неукоснительно действовать в Брабанте. Герцоги, занятые укреплением своей власти по нижнему течению Мааса, старались жить в мире со своими южными и западными соседями, Иоанн I тщательно избегал вмешиваться в войну между Дампьерами и д'Авенами. Его преемник, Иоанн II (1294–1312 гг.), придерживался той же линии поведения во время продолжительной борьбы фландрцев с Филиппом Красивым и последними Капетингами. Будучи сам женат на Маргарите Английской, дочери Эдуарда I, он постарался женить своего сына на французской принцессе, подчеркивая таким образом политику нейтралитета, позволившую ему упрочить результаты битвы при Воррингене, не прибегая к оружию. Честолюбивая и авантюрная политика Иоанна III (1312–1355 гг.) резко отличалась от этого несколько робкого благоразумия. Последний представитель в Нидерландах мужской линии могучего рода Ренье Длинношеего, Иоанн III являлся поразительным образчиком атавизма. Такой же яростный вояка, как и хороший дипломат, бурный, неистовый, безрассудный, но в то же время предусмотрительный, приверженец рыцарского идеала, нисколько не стеснявшийся однако в случае нужды прибегать к хитрости и нарушать данное слово, он всем, даже своей любовью к поэзии, напоминал своего деда Иоанна I, которого он, несомненно, взял себе за образец. Его неистовый характер не исключал гибкости, и в случае необходимости он умел забывать, как самый настоящий оппортунист, свое надменное родовое высокомерие. Он заявляет устами поэта Бундале, что Брабант — это аллод и что у него нет другого господинаII
Победу Иоанна III можно рассматривать, как окончательное разрешение в пользу Брабанта старого Воррингенского спора. Она произошла лишь на одиннадцать лет позже примирения домов д'Авенов и Дампьеров (1323 г.), так что к началу XIV века можно отнести ликвидацию двух крупных феодальных проблем, занимавших Нидерланды с середины прошлого века и определивших их политику. Теперь они покончили с прошлым, и, когда разразилась Столетняя война, они могли свободно сообразовать свое поведение с новой ситуацией. Но чтобы понять их поведение, необходимо в нескольких словах остановиться на династии, которая призвана была отныне играть доминирующую роль, именно — династии графов Генегауских и Голландских. Как мы указывали выше, граф Генегауский, Иоанн д'Авен, унаследовал в 1299 г. графства Голландское и Зеландское и, несмотря на попытки германского императора, Альбрехта Австрийского, вернуть себе эти территории, сумел их сохранить за собой. Создавшейся таким образом личной унии между графством Генегауским — на юге и графством Голландским с его зеландскими и фрисландскими придатками — на севере Нидерландов предстояло сохраниться вплоть до бургундских времен. Это был еще один шаг на пути к территориальному объединению, предвестник еще пока далекого дела Филиппа Доброго. Наряду с Брабантом и Лимбургом, объединенными после битвы при Воррингене, Генегау и Голландия-Зеландия составляли, так сказать, с конца XIII в. первые основы Бургундского государства. Империя не сумела вернуть себе феоды, остававшиеся вакантными после того, как угасли владевшие ими династии. Освободившееся место немедленно занималось местным князем, так что уменьшение числа правящих домов Лотарингии шло параллельно с ростом значения тех из них, которые сохранились. Став графом Голландским, Иоанн д'Авен очутился в положении, совершенно сходным с тем, в котором находился сто лет тому назад его предшественник Балдуин VI, когда он унаследовал Фландрию. Центр его интересов оказался внезапно смещенным. Голландия и Зеландия со своими городами, торговля которых начинала соперничать в это время с торговлей фландрских портов, и с предоставляемой ими их государям возможностью обширных завоеваний в фрисландских областях, являлись более обширным полем деятельности, нежели Генегау, сжатый между Брабантом и французской границей и лишенный выходов к морю. Получив это богатейшее наследство, дом д'Авенов сразу оказался во главе морской и колониальной державы. Он сумел показать себя достойным этой задачи. Сын Иоанна, Вильгельм I (1304–1337 гг.)[861], был во всех отношениях одной из замечательнейших фигур своего времени. Популярность, приобретенная им как в Голландии, так и в Генегау, красноречиво свидетельствует о его талантах и уме. Совсем не похожий хотя бы, например, на Людовика Неверского, этот валлонский князь, призванный в 17 лет управлять чисто германской областью Нидерландов, удивительно сумел приспособиться к обстоятельствам, акклиматизироваться среди своих новых подданных и избегнуть всяких поводов для столкновения с ними. С поистине изумительной гибкостью, равную которой можно встретить лишь у некоторых австрийских государей нового времени, он устроил себе какую-то двойную жизнь, наподобие того, как он организовал для обеих частей своего государства двоякое управление. В Генегау он, подобно своим предкам, отправлял правосудие под дубом в Кену а, ломал копья на поединках, устраивал празднества и пиршества в своем Валансьенском дворце; находясь же в Голландии, он посещал плотины и польдеры, занимался работами по осушению болот, раздавал грамоты своим городам, беседовал с купцами, организовал управление в Западной Фрисландии. В каждой из своих территорий у него был особый совет, составленный из местных жителей. Хотя его родным языком был французский, но он предусмотрительно не пользовался им в делах, касавшихся его нижнегерманских подданных[862]. Но в одном из его обоих графств его нельзя было обвинить в том, что он покровительствует чужестранцам за счет туземного населения, изменяет обычаи страны или нарушает ее привилегии. Результаты его правления были одинаково благотворны для Генегау и Голландии. Генегауское дворянство, которому брат графа, Иоанн Бомонский, служил образцом всех рыцарских доблестей и изысканности, поражало тогда тем ярким блеском, которому предстояло вдохновить Иоанна Красивого и очаровать поэтическое воображение Фруассара. Одновременно в Голландии и в Зеландии была создана превосходная система управления, обуздывались буйные нравы дворянства, а города достигли невиданного дотоле благосостояния. Внешняя политика Вильгельма I был не менее успешной, чем его внутренняя политика. Мир,заключенный им в 1323 г. с Людовиком Неверским, оказался в итоге исключительно выгодным для него, ибо взамен пустых устаревших претензий на имперскую Фландрию, он получил реальное и бесспорное обладание Зеландией. С тех пор он всегда — если исключить только его кратковременное участие в коалиции 1333 г. против Брабанта, объяснявшееся его антипатией к герцогу — тщательно избегал вмешательства в распри своих соседей. Соблюдавшийся им нейтралитет, не вызывая ни в ком подозрения, позволил ему повсюду усилить свое влияние и свой авторитет. В 1323 г. он заключил монетный договор с Брабантом, а позже — в 1334 г. — он получил руку Иоанны, наследницы герцогства, для своего сына; он был посредником в кровавой борьбе, происходившей в Льежской области между епископом и городами. Он был интимным советником и союзником графа Гельдернского и мог рассчитывать на преданность епископов Камбрэ и Утрехта. Эта политика нейтралитета, столь плодотворная в Нидерландах, оказалась еще более выгодной во внешних сношениях. Вильгельм был сначала, как и его отец, союзником и почти подзащитным Франции. Эта политика, вызывавшаяся его положением по отношению к Дампьерам, потеряла, разумеется, всякий смысл после мира 1323 г. Не имея оснований бояться больше Фландрии, граф мог отныне обходиться без поддержки французского короля, и, если он остерегался порвать с ним, то во всяком случае с этого времени он обнаруживал по отношению к нему полнейшую независимость. В следующем году германский император, Людовик Баварский, возложил на него деликатную миссию: выяснить точные границы между Францией и Империей вдоль Генегау[863]. Впрочем, к этому времени хорошие отношения между Людовиком и Вильгельмом успели уже утвердиться. В 1314 г. граф присоединился к сторонникам баварца и получил в награду за это торжественный отказ от притязаний на Голландию и Зеландию, завещанных Альбрехтом Австрийским германским государям[864]. Впрочем, с этих пор он ограничивался чисто платонической преданностью, стараясь не быть втянутым в религиозно-политические смуты, потрясавшие тогда Империю[865], и не поссориться ни с папой, ни с Францией из-за дела, интересовавшего его лишь постольку, поскольку оно могло быть выгодным для него. Он продолжал придерживаться этой линии поведения даже тогда, когда Людовик в самый год своего отлучения от церкви (1324 г.) вступил в брак с его дочерью Маргаритой. Это отлучение не только не повредило Вильгельму, но, наоборот, оказалось ему на руку, ибо папская курия, боясь, чтобы он не примкнул к партии своего зятя-императора, стала выказывать ему с тех пор совершенно исключительное благоволение. Так, граф получил в 1327 г. разрешение, необходимое для брака его дочери Филиппины с молодым английским королем Эдуардом III. Этот брак, скрепивший старый союз дома д'Авенов с Плантагенетами, не был простым делом случая. Уже в первые годы своего правления Вильгельм, руководствуясь торговыми интересами голландских городов, должен был завязать тесные сношения с Англией. Поэтому когда королева Изабелла, спасаясь от своего мужа Эдуарда II, появилась на материке со своим сыном, то она прежде всего обратилась к графу Генегаускому с просьбой помочь ей в ее смелой попытке низвергнуть Эдуарда и посадить на трон принца Уэльского. Вильгельм без всяких колебаний обещал ей свою помощь. Он предоставил в ее распоряжение блестящее. генегауское рыцарство и суда своих портов. Известен успешный исход этого предприятия, которым руководил Иоанн Бомонский (сентябрь 1326 г.) и известно также то, как Эдуард III получил корону, отнятую у его отца. Брак с Филиппиной в Йорке (25 января 1328 г.) явился наградой за услуги Вильгельма. С тех пор последний, будучи в одно и то же время тестем германского императора и английского короля, пользовался авторитетом, какого не имел до тех пор ни один из нидерландских государей. Он призван был играть среди них важнейшую роль в начале Столетней войны. Но это великое событие задело не только бельгийских князей. Оно слишком близко затрагивало интересы городов, так что они не могли остаться в стороне и вынуждены были принять в нем участие, вмешавшись в связи с этим еще раз в большую политику.
Глава вторая
Города в XIV веке
XIV век, начавшийся победой фландрских цехов при Куртрэ, закончился их разгромом при Вест-Розебеке (27 ноября 1382 г.). В промежуток между этими двумя датами города продолжали оставаться на политической авансцене в южных Нидерландах. История этих областей сохранила нам наряду с именами князей имена множества вождей и трибунов бюргерства: Николая Заннекина, Вильгельма Де Декена, обоих Артевельде, Иоанна Гейенса, Франца Аккермана, Петера Коутереля, Петера Андрикаса и многих других. Руководители городской политики выступили теперь открыто; они вышли из безвестности, скрывавшей их от нас почти в течение всего XIII в., и это обстоятельство убедительнее всего доказывало усилившееся значение городской политики и все более проявлявшийся ею индивидуализм.
Но города XIV века коренным образом отличались от того, чем они были в предыдущий период. В каждом из них на место власти патрициата стала власть цехов, на место исключительного влияния крупных купцов и рантье (otiosi) влияние ремесленников. Нигде в Европе, за исключением Северной Италии, возникновение и рост городов не были столь быстрыми, как в Бельгии. Точно так же только во Флоренции можно встретить нечто аналогичное тому, чем они стали с этого времени. Как и в могущественной тосканской республике, не только политический вопрос делил здесь партии на враждебные лагеря, но демократическая революция, развертывавшаяся здесь, осложнялась социальной проблемой. В этих рабочих городах извечная проблема, раздирающая промышленное общество, возникла с давних пор, и они пытались по-своему решить ее. Бельгия являлась тогда, более чем когда-либо, опытным полем для Европы. Поражения или победы народной партии встречали более сочувственный отклик, чем где-либо, в этих больших городах, где борьба интересов и страстей происходила среди населения более многочисленного и более пронизанного резкими противоречиями, чем где-либо в другом месте. Казалось, будто общая судьба всех бедных и униженных разыгрывается в волнующей трагедии, ареной которой они являлись. И нетрудно понять тот страстный интерес, с каким во Франции Этьен Марсель, а затем — парижские и руанские «Maillotins» следили за перипетиями восстания гентцев против Людовика Мальского, а также и то, что кельнские ткачи немедленно переняли режим, созданный победившими льежскими ремесленниками после их торжества в 1393 г. над патрициями[866]. Могучая сила движения, сотрясавшего города, была так велика, притяжение, оказывавшееся им, так сильно, что оно перекинулось даже в деревню и вызвало во Фландрии грозное аграрное восстание, задолго до французской Жакерии и восстания Уота Тайлера в Англии.
Интерес, представляемый бельгийскими городами XIV века, заключается не только в их внутренней истории. Хотя они и растратили бесконечно много сил на ожесточенную партийную борьбу, тем не менее у них все же осталось еще достаточно энергии для того, чтобы бороться со своими сюзеренами и соседями, чтобы господствовать над деревней, чтобы вырвать у своих государей исключительные привилегии и, наконец, чтобы установить в различных территориях политический строй, отводивший исключительное место их влиянию. Они вмешивались даже в общеевропейские дела, и постоянные попытки английских королей обеспечить себе их помощь в борьбе с Францией красноречивее всего свидетельствуют об их могуществе.
Хотя городские революции XIV века повсюду вызывались в основном одними и теми же причинами, однако в различных областях страны они имели свои своеобразные особенности. В Льежской области революция протекала иначе, чем в Брабанте, в Брабанте — иначе, чем во Фландрии; чтобы понять все значение ее, необходимо сначала изучить ее в ее различных проявлениях.
I
Начало демократической эры в нидерландских городах можно датировать с «Брюггской заутрени» (17 мая 1302 г.). Правда, мы уже видели, что и до этого события шла борьба между ремесленниками и патрициями, minores и majores, причем первые вели борьбу во имя завоевания власти, вторые — во имя сохранения ее. Но нигде еще усилия народа не привели к положительным результатам. Неожиданная победа брюггцев над коалицией французского короля с патрициями, и последовавшее тотчас же за этим падение олигархического режима во Фландрии, воодушевило ремесленников других частей Бельгии. Оно внушило им впервые сознание своей силы, и немедленно же в Брабанте и в Льежской области простонародье, точно по приказу, поднялось, охваченное единым порывом[867]. Это восстание имело неодинаковые результаты в Брабанте и Льежской области. Сурово подавленное в герцогстве, оно, наоборот, явилось в епископском княжестве исходным пунктом периода волнений и конфликтов, придающего этой области в истории XIV века почти такой же интерес, как и Фландрии. Валлонская демократия — с берегов Мааса и фламандская демократия — с берегов Шельды раскрывают перед нами благодаря разнообразию своих тенденций и различию своего устройства и среды, в которой они возникли, почти полную картину всех форм городского народного движения в этот период средневековья. Среди бельгийских городов Льеж, как мы знаем, в течение долгого времени выделялся своей совершенно особой физиономией. До конца XIV века, когда стали эксплуатироваться его угольные копи, Льеж не знал крупной промышленности, и торговля его вплоть до того же времени значительно уступала торговле Маастрихта, имевшего возможность благодаря своему более благоприятному положению использовать транзитную торговлю между прибрежными портами и рейнской долиной. Но у Льежа нашлись другие источники для компенсации этих неблагоприятных обстоятельств. Столица обширнейшего диоцеза Бельгии, объединявшая в своих стенах семь соборов, два больших аббатства и бесчисленное множество церквей, Льеж обязан был своей ведущей ролью не природе, а истории. Благодаря клирикам, монахам, тяжущимся жизнь кипела здесь ключом. Правда, она была очень отлична от жизни мануфактурных центров Фландрии и Брабанта, но не менее активна. В стенах Льежа, в отличие от Гента и Лувена, нельзя было встретить тысяч ремесленников, живущих суконной промышленностью[868]; но его купцы всегда имели обширную клиентелу благодаря духовенству и многочисленным, постоянно жившим, в городе иностранцам, и были поставлены здесь в гораздо более благоприятное положение, чем в любом другом месте. Большинство населения составляли ремесленники и лавочники, имевшие свои собственные домики и ведшие независимое существование. На основании этого специфического характера льежской мелкой буржуазии легко сделать соответствующие выводы о характере тамошнего патрициата. Действительно, отсутствие наемных рабочих в Льеже свидетельствует об отсутствии здесь того класса работодателей, из которого складывалась во Фландрии и в Брабанте городская аристократия. Патриции Льежа являлись, скорее, розничными торговцами сукна, подобно германским Gewandschneider, или банкирами, получавшими крупные прибыли благодаря денежным затруднениям церковных учреждений города и епископства, обремененных огромными долгами, как это характерно было для большинства крупных земельных собственников во второй половины Средних веков. Несмотря на скудость наших источников, мы можем предположить с большой вероятностью, что в XIII и отчасти в XIV вв. Льеж был, подобно Аррасу, городом банкиров[869]. В то время как во Фландрии патрициев упрекали в снижении заработной платы и в угнетении рабочих, в епископском городе их обвиняли, главным образом, в финансовых плутнях и в темных ростовщических операциях[870]. С очень давних пор между ними и капитулом св. Ламберта, вокруг которого группировалась остальная часть льежского духовенства, разгорелась открытая вражда. Многочисленность и могущество этого духовенства делали его грозным противником, но к этому присоединялась еще помощь, оказывавшаяся ему мелкой буржуазией в его — то скрытой, то явной — борьбе с эшевенами и знатными родами. Гоксем, этот превосходный хронист, сохранил нам любопытное свидетельство, характеризующее умонастроение немалого числа каноников XIV века. Взвесив достоинства и недостатки «oligarchia» и «democratia», он решительно высказывается в пользу последней, и, несмотря на аристотелевскую форму, в которую он облекает свою мысль, можно полагать, что современные ему события оказали известное влияние на этот вывод. Перед лицом своих противников льежские патриции не остались изолированными. Благодаря компетенции льежского суда эшевенов, простиравшейся, в отличие от того, что было в других городах, на всю территорию княжества[871], они находились в постоянных сношениях с дворянством Газбенгау. Вскоре произошло сближение между патрицианскими семьями города и дворянскими семьями деревни. Это оказалось выгодным для обеих сторон, ибо если благодаря состоявшимся между ними вскоре бракам в рыцарское сословие вошло известное число разночинных семейств, то зато они принесли обедневшей деревенской аристократии богатства городских банкиров и купцов. Общность интересов все более сплачивала этот союз, в результате чего в начале XIV века произошли глубокие изменения в характере патрициата. С этого времени он явно и быстро утрачивал свой городской характер. Его члены переняли нравы и манеры рыцарства[872], приобрели поместья в окрестностях города и ввели множество дворян в состав бюргерства. Их ряды, в отличие от того, что наблюдалось в фландрских и брабантских городах, перестали пополняться за счет разбогатевших ремесленников, и патриции, насколько это было для них возможно, стали сливаться с классом, чуждым городскому населению по своим традициям и образу жизни. Это лишь усилило и без того многочисленные недоразумения между патрициями и «простонародьем». Чем зажиточнее становились цехи, тем невыносимее делалось для них правление родовитых семей. Между патрициатом и народом возникла настоящая классовая ненависть; возраставшее высокомерие одних — непрерывно питало злобные чувства у других, и нужен был лишь подходящий повод, чтобы они прорвались наружу[873]. Союз, заключенный патрициями с дворянством, был далеко не выгодным для них. Благодаря ему они оказались в конце XIII века вовлеченными в войну двух знатных семейств — Аванов и Вару, которая в течение 40 лет захватила все родовитые семьи страны, и под конец привела к почти полному истреблению газбенгауского рыцарства. Таково было положение дел, когда появились известия о фландрских событиях. Тотчас же возникли беспорядки в Гюи, где сместили эшевенов[874]. В Льеже разразились волнения среди цехов, на улицах произошла резня, и простонародье приступило революционным образом к выборам одного из двух бургомистров города[875]. Застигнутые врасплох, патриции не решились оказать сопротивление, чтобы не вызвать и без того угрожавшее восстание. Но они уступили лишь силе, решивши про себя тотчас же восстановить свое исключительное господство в городе, как только возбуждение умов уляжется. Они попытались сделать это во время междуцарствия, последовавшего за смертью епископа Адольфа Вальдекского (13 декабря 1302 г.), который по примеру Гюи де Дампьера был заодно с народом. Не считаясь с соглашением, установленным в 1287 г. между капитулом и городом (Paix des Clercs), они распорядились о взимании «fermete» (фирмы), налога, одинаково ненавистного духовенству и ремесленникам[876], а чтобы досадить своим противникам и резко подчеркнуть свою непримиримую ненависть к демократии, с которой во Фландрии боролись французский король и «leliaerts», они дали своим сыновьям, которым было поручено взимание этого налога, характерное название «детей Франции», pueri de Francia[877]. Эти провокационные выходки закончились жалким крахом. Духовенство и «простонародье» объединились для общего отпора. Первое наложило интердикт на город, а второе — осмелев под влиянием энергичного поведения мясников, взялось за оружие; перед отлучением духовенства и пиками простонародья «богачи» снова капитулировали. Цехи получили право назначать одного из бургомистров и иметь представительство в городском совете. С 1303 г. их имена впервые стали фигурировать в городских списках[878]. Патриции должны были признать, что они недооценили силу своих противников. Они поняли, что им необходимо принять энергичные меры, чтобы вернуть себе утраченные позиции и выдержать борьбу, вспыхнувшую, по примеру столицы, во всех «добрых городах» княжества. В Сен-Троне была организована гильдия арбалетчиков, целью которой было держать народ в повиновении[879]. В то же время аристократическая партия, под влиянием примера союза фландрских «leliaerts» с Филиппом Красивым, постаралась обеспечить себе содействие брабантского герцога с целью «восстановить свое прежнее положение, или даже еще улучшить его по сравнению с тем, что было, когда восстало правящее теперь простонародье»[880]. Она сблизилась также с епископом Теобальдом Барским, который, будучи недоволен растущим влиянием капитула в делах управления, охотно принял их помощь. Таким образом, судьба самого управления страны стала зависеть теперь от исхода конфликта между патрициатом и цехами. Образовались два враждебных лагеря: с одной стороны — капитул и «беднота», с другой — епископ и «богачи», и борьба между ними должна была вот-вот разразиться. Но к моменту начала военных действий с цехами противная сторона заколебалась. Вместо того чтобы вступить в бой, они вступили в переговоры, и мир, заключенный в Воттеме, еще раз подтвердил победу ремесленников (1311 г.). Смерть Теобальда Барского во время экспедиции в Италию германского императора Генриха VII (13 мая 1312 г.) послужила сигналом к столь долго оттягивавшемуся решительному столкновению. Согласно местной традиции, она делала необходимым назначение «мамбура», который должен был управлять страной до избрания нового епископа. Капитул св. Ламберта назначил для исполнения этих обязанностей своего главу — Арнульфа Бланкенгеймского; аристократия же высказалась в пользу графа Арнульфа V Аоозского. Ни поведение «простого народа», ни поведение патрициата, не могло вызывать в этом случае никаких сомнений. Первый тем энергичнее высказался за главу капитула, чем решительнее второй стал на сторону Арнульфа Аоозского. Последнему нетрудно было склонить газбенгауское рыцарство и «богачей» Льежа и Гюи к попытке насильственного переворота. Она произошла в ночь с 3 на 4 августа 1312 г. Пожар, устроенный «богачами» на мясном рынке, явился для их единомышленников, укрывшихся вне городских стен, сигналом к захвату города. Шум и пламя пожара разбудили горожан. Ремесленники ринулись к рынку, между тем как глава капитула собрал в соборе несколько каноников и свою домашнюю челядь, поспешно вооружил их и отправился вместе с ними на помощь народу. Прибытие этого неожиданного подкрепления решило исход дела. Среди каноников многие, подобно знаменитому Вильгельму Юлихскому, принадлежали к дворянству и были знакомы с военным делом. Они стали во главе народных отрядов, которым постепенно удалось оттеснить членов патрицианских семей и дворян к Пюблемонтскому холму. Добравшись до церкви св. Мартина, эти несчастные, избиваемые, истощенные, теснимые со всех сторон горожанами, к которым присоединились крестьяне из окрестностей города и углекопы из предместья св. Маргариты, попытались спрятаться в этой церкви. Но ярость сделала толпу безжалостной. Здание храма подожгли, и в тот момент, когда солнце поднялось над этой «Льежской заутреней», пламя уничтожило церковь, стены которой обрушились на побежденных[881]. Эта катастрофа потрясла партию «богачей». Она отказалась от мести за смерть своих близких и от попыток борьбы — по крайней мере в данный момент — с этим «простонародьем», которое оказалось столь грозным. Заключенный 14 февраля 1313 г. в Англере мир ликвидировал политическую власть патрицианских семей[882]. Отныне, чтобы быть членом городского совета, надо было записаться в какой-нибудь цех. Таким образом, городская конституция стала чисто народной конституцией. Вскоре после Англерского мира епископская кафедра была занята Адольфом Маркским. У нас нет никаких оснований думать, что епископ неискренне признал его, однако едва лишь был заключен этот мир, как между ним и народом вспыхнула война. Было бы большой ошибкой думать — как это постоянно делали, — что война эта была вызвана систематической враждебностью князя к цехам. Что бы ни говорили, но ни Адольф, ни его преемники не обнаруживали первоначально антидемократических (если можно здесь употребить это выражение) принципов. Для них было совершенно безразлично, управляются ли города «богачами» или «беднотой», при условии, конечно, чтобы соблюдались их верховные прерогативы. Они готовы были предоставить горожанам организоваться по своему усмотрению, лишь бы они не выходили за пределы чисто городских интересов. Но как раз эту сферу интересов невозможно было точно отграничить. Княжеская власть и муниципальная власть слишком глубоко отличались друг от друга по своим тенденциям, чтобы их можно было примирить между собой. Территориальное государство, эта хаотическая совокупность разнородных сил, классов и принципов, должно было пройти, до наступления состояния равновесия, через долгий период конфликтов, в которых князья и города неизбежно должны были играть главную роль. Таких конфликтов было немало в то время, когда во главе городской власти стояли патриции. Но они стали особенно серьезными с тех пор, как цехи захватили власть. Между городами, где все должности были выборными, где все граждане принимали участие в общественных делах, а постоянной заботой всех были исключительные и непосредственные выгоды города, и князем, который черпал свой авторитет в своей «верховной власти», окружал себя тайным советом из рыцарей, юристов и безответственных чиновников, и который, в силу своего происхождения, а также своих верховных прерогатив, должен был считаться одновременно и с интересами своего рода и с интересами дворянства, духовенства и горожан, трения были неизбежны, и из этих трений неизбежно должна была родиться война. Тем не менее война эта вначале не была вовсе войной за принципы. Лишь постепенно резкое столкновение двух сил сменилось борьбой сознающих свою цель партий, а патриции и дворяне, объединившиеся вокруг князя в общей оппозиции ко все более агрессивной городской демократии, усвоили к началу бургундской эпохи чисто монархический идеал. Но к тому времени, когда началось правление епископа Адольфа Маркского, это было еще делом далекого будущего. Никогда еще положение Льежской области не было более затруднительным, чем в момент вступления нового епископа в столицу (рождество 1313 г.). Действительно, революция городов не прекратила борьбы Аванов и Вару, продолжавших яростно истреблять друг друга. Адольф тщетно пытался заставить их заключить мир. Никто не считался ни с его авторитетом, ни с авторитетом его чиновников, которые и без того как иностранцы были ненавистны большинству населения, и он сам оказался вынужденным принять участие в этой борьбе. Его вмешательство в пользу Вару заставило Аванов стать на сторону городов, и таким образом распря родовитых семей превратилась во всеобщую гражданскую войну. Возникший вследствие этого хаос нашел свое отражение в рассказах хронистов того времени. Грабежи, убийства, акты мести, всякого рода жестокости, которыми пестрит их повествование, скрывают от нас ход событий, подобно дыму пожара, через который можно различить лишь смутные очертания и неясные движения. Города широко воспользовались этими беспорядками для посягательств на епископские «прерогативы» («hauteurs»). Только страшный голод 1315 г. принес некоторое успокоение стране, вырвав оружие из рук истощенных бойцов[883]. Впрочем, Фекский мир, заключенный 18 июня 1316 г.[884], был двусмысленным компромиссом: пытаясь удовлетворить одновременно и князя, и города, он не принес разрешения ни одного вопроса. Он дал лишь короткое перемирие, и после уборки урожая все спорные вопросы были подняты вновь. Безнаказанность делала города более смелыми. В последовавшие за этим годы они сочли для себя все позволенным. Льежцы прогнали своего «mayeur», присвоили себе верховную юрисдикцию, конфисковали епископские доходы, завладели «werixhas», пустырями, которые были расположены в пригородах и обладание которыми было очень ценно, благодаря угольным копям, вступившим тогда в эксплуатацию[885]. Они даже навербовали армию наемников. Большинство «добрых городов» последовало примеру столицы. Замки епископа были повсюду осаждены, его чиновники изгонялись или преследовались народом. Множество жителей сельских местностей записалось в число горожан, освобождаясь таким образом от юрисдикции своих сеньоров. Положение стало еще более грозным, когда на берегах Мааса узнали о восстании приморской Фландрии против Людовика Неверского[886]. Наложенный на столицу интердикт и эмиграция капитула св. Ламберта не дали никаких результатов. Епископ имел все основания опасаться, что вот-вот разразится настоящая революция и на развалинах существующего строя создастся новое общество, в котором власть князя перейдет в руки повсюду победоносных ремесленников[887]. Он бежал в Гюи, население которого, бывшее в ссоре с Льежем, приняло его в свои стены и оказало ему содействие, столь же ценное, как и помощь, оказанная в это же время Гентом графу Фландрскому. Епископ стал умолять папу и французского короля выступить против торжествующей «грубой черни», призвал на помощь своих германских родственников, Адольфа II, графа Маркского, Регинальда II, графа Гельдернского, Адольфа VI, графа Бергского, Гергарда IV, графа Юлихского, собрал вокруг себя рыцарство диоцеза и брабантских дворян, жаждавших сразиться с простонародьем, которое, казалось, намеревалось ниспровергнуть всю социальную иерархию. Разгром при Касселе (23 августа 1328 г.) восставших фландрцев побудил его, наконец, рискнуть вступить в бой. 25 сентября 1328 г. он встретил армию Льежа и «добрых городов» около Гессельта[888] и нанес ей решительное поражение. Таким образом, оба первых крупных конфликта в Нидерландах между князьями и городами закончились почти в одно и то же время победой первых. После битвы при Касселе были восстановлены во всем их объеме верховные права графа Фландрского, а после битвы при Гессельте — верховные права епископа Льежского. Так оно осталось и впредь. Льежу, как и Брюгге и Генту, не удалось превратиться в независимую республику. Ни один из этих городов не сумел — в отличие от того, что так часто бывало в Германии — добиться звания вольного города. Несмотря на вековые усилия, они не сумели сбросить с себя княжеской власти, от которой они пытались освободиться. Они не стали государствами в государстве; они остались частью территориальных княжеств, из которых они хотели вырваться; и если они были наиболее активными и наиболее энергичными «членами» их, если они завоевали в них первое место и преобладающее влияние, если их автономия и их свобода действий резко выделялась по сравнению со все усиливавшейся покорностью французских городов короне, то, по существу, этим дело и ограничилось. Они заняли промежуточное положение между германскими «freie Reichstadte» и коммунами Франции, находившимися под неусыпным контролем своих прево и бальи. Их могущество и богатство легко объясняет, почему они избегли участи последних. Но почему им не удалось добиться положения первых? Почему, например, Льеж, отнюдь не уступавший численностью своего населения и своим богатством епископским городам Германии, не добился той «иммедиатизации», которую получили столь многочисленные германские города? На первый взгляд, вопрос этот кажется очень сложным, но на него нетрудно ответить. Действительно, если какая-нибудь муниципальная республика обладает независимостью по отношению к территориальному государю, то это еще не значит, что она пользуется абсолютной независимостью. Она может освободиться от власти своего графа или своего епископа, лишь признав непосредственную власть верховного сюзерена. Немецкий вольный город был свободен лишь в том смысле, что он заменил близкую, и тем самым активную власть своего сеньера, далекой и тем самым очень слабой властью императора. Но в XIV веке император стал для Бельгии чужестранцем. О его существовании, так сказать, забыли; к его вмешательству и не думали вовсе апеллировать. Это доказывает убедительнейшим образом поведение льежских городов в рассматриваемую эпоху. Они обращались с бесплодными жалобами к папе вместо того, чтобы призвать Адольфа Маркского к суду Людовика Баварского, который, будучи врагом его[889], не упустил бы случая высказаться в их пользу; если Людовик не оказал бы им реальной помощи, то он дал бы им во всяком случае грамоты, на которые они могли бы ссылаться в оправдание своего неповиновения[890]. Но они пренебрегли единственным авторитетом, который мог бы дать им юридические основания для сопротивления притязаниям епископа; они и не подумали использовать единственного представлявшегося им шанса стать вольными городами. Объясняется это, по-видимому, тем, что у них исчезло сознание их принадлежности к Империи и что отныне вся их политическая жизнь протекала в узких границах княжества. Но такое положение вещей, которое, впрочем, в довольно отличной форме мы встречаем и во Фландрии, лишило их всяких шансов на победу. Преследуя только свои выгоды, они оказались вынужденными опираться лишь на свои собственные силы. Узость их муниципальной исключительности обрекла их на изолированность. Было слишком очевидным, что их победа привела бы к невыносимому преобладанию их интересов, принесла бы все в жертву их свободе и причинила бы ущерб всем, кроме их самих. Поэтому с самого же начала борьбы не только дворянство, являвшееся в противовес бюргерству городов воплощением сопротивления деревни, но и капитал, некогда столь часто поддерживавший их, оказались на стороне епископа. Они были таким образом побеждены коалицией интересов, которым они угрожали и которые объединились против них. Их партикуляризм был сокрушен другими партикуляризмами. Их борьба с епископом была в действительности борьбой между ними и территориальным государством, и в конечном итоге победило последнее. Действительно, как ни плох был Фекский мир, заключенный в разгар гражданской войны, но он все же явился исходным пунктом конституции страны. Победоносный епископ не осмелился нарушить его; он удовольствовался тем, что не позволил городам получить больше привилегий. Мир был торжественно ратифицирован через несколько недель после битвы при Гессельте, 4 октября 1328 г.[891] Принятые против мятежников постановления, известные в истории под названиями Вигоньского мира, Флонского мира и Женеффского мира[892], заслуживают того, чтобы в нескольких словах остановиться на них. Они ликвидировали, разумеется, покушение Льежа на епископские «прерогативы», они отняли у него верховную юрисдикцию, заставили его вернуть «werixhas», ограничили чрезмерные привилегии, связанные с правом гражданства, и затруднили впредь вступление в число «внешних горожан» (лиц, живущих вне города, но пользующихся правами горожан). Но если в них ясно сквозит цель ограничить автономию города и сделать ее совместимой с верховной властью князя, то не следует думать, будто в них можно найти малейший намек на стремление восстановить старый аристократический режим, удовлетворить устарелые притязания патрициата, отдать «бедноту» под опеку «богачей». Никто не помышлял об уничтожении равенства гражданских прав; ни одна из экономических или юридических привилегий патрициата не была восстановлена. Удовольствовались отменой непосредственного управления города цехами. Последние продолжали существовать в качестве экономических корпораций, но они перестали составлять политические группировки и избирательные коллегии. Их старшины не заседали больше в городском совете. В 1330 г. Женеффский мир сосредоточил муниципальную власть в руках бургомистров, присяжных и советников, которые отныне одни только получили право созывать горожан на пленарные заседания. Все должности были поровну распределены между «беднотой» и «богачами», а на место совета, состоявшего раньше из «старшин» («gouverneurs») цехов, стал новый совет, состоявший из 80 лиц, избранных в шести округах (vinaves) города[893]. Надо заметить, что членов совета назначали бургомистры и присяжные, и что они же одни обладали правом по своему усмотрению «собирать всю городскую общину», т. е. созывать общее собрание всех граждан. Произведенная реформа городского управления была, как мы видим, зрелым плодом долгих размышлений и руководилась очень определенными политическими соображениями. Целью ее было предотвратить в будущем новые восстания. Для этого она путем уничтожения цехов как политических организаций ослабляла наиболее многочисленную часть горожан-ремесленников, а в качестве дополнительной гарантии она заставляла их разделить с потомками старых родовитых семей все городские должности. Но ее постигла та же участь, что и многочисленные другие попытки, испробованные в XIV веке с той же целью. Хитроумные препоны, ставившиеся ею натиску народных сил, были слишком хрупки, чтобы долго сдерживать их. Политическая жизнь пробудилась среди ремесленников, подобно тому, как два века тому назад, она пробудилась среди купцов «portus'a», и неудержимо стремилась к полному своему расцвету. Каждый цех был слишком заинтересован в управлении городом, чтобы предоставить его целиком городскому совету. Экономическая структура города, указывавшая каждой профессии ее роль, ее привилегии, ее особую регламентацию, объединявшая всех их в одно моральное целое, в одно коллективное существо, все члены которого были солидарны друг с другом, повелительно требовала аналогичного устройства в политической области. Как бы ни соперничали друг с другом различные цехи, стремясь каждый лишь к своей выгоде и не думая об интересах своих соседей, они не могли не действовать сообща, чтобы избавиться от навязанного им нового положения. Если в целом масса ремесленников лишена была того, что теперь мы назвали бы классовым сознанием, то зато каждая из составлявших ее многочисленных групп повиновалась мощному корпоративному духу, каждая глубоко чувствовала свое собственное унижение, и из совокупности этих частных недовольств необходимым образом вырастала общая оппозиция. Бургомистр «бедноты», скорняк Петер Андрикас, один из тех первых бюргерских политиков, множество примеров которых дает нам история XIV века, стал во главе оппозиции. В 1331 г. вспыхнуло восстание, которое, однако, потерпело неудачу, так как оно было преждевременно раскрыто. Но епископ увидел в этом грозный симптом. Он решил, что соглашение от 1330 г. предоставляет еще слишком много автономии ремесленникам и что необходимо изменить его в сторону большей суровости. 10 июня 1331 г. был провозглашен Воттемский мир, который народ назвал «законом ропота»[894]. Он еще строже, чем раньше, подчинил цехи власти князя. Избираемые ими старшины были заменены «wardeurs» (надзирателями), назначавшимися коллегией эшевенов, которой поручено было пересмотреть в два месяца уставы всех ремесленных братств. Были усилены уголовные наказания для тех, кто самочинно созвал бы народное собрание или ударил бы в набат; установлены были уголовные преследования всякой возможной попытки «на словах или на деле» вызвать «мятеж в городе». Это новое суровое постановление имело не больше успеха, чем сравнительно умеренное предыдущее. Цехи продолжали, несмотря ни на что, неизменно добиваться своего вмешательства в ведение городских дел. В 1343 г. они наконец добились успеха — Сен-Жакская грамота допустила участие их «старшин» в городском совете, предоставила им выбор «присяжных бедноты» и установила, что в будущем достаточно требования двух или трех цехов, чтобы заставить бургомистров созвать пленарное собрание горожан[895]. С тех пор Льеж обладал в течение ряда лет конституцией, которую брабантские города заимствовали у него в конце XIV века. Цехи получили доступ к управлению городом, но они управляли им не одни. «Богачи» продолжали делить власть с ними; они назначали одного из двух «бургомистров», половину присяжных и половину советников. Но. система, которая могла долго держаться в Лувене и Брюсселе, была в Льеже обречена на более или менее быстрое исчезновение. Дело в том, что равновесие, якобы устанавливаемое ею между обеими частями городского населения, было мнимым равновесием. После резни 1312 г. льежские патриции потеряли всякое значение в городе. Все более и более растворяясь в мелком дворянстве, они стали почти совершенно чужды городским интересам. В 1330 г. их роль совсем сошла на нет, и противовес, которым они согласно тексту соглашений, должны были быть по отношению к ремесленникам, оказался иллюзорным. Они и сами это поняли и в конце концов в 1384 г. добровольно отказались от этого раздела городской власти, который стал для них бесполезной обузой, пустой затратой сил и тягостной повинностью[896]. С тех пор и вплоть до великих войн с Бургундской династией власть в городах находилась исключительно в руках цехов. Политическими правами пользовался тот, кто был внесен в их списки. Городской совет, присяжные которого ежегодно назначались ими и находились под контролем их старшин, представлял теперь только административный механизм, работу которого они регулировали по своему усмотрению. Оба бургомистра, избиравшиеся из состава этого совета, были исполнителями воли народа, ибо все важные вопросы должны были обсуждаться 32 цехами и решаться в каждом из них большинством голосов, путем «рецессов» («sieultes»). В этой конституции, самой демократической из всех, которые Бельгия имела в Средние века, поражает, может быть, не столько принцип прямого народовластия, сколько абсолютное равенство, предоставлявшееся каждому цеху. В этом городе, в котором ни одна отрасль промышленности не была настолько развита, чтобы оказывать исключительное влияние, как это было с суконной промышленностью во Фландрии и Брабанте, все промышленные корпорации обладали одинаковыми правами. Каждый цех имел двух «старшин», точно так же каждый цех посылал двух присяжных в совет и при «рецессах» каждый из них имел по одному голосу. Льежское конституционное устройство объясняется экономическими и социальными особенностями города. Ошибочно было бы видеть в нем — как это сделал в своем знаменитом труде Мишлэ — проявление какого-то особого валлонского демократического чувства[897]. Чтобы убедиться в этом, достаточно принять во внимание, что в другом валлонском городе, Динане, преобладающее влияние цеха медников и наличие класса богатых купцов помешали введению эгалитарной системы, существовавшей в столице, и повлекли за собой создание организации, в точности напоминающей организацию крупных фландрских городов, занимавшихся суконной промышленностью[898].II
Брожение, вызванное в народных массах победой брюггских цехов ощущалось в Брабанте так же, как и в Льежской области, но только с меньшей силой и не так долго. В герцогстве, расположенном между Фландрией и постоянно раздираемом гражданскими войнами епископским княжеством, не наблюдалось такой интенсивной деятельности, и учреждения его развивались более нормальным образом. Этот факт тем более замечателен, что, на первый взгляд, могло бы казаться, будто покрытое подобно Фландрии мануфактурными городами оно должно было бы разделить участь последней и пройти через те же смуты. Наше удивление еще возрастает, когда мы узнаем, что брюссельские и лувенские ткачи и валяльщики питали к патрициям такую же ненависть, как их брюггские, ипрские и гентские собратья[899], и что они прилагали столь же энергичные усилия, чтобы вырвать у них власть. Их восстание в 1302 г. связано было с многочисленными. предыдущими восстаниями и отличалось от них лишь своей внезапностью и размерами[900]. И однако после кратковременной вспышки старый порядок снова был восстановлен. Разбитые повсюду ремесленники не сумели завоевать политических прав. В 1306 г. они оказались под более тяжелым, чем когда-либо, и истинно тираническим гнетом. В Аувене им было запрещено иметь оружие[901]; в Лео им запретили op haer lijf ende op haer goed (под страхбм смертной казни и лишения имущества) собираться больше чем вчетвером[902]; в Брюсселе смертная казнь угрожала всем тем рабочим суконной промышленности, которые после пожарного сигнала не вернулись бы в свои предместья и оказались бы в стенах города[903]. Повсюду власть патрициев была усилена новыми мероприятиями. Герцог обязал даже своих чиновников оказывать им впредь помощь с оружием в руках в случае мятежа[904]. Тогда, наконец, «geslachten» (знатные роды) заняли то положение, которое они сохранили затем за собой до конца века и за ними окончательно закреплена была монополия избрания эшевенов. Таким образом в то время, как в других местах патрициат вышел побежденным и искалеченным из борьбы с «простонародьем», в Брабанте он почерпал в ней прилив новой энергии. В Льеже, как и воФландрии, нередко можно было видеть, как князь помогает в интересах своей политики народной партии; в герцогстве же, наоборот, государь, неизменно враждебный требованиям ее, никогда не колебался в выборе своей линии поведения. Иоанн И, столь мирный по отношению к своим соседям, тотчас же взялся за оружие, как только вспыхнуло восстание цехов 1 мая 1303 г. и разгромил брюссельские цехи на равнинах Вильворда. И невозможно сомневаться относительно обуревавших его чувств, когда узнаешь, что после своей победы он отдал приказ зарыть живыми наиболее скомпрометированных ткачей и валяльщиков, отряды которых стали здесь, как и во Фландрии, во главе народных масс[905]. Нетрудно объяснить причины этого поведения. Прежде всего надо принять во внимание позицию патрициата по отношению к герцогу. В Льежской области родовитые семьи сблизились с епископом лишь после своего внезапного поражения, во Фландрии они обратились за помощью против ремесленников к французскому королю и заставили тем самым графа опереться на последних. Но брюссельские и лувенские патриции с самого же начала увидели в государе своего естественного защитника против оппозиции, о силе которой и внушаемом ею ужасе красноречиво свидетельствовали средства, примененные для борьбы с ней. Чем больше возрастало промышленное благосостояние городов, чем больше разрастались вокруг их стен предместья ткачей и валяльщиков, тем большую враждебность к себе чувствовали патриции[906] и тем настоятельнее они нуждались в покровителе. Но никакого другого покровителя, кроме герцога, у них не было. Поэтому чтобы добиться его помощи, они выказывали ему абсолютную покорность и лояльность и охотно предоставляли при всяком случае в его распоряжение свои силы и свое имущество. Такое положение вещей было слишком выгодно для герцога, чтобы он отказался от преимуществ, которые оно ему давало. Он принял союз с родовитыми семьями, заплатив им за это помощью против ремесленников. С тех пор сохранение аристократического режима стало для него гарантией верности его городов, и из политических соображений он старался защищать его, пока только мог. Впрочем, длительное существование этого режима зависело не от одной только доброй воли герцога. Разумеется, Иоанн II и Иоанн III оказали патрициату крупные услуги, но они не в состоянии были бы предотвратить падение его, если бы он сам по себе не обладал внутренней устойчивостью и значительной силой сопротивления. В отличие от льежских родовитых семей, которые с начала XIV в. стали растворяться в дворянстве, хиреть, беднеть и играть в городском управлении все более незначительную роль, брабантским «geslachten» в течение долгого времени удалось сохранить свою численность, могущество и богатство. Их политическая роль в точности соответствовала их экономическому положению. Входившие в состав их семьи были не только семьями земельных собственников, живших за счет ренты со своей земли, но и вполне заслуживавших то название праздных бездельников (otiosi, lediggangers), которое народ дал во Фландрии в XIII веке городской аристократии. Промышленность давала всем им возможность компенсировать непрерывное уменьшение доходов с земли и сохранить благодаря активному участию в городской жизни свое влияние и свой авторитет. Впрочем, брабантский патрициат не составлял замкнутого класса, недоступного для «новых людей». Пустоты, возникавшие в нем благодаря вымиранию отдельных родов, непрерывно пополнялись снизу, за счет ассимиляции разбогатевших плебеев[907]. Таким образом свежие силы непрерывно питали жизненную энергию родовитых семей. В Брюсселе в 1375 г. члены семи «geslachten» (знатных фамилий), имевшие от роду более 28 лет, насчитывали 245 глав семей[908]2. При помощи гильдии патрициат пускал свои корни в массу горожан и черпал в ней питавшие его соки. В то время как фландрские гильдии, ставшие эгоистическими кликами и заботившиеся только о сохранении своих устарелых привилегий, были сметены демократической революцией или сохранились лишь в небольших городах, в Брабанте они обнаружили замечательную живучесть в течение всего XIV века. Они были здесь существенной частью городского строя. Они отнюдь не являлись здесь бесплодным пережитком прошлого, но, наоборот, в течение этого периода непрерывно создавались новые гильдии: в Диете — в 1316 г., в Льерре — в 1326 г., в Герентальсе — в 1385 г.[909] Брабантская торговля, более консервативная, чем фландрская, менее активная, чем последняя, и в особенности не подвергавшаяся столь резким изменениям, под влиянием успехов мореплавания дала возможность старому учреждению приспособиться к новой обстановке. Гильдии отказались от странствующей торговли, ради которой они некогда были созданы, и изменили cвoю структуру, ограничившись только областью промышленности. Они своевременно отрешились от исключительности, столь характерной во Фландрии для Лондонской ганзы и вызвавшей ее падение. Правда, они исключили из своей среды рабочих, но разбогатевшим ремесленникам ничего не стоило записаться в них. Они объединяли в одну и ту же группу, не считаясь с их происхождением, всех тех, кто обладал известным капиталом, так что патриции и плебеи встречались здесь на общей почве, которую гильдии предоставляли для их деятельности. Эта почва ограничивалась почти исключительно суконной промышленностью. Брабантские гильдии XIV века носили название Lakengulde, Broederschap van der lakengulde; они объединяли всех работодателей, всех предпринимателей, на которых работали ткачи и валяльщики; они же устанавливали заработную плату, наблюдали за мастерскими и регулировали на рынке продажу готовых тканей[910]. Характер, который они придали экономической организации городов, в точности соответствовал внешнему виду последних. Бросавшийся повсюду в глаза контраст между жалкими рабочими предместьями и центральной частью буржуазного города, окруженной мощными стенами с крепкими запорами на воротах, проявлялся столь же резко в строгом подчинении наемных ремесленников предпринимательской гильдии. Пока продолжался расцвет суконной промышленности, благосостояние гильдий и тем самым патрициата обеспечивало сохранение аристократического строя. Этим объясняется также, почему ремесленные корпорации добились автономии в Брабанте значительно позже, чем во Фландрии, или в Льежской области[911]. Но упадок брабантской промышленности повлек за собой необходимым образом падение этой политической системы. В конце XIV века обнаружились первые признаки этого упадка, являвшегося результатом конкуренции с большими городами — мелких городов и деревни, а позже — английской конкуренции. К этому же времени относится начало коренного преобразования городских конституций герцогства. Уже в 1385 г. брюссельская гильдия находилась в состоянии полного разложения[912], и нет никаких сомнений в том, что аналогичное явление наблюдалось в лувенской гильдии еще раньше. Ремесленники не преминули воспользоваться создавшимся положением. Ослабевшие родовитые семьи —,подозрительные к тому же в глазах герцога Венцеслава, чуждого традициям своих предшественников, — не могли после этого сохранить влияние, не соответствовавшее больше их реальному значению. Однако они продолжали яростную и отчаянную борьбу с ремесленниками, которых они в такой же мере презирали, как те их ненавидели. Но после долгой и упорной борьбы, не раз обагрявшей кровью улицы городов и прославившей имя Петера Коутереля, они должны были примириться с неизбежным. В 1378 г. Лувен получил конституцию: вдохновляясь, очевидно, той конституцией, которую Сен-Жакская грамота дала Льежу, она поделила управление городом между патрициатом и цехами[913]. Интересно, однако, констатировать, что в льежский образец здесь был внесен ряд поправок. Несмотря на свой упадок, суконная промышленность сохранила еще очень большое значение. Она наложила слишком глубокий отпечаток на городское население, чтобы не получить своего отражения в новых учреждениях. Между тем как в Льеже всем цехам была предоставлена равная доля в городских делах, в Лувене непатрицианские члены гильдии приобрели особое значение благодаря тому, что им предоставлено было право составлять вместе с членами родовитых семей списки кандидатов в эшевены, и им одним дано было право назначать патрицианских присяжных. Что касается цехов, то, не составляя отдельной политической корпорации, они были разделены на десять групп или «наций», каждая из которых посылала в городской совет одного присяжного. Таким образом, лувенская конституция, вдохновлявшаяся, очевидно, Сен-Жакской грамотой, предоставляла, однако, значительные отличия от льежской и, скорее, приближалась по своей трехчленной структуре к тому политическому типу, которые можно было встретить во всех промышленных городах Бельгии как в Динане, так и во Фландрии. Быстрый упадок суконной промышленности сделал вскоре роль гильдии бесполезной. Когда в 1421 г. Брюссель, в свою очередь, получил новое городское устройство, то гильдии не было отведено в нем никакой роли[914]. Патрициат и девять «наций», обнимавшие все цехи, распределили между собой поровну городские должности и чины. Но по принятой тогда конституции, установившей роль и привилегии каждого «члена», видно, что эра великих восстаний закончилась и что ремесленники потеряли ту силу и энергию, многочисленные доказательства которой они дали в XIV веке. Во всех параграфах закона 1421 г. ясно проглядывает забота установить одинаковым образом полномочия групп, взаимная зависть которых друг к другу известна и в отношении которых исходят из того, что их число и роль останутся уже неизменными. Когда в 1422 г. защита городских стен была распределена между семью «нациями», то для удовлетворения самолюбия остальных двух наций пришлось поручить им попеременный выбор одного из двух «caudsiedemeesteren» (смотрителей городских мостовых)[915]. Брабантские цехи слишком поздно добились участия в политической жизни, чтобы играть в ней значительную роль. Они устали уже от борьбы, когда получили политические права, которых так долго лишал их патрициат. Но совсем печально сложилась участь последнего. Вынужденный разделить городскую власть с цехами, он после этого превратился в олигархию, которая упорно не допускала притока свежей крови и скоро совсем зачахла. В Брюсселе в 1477 г. у родовитых семей были на время отняты политические права, а в 1532 г. Карл V окончательно лишил их последних политических прерогатив, ибо в это время оказался всего только двадцать один патриций, бывший в состоянии фигурировать в списке кандидатов в эшевены[916].III
Брабантские города со своими родовитыми семьями и гильдиями; сохранились до конца XIV века в том виде, который фландрские города представляли в XIII веке. Их устройство продолжало покоиться на своих старых патрицианских основах, между тем как во Фландрии последние были окончательно уничтожены и приходилось строить наново все здание. Над ним работали в течение ста лет, непрерывно разрушая, починяя и наново строя и все-таки не придав ему в конце концов устойчивости и гармонии. Но история этих попыток и чрезвычайно поучительна, и захватывающе интересна. Фландрская демократия, не менее активная, чем льежская, прошла через более трагические испытания, подняла гораздо более сложные вопросы и пыталась решить гораздо более трудные проблемы. Эволюция, приведшая цехи к власти в епископском княжестве, протекала на отчетливо отграниченной территории и привела в движение лишь немногие факторы. Наоборот, во фландрских городах значительно большей силе имевшихся там налицо политических и социальных групп, соответствовали не только разнообразие и грандиозность событий, в которые они были втянуты, но и сложность взаимоотношений этих групп и различие их интересов и устремлений. Поэтому чтобы понять развернувшиеся здесь конфликты, необходимо произвести несколько более подробный анализ населения этих больших городов. То, что нам уже известно об их соседях в Брабанте и на берегах Мааса, позволит нам путем сопоставления лучше понять их своеобразие и особенности. По мере приближения к морскому побережью, можно заметить, что экономическая жизнь средневековой Бельгии становится все более интенсивной и широкой. Льежская область, за исключением Динана, обладала лишь местной промышленностью. Но, выйдя за пределы Газбенгау, мы вступаем в область крупных мануфактурных центров, промышленность которых питалась экспортной торговлей. Здесь следует различать две особые группы: Брабант и Фландрию. Брабант был более удален от моря и располагал менее обширными рынками сбыта, имея только одну гавань, Антверпен, которому тогда еще далеко было до соперничества с Брюгге. Экспортная торговля Брабанта велась преимущественно сухопутным образом. Его основными рынками были на востоке — Кельн, с которым его связывала маастрихтская дорога, а на юге — Франция, от которой он был отделен лишь Генегау. Несмотря на упадок шампанских ярмарок, брабантцы не переставали посещать их в течение всего XIV века. В то же время они пользовались столь частыми в эту эпоху перерывами в торговле между Францией и Фландрией, чтобы обеспечивать дорогими материалами Париж[917] и снабжать здесь товарами итальянских купцов, отправлявших их затем в Неаполь, Константинополь и Фамагусту[918]. Иную картину представляла Фландрия. Здесь старые торговые дороги были заброшены в начале XIV века. В противоположность брабантской сухопутной торговле, Фландрия пользовалась главным образом морскими путями, и ее вывоз простирался далеко, захватывая все европейские порты[919]. Взимавшаяся в Звине пошлина с товаров, значительная уже в предыдущем веке, возросла с поразительной быстротой. Из трех больших флотов, ежегодно отправлявшихся венецианской республикой, один плыл прямо в Слейс. Его галеры встречали там гамбургские, любекские и данцигские «coggen» (когги), английские, гасконские, португальские, каталонские корабли, и ни одно из этих судов, выгрузив свои товары, не покидало гавани, не заменив их полным грузом разных тканей. Фландрские купцы, которым оставалось только ожидать чужестранцев, приезжавших со всех стран к ним, стали оседлыми. Они уже не отправлялись на ярмарки, они отказались путешествовать и плавать, как это они делали во времена Лондонской ганзы. Их прежняя активная торговля стала пассивной, но прибыли их от этого только увеличились. Во всех приморских портах, От финского залива до Адриатического моря, фландрские сукна пестрели в лавках розничных торговцев, или же отправлялись в глубь страны и проникали в самые отдаленные углы, куда доходили еще последние волны экономического движения. Фландрские мастерские, находясь в самом центре этого движения, беспрестанно втягивавшего их изделия в общий товарооборот, не должны были заботиться о сбыте их, ибо до конца столетия спрос на них при нормальных обстоятельствах был всегда значительно выше предложения. Монополия несравненной по высоте техники, которой они обладали вместе с брабантскими мастерскими, обеспечивала им успешный сбыт их продуктов на всех рынках[920]. До того времени, когда Англия начала сама перерабатывать шерсть, которую она им доставляла, им нечего было опасаться конкуренции; единственные кризисы, которые им предстояло испытать, были кризисы не экономические, а политические. Эта могучая жизненная энергия не могла не повлечь за собой глубоких преобразований в торговых учреждениях. Гильдии и ганзы, созданные в то время, когда шампанские ярмарки являлись рынком сбыта для фландрских сукон, оказались не в состоянии сохранить за собой монополию экспортной торговли, охватывавшей теперь почти всю Европу. Со своими привилегиями, своей исключительностью, отсутствием гибкости, они представляли теперь устаревшие организации, фатально обреченные на гибель. Перед новыми требованиями времени они очутились в том же положении, в каком оказались цеховые корпорации с наступлением эры капиталистической мануфактуры[921]. Их гибель была тем более неизбежной, что они тесно связали свою судьбу с судьбой того самого патрициата, разгром которого принесло с собой начало XIV века. Они были унесены вместе с ним катастрофой 1302 г. Впрочем, последняя явилась лишь завершением длинного ряда народных волнений, которые, начиная с первой половины XII века, становились все более грозными и сильными. Иностранная оккупация, неудача Шатильона, союз французского короля с патрицианскими «leliaerts» против ремесленников, дали лишь повод для торжества партии, которая раньше или позже призвана была при всех обстоятельствах сыграть первостепенную роль в истории городов. Это была партия ткачей. Именно она уже с давних пор была вдохновительницей и руководительницей в больших городах оппозиции патрициату. Из ее рядом вышел в 1302 г. вождь Петер Конинк, вокруг которого сгруппировались все недовольные. Наконец, после Атисского мира, она не только дала лучших бойцов, сражавшихся с французскими войсками на полях при Куртрэ и Монс-ан-Павеле, но и захватила власть в городах во время волнений, вызванных войной, и пыталась преобразовать городское управление в соответствии со своими планами и интересами. Ткачи, получив поддержку других ремесленников суконной промышленности — валяльщиков, красильщиков, стригалей, и т. д., — стремления которых совпадали в это время с их собственными, и увлекши за собой многочисленную группу мелких цехов, радовавшихся свержению эгоистического патрициата, который до этого держал их в стороне от участия в политической жизни, — ткачи воспользовались своей популярностью, чтобы осуществить программу реформ, руководившуюся, по-видимому, потребностями и стремлениями рабочих крупной промышленности. Действительно, эта программа шла значительно дальше обычных требований ремесленников. Она не ограничивалась тем, что предоставляла им место в городском управлении, вручала им контроль над городскими должностями, давала им представительство в городском совете и уделяла каждому из них его долю политического влияния; она стремилась, сверх того, внести радикальные преобразования в самую организацию труда и изменить, в значительной степени, экономическую жизнь городов. Этим она отчетливо выдает своих творцов, выступая перед нами, как дело рук совершенно особой социальной группы[922]. В то время как, например в Льеже, результатом демократической революции явился сперва раздел власти между патрициями и ремесленниками, а затем — отнятие ее у первых и передача вторым, причем ни цеховые порядки, ни экономический строй, на котором они покоились, не подверглись никаким изменениям, во Фландрии мы видим совершенно иную картину. Дело в том, что — как мы уже указывали в первой части предлагаемого труда — цехи, взявшие здесь руководство движением, не были такими же цехами, как все остальные. Хотя промышленные объединения ткачей и валяльщиков имели, на первый взгляд, тот же вид, что и объединения, например булочников, кузнецов или ювелиров; хотя в них существовала та же иерархия учеников, подмастерьев и мастеров; хотя их члены тоже были защищены от конкуренции посторонних рабочих; хотя они точно так же указывали каждому его права и его обязанности; хотя они проникнуты были тем же корпоративным духом и теми же чувствами солидарности — тем не менее нетрудно заметить, что они радикально отличались от них во многих отношениях. Действительно, в отличие от других ремесленников, мелких независимых предпринимателей, работавших на местный рынок и продававших без помощи посредников своим городским или пригородным клиентам товары, изготовленные из принадлежавшего им сырья, рабочие фландрской суконной промышленности не были в состоянии сами сбывать изготовлявшиеся ими ткани неизвестным им и далеким покупателям. Обрабатываемая ими шерсть доставлялась им купцами, и к этим же купцам она возвращалась в виде тканей, после многочисленных операций, каждая из которых была специальностью особого цеха. Поэтому ткачи, валяльщики, красильщики, стригали, очутившись в положении наемных рабочих, и устраненные с рынка, на который они работали, оказались подчиненными классу работодателей, который в других цехах сливался с ремесленниками. Признаки, которыми обыкновенно характеризуют средневековую промышленность, неприменимы к ним; как бы предвосхищая будущее, они являют нам уже в XIII веке то зрелище, которое домашняя промышленность будет представлять во всей Европе после Возрождения. Если правильно оценить их экономическую природу, то их никак нельзя, несмотря на их: корпорации, отнести к категории цеховых ремесленников. Действительно, у последних орудия производства — мастерская, сырье — составляют собственность рабочего, продукт принадлежит ему и он прямо сбывает его потребителю[923]. Во фландрской же суконной промышленности капитал; был отделен от труда. Мелкие мастерские, расположенные вдоль улиц плебейских кварталов, работали лишь на оптовиков, от которых они, получали и для которых они выполняли заказы. Независимо от того, принадлежал ли ремесленник к группе мастеров, имел ли он или брал внаймы несколько ткацких станков (getouwen), или несколько валяльных чанов (kommen), либо же он относился к группе простых подмастерьев (сnаереn), живших только трудом своих рук, он одинаково лишен был экономической независимости[924]. Неизбежным следствием этой зависимости рабочего от предпринимателя явилось, с давних пор, подчинение цехов, занимавшихся обработкой шерсти, купеческим гильдиям. Введено было законодательство, строго подчинявшее цехи гильдиям, передававшее купцам (coomannen) право назначения надсмотрщиков (rewards, vinders) суконной промышленности, предоставившее им надзор и регламентацию промышленности, наказывавшее изгнанием простые нарушения техники производства и угрожавшее даже смертной казнью за стачку или недозволенное собрание. В результате этого ремесленники, работавшие в суконной промышленности, создавшие богатство городов и составлявшие значительнейшую часть их населения, оказались самыми бедными и презираемыми жителями их. Все, даже, их поселения в жалких предместьях, расположенных у ворот городов, свидетельствовало о том, что это низший класс, отделенный глубокой пропастью от остальной части городского населения. Попытка переворота, во время «Брюггской заутрени» дала им столь долгожданный и постоянно отыскивавшийся ими повод навсегда освободиться от своего гражданского бесправия (diminutio capitis). Но для этого недостаточно было лишить патрициев их политических привилегий, нужно было еще уничтожить экономическую зависимость рабочих крупной промышленности, позволив каждому из них заниматься торговлей шерстью и сукном; чтобы провести эти реформы, ткачи повсюду завладели городским управлением и поручили своим деканам и присяжным, имена которых появляются тогда впервые в истории, введение своего рода осадного положения или террористического режима, благодаря которому ремесленники суконной промышленности были в течение двух лет хозяевами и господами городов[925]. Новые революционные власти провели в жизнь различные пункты их программы, не решаясь ссориться с могущественной партией, руководившей народными массами, помощь которых была им необходима для борьбы с Филиппом Красивым. Первого августа 1302 г. Иоанн Намюрский, по своем вступлении в Брюгге после победы при Куртрэ, торжественно приложил свою печать к хартии, предоставлявшей всем жителям города и всем тем, кто поселился бы в нем в будущем, свободу заниматься всякого рода торговлей и ремеслами[926]. Тем самым рабочие суконной промышленности добились главной цели своих требований. Свобода торговли означала конец промышленного режима, поддерживавшегося гильдиями. Она устанавливала равенство между рабочими, занимавшимися обработкой шерсти и другими ремесленниками, она позволяла им добывать себе сырье, самим продавать продукт своего труда, одним словом, она давала им экономическую независимость и социальное уважение, которого они были лишены, пока оставались наемными рабочими. Ткачи, валяльщики, стригали, красильщики стали, в свою очередь, мелкими предпринимателями. Их корпорации, находившиеся до тех пор под опекой, получили автономию и self government (самоуправление), приобрели право юрисдикции над своими членами и, неся отныне обязанность надзора за производством, поспешили выработать новую регламентацию. Согласно этим правилам, образцы которых дошли до нас, к сожалению, лишь в ничтожном количестве, изгнание и смертная казнь заменены были штрафами; в них запрещено было употреблять рабочих для «рабских» работ (schalkelijk werk)[927]. «Человек с голубыми ногтями» избавился наконец от унизительного положения, в котором он так долго пребывал; он стал ровней прочим горожанам, он захотел искоренить повсюду признаки своего прежнего унижения. Едва лишь демократия одержала победу, как «простонародье» Ипра решило построить новую городскую стену, которая., должна была объединить с остальной частью города предместья, в которых оно жило, и указать тем самым, что отныне для всего населения имеется лишь одно право гражданства[928]. Атисский мир (1305 г.), положив конец войне с Францией, положил конец также революционному правительству, установленному ткачами в городах. Когда после смерти Гюи де Дампьера власть в графстве перешла к Роберту Бетюнскому (март 1305 г.), то на него тотчас же посыпались со всех сторон жалобы и требования. Вернувшиеся в страну «leliaerts» и патриции требовали произвести следствие по поводу всякого рода насилий, учиненных над ними; гентская коллегия «тридцати девяти» стремилась вернуть себе власть, в Арденбурге члены закрытой гильдии желали вернуть себе исключительное право быть избираемыми в эшевены[929]. Как это часто бывает после великих социальных катастроф, старые привилегированные группы ничего не забыли и ничему не научились, они стремились только к полному восстановлению прежнего порядка вещей. Они желали патрицианской реставрации, которая ввела бы во фландрских городах такую же конституцию, как та, что существовала по ту сторону Шельды, в городах Брабанта, которая передала бы городское управление в руки родовитых семей и снова подчинила бы всемогущим гильдиям негодующие массы рабочих суконной промышленности. Но граф не мог согласиться с подобной политикой. Он не забыл, что «leliaerts» и патриции стали на сторону Франции против его отца, и знал, что полученным им наследством он был обязан лишь сопротивлению, оказанному ткачами и валяльщиками Филиппу Красивому. Он тем менее намерен был порвать с ними, что считал Атисский мир простым перемирием; решившись взяться снова за оружие при первом же благоприятном случае, он хотел сохранить за собой возможность еще раз обратиться к их военной энергии и силе, многочисленные доказательства которой они дали. Но если он не был намерен следовать политике герцога Брабантского и выступить в качестве защитника патрициата против «простонародья», то, с другой стороны, он не мог капитулировать перед последним и продолжать стоять на позиции, которой его братья вынуждены были придерживаться во время войны. Он ликвидировал революционный строй, установленный в городах ткачами и валяльщиками; временные городские должности уступили место коллегиям эшевенов, организованным согласно хартиям; вместо осадного положения началось нормальное отправление правосудия. Однако цехи не потеряли окончательно всех своих завоеваний. Они сохранили свои автономные корпорации, право заниматься торговлей и значительную долю участия в общественной жизни. Не были восстановлены невыносимые злоупотребления родовитых семей в финансовой области: талья, которой облагались прежде только бедняки и от которой свободны были богачи, осталась отмененной и была повсюду заменена налогом на пищевые продукты и некоторые предметы широкого потребления[930]. Не были восстановлены ни гильдии, ни старый патрициат, окончательно ликвидированные народным восстанием. У ремесленников отняли лишь присвоенное им себе во время войны право управлять городами, считаясь только со своими собственными интересами. Хотя патрициям не вернули ни одной из их привилегий, но все же невозможно было исключить их из городского управления. Задача заключалась в том, чтобы разделить последнее между ними и цехами и добиться устойчивого равновесия между «poorters», рантье и крупными купцами и «neeringen» (цехами). Принятая система сводилась в конечном счете к той, которую ввела в Льеже тридцать лет спустя Сен-Жакская грамота; она явно стремилась к примирению различных групп городского населения, отводя каждой из них в городском управлении влияние, соответствовавшее ее интересам[931]. Однако это привело не к миру, а к периоду непрерывных волнений и грозных восстаний. Не прошло и нескольких лет, как народная ненависть прорвалась с такой же силой, как в ту эпоху, когда ремесленники находились под ярмом патрициев. В Ипре богачи, боясь быть вырезанными «простонародьем», умоляли французского короля отложить снос городских стен, окружавших еще старый город, в котором они жили[932]. В Брюгге, в Арденбурге, вспыхнули кровавые мятежи[933]. В Генте в 1311 г. и 1319 г. ткачи восстали и опять началась мрачная пора изгнаний и смертных казней[934]. Эти народные движения, несомненно, отчасти вызваны были необходимостью выплачивать огромные штрафы, наложенные Атисским миром, но они имели и более глубокие причины. Их нетрудно обнаружить, если принять во внимание, что инициаторами этих волнений были почти исключительно рабочие суконной промышленности и что остальные цехи, очевидно удовлетворенные полученными ими уступками, либо не приняли в них никакого участия, либо же приняли самое ничтожное участие. Действительно, рабочие, занимавшиеся обработкой шерсти, вскоре убедились, что они не достигли своей цели. Гильдии были уничтожены, свобода торговли разрешена всем и однако их положение нисколько не улучшилось. Их мечта об экономической независимости не сбылась. Социальный идеал, во имя которого они боролись и который они видели осуществленным в организации других цехов, оказался для них столь же недоступным, как и раньше. Они остались, как и прежде, работниками на дому, наемными рабочими купцов-капиталистов. Какое значение могло иметь для них то обстоятельство, что они добились политических прав, что по отношению к ним законодательство смягчилось, что они могли выбирать из своей среды старшин своих корпораций, если, несмотря на все это, они должны были непрестанно трудиться на работодателей? Чем больше были их надежды, тем горше было их разочарование, и теперь они перенесли свою прежнюю ненависть к гильдиям на «poorters» и «добрых людей» («bonnes gens»), дававших им работу. Однако они заблуждались, считая себя их жертвами, ибо в действительности они были жертвами крупной промышленности. В самом деле, ликвидация гильдий, этих одряхлевших и устарелых организаций, не уничтожила в крупных мануфактурных центрах Фландрии посредничества капитала; она только изменила форму этого посредничества. Для того чтобы последнее исчезло, суконная промышленность должна была отказаться от экспорта, которым она жила, и ограничиться местным рынком. Только в этом случае ткач мог бы стать тем, чем он хотел быть, подлинным средневековым ремесленником, вроде тех, каких было много почти во всех тогдашних городах, и продавать в своей лавке в розницу изготовленные им самим ткани. Но чем больше промышленность освобождалась от местного рынка, чем шире изделия ее распространялись по всему свету, чем больше она потребляла драгоценней английской шерсти, обеспечивавшей тонкость ее тканей, тем непосильнее оказывалось для ремесленника освободиться от ненавистного купца. Действительно, одни только богатые суконщики могли снабжать непрерывно работавшие мастерские достаточным количеством сырья, одни они могли удовлетворить оптовые заказы заграничных покупателей, этой космополитической массы комиссионеров и приказчиков всех стран, теснившихся на рынках и заполнявших дома маклеров. Таким образом, столь торжественно провозглашенная свобода торговли нисколько не помогла рабочим. Место гильдий заняла новая группа капиталистов, которая, несмотря на то, что она не обладала юридической монополией и привилегиями, все же, сохранила в своих руках благодаря логике вещей руководство экономической жизнью. Словом, капитал и труд не могли объединиться в одних и тех же руках, и по мере того, как росло процветание суконной промышленности, ремесленники со своими скудными средствами неизбежно оказывались не в состоянии производить все более и более сложные операции, которых требовало снабжение промышленности сырьем и сбыт ее продуктов. Однако не следует представлять себе суконщиков того времени в слишком модернизированном виде. Общие условия экономической жизни средневековья, зачаточное состояние кредита ставили их деятельности узкие пределы. В них следует видеть лишь богатых горожан, пользовавшихся своим богатством, чтобы заниматься прибыльными операциями по оптовой покупке и продаже. Сами термины, которыми их обозначали: poorters, lieden di van ghenen ambachte en zijn (люди, не принадлежащие ни к какому цеху), указывали, что торговля составляла для них лишь побочное и, так сказать, случайное занятие[935]. В отличие от крупных предпринимателей нашего времени, они остерегались всецело уходить в дело, в которое они вкладывали лишь часть своего состояния. Если до конца XIII века они покупали шерсть в Англии[936], то теперь они добывали ее себе либо в Калэ, либо в самом Брюгге, куда она привозилась в большом количестве местными итальянскими или немецкими купцами, которые сумели в XIV веке захватить почти полностью монополию ввоза ее и которые, снабжали также суконщиков квасцами и необходимыми красящими веществами. Получив таким образом сырье, эти суконщики давали ремесленникам мелких мастерских шерсть для прядения, крашения, тканья, валянья, стрижки и т. д., а затем — продавали за свой собственный счет конечный продукт[937], либо непосредственно своим согражданам, либо пользуясь услугами маклеров (makelaer), если, как это чаще всего случалось, покупатель был иностранцем[938]. Этого краткого очерка достаточно, чтобы показать, в чем фландрская суконная промышленность XIV века походила на современную крупную промышленность, но также и чем она от, нее отличалась. Работая, как и последняя, на весьма обширный рынок, она неизбежно носила капиталистический характер. Но он не был для нее типичен в целом. В наше время фабрикант является одновременно собственником сырья, орудий труда и изготовленных продуктов, он соединяет в себе предпринимателя и купца, и полученные им в торговле барыши непрерывно поддерживают или умножают капиталы, вложенные им в его различные операции, во Фландрии же эти различные функции были уделом ряда отдельных групп. Торговля и промышленность здесь были совершенно отделены друг от друга. Торговлей занимались две группы купцов (торговцы шерстью и суконщики), промышленность же была делом ремесленников. Капитал играл здесь уже довольно крупную роль, но он был слишком слаб, чтобы поглотить и захватить все. Будучи раздроблен и находясь в тысячах рук, он не обладал тем могуществом, которое придает ему в наши дни его колоссальная концентрация[939]. Его обладатели должны были ограничиваться узким полем деятельности, распределять между собой роли и иметь перед собой класс производителей, которые, хотя и были доведены до положения постоянных наемных рабочих, тем не менее располагали благодаря своей корпоративной организации, силой, с которой неминуемо приходилось считаться в течение всего столетия. Действительно, до тех пор пока упадок суконной промышленности не изменил радикально условия существования городов, ткачи оставались верны своему идеалу экономической независимости. С неутомимой энергией боролись они за то, чтобы избавиться от зависимости, вытекавшей из самой сущности их промышленности, и чем значительнее была их роль в социальных волнениях, придающих истории Ипра, Брюгге и Гента столь драматический характер, тем отчетливее видно, что это была почти современная борьба между капиталом и трудом.
Суконные ряды в Ипре (XIII в.)
Трудно было бы понять, каким образом эта борьба могла продолжаться так долго, каким образом рабочий класс сумел сделать эти гигантские усилия и уцелеть после всех посыпавшихся на него кровавых репрессий, если бы мы не знали, что сила его была в его численности. Было бы крайне интересно иметь точные данные по этому вопросу, но, к несчастью, мы такими данными за XIV век не располагаем. Однако нельзя сомневаться в том, что в крупных фландрских городах ремесленники суконной промышленности составляли подавляющее большинство населения. Равновесие между различными профессиями, наблюдающееся в большинстве средневековых городов, здесь было резко нарушено в пользу одной из них, и мы здесь имеем перед собой картину, сильно напоминающую мануфактурные центры нашего времени. Один конкретный факт покажет это лучше всяких длинных комментариев. В Ипре, в 1431 г., т. е. в период, когда не прекращались жалобы на гибель города и на плачевное состояние суконной промышленности, последняя охватывала еще 51,6 % всех профессий[940], между тем как в то же время во Франкфурте-на-Майне[941] она обнимала лишь 16 % их. Кроме того, за отсутствием других сведений, можно сослаться на общинные счета Гента, Ипра, Брюгге, указывающие нам, во всяком случае, на военную силу ткачей и валяльщиков. Так, например, в 1340 г. отряд, посланный гентцами для осады Турнэ, состоял из 1800 wevers (ткачей) и 1200 volders (валяльщиков), в то время как cleene neeringhen (мелкие цехи) выставляли все вместе лишь 2100 человек[942]. Но сила, которой цехи суконной промышленности обязаны были своей численности, уравновешивалась все возраставшим сопротивлением им. Мало того, что «poorterie» (патрициат), выходцами из которого были торговцы сукном и торговцы шерстью, составил против них партию, численная слабость которой компенсировалась ее денежным могуществом, но сверх того, почти всегда — и все чаще и чаще, по мере того, как конфликты становились более ожесточенными — большинство мелких цехов занимало враждебную по отношению к ним позицию. Действительно, экономические требования промышленного пролетариата были им чужды. В качестве мелких бюргеров, живших местным рынком, они имели иные интересы и иные нужды, чем рабочие суконной промышленности, вечные стачки и восстания которых наносили большой урон их розничной торговле. В связи с этим «простонародье», некогда шедшее единым фронтом против патрициата, теперь распалось на враждебные группы. Ткачи не сумели, как когда-то, склонить их на свою сторону. Мало того, внутри самой суконной промышленности против них поднялись грозные противники, а именно — валяльщики. Борьба между ткачами и валяльщиками, так часто обагрявшая кровью улицы мануфактурных городов и способствовавшая краху демократического движения, просто объясняется самой техникой суконной промышленности. Обработка шерсти требует, как известно, ряда особых операций — пряденья, тканья, валянья, стрижки и крашения, — которые производятся каждая специальной группой ремесленников; все они, за исключением первой, производимой исключительно женщинами, в городе либо в деревне, положили начало соответствующим цеховым корпорациям. Но между этими цехами должна была установиться иерархия, которая, неизбежно приспособляясь к самому процессу труда, должна была в результате подчинить их в большей или меньшей степени ткачам. Действительно, в мастерских ткачей шерсть превращается в ткань, а различные манипуляции, которым подвергается затем эта ткань, имеют целью лишь придать ей прочность, гибкость и мягкость, но не меняют в ней ничего по существу. Поэтому ткачи должны были контролировать работу валяльщиков, красильщиков и стригалей, которые завершают их работу; вскоре они стали претендовать на установление заработной платы для этих профессий. Но тогда последние, под руководством валяльщиков, наиболее многочисленных среди них, поднялись на защиту своей независимости[943], и нередко для борьбы со своими противниками объединялись с купцами и мелкими цехами. Таким образом, история фландрских городов протекала в XIV веке в крайне сложной обстановке, и если нам пришлось так подробно это показывать, то не только потому, что очень редко можно встретить в Средние века в каком-нибудь другом месте аналогичную картину, но особенно потому, что противоречие интересов и социальные конфликты вскрытые нами здесь, непрерывно оказывали исключительное влияние на ход важнейших событий, в которые графство было втянуто в промежуток времени между правлением Людовика Неверского и Филиппа Смелого.
Глава третья
Восстание приморской Фландрии и битва при Касселе
С начала XII века отношения между Фландрией и Францией все время определялись позицией городов. В 1127 г. после убийства Карла Доброго восстание Брюгге, Гента, Лилля и Сент-Омера вызвало падение Вильгельма Нормандского и расстроило первую попытку французской короны подчинить своему влиянию Фландрское графство. В царствование Филиппа-Августа Балдуин VIII получил наследство Филиппа Эльзасского, благодаря городам и вопреки маневрам французского короля. Позже борьба между ФилиппомКрасивым и Гюи де Дампьером прошла через те же этапы и окончилась таким же образом, как и борьба между патрициатом и «простонародьем». Наконец, победоносная городская демократия задержала при Роберте Бетюнском выполнение условий Атисского мира и, как мы увидим, заставила при Людовике Неверском Филиппа Валуа дать ей одно из крупнейших сражений XIV века.
Таким образом, политика фландрских городов была повсюду тесно связана с общей политикой. Их могущество, подобно их торговле и промышленности, ощущалось далеко за пределами их области. Их взаимное соперничество, их распри с их государями приобрели европейское значение и вызвали вмешательство Франции, подобно тому, как по ту сторону Альп усобицы ломбардских и тосканских городов-республик привлекли к себе внимание германских императоров и повлияли на политику последних по отношению к Италии.
I
Замена в начале XIV века олигархического строя народным правлением нисколько не изменила отношения фландрских городов к князю. Действительно, патриции и цехи, расходившиеся решительно во всем, становились единодушными, когда дело касалось защиты муниципальной автономии и сведения к минимуму роли графа и его бальи в городском управлении. Правда, эти тенденции ко все более полной независимости могли выявиться лишь в больших городах, достаточно сильных, чтобы добиваться широких привилегий, которые они называли затем вольностями («vrijheden»). Уже к середине XIII века гентские, брюггские, ипрские, лилльские и дуэсские эшевены образовали под названием «фландрских эшевенов» коллегию, сыгравшую крупную роль в политическом устройстве страны и потребовавшую права выступать от своего имени. В правление Гюи де Дампьера это движение еще усилилось. Главные города явно стремились подчинить себе сельские местности, забыв, что за пределами своих пригородов они не имеют «ни права, ни суда, ни управления, ни какой бы то ни было власти»[944]. События 1302 г. не только не ликвидировали этих посягательств на права князя, но, наоборот, еще усилили их, придав им юридическую опору. Иоанн Намюрский ни в чем не отказывал большим городам. Шесть недель спустя после разрешения брюггцам свободы торговли, он дал им право назначать эшевенов во всех местностях, для которых их город являлся высшим апелляционным судом, а два года спустя он признал за ними привилегию призывать на войну крестьян и жителей «smale steden» (маленьких городов), кастелянства или Вольного Округа Брюгге[945]. С тех пор этот обширный округ составлял лишь своего рода продолжение городской территории, лишь какой-то огромный пригород. Вскоре он должен был стать еще более грозным для графа и более независимым от его власти, чем в те отдаленные времена, когда он принадлежал феодальным кастелянам. Роберт Бетюнский не пытался отнять у больших городов сделанные им уступки. Вынужденный жить в мире с ними, чтобы обеспечить себе их помощь против Филиппа Красивого, он сделал им новые уступки, позволив им еще более упрочить свою власть над кастелянствами и увеличить свою внутреннюю независимость. После присоединения Дуэ и Лилля к Франции, Брюгге, Гент и Ипр разделили с князем территориальную власть и стали по отношению к нему в положение представителей страны той самой Фландрии, три главных «члена» которой они составляли и которую они сравнивали с зданием, покоившимся на них, как на трех мощных колоннах[946]. Таким образом, правление Людовика Неверского началось для трех фландрских городов при самых благоприятных обстоятельствах. Затруднительное положение молодого государя, права которого на корону оспаривались его дядей, Робертом Кассельским, дало им отличный повод еще более укрепить свое положение. Людовик, из опасения, как бы они не высказались в пользу его соперника, немедленно по своем прибытии во Фландрию дал им все те вольности, которых они требовали. В октябре 1322 г. он гарантировал Ипру и Брюгге исключительное право заниматься суконной промышленностью в их кастелянствах[947]. У гентцев же, обладавших уже этой привилегией, права их бальи были распространены на Ваасскую область и на область Четырех Округов[948]. Таким образом, в первую четверть XIV века политика городов, в силу благоприятствовавших ей все время условий, сделала успехи во всех областях. Княжеская власть, которая в течение прошлого века сумела справиться с сопротивлением феодалов и заменить повсюду наследственные права кастелянов властью сменяемых бальи, назначаемых князем и ответственных только перед ним, вынуждена была капитулировать перед большими городами. В несколько лет князь потерял все столь медленно завоеванные им позиции, и могло казаться, что графы заменили старое устройство более современным, находящимся в большей гармонии с новым социальным строем лишь для того, чтобы облегчить большим городам завоевание ими страны. Действительно, к тому времени, когда Людовик Неверский наследовал Роберту Бетюнскому, преобладание городов было бесспорным и влияние графа, по сравнению с их влиянием, казалось совершенно ничтожным. Фландрия была отныне разделена на «округа» («quartiers»), находившиеся под исключительным руководством могущественных городов, и представляла почти такое же зрелище, как и итальянские городские тирании. Насколько хватал взор с высоты каланчи каждого из «трех городов», все добровольно или насильственно подчинялось влиянию города. Брюгге, Гент и Ипр на землях в протяжении нескольких лье за своими стенами контролировали отправление правосудия, призывали жителей на военную службу, запрещали деревням заниматься той суконной промышленностью, монополию которой они оставили за собой, и которая, обеспечивая им их богатства, давала им также силы, необходимые, чтобы удерживать в повиновении сельские местности. Действительно, они были по отношению к ним не покровителями, а суровыми и беспощадными господами. Результатом той свободы, которую они не переставали требовать для себя, были покорность и даже подчинение других. Ремесленники, столь ревниво относившиеся к своей независимости и столь гордившиеся своими правами, были безжалостны и беспощадны по отношению к жителям деревень. Нет ничего более жестокого и более бесчеловечного, чем их поведение по отношению к деревням, где они периодически появлялись с вооруженными отрядами, чтобы добиться соблюдения своих привилегий, ломая ткацкие станки, разбивая чаны валяльщиков и рамы для сушки сукна[949]. Однако было бы очень несправедливо осуждать с точки зрения современности эту политику больших городов. Исключительность, толкавшая их на это, была им навязана, и эта политика не могла быть иной. Нетрудно понять, если учесть экономические условия того времени, что она объяснялась насущнейшей необходимостью — необходимостью жить. В Средние века, когда поселения с 10 000 жителей считались уже крупными городами, Фландрия со своими городскими скоплениями в 30–60 тысяч человек представляла исключительную картину и вынуждена была преодолевать такие трудности, которые были неизвестны в других местах. Как ни значительна была ее торговля, как ни велики были успехи обработки земли, но ни торговля, ни земледелие не могли обеспечить бесперебойного снабжения масс, сконцентрировавшихся в трех пунктах ее территории. Война, внезапный перерыв транзитной торговли, роковым образом обрекли бы их на голод, если бы они не обеспечили себе бесперебойного снабжения путем реквизиции сельскохозяйственных продуктов в обширном районе. Численность их населения, чрезмерная для эпохи, когда товарооборот находился еще в зачаточном состоянии, заставляла города подчинять себе деревню. Чтобы понять, какое значение это имело, достаточно вспомнить, например, что Гент, вынужденный довольствоваться одними только ресурсами Ваасской области и области Четырех Округов, мог в правление Людовика Мальского, и позднее — в правление Филиппа Доброго, вынести в течение нескольких месяцев суровую блокаду, не испытывая голода. Таким образом, с начала XIV века сельские местности оказались в значительной мере принесенными в жертву городам, крестьянин оказался принесенным в жертву горожанину. Задачей первого было прокормить второго, и он попал под его опеку. Запрещение заниматься суконной промышленностью завершило это экономическое порабощение. Оно было тем более невыносимым, что шерсть, обрабатывавшаяся в городах, прялась большей частью крестьянками[950]. Мотки ниток, загромождавшие хижины крестьян, были своего рода приманками, неодолимо привлекавшими их к профессии ткача… Несмотря на беспощадные кары, обрушивавшиеся на них, они не переставали восстанавливать свои маленькие мастерские. И нельзя сомневаться в том, что их помещики и, может быть, даже богатые купцы, соблазненные дешевизной деревенских рабочих рук, поддерживали их попытки. Но ремесленники, занимавшиеся обработкой шерсти, отлично понимали какую опасность представлял для них этот дешевый труд, если бы ему было позволено свободно развиваться. Поэтому чем больше росло их влияние в городской политике, тем беспощаднее оказывалась эта, политика по отношению к деревне. Этого достаточно, чтобы понять, как велико различие между нашими современными демократиями и городскими демократиями средневековья. Последние по-своему обнаруживали столь же узко буржуазный характер, как и старый патрициат… Как и последний, они не могли подняться над идеей привилегии. Свобода, как они ее понимали, была исключительно свободой ремесленника в пределах городских стен, внутри которых даже пролетариат был — если только позволено ставить рядом два таких термина — своего рода аристократический пролетариат. При этих условиях небольшие города должны были разделить участь деревень. Уже в конце XIII века можно видеть, как их могущественные соседи стремились низвести их на положение своих подданных или вассалов. Брюгге с давних пор удалось навязать свою гегемонию торговым местностям в своих окрестностях — Дамму, Слейсу[951] и Арденбургу. Если Ипр, не столь могущественный, не сумел окружить себя столь же многочисленной группой городов-клиентов, то зато Гент в XIV веке мало-помалу подчинил своему влиянию все пользующиеся городскими правами пункты Восточной Фландрии. Результатом этих посягательств «трех городов» Фландрии было быстрое распространение права гражданства за пределами их стен. Чем тяжелее было бремя их господства над небольшими городами и сельскими местностями, тем более ценными казались привилегии их жителей. Поэтому право гражданства, связанное сначала с пребыванием либо в самих городах, либо в их пригородах, — право, которого добивались со всех сторон лица, жившие вне городов, — стало личной и независимой от места жительства привилегией, которую можно было приобрести путем уплаты пошлины за внесение в списки горожан. Города не скупились на это. Их могущество росло вместе с числом «внешних горожан» (haghe или buitenpoorters), которые, подчиняясь исключительно юрисдикции их эшевенов и избавляясь, таким образом, от всякой посторонней власти, являлись в кастелянствах преданной им клиентелои и активно работали над сохранением и усилением их влияния. В 1322 г. эти новые горожане были уже настолько многочисленны в окрестностях Гента, что Сен-Пьерский аббат жаловался на то, что он не может найти в своих владениях достаточно вассалов для назначения эшевенов[952]. Легко составить себе приблизительное представление об их численности в XIV веке в Ипрском округе (quartier), если принять во внимание, что в 1465 г., т. е. в период, когда институт «внешнего гражданства» был в полном упадке, город насчитывал еще 1465 haghepoorters, рассеянных в 157 местностях[953]. От суверенной власти графа, несомненно, ничего не осталось бы в XIV веке, если бы «три города» объединились между собой и почувствовали свою взаимную солидарность. Но их взаимная вражда спасла графа. Впрочем, эта вражда была неизбежна, ибо она вытекала из только что описанного положения вещей. Действительно, поводы к конфликтам между крупными городами становились все многочисленнее по мере того, как росло их могущество и расширялась сфера их влияния. Несомненно, в иные моменты кризиса они иногда сознавали общность своих интересов. Но их политика, покоившаяся на монополии и привилегиях, была всегда проникнута исключительным духом партикуляризма, и их отношения чаще всего определялись взаимным недоверием и соперничеством. Каждый из них жил для себя, не интересуясь своими соседями. Хотя они были, одушевлены сильным местным патриотизмом, но следы подлинного национального чувства встречаются в их истории лишь очень редко. Это можно ясно видеть на примере того, что случилось после заключения Атисского мира. Брюггцы, давшие сигнал к восстанию и руководившие войной с Францией, оказались покинутыми, как только пришлось приступить к выполнению условий мирного договора. Ипр и Гент постарались переложить на них вместе с ответственностью за события, большую часть наложенных на страну штрафов и бесстыдно отказались принять участие в уплате суммы, требовавшейся для выкупа трех тысяч брюггцев, осужденных в виде почетного наказания на паломничество[954]. Это поведение, разумеется, усугубило и без того уже сильное недовольство брюггских горожан условиями Атисского договора. С 1313 г. они перестали выплачивать свою долю в наложенных на Фландрию штрафах, и, несомненно, сопротивлению Брюгге следует приписать задержку в выплате графу пожизненной ренты («transport») в 10 000 ливров в возмещение за уступку французскому королю Лилля, Дуэ и Орши. Людовик Неверский, который немедленно по вступлении на престол потребовал одновременно выплаты штрафов и следуемых ему сумм, шел тем самым на риск конфликта. Его неискусная политика лишь ускорила взрыв. Двоюродный дед Людовика, тот самый Иоанн Намюрский, который руководил в 1302 г. сопротивлением Филиппу Красивому и благодаря своей ловкой политике сумел склонить ремесленников на сторону графа, когда война была окончена и Дампьеры возвратили себе свое наследственное достояние, вернулся к привычкам и поведению феодального князя. Энтузиазм, поддерживавший его во время борьбы, иссяк вместе с ее окончанием. Примирившись с французским королем[955], он отныне думал лишь о своих интересах. Однако хотя в качестве графа Намюрского он уже давно стал чуждым Фландрии, у него все же сохранились там слишком крупные поместья, и он был слишком тесно связан родственными узами с правящим домом, чтобы не поддерживать с ним частных сношений. Хотя он и отказался принять участие в длительной ссоре Филиппа Красивого с Робертом Бетюнским, однако он оказал последнему крупную услугу, устроив в 1312 г. перемирие между ним и графом Генегау и взявшись лично гарантировать выполнение его. Может быть, в награду за его услуги, а, пожалуй, также, чтобы заранее обеспечить его поддержку Людовику Неверскому, старый граф назначил ему незадолго до своей смерти ежегодную ренту в 1000 ливров с города Брюгге. Но брюггцы так же основательно забыли Иоанна Намюрского, как сам Иоанн забыл о своих прежних демократических замашках. Между ним и городом сейчас же возникли трения, а затем последовал открытый разрыв. Он попал даже в руки брюггцев, которые держали его пленником в своих торговых рядах к тому времени, когда Людовик Неверский наследовал Роберту Бетюнскому[956]. Выпущенный на свободу, вероятно, во время торжественного вступления графа в город, он как старший из членов его семьи стал его влиятельнейшим советником. Он воспользовался своим влиянием для получения в начале 1323 г. сеньории Слейс. Сделав этот дар, Людовик Неверский обнаружил полнейшее непонимание могущества и интересов самого богатого фландрского города. Дав удовлетворение графу Намюрскому, он нанес Брюгге тяжелый удар. Действительно, не было ничего легче, чем воспользоваться положением Слейса, расположенного у устья Збина, для того чтобы помешать баржам, груженным товарами с судов, бросавших якорь в слейском рейде, подняться вверх по течению к городу или, по крайней мере, чтобы создать ему опасную конкуренцию. Для брюггцев это было вечным кошмаром. До сих пор им удавалось сохранить свое господство над Слейсом. Но разве нельзя было ожидать теперь, что Слейс с помощью своего нового сеньора свергнет навязанное ему иго и перестанет считаться с правилами, запрещавшими морским судам выгружать товары на его набережных? Перед лицом столь серьезной опасности, угрожавшей в равной степени всему населению Брюгге, оно объединилось для общего сопротивления. Горожане, недолго думая, взялись за оружие. Внезапность разыгравшихся событий застала графа и его двоюродного деда врасплох. Иоанн Намюрский успел лишь вместе с несколькими рыцарями броситься в Слейс, между тем как Людовик прибыл в Брюгге, надеясь успокоить возбуждение народа. Он мог бы избавить себя от этой унизительной попытки. Горожане остались непреклонными, и граф, беспомощный и жалкий, вынужден был(последовать за отрядами ремесленников и «poorters», направившимися в Слейс. После кровавого сражения городок был взят штурмом, а затем беспощадно подожжен. Иоанн Намюрский был взят победителями в плен. Эти волнения, за которые граф не осмелился отомстить их виновникам, явились прологом к одному из самых грозных восстаний в истории XIV века. По исключительному в летописях Нидерландов стечению обстоятельств это восстание не только толкнуло друг против друга различные партии горожан, но и охватило деревенское население морского побережья и приняло в течение нескольких лет характер настоящей социальной революции.II[957]
Кратковременное завоевание Фландрии Филиппом Красивым в конце XIII века не только упрочило господство патрициата в городах, но и усилило позиции дворянства в сельских местностях. В правление наместника, столь преданного интересам рыцарства, как Жак Шатильон, оно поспешило воспользоваться случаем, чтобы упрочить свое влияние и помешать таким образом непрекращавшемуся уменьшению своих доходов. Начавшаяся тогда дворянская реакция была особенно сильна в той области польдеров и «wateringues», которая простиралась вдоль нижнего течения Шельды и морского побережья от Ваасской области до Нового Рва (Neuf-Fosse), и которая так резко отличалась от остальной части Фландрии своими почвенными условиями и положением своих жителей. В этой отвоеванной у моря, болот и пустошей местности, крестьяне, потомки колонистов (hospites), освоившие эту землю и защитившие ее плотинами, никогда не знали поместного строя; они сохранили личную свободу и большинство из них были земельными собственниками. В середине XIII века они получили грамоты, которые, установив для них особое политическое устройство, окончательно обособили их от остальной части сельского населения, освобожденного в течение XII века, но продолжавшего жить под юрисдикцией светских сеньеров или аббатов. Начиная с правления графини Маргариты, все кастелянства морского побережья — области Кассель, Берг, Бурбур и Фюрн, Вольный Округ Брюгге, область Четырех Округов и Ваасская область обладали своими «законами», своими привилегиями и судами, пользовались широкой независимостью и образовали территориальные корпорации, признанные и гарантированные публичным правом. В каждом из них собрание «keuriers» (keurheeren) пользовалось такой же властью, какая в городах принадлежала собранию эшевенов, а жители или «keurbroeders», связанные друг с другом узами взаимной защиты и помощи, образовали рядом с городскими общинами такие же деревенские общины. Чем большую энергию, силу, способность к самоуправлению и чувство независимости вызывало у крестьян подобное устройство, тем нестерпимее должны были им казаться притязания и посягательства дворянства. Едва только Фландрия подпала под власть французов, как со всех сторон раздались жалобы крестьян на угнетение и порабощение. Поэтому они с восторгом приветствовали восстание Брюгге в 1302 г. Несколько дней спустя жители Вольного Округа и Западной Фландрии приняли Вильгельма Юлихского, как освободителя. Их восстание носило столь всеобщий характер, их поведение было столь угрожающим, что «leliaerts» поспешили бежать, не делая попыток безуспешного сопротивления. Только Кассель сдался лишь после осады. В июне вся страна, от Брюгге до Нового Рва, оказалась в руках народа и взялась за оружие. В течение тех двух лет, когда шла война, закончившаяся Атисским миром, жители ее приняли под руководством Брюгге деятельное участие в военных операциях. Благодаря постоянному контакту ремесленников с крестьянами среди последних распространились демократические тенденции, недавно восторжествовавшие в городах. Ненависть к дворянам, к «leliaerts», к поддерживавшей их Франции все более и более овладевала умами. Так как почти все рыцарство эмигрировало, то крестьяне остались единственными хозяевами кастелянств, управляли ими по своему усмотрению и вскоре привыкли к безраздельному обладанию властью. При этих обстоятельствах нетрудно понять, какую ярость должен был вызвать Атисский договор. В страну вернулись толпы эмигрантов, высокомерно требовавших компенсации за убытки, понесенные ими во время беспорядков. Неудивительно поэтому, что мир казался народу изменой. К тому же разве он не был делом рук дворянства и разве можно было сомневаться, что он являлся сговором между французским королем, графом и аристократией в целях угнетения бедноты? В простоте своей «простонародье» не в состоянии было понять политических соображений, заставивших Роберта Бетюнского прекратить враждебные действия. Полные веры в свои силы, гордясь своими успехами на полях сражений, они тем менее боялись продолжения войны, что она с полным основанием казалась им необходимым условием того народного правления, к которому они привыкли. Попытки графа взимать контрибуцию в пользу французского короля вызвали яростное восстание как в крупных городах, так и в сельских местностях. В 1309 г. жители Ваасской области восстали, выбрали себе капитанов или hooftmannen, народных вождей, имена которых отныне будут столь часто встречаться в истории Фландрии. Чтобы усмирить восставших, Роберт Бетюнский вынужден был призвать на помощь рыцарство. Мятежники сложили оружие лишь после отчаянного сопротивления; двадцать пять капитанов были изгнаны, пять — погибли на виселице, а между дворянством и народом с тех пор появился новый повод к ненависти. Возобновление военных действий с Францией (1310–1320 гг.) задержало на несколько лет взрыв гражданской войны. Но она неминуемо должна была вспыхнуть после мира, заключенного в 1320 г. На этот раз нужно было во что бы то ни стало выполнить условия мирных договоров и дать французскому королю колоссальную сумму в 1 500 000 ливров, из которых были выплачены до этого времени только 480 000. Дальнейший ход событий объясняется тем, что с начала XIV века крупные города присвоили себе власть над окружавшими их местностями. Гент, где после подавления грозных восстаний ткачей, патрициат захватил в свои руки городское управление, сумел предотвратить народное восстание в Ваасской области и в области Четырех Округов. Но Брюгге, где после похода на Слейс создалось демократическое правление, находившееся под влиянием цехов суконной промышленности, поступил совершенно иначе. Конечно, он нисколько и не думал покровительствовать в окружавших его местностях движению за независимость, которое освободило бы их от его власти. Уже в течение многих лет он пытался ограничить привилегии Вольного Округа, и еще совсем недавно он не колеблясь разбил ткацкие станки в деревнях этого кастелянства[958]. Но восстание в Западной Фландрии было слишком для него выгодно, чтобы он мог пожелать ставить ему препятствия. Ведь упорный отказ крестьян платить контрибуцию французскому королю и ренту графу позволял ему самому избавиться от этих ненавистных уплат. Разве могли ткачи и валяльщики, которых возмущало социальное неравенство, не поддержать массового восстания против дворян? При первых же симптомах брожения, обнаружившегося в Вольном Округе и в Фюрнском кастелянстве вскоре после похода на Слейс, Брюгге, по-видимому, стал поддерживать восставших. Инициатор и вскоре главный вождь восстания, Николай Заннекин, фигурировал в списке его «внешних горожан» (haghepoortes)[959]. То, что нам известно об этом Заннекине, достаточно убедительно показывает, насколько восстание крестьян Западной Фландрии отличалось от двух других великих крестьянских восстаний XIV века — от французской Жакерии 1357 г. и от английского восстания 1318 г. В отличие от вождей Жакерии и от Уота Тайлера, по имени которого назвали восстание 1381 г., Заннекин вовсе не был бедняком. У него были значительные земельные владения в деревне Лампернис, а большинство ставших под его начало людей принадлежало к классу мелких собственников, столь многочисленных в приморских кастелянствах. Не бедность заставила его сторонников взяться за оружие. Кроме того, их восстание радикально отличалось своей длительностью и своей организованностью от тех внезапных и грозных вспышек, которые разразились впоследствии во Франции и в Англии, но которые были столь же бурными, сколь и кратковременными. Оно представляется нам, как попытка революции, сделанная крепкими, полными веры в себя, воли и настойчивости крестьянами, вдохновленными эгалитарными идеями и решившимися навсегда избавиться от ненавистного дворянства. Целью, которую преследовало это восстание, было установление крестьянской демократии и такого аграрного строя, при котором вся земля принадлежала бы тем, кто ее обрабатывает, и эта цель выступила с тем большей отчетливостью, чем больше ширилось и становилось сильнее восстание. Причиной восстания следует считать поведение «keuriers» и «prointeurs» (pointers)[960] из среды дворянства, которые, вернувшись после мира с Францией в кастелянства, использовали свое положение, чтобы вознаградить себя за убытки, понесенные во время эмиграции. Их обвиняли в том, что они произвольно облагали налогами людей, присваивали себе противозаконно штрафы за неявку на судебные заседания, производили пожалования и заключали займы, не отдавая никакого отчета в своей деятельности. Зимой 1323 г. вспыхнули беспорядки сперва в Вольном Округе Брюгге, а вскоре затем на территориях Фюрна и Берга. Они были подавлены, на без особой жестокости. Дело в том, что жалобы повстанцев оказались обоснованными, и после обследования, произведенного дядей графа, Робертом Кассельским, и гентским, брюггским и ипрским эшевенствами, они получили полное удовлетворение. По решению третейского суда (28 апреля 1324 г.) была провозглашена всеобщая амнистия, смещены некоторые «keuriers», а расходы, произведенные без согласия народа, были возложены на чиновников. Таким образом, народ одержал победу, но он не удовольствовался этим первым успехом. Он видел в нем залог более полной победы. Он считал, что наступил момент для того, чтобы окончательно свергнуть существующий строй. Когда наступило время жатвы, крестьяне стали отказываться от уплаты десятин и требовать, чтобы хлеб, принадлежащий монастырям, был роздан бедным[961]. Это поведение было достаточно показательным для настроения умов. Оно свидетельствовало о том, насколько определились и укрепились во время последних беспорядков социальные тенденции, которые с начала века владели умами народных масс. Дело шло уже вовсе не о том, чтобы искоренить некоторые злоупотребления. Нападали уже не просто на политические привилегии. Народ считал теперь своим естественным врагом всякого, кто жил на земельную ренту и на кого он работал. Мелкие собственники, мелкие свободные фермеры морского побережья, простые сельскохозяйственные рабочие — тесно сплотились между собой против дворянства, против крупных аббатств, против всех богачей, к какому бы классу они ни принадлежали[962]. В конце 1324 г. между обоими лагерями разразилась война. Это была война на истребление. Крестьяне и рыцари соперничали друг с другом в жестокости. Народные отряды, под руководством своих «hooftmannen» изгоняли графских бальи, грабили и поджигали замки дворян, и убивали с неслыханно-утонченной жестокостью тех из них, которые на свое несчастье попадали в их руки. Граф, со своей стороны, приказал Роберту Кассельскому усмирить мятежников «либо поджегши их дома, либо убив и утопив их, либо затопив их имущества и земли, либо всяким иным способом, который вы и ваши люди найдете нужным». В «Kerelslied», единственной дошедшей до нас песне того времени, можно найти отзвук этой беспощадной борьбы. Бурлящая ненавистью, она рисует длиннобородого, грязного, нажравшегося простокваши и сыра «Kerel» (крестьянин), который в своем надменном самодовольстве мечтает подвыпивши о том, что весь мир принадлежит ему и желает подчинить себе рыцарство. С каждой строфой усиливаются насмешки, оскорбления, проклятия, заканчиваясь под конец диким военным кличем: «Мы заставим выть "Kerels" (крестьян), пустив наших лошадей по их полям; мы их потащим на виселицы и повесим; нет им спасения от нас; они должны вернуться под ярмо»[963]. Единственным комментарием к подобной поэзии были слова одного монаха, современника этих событий: «Ужасы восстания были таковы, что люди возненавидели жизнь»[964]. В восстании приморских кастелянств поражает не только его неистовобурный характер, но и его продолжительность. Последнее обстоятельство было бы непонятным, если бы мы не знали, что Брюгге, относившийся сочувственно к движению с самого начала, взял на себя в 1324 г. руководство им. Городская демократия пришла на помощь деревенской демократии. Ткачи и сукновалы, хозяева этого большого города, объединили свои усилия с усилиями крестьян и пополнили их ряды. Монахи, священники высказывались за народ. Была организована пропаганда, в которой к евангельскому идеалу смутно примешивались неопределенные коммунистические тенденции и жгучая классовая ненависть. На кладбищах Западной Фландрии появились демагоги, которые возвещали толпе наступление новой эры и покоряли себе умы пылом своего убеждения и энтузиазма[965]. Маленькие городки в окрестностях Брюгге вскоре последовали его примеру. В Ипре восставшие цехи призвали, в свою очередь, отряды, находившиеся под руководством Заннекина (1325 г.), страх перед которыми тотчас же обратил в бегство эшевенов и богачей. Как и после битвы при Куртрэ, ткачи и сукновалы захватили власть. На деньги городской общины тотчас же были разрушены стены и ворота, запиравшие центр города, населенного патрициями, и вокруг рабочих предместий была снова возведена стена, которая была впервые построена в 1302 г. и которую патриции поспешили снести. Городская артиллерия была немедленно отправлена на помощь революционной армии[966]. Казалось, что последняя должна быть непобедимой, раз из трех городов Фландрии два уже открыто поддерживали ее. Но Гент не поддался общей заразе. Господствовавшие в нем «poorters», которые были тем более враждебны народному делу, что его успех обеспечил бы преобладание Брюгге, стали на сторону противников его. Они превратили свой город в убежище и плацдарм для дворян Западной Фландрии и патрициев из Брюгге и Ипра. Подражая инсургентам, они вручили власть hooftmannen (капитанам), подавили мятеж ткачей и разместили гарнизоны в крепостях своего кастелянства, а также в Ваасской области, где происходили волнения. Но борьба достигла еще большего ожесточения, когда Людовик Неверский, захваченный в Куртрэ, забрызганный кровью своих советников, убитых на его глазах, и сам находясь под угрозой смерти, попал в руки брюггцев. Под давлением народа он уступил власть своему дяде, Роберту Кассельскому, который не переставал его преследовать с момента его вступления на престол и который, несомненно, надеялся, пользуясь смутой, завладеть графством. Тем временем гентцы дали титул «Ruwaert» двоюродному деду графа Иоанну Намюрскому. Таким образом, династия раскололась и снабжала вождями обе непримиримо враждебные партии, оспаривавшие друг у друга права на Фландрию. Французский король не мог больше оставаться безучастным к ходу событий. С начала восстания не только прекратилась выплата контрибуций, наложенных Атисским договором, на народная партия, находившаяся теперь под руководством Брюгге, заняла явно враждебную по отношению к Франции позицию. Она запретила обращение во Фландрии французских денег, она захватила замок Эльшен в епископстве Турнэ и разместила там войска, наконец, она вступила в подозрительные переговоры с Англией. Кроме того, разве не приходилось опасаться, что поведение этих рабочих и крестьян, которые захватили в плен своему государя, узурпировали его права и поставили на место его чиновников своих капитанов, не подаст рано или поздно опасный пример французскому крестьянству? 4 ноября 1325 г. король приказал наложить интердикт на мятежников, обвиняя их в оскорблении величества и требуя от них покорности. В то же время он обратился с угрожающими письмами к Роберту Кассельскому, конфисковал его поместье в Перше, прекратил торговые сношения между Францией и Фландрией, взял на себя защиту гентцев и сосредоточил войска в Сент-Омере. Политика французского короля поколебала уверенность мятежников. Роберт Кассельский, поняв тщетность своих интриг, немедленно оставил народную партию и, добиваясь прощения, стал особенно усердно сражаться с ней. Интердикт тревожил совесть людей, а прекращение торговли было пагубно для всех. Среди мятежников начался раскол. Более умеренные из них потребовали и добились освобождения Людовика Неверского. Французский король, у которого в этот момент оказались серьезные осложнения с Англией, обнаружил готовность к переговорам, и 19 апреля 1326 г. был заключен мир в Арке, около Сент-Омера. Мир этот требовал снесения крепостей, построенных во время беспорядков, уплаты следуемых Франции контрибуций, уничтожения «новшеств», введенных мятежниками и смещения их капитанов. Церкви и аббатства должны были получить возмещение за свои убытки, а графу дали 10 000 ливров. Роберт Кассельский получил прощение, и интердикт был снят. Одно время можно было думать, что порядок будет наконец восстановлен. Граф послал своих бальи занять свои места в Западной Фландрии. Довольно значительная партия желала мира и обнаруживала законопослушность. Но «капитаны», привыкшие к власти, стремились сохранить ее. Они чувствовали за собой поддержку большого числа готовых на все сторонников, надеявшихся создать новый строй, в котором «мелкий люд», избавившись от государя и дворянства, будет всемогущим. Возбужденные до крайности страсти заглушали у них голос благоразумия. Интердикт, отлучение не останавливали их, а только усиливали их ненависть к власть предержащим. Не прошло и нескольких дней, как условия мирного договора были нарушены. Капитаны остались на своих местах, бальи были снова изгнаны, а те, которые пытались защищать их, сделались жертвами всякого рода преследований. Их заключали в тюрьму, конфисковывали их имущества, разрушали их дома, кирпичи которых шли на возведение оборонных укреплений. Восстание, поднятое самыми крайними элементами, отличалось на сей раз такой жестокостью, как никогда еще до сих пор. Во главе его стал один крестьянин из Бергского кастелянства, по имени Яков Пейт. Радикализм его идей ясно показывает, какое широкое распространение получили революционные тенденции с того времени, как начались волнения. Нападки направлялись теперь даже на церковь. Пейт открыто выказывал свое презрение к религиозным обрядам, которых он демонстративно не выполнял, он желал бы, по его словам, видеть, как последний священник будет повешен на виселице[967]. Он организовал настоящий террор. Сторонники графа, умеренные, все те, кто не высказывались определенно за бедный люд, были брошены в тюрьму. По какой-то утонченной жестокости дворян и богачей заставляли убивать своих собственных родных на глазах народа. Интердикт, наложенный снова на страну, не возымел никакого действия. Находившиеся во главе вооруженных отрядов капитаны заставляли священников продолжать отправление богослужения. Те из последних, которые осмеливались противиться этому, «бойкотировались» и были вынуждены бежать. Никогда, ни во время Жакерии, ни во время английского восстания 1381 г. не было допущено таких жестокостей, как те, которые совершались тогда в Западной Фландрии. Как оно всегда бывает, умеренные были затерты крайними. У них не было никакой организации, а пассивный по своей природе дух порядка не внушал им той энергии, какую придавал противной партии революционный дух. Правда, кое-где оказывалось частичное сопротивление. Яков Пейт был убит, но его гибель нисколько не изменила положения. Брюггские ткачи, продолжавшие поддерживать восстание, приказали начать судебное следствие по поводу его убийц. Граф бежал в Париж, чтобы умолять о помощи своего сюзерена, предоставив гентцам заботу об оказании сопротивления мятежникам. Неожиданная смерть короля Карла Красивого (1 февраля 1328 г.) задержала на несколько месяцев французское вмешательство, ставшее отныне неизбежным. Надо было покончить с этими мятежниками, которые, «подобно скотам, лишенным чувств и разума»[968], угрожали ниспровергнуть весь существующий строй. Их пример встречал уже подражание. Разве не восстали также уже и льежцы и разве их епископ вместе с Людовиком Неверским не умолял нового короля, убеждая его в том, как велика опасность? И, наконец, разве сам папа не требовал настойчиво выступления? Дело шло уже не просто о том, чтобы заставить фландрцев соблюдать договоры. Настало время спасать традиционный социальный строй. Кроме того, восстание, становясь все смелее, вступило в новую фазу и угрожало уже непосредственно французской короне. Во Фландрии знали, что вступление на престол Филиппа Валуа вызвало протесты со стороны Англии. И бургомистр Брюгге, Вильгельм де Декен, смело ступив на тот путь, на который позднее должен был вслед за ним стать Яков ван Артевельде, предлагал Эдуарду III признать его французским королем, если он окажет поддержку народной партии[969]. Филипп Валуа собрал свою армию в июне 1328 г. Он решил напасть на мятежников с юга, в то время как граф и гентцы будут им угрожать с востока. Этот искусный маневр имел, очевидно, целью ослабить сопротивление, раздробив его, и он вполне удался. Брюггцы, вынужденные прикрывать свой город, не смогли выступить против вторгнувшегося неприятеля. Задача преградить ему дорогу была поручена жителям Фюрнского, Бергского, Бурбурского, Кассельского и Бальельского кастелянств, которые, сосредоточившись на горе Касселе, ожидали под командой Заннекина прибытия неприятеля. Позиции их были неприступны, тем, что наблюдали за неприятелем и тревожили его, с целью заставить его покинуть свои позиции и спуститься в равнину. 23 августа 1328 г. ошибка, которой они ожидали, была сделана. Измученные жарой и жаждой мятежники решили покончить с этим и внезапно двинулись тремя отрядами на королевский лагерь. Хотя они выбрали самый жаркий час дня, когда французские рыцари, сняв оружие, искали в своих палатках убежища от солнечного зноя, но их наступление не могло иметь успеха. Народные армии были сильны лишь в оборонительной тактике. Если их компактные массы умели на хорошо выбранной позиции выдерживать, не дрогнув, кавалерийскую атаку, то они не обладали ни достаточной гибкостью, ни достаточной быстротой, ни достаточной точностью в маневрировании, чтобы броситься с какими-нибудь шансами на успех в атаку на закаленные войска, которые умели отступать и рассеиваться перед их тяжелыми отрядами, а затем переходить в атаку и окружать их, когда в результате наступления они уставали и ряды их расстраивались. После непродолжительной паники французы пришли в себя. Три фламандских отряда вскоре оказались окруженными со всех сторон копейщиками и отрезанными друг от друга. Их ряды расстроились, и они представляли теперь лишь беспорядочную массу людей, обреченных на гибель. Сражение было кратким и кровавым. Тысячи трупов остались на поле битвы[970]. На этот раз восстание было раздавлено. На следующий день король принял прибывших умолять его депутатов кастелянств, сдавшихся на его милость. Брюгге и Ипр без всякого сопротивления открыли свои ворота и стали пассивно ожидать воли победителя и мести Людовика Неверского. Надо было ожидать беспощадной расправы. В глазах графа, дворянства, патрициев, мятежники стояли вне закона и не заслуживали ни прощения, ни жалости. На следующий день после сражения бывшие в армии бароны стали настойчиво предлагать королю предать приморскую Фландрию пламени и истребить всех жителей ее, не исключая женщин и детей. Капитаны и все те, кто выполняли какие-нибудь должности у мятежников, были обезглавлены или колесованы. Вильгельма Де Декена отправили в Париж и там четвертовали[971]. Роберт Кассельский и мелкие местные сеньоры Западной Фландрии поспешили конфисковать имущества виновных. В городах вернувшиеся к власти патриции-эмигранты проявили крайнюю жестокость. Вплоть до 1330–1331 г. общинные счета Ипра упоминают о множестве «даров», сделанных брюггским, гентским, лилльским и мехельским бальи за то, что они приказывали казнить осужденных. Хотя официальная расправа была менее варварской, чем эти акты насилия и жестокости, но она также носила тот же беспощадный характер, который свойственен наказаниям за преступления по оскорблению величества. Все грамоты, все привилегии мятежных городов и кастелянств, были отняты у них и переданы графу. Брюгге и Ипр были присуждены к тому, чтобы разрушить свои стены, засыпать свои рвы, изгнать несколько сот наиболее скомпрометированных горожан и платить пожизненную ренту графу. В продолжение многих месяцев непрерывно продолжались заседания следователей, занятых розыскамивиновных и установлением вознаграждения жертвам восстания. Наконец имущества тех, кто сражался против короля при Касселе, были конфискованы. С помощью террора уже в октябре повсюду был восстановлен порядок. 19 октября папа, хотя и неохотно, согласился на снятие интердикта, наложенного на Фландрию. Все те, кто пользовались достаточным кредитом или имели достаточно денег, чтобы добиться прощения, поторопились обратиться с заявлениями, в которых они отдавались на милость графа. Отчаянная попытка Сегера Янсона поднять в июле 1329 г. Вольный Округ Брюгге была последней судорогой восстания. Так окончилась грандиозной катастрофой наиболее всеобщая попытка установить демократическое правление в Нидерландах. Ее крах повлек за собой неудачу льежского восстания, явившегося откликом на фландрские события[972]. Характерным для только что описанных событий является поддержка, оказанная друг другу городскими и деревенскими массами. В дальнейшем нам уже не придется встретить чего-либо подобного. Отныне политическая авансцена будет занята только большими городами, сельские же местности перестанут принимать участие в политической жизни. Следует, впрочем, заметить, что дворянство, против которого поднялись с таким ожесточением крестьянские массы, само вышло слишком ослабленным из борьбы, чтобы впредь пытаться подчинить их своей власти. Под влиянием все возраставшей власти городов над кастелянствами и все усиливавшегося противоречия между интересами городов и интересами сельских местностей, они даже мало-помалу сблизились с крестьянами и под конец солидаризировались с ними. Но в мануфактурных центрах ткачи и валяльщики остались страстно преданными идеалу социального равенства и политической независимости. Если истощенные Брюгге и Ипр перестали играть ведущую роль в демократическом движении, зато гентцы, решительно порвав с политикой, которой они придерживались до битвы при Касселе, продолжали их дело, отдав ему массу сил и неистощимой энергии. Фландрия успокоилась на время лишь для того, чтобы снова стать ареной партийной борьбы. Дворянство, патриции, разбогатевшие ремесленники сплотились и составили под конец вокруг графа консервативную коалицию; во имя сохранения существующего строя они стали защитниками прерогатив князя, заставив тем самым своих противников сделать основным принципом своей политики — уничтожение последних. В вихре гражданских смут исчезли старые прозвища «Leliaerts» и «Clauwaerts»[973], на место которых для обозначения боровшихся партий возникли новые названия «de goeden en de kwadien» («хорошие и дурные»). Однако народная партия сохранила видимость национальной, или вернее — антифранцузской партии. Со времени битвы при Касселе французский король сделался в ее глазах защитником ее злейших врагов; и ненавистью, которую он навлек на себя, объясняется в значительной мере позиция фландрских городов в начале Столетней войны.
Глава четвертая
Столетняя война и Яков Артевельде
Как мы видели, сношения бельгийских государей с Англией, начиная с завоевания острова норманнами, становились из века в век все более оживленными. Однако они значительно отличались от сношений этих государей с Германией или Францией. Действительно, в то время как германский император или французский король вмешивались в дела Нидерландов в качестве сюзеренов — первый Лотарингии, второй — Фландрии, английский король был для этих государств лишь чужеземцем. История Бельгии тесно связана с историей двух великих континентальных держав, деливших ее между собой. В ее национальной культуре германское и французское влияния сказывались то одновременно, то поочередно. Что касается Англии, то Бельгия, будучи политически независимой от нее, ничего не заимствовала у нее ни в один период средневековья. Как ни часты были ее сношения с этой державой, они объяснялись исключительно дипломатическими комбинациями, военными нуждами или экономическими соображениями.
Английские короли, постоянно соперничавшие с Францией, с давних пор поняли, какую выгоду они могут извлечь в борьбе со своим противником из союза с Нидерландами. С начала XII века они всячески пытались создать себе там клиентелу путем раздачи «денежных ленов», или заключения браков между своим домом и важнейшими феодальными династиями бассейнов Шельды и Мааса. Впрочем, созданные ими связи никогда не были ни очень прочными, ни очень длительными. Бельгийские государи вмешивались в распри, которые их нисколько не касались, лишь из соображений личного интереса. Они проявляли по отношению к английским королям только чисто коммерческую верность и преданность и готовы были в случае малейшей опасности лишить их своей помощи, всегда стоившей долгих усилий.
Однако один из них являлся исключением из общего правила — именно граф Фландрский. Действительно, будучи вассалом французского короля, он, в отличие от своих лотарингских соседей, видел в постоянно возобновлявшейся борьбе между своим сюзереном и английским королем не только повод загребать в свою казну фунты стерлингов, но в силу своего феодального положения он неизбежно втягивался в эту борьбу, и до тех пор, пока со стороны Капетингов ему ничего не угрожало, он точно выполнял свои обязанности по отношению к ним. И Роберт Иерусалимский, и Балдуин VII сложили головы на службе Людовика VI в походах против Нормандии. Но когда с началом царствования Филиппа-Августа рост королевского могущества стал угрожать Фландрии, картина радикально изменилась: фландрские князья, вместо того чтобы продолжать бороться с Англией, стали отныне рассматривать ее, как наиболее надежного защитника своей независимости. Достаточно вспомнить, как решительно Ферран Португальский стал на сторону Иоанна Безземельного и как Гюи де Дампьер оказался вынужденным после долгих колебаний покинуть Филиппа Красивого ради Эдуарда I. Только в лице Людовика Неверского на фландрском престоле, в силу изложенных нами обстоятельств, на короткий срок снова появляется князь, безраздельно преданный Франции и погибший, подобно своим предкам XII века, с оружием в руках в борьбе против англичан.
Впрочем, вмешательство Англии во фландрские дела выходило далеко за пределы чисто династических интересов. С середины XIII века оно стало все более и более привлекать внимание больших городов, промышленное процветание которых зависело от количества и правильности поступления английской шерсти. Для графов это было лишним мотивом ориентироваться в своей политике на Великобританию и занять по отношению к ней такую позицию, которая, оберегая их наследственное достояние, в то же время отвечала также экономическим интересам горожан. Но тут мы подошли как раз к пункту, где политика князя и интересы городов оказались в резком противоречии друг с другом и породили конфликт, который благодаря своим последствиям оказал решающее влияние на судьбы Нидерландов.
I
В то время, когда Эдуард III, победив Шотландию, решил начать с Францией войну, ставшую неизбежной после вступления Филиппа Валуа на престол Капетингов, герцог Брабантский вышел победителем из борьбы, затеянной против него большинством соседних государей. Он тотчас же заключил союз с самым могущественным из своих прежних противников, с графом Генегауским и Голландским, обеспечив себя таким образом от возможности новых нападений со стороны Иоанна Слепого, епископа Льжеского и графа Фландрского. Однако вопрос, послуживший причиной борьбы, остался не разрешенным. Мехельн не принадлежал ни Людовику Неверскому, который купил его, ни Иоанну III, которому он отдался сам. Эта столь желанная добыча осталась временно в руках французского короля, как приманка, одинаково соблазнительная как для графа Фландрского, так и для герцога Брабантского. Епископ Льежский не менее их интересовался конечной судьбой города; если бы Мехельн достался герцогу, то епископ должен был бы вернуть графу 100 000 ливров, за которые он его продал. Он тем энергичнее старался помешать подобной возможности, столь убыточной для него и столь выгодной для брабантца, что высокомерие последнего по отношению к нему становилось совершенно невыносимым. Этот Мехельнский вопрос, не дававший покоя трем наиболее влиятельным бельгийским князьям, был зато совершенно безразличен Вильгельму Генегаускому. Он один сохранял свободу действий, обеспечившую ему влияние у всех его соседей и делавшую его как бы арбитром в их споре. Если бы даже его не связывали с английским королем крупные услуги и тесные семейные узы, то все же, несомненно, к нему обратился бы Эдуард III в поисках союзников в Нидерландах. Вильгельм, преждевременно состарившийся и «так жестоко страдавший от подагры и песка в моче, что он не в состоянии был двигаться»[974], сохранил, однако, всю гибкость своего ума и без всяких колебаний поставил к услугам своего зятя всю ту политическую ловкость, множество доказательств которой он дал. Уже в декабре 1336 г. начатые им переговоры привели к столь благоприятным результатам, что Эдуард, сбросив маску, назначил его своим уполномоченным в Нидерландах[975]. Валансьен, любимая резиденция графа, стал открыто местом средоточия английских эмиссаров, которые расточали обещания и деньги, и которые, стремясь ослепить всех богатством своего господина, «вели широкий расточительный образ жизни, не жалея никаких средств, точно здесь был сам король своей собственной персоной»[976]. Нетрудно было склонить на сторону Англии графа Гельдерского, который в 1332 г. женился на одной из сестер Эдуарда, а также ряд владетельных князей с берегов Мааса и Рейна — графов Лооза, Юлиха и Марки, которые за деньги обязались предоставить английскому королю несколько сот «закованных в железо бойцов». Но помощь этих сеньоров, далеких от французской границы и обладавших незначительной силой, могла служить лишь дополнением к большой задуманной коалиции. Совсем иное значение имели как по расположению своих территорий, так и по своей силе, герцог. Брабантский, граф Фландрский и епископ Льежский. Вильгельм и король пустили в ход все, чтобы добиться присоединения их к коалиции, но это им удалось лишь частично. Если Иоанн Брабантский заставил усиленно просить себя, прежде чем обещать свою помощь, то не потому, что его удерживали его договоры с французским королем. От своих предков он научился не усложнять политики моральными соображениями; он делал вид, что колеблется, лишь для того, чтобы запросить большую цену за свою помощь. Он согласился продаться, лишь получив огромные субсидии для себя, а для своих городов — торговые интересы которых князья из его рода никогда не отделяли от своих династических интересов — обещание, что складочным местом английской шерсти станет Антверпен[977]. Вопрос о Мехельне тоже оказал свое влияние на поведение герцога. Разрыв с Филиппом Валуа давал ему отличный предлог для захвата города. Вступление Иоанна III в английскую коалицию явилось для льежского епископа самым сильным мотивом отстраниться от нее. Он был слишком злобно настроен против брабантца, чтобы решиться сражаться в одних рядах с ним. Летом 1337 г. у него произошел новый конфликт с последним, и он воспользовался этим, чтобы еще теснее связать узы, соединявшие его с Францией и с близким союзником последней — Иоанном Слепым. В то время как его немецкие родственники продались Эдуарду, он обещал Филиппу Валуа за 15 000 парижских ливров привести в Компьен отряд в 500 вооруженных людей (29 июля)[978]. Позиция Людовика Неверского была еще более определенной, чем позиция епископа. С Францией его связывали не только полученное им воспитание, феодальные обязанности и заключенный им брак, но и честь повелительно диктовала ему не покидать короля, который спас его в битве при Касселе и вернул ему его графство. Не обращая внимания на самые настойчивые заманчивые предложения, он безоговорочно стал на сторону Филиппа Валуа, принеся все в жертву признательности. В 1336 г. он без всяких колебаний запретил, несомненно по приказу французского короля, торговлю с Англией[979], вызвав тем самым лишний раз гнев против себя городов, все могущество которых он, однако, уже узнал на опыте.
Церковь Сен-Ромбо в Мехельне (XIII–XV в.)
Первое сражение Столетней войны произошло на территории Нидерландов. Хотя начало военных действий не было официально объявлено, но французский и английский флоты открыли их в Ла-Манше и в Северном море летом 1337 г., а 11 ноября английские войска напали на остров Кадзант и отплыли назад, изрубив фламандский отряд, охранявший морское побережье[980]. Впрочем, эта стычка не имела никаких последствий. Эдуард, занятый военными приготовлениями, не мог еще в течение нескольких месяцев начать серьезную борьбу. Наконец 16 июля 1338 г. он снялся с флотом в 400 судов с Ярмутского рейда, направившись к устью Шельды и на следующий день высадился в Антверпене[981]. По прибытии своем в Антверпен он должен был испытать сильнейшее разочарование. Ни один из князей, за помощь которых он заплатил так дорого, не был еще готов. Герцог Брабантский, которого смерть Вильгельма Генегау (7 июня 1337 г.) сделала самым влиятельным из союзников, проявлял странную медлительность, а остальные — сообразовывали свое поведение с его позицией[982]. Вместо того чтобы тратить время на переговоры с ними, король решил добыть себе юридический титул, который позволил бы ему заставить их выступить. За год до этого он вступил в союз с императором Людовиком Баварским, через посредство их общего тестя — графа Генегау и, хотя он знал, что Людовик, находясь в крайне затруднительном положении, не мог ему оказать никакой реальной помощи, но он надеялся получить от него полномочия, которые усилили бы его авторитет в Нидерландах. Ведь герцог Брабантский утверждал, что он выступит против Франции лишь по приказу своего сюзерена[983]. Эдуард мог вскоре убедиться в неискренности этих заявлений. Титул наместника Империи, торжественно данный ему Людовиком Баварским в Кобленце 5 октября, нисколько не улучшил его положения. Герцог нашел новые предлоги, чтобы не выполнять своих обязательств. Лишь протомившись в Антверпене целый год, Эдуард смог наконец убедить его принять участие в походе, который, будучи затеян в слишком позднее время года, плохо снаряженный и вяло руководимый, ограничился лишь безуспешным рейдом на французскую границу (октябрь 1339 г.)[984].
II
Арест английских купцов во Фландрии по приказу Людовика Неверского в 1336 г. неминуемо повлек за собой репрессии со стороны Англии. Эдуард ответил на это запрещением вывоза шерсти и ввоза иностранных сукон в свое королевство. Этим он одновременно лишил фландрскую промышленность сырья и закрыл для нее один из ее главных рынков. Эти мероприятия были тем более искусны, что, поразив Фландрию в самое чувствительное для нее место, они в то же время оказались выгодными для Англии. Действительно, Эдуард с самого начала своего царствования стремился создать в своем государстве, суконную промышленность. Путем значительных привилегий Ьн уже привлек в Англию известное число ремесленников из Нидерландов[985], и запрещение вывоза шерсти способствовало оживлению в Великобритании промышленной деятельности, которой суждено было через полвека составить грозную конкуренцию для Фландрии. Англия, перерабатывавшая сама хотя бы часть производимой ею шерсти, не испытывала уже, как в предыдущем веке, такую нужду в сбыте ее своей соседке, и поэтому разрыв торговых сношений был для нее значительно менее чувствителен, чем для последней. Впрочем Эдуард сохранил в силе запрещение лишь по отношению к Фландрии. Он позволил брабантцам приобретать сырье в своем королевстве и обязался даже устроить в Антверпене складочное место для шерсти, тогда как до того главным рынком ее был Брюгге. Зато он старался добиться настоящей блокады по отношению к фландрцам, пытался удалить из Звина немецких купцов[986] и просил короля Кастильского тоже прекратить всякие сношения с графством[987]. Заминка в промышленности и запустение портов вскоре превратились для Фландрии в страшное бедствие. Для этой страны больших городов и крупной промышленности, которая, как писал некогда Гюи де Дампьер Филиппу Красивому, не могла существовать своими собственными ресурсами и жила за счет иностранцев, безработица была гибелью. Первыми жертвами ее оказались рабочие суконной промышленности, не имевшие иных источников существования, кроме своей ежедневной заработной платы. Едва только их станки перестали работать, как они, подобно теперешним углекопам в моменты крупных стачек, рассыпались группами по деревням, стараясь чем-нибудь заполнить свое безделье и выпрашивая хлеб у крестьян. Голодные толпы рабочих добирались до области Турнэ и проникали даже довольно глубоко во Францию, свидетельствуя таким образом далеко на чужбине о жестокости кризиса, переживаемого графством[988]. «Три города» стали тотчас же искать средств для борьбы со столь внезапной катастрофой. Они отлично знали, что граф, вызвавший ее, в состоянии был положить ей конец. В течение всего 1337 года они непрерывно вели с ним переговоры, «чтобы найти путь к восстановлению промышленности» (omne raede ende wechte vindene over de neringhe)[989]. Но сколько бы ни происходило «совещаний» («parlements»), нельзя было прийти ни к какому соглашению. Хотя сам Людовик Неверский только и мечтал о том, чтобы ликвидировать кризис в стране, однако он упорно отказывался от единственного средства, способного изменить положение, а именно от сближения с Англией. Он не допускал и мысли о переговорах с врагами Филиппа Валуа, и в конфликте между обязанностями по отношению к народу и обязанностями по отношению к сюзерену, он, как верный вассал, прислушивался к голосу последних. Без всяких колебаний он пожертвовал своими подданными ради своего господина и своей гуманностью ради, присяги. Но способны ли были города понять политику, вдохновлявшуюся исключительно рыцарским идеалом? А если бы они ее и поняли, то могли ли они принести ей в жертву свои насущнейшие интересы и пойти на голод для того, чтобы избавить Людовика Неверского от совершения предательства? Разве Франция, по отношению к которой их государь обнаруживал столь пагубную для них лояльность, не была в течение 40 лет врагом Фландрии? И разве совсем свежие еще воспоминания о битве при Касселе не должны были усиливать у ремесленников ожесточение, вызванное нуждой? Им должно было казаться, что граф и король готовят новый заговор, жертвой которого еще раз должен был стать народ. Ипр и Брюгге после того, как их стены были снесены, а цехи разоружены (1328 г.), были не в состоянии пойти на риск нового восстания. На этот раз сигнал к сопротивлению дал Гент — их ожесточенный противник во время последней войны. Гент очень выгадал от помощи, оказанной графу его патрициями из ненависти к народной партии во время великого восстания приморской Фландрии. Пока продолжались волнения, Людовик Неверский и Филипп Валуа непрерывно расточали городу доказательства своей признательности[990]. Они не решались мешать расширению его власти и его влияния в стране. Но по восстановлении порядка доброму согласию пришел конец. Поражение демократии отняло у бюргерской аристократии могущественного города единственное основание, побудившее его объединиться с князем, и чем больше росло его влияние, тем более независимым и непокорным становился он теперь. В 1333 г. Людовик обвинил гентцев в том, что они, вопреки Аркскому миру, сохранили своих капитанов и своих деканов, взимали без его согласия налоги («maltotes»), оказывали сопротивление его бальи и разбирали перед своими эшевенами большинство уголовных дел Ваасской области и области Четырех Округов[991]. Прекращение торговли с Англией окончательно испортило уже и без того натянутые отношения. Гент решил бороться с политикой, приносившей Фландрию в жертву французскому королю. В то время как шли переговоры с графом, он не колеблясь завязал сношения с Англией через посредство одного из своих внешних горожан, рыцаря Сигера из Куртрэ[992]. Арест последнего по приказу графа[993] послужил поводом к окончательному разрыву. Патриции, с столь давних пор управлявшие городом, объединились с теми самыми ткачами, все попытки которых к восстанию они еще недавно беспощадно подавляли. В начале января 1338 г. патриции и городская община единодушно решила поставить во главе города революционное правительство из пяти капитанов (hooftmannen) и трех старшин от ткачей, сукновалов и мелких цехов (3 января 1338 г.). Это событие, заменившее в истории Фландрии гегемонию Брюгге гегемонией Гента, повлекло за собой появление на исторической арене самого знаменитого из политических деятелей бельгийского бюргерства в Средние века, а именно Якова Артевельде[994]. Артевельде обязан своей славой Фруассару. Воображение великого повествователя пленилось фигурой агентского мудреца, и он оставил нам яркий и красочный образ его. Впрочем, в его рассказе не следует искать какой-либо политической тенденции. Он был необычайно далек от того, чтобы высказывать суждения о своем герое. Он любуется им с сочувствием живописца, восхищающегося своей моделью; он бесстрастно описывает его, как художник, и если угодно, как дилетант. Посреди энтузиазма одних и ненависти других, он остается беспристрастным благодаря своей наивности и искренности. Отсюда, однако, не следует, что он оставил нам точное изображение Артевельде. Ведь он писал значительно позже, на основании устных преданий, а не критически собирая сообщавшиеся ему сведения. Можно предположить, что он не боролся с искушением переработать эти, сведения по прихоти своей фантазии. Но партийные страсти еще больше исказили реальность. Позднейшие предания, распространявшиеся в консервативной среде во Франции, и даже во Фландрии, рисуют нам гентского вождя в образе жестокого тирана, который, совершив ряд вероломств и преступлений, умер в нужде и без церковного погребения[995]. Этой клевете фламандские песни, отзвуки которых слышатся вплоть до XV века, противопоставляли, несомненно, совсем иную, но не менее легендарную, версию[996]. Артевельде может гордиться не только тем, что он вдохновил величайшего писателя XIV века и породил двойной цикл легенд: ему еще более повезло в наши дни. Современные историки, столь благосклонные к народным героям старались перещеголять друг друга, наделяя его всяческими душевными и умственными качествами. Под влиянием глубокого патриотизма, а еще более, пожалуй, той естественной тенденции, которая заставляет нас объяснять деятельностью великого человека коллективное и сложное дело истории, они увидели в знаменитом трибуне предшественника национальной независимости, гениального законодателя, дальновидного дипломата и политика. Словом, они отвели в истории Бельгии Артевельде такое же место, которое так долго занимал в истории Швейцарии Вильгельм Телль. У Артевельде — как, впрочем, и у Вильгельма Телля — нашлись свои поэты. Дав Консиансу сюжет для одного из его знаменитейших романов, он, со своей стороны, содействовал возрождению фламандской литературы. Но, может быть, возможно правильно понять эту так непомерно превознесенную фигуру, поместив Артевельде в ту среду, в которой он жил. Роль его, сведенная к ее настоящим размерам, не перестает быть очень крупной, а фигура его, взятая в надлежащей пропорции, остается все же импозантной. Между Яковом Артевельде и фландскими демагогами, которых мы встречали до сих пор, вроде, например Петера Конинка, Заннекина или Якова Пейта — целая пропасть. Не будучи подобно им выходцем из народных низов, он принадлежал к тому классу богатых купцов-суконщиков, которые с начала XIV века сменили прежних «Leliaerts» в управлений Гентской городской общиной[997]. Он владел польдерами в области Четырех Округов, женился на богатой женщине, жил в самом центре города, в приходе св. Иоанна, квартале, населенном, главным образом, патрициями. Некоторые из его предков занимали муниципальные должности, и сам он был в 1326–1327 гг. одним из сборщиков налога на ткачей после их восстания в 1325 г.[998] Из этого можно заключить, что его политические стремления нисколько не отличались от тенденций того социального класса, к которому он принадлежал, и что он питал к рабочим суконной промышленности те же чувства недоверия и вражды, как и другие городские капиталисты. Ему было, по-видимому, около пятидесяти лет, когда разразился промышленный кризис 1337 г. Последовавшие за этим политические волнения, несомненно, дали ему повод выдвинуться благодаря его красноречию и энергии. Когда наступили январские события 1338 г., он приобрел уже такой авторитет у своих сограждан, что получил не только звание «hooftman» прихода св. Иоанна, но и перевес над своими коллегами из четырех остальных приходов[999]. Таким образом он стал главой города. Хотя Артевельде пришел к власти через восстание, направленное против графа, в нем никоим образом нельзя видеть избранника городской демократии. Инициаторами январского переворота 1338 г., в отличие от политических восстаний в городах, с которыми мы встречались до сих пор, были, как мы видели, все классы гентского населения, отказавшиеся от своих внутренних распрей ради успешного сопротивления своему государю. Партии вступили в соглашение между собой для раздела городской власти. Патриции допустили к ней старшин ткачей, сукновалов и мелких цехов, но со своей стороны дали трех из пяти «hooftmannen» и в числе их наиболее влиятельного из всех — Артевельде[1000]. Впрочем, задачи членов нового правительства — независимо от того вышли ли они из народа, или из среды купцов — были ясно намечены. Большой промышленный город, вверивший им руководство своими делами, ожидал от них, что они положат конец промышленному кризису, от которого страдал город, что они вдохнут жизнь в его мастерские и добьются любой ценой от английского короля разрешения ввозить во Фландрию кормившую ее шерсть. Задача общественного спасения диктовала им программу, основанную на единении и солидарности. Дело шло уже не о борьбе за власть, вопрос стоял для бедняков о возможности жить, а для богачей о том, чтобы не разориться. Избранники, безразлично ремесленники или патриции, одинаково понимали свою миссию. 17 января 1338 г., через две недели после занятия своих должностей, они вступили в переговоры с графом Гельдернским, одним из уполномоченных Эдуарда III[1001]. Нет надобности описывать, какой прием встретили их предложения. Король убедился, что его политика победила: доведенная до голода Фландрия обращалась к нему, и он, конечно, не решился дольше отказывать ей в шерсти, являвшейся источником ее существования. Появление опять в стране шерсти было встречено с ликованием. Гентцы объединили с этого времени вокруг себя всю Фландрию. Артевельде, руководившего переговорами, приветствовали, как спасителя страны. Народ, сообщает один хронист, смотрел на него, как на бога[1002]. Какое значение мог иметь посреди этого ликования интердикт, наложенный по требованию французского короля на Фландрию[1003]? Только силой оружия можно было заставить города подчиниться Людовику Неверскому и вернуться к нужде, разорвав с Англией. Но война неизбежно повлекла бы за собой их союз с Эдуардом и, предоставив графство в распоряжение последнего, дала бы ему превосходный плацдарм против Франции. Филипп Валуа ясно увидел опасность и для борьбы с ней переменил свою тактику. Он заставил графа помириться со своими подданными (5 мая), чтобы иметь возможность следить за их интригами[1004]. Со своей стороны он заявил о готовности приступить к переговорам с Гентом. Он знал, что город не желал ничего иного, кроме того, как остаться нейтральным в предстоящей великой борьбе между Францией и Англией, и что, если он не хотел снова ссориться с Эдуардом III, то с другой стороны, он совершенно и не помышлял о том, чтобы бороться за его дело. Его политика руководилась исключительно торговыми интересами, и он хотел — но зато твердо и решительно — такого modus vivendi, который навсегда устранил бы возможность повторения недавнего кризиса. Французский король вынужден был считаться с этой ситуацией, во избежание худшей. Он решил признать нейтралитет Фландрии, если английский король поступит таким же образом. В июне 1338 г. гентцы получили, как бы во исполнение своих самых пламенных надежд, одну за другой грамоты, в которых оба короля разрешили фландрцам свободную торговлю в своем государстве и в государстве своего противника и обязывались не проходить через графство со своими войсками[1005]. Политика нейтралитета, которую крупная промышленность диктовала Фландрии, та политика, рупором которой был когда-то Гюи де Дампьер, восторжествовала на сей раз вопреки князю и благодаря инициативе города. К несчастью, этот столь желанный нейтралитет не мог быть длительным[1006]. Филипп Валуа и Людовик Неверский согласились на него лишь потому, что не могли помешать ему; что же касается Эдуарда, то если он временно удовольствовался им, то лишь с задней мыслью — заменить его вскоре открытым союзом с фландрцами. Кроме того, июньские договоры ставили последних в слишком ненормальное положение, что оно могло быть длительным. Признавая за ними свободу торговли с обеими воюющими сторонами, они сохраняли феодальные обязанности графа по отношению к Франции, так что политика государя и политика его подданных отныне оказались в резком противоречии. Гентцы отлично понимали, что если граф примет участие в борьбе между Валуа и Плантагенетами, то страна неминуемо будет втянута в нее, и решили не допустить катастрофы, которая грозила всем приобретенным ими привилегиям. Во время пребывания Людовика Неверского во Фландриил летом 1338 г., они поступили с ним так, как поступили с Людовиком XVI французы во время революции. Их могущество было слишком велико, их влияние во Фландрии слишком прочно, чтобы граф мог мечтать о сопротивлении. Он притворился, что питает к ним полное доверие: в сентябре во время большой процессии в Турнэ, куда гентцы ежегодно посылали многочисленную депутацию, он появился в их рядах, одетый в их цвета, подобно тому, как французский король в 1792 г. надел на голову фригийский колпак[1007]. Он надеялся, что, добившись новых уступок со стороны Филиппа Валуа, он сможет освободиться от этой тягостной опеки и оторвать Фландрию от Англии. В конце января 1339 г. он сумел убедить Филиппа окончательно ликвидировать ненавистные условия Атисского мира. Король отказался не только от всей остававшейся еще доли контрибуций, но и от отряда в 600 вооруженных бойцов, который фландрцы должны были доставить ему в случае войны. Такая жертва ясно показывала, как велико было беспокойство, вызванное у французского короля поведением гентцев. Текст королевских грамот еще более характерен в этом отношении. Король делал вид, что он видит во фландрцах лишь «грубых, простых и невежественных» людей, которых следует взять кротостью, он явно избегал называть их бунтовщиками, он долго останавливался на своем «великодушии» по отношению к ним и на своих «милостях и благодеяниях, столь огромных, что ни один из наших предшественников, насколько нам известно, не сделал ничего подобного»; наконец, он протестовал в выражениях, которых его канцелярия никогда еще до сих пор не употребляла, против того, будто он замышляет «разбогатеть за счет их добра», уверяя, что он желает лишь их «благополучия» и их дружбы[1008]. Но эта капитуляция и эти сердечные излияния пришли слишком поздно. В тот момент, когда был послан королевский указ, Эдуард уже 6 месяцев находился в Антверпене, не жалея никаких средств, чтобы побудить фландрцев стать на его сторону. Поведение Филиппа Валуа, в котором они, несомненно, увидели доказательство слабости, должно было сделать их более сговорчивыми по отношению к обещаниям и домогательствам английского короля. Накануне предстоявшей великой войны стали вспоминать старые пророчества, предвещавшие окончательную победу Фландрии над Францией[1009]; воспоминания о битве при Куртрэ разгорячали умы; в народе распространялись антифранцузские настроения; к этому присоединялись еще увещания издалека германского императора, заставлявшие «три города» думать, что приближается момент грандиозной борьбы всех народов немецкого языка против walsche tongue (французского языка)[1010]. Таким образом, с течением времени авторитет Франции в глазах фламандцев все ослабевал, между тем как авторитет Англии все возрастал, и некогда столь желанный нейтралитет стал терять свою первоначальную привлекательность. Наконец, не следует забывать, что Гент видел в союзе с Англией гарантию своего положения во Фландрии, где он занимал теперь первое место, которое в течение столь долгого времени было уделом Брюгге. Всякое усиление английского влияния в графстве, естественно, должно было сопровождаться соответствующим усилением влияния Гента, и все говорит за то, что мысль о формальном союзе с Эдуардом должна была возникнуть в уме Артевельде уже в начале 1339 г. Однако он колебался еще до конца года, прежде чем решиться сделать шаг, всю серьезность которого он не мог не сознавать. Фламандцы не приняли никакого участия в безуспешной экспедиции. против Франции, предпринятой Эдуардом в октябре. Но именно неудача этой бесславной кампании толкнула их в английский лагерь. Английский король убедился теперь, что силы, которыми он располагал, были недостаточны, и он вернулся в Антверпен с твердым решением сделать все, чтобы добиться, наконец, от Фландрии безоговорочного присоединения к его политике. 13 ноября 1339 г. он сделал последнюю попытку склонить на свою сторону Людовика Неверского, предлагая ему в четвертый раз руку английской принцессы для его сына, обязавшись вернуть Фландрии ее старые границы[1011]. Но Людовик продолжал не без известного высокомерия приносить в жертву феодальной лояльности самые насущные интересы своей династии. Он не желал получить из рук англичанина города Аилль и Дуэ, на возвращение которых дому Дампьеров надеялся еще, умирая, Роберт Бетюнский. И, несомненно, опасаясь, как бы в случае своего дальнейшего пребывания в графстве, он не был вынужден гентцами подчиниться их воле, он под предлогом тяжелой болезни графини отправился в Париж[1012], предпочитая скорее потерять свое наследственное достояние, чем оказаться вовлеченным в события, ход которых он предвидел, предоставив Артевельде руководить политикой Фландрии. Именно с этого момента по-настоящему выступает личная роль гентского «капитана». До сих пор он скорее позволял событиям руководить собой, чем руководил ими сам. Хотя переговоры о признании фландрского нейтралитета между Францией и Англией велись, несомненно, им, однако нейтралитет этот так повелительно диктовался необходимостью выйти из промышленного кризиса, и, кроме того, так непосредственно совпадал с вековой политикой графства, что невозможно видеть в этом плод какой-то личной инициативы. Но совсем иное дело союз с Эдуардом. При всем недоверии и неприязни Фландрии к Франции ничто не делало разрыва неизбежным. И в особенности, после восстановления торговых сношений, ничто не понуждало фламандцев солидаризироваться с Англией, жители которой к тому же были всегда им крайне антипатичны[1013]. Кроме того, после окончательной отмены условий Атисского мира для них не было никакого смысла начинать новую войну со своим сюзереном. Правда, Лилль, Дуэ и Орши оставались за французской короной, но можно с уверенностью сказать, что отнюдь не желание вернуть их вдохновляло Артевельде, ибо он ничего не предпринял для этого. Есть только одно объяснение для его поведения: его следует рассматривать, как смелую попытку добиться для Гента, с помощью Англии, гегемонии во Фландрии, и обеспечить ему такое же положение среди других городов, какое занимала тогда Флоренция в Тоскане. Словом, внешняя политика Артевельде определялась соображениями городской политики, и знаменитый трибун нисколько не опередил своего времени: в нем приходится видеть прежде всего гентца. Его личный авторитет, а также могущество большого города, во главе которого он стоял, сделали возможным в течение некоторого времени осуществление плана, которому нельзя отказать ни в смелости, ни в героизме, но окончательный успех которого был невозможен. Бегство графа ускорило ход событий. Артевельде немедленно распорядился назначить «Ruwaert», т. е. правителя на время отсутствия государя. Вопреки тому, что произошло в 1327 г., эти полномочия не предоставлены были теперь члену графского дома. Гентцы передали их новому лицу, бывшему, впрочем, лишь послушным орудием в их руках, именно Симону ван Галену. Этот Симон происходил из одной из столь многочисленных в то время во Фландрии ломбардских банкирских семей, именно из рода Мирабелло. Удачными ростовщическими операциями он составил себе крупное состояние. Он был возведен в звание рыцаря и женился на побочной сестре графа[1014]. Артевельде остановил на нем свой выбор, несомненно, в такой же мере из-за его богатства, как и из-за его преданности Англии. Ничто так красноречиво не свидетельствует о том, каким духом проникнута была городская политика, как это возвышение банкира до роли правителя страны. Впрочем, еще более поучительно констатировать, что прологом к окончательному союзу Гента с Англией — был торговый договор 3 декабря 1339 г. Фландрия и Брабант, принимая во внимание, что «эти две страны полны людей, которые не могут существовать без торговли», вступили в тесный союз друг с другом, обещали помогать друг другу в случае нападения на них, гарантировать свободу торговых сношений, чеканить общую монету и создать третейский суд для мирного разрешения всех споров, которые могли бы возникнуть между договаривающимися сторонами[1015]. Несколько недель спустя к этому договору примкнул граф Генегау и Голландии[1016]. Хотя имя Людовика Неверского фигурирует еще для проформы в этом договоре, но его без всяких сомнений можно считать делом рук Артевельде. Собираясь порвать с Францией, гентский «капитан» желал обеспечить себе помощь соседних владений, чтобы обезопасить себя таким образом от опасностей, которые могла повлечь за собой его политика. При этом он, бесспорно, действовал в полном согласии с английским королем. Эдуард мог с радостью наблюдать, как Артевельде объединял в один сплоченный союз его прежних лотарингских и его новых фландрских союзников. Однако значение и оригинальность этого договора 1339 г. не следует преувеличивать, как это часто делалось. Рост торговых связей еще раньше вызвал аналогичные соглашения между различными нидерландскими княжествами. Идея единой монетной системы и создания третейских судов была выдвинута тогда не впервые[1017]. В связи с усилением экономической деятельности, мелкие бельгийские государства все теснее сближались между собой, и в длинной цепи их договоров соглашение 1339 г. является лишь одним из ее звеньев. Если он отличался от предыдущих договоров, то лишь крупной ролью, отводимой им большим городам. Союз Фландрии с Брабантом и Генегау равносилен был объявлению войны Франции. Артевельде не скрывал этого. В конце 1339 г. он стал говорить о необходимости уничтожить Калэ, это «разбойничье гнездо тех, кто грабили и убивали купцов»[1018]. Прикрываясь беспомощным ван Галеном, он стал отныне управлять графством, как настоящий диктатор. Он пренебрегал видимостью власти, предпочитая обладать реальностью ее. Он довольствовался своим званием «hooftman» прихода св. Иоанна, и его имя не фигурирует нигде в официальных документах того времени. В самом Генте он выделялся среди своих коллег из других приходов лишь большим размером получаемого им от города годового жалования и числом слуг (knapen), составлявших его личную охрану. Но все знали, что событиями руководит его воля. Встревоженный бальи Калэ поручил шпионам следить за всеми его самыми ничтожными поступками и доносить ему о всех его речах[1019]. Артевельде столько же обязан был этим исключительным авторитетом могуществу Гента, сколько и доверию к нему Эдуарда III. Фламандцам он казался поверенным и близким другом английского короля, одно слово которого могло погубить их возрождавшуюся промышленность, богатства которого казались неисчерпаемыми, о котором с восхищением рассказывали, будто рубины его короны своим блеском, подобно лампе, рассеивают ночной мрак[1020]. Между обоими этими людьми установилось такое сердечное согласие, что в их единой линии поведения невозможно отделить долю инициативы каждого из них. Кто сможет сказать, Артевельде ли, вдохновляясь примером Вильгельма Де Декена, побудил Эдуарда принять титул и герб французского короля, или же это раньше пришло в голову самому Эдуарду? Это тяжкое оскорбление было нанесено Филиппу Валуа в Генте 26 января 1340 г. на том самом Пятницком рынке, на котором высится в настоящее время статуя Артевельде. Английский король торжественно принял, в качестве законного наследника Людовика Святого, присягу эшевенов «трех городов» и, держа руку на Библии, поклялся соблюдать их права и их независимостьIII
Успех и падение Артевельде объясняются описанным нами выше политическим и социальным устройством фландрских городов. Интересы суконной промышленности, являвшейся источником существования больших городов, независимость по отношению к князю, которой они добились к концу XIII века, стремление их к гегемонии над мелкими городами и сельскими местностями, и наконец, честолюбивая мечта Гента первенствовать во Фландрии, нашли в Артевельде энергичнейшего и талантливейшего защитника и снискали ему единодушную поддержку всех классов городского населения. Но интересы этих классов были слишком противоположны, чтобы согласие их могло быть продолжительным. В силу противоречия интересов между богатыми и бедными, купцами и рабочими, мелкими цехами и цехами, занимавшимися обработкой шерсти, затем противоречий внутри самих этих цехов, и наконец, ввиду соперничества между ткачами и сукновалами, гармония первых дней вскоре сменилась столкновениями и гражданской борьбой. Победа ткачей подорвала авторитет Артевельде. Власть, которой он пользовался вне партий, или, если угодно — над ними, перешла теперь к самой сильной и смелой из них. «Капитан» прихода св. Иоанна пал жертвой своей борьбы против исключительного господства цеха weverie (ткачей). Было бы глубоко ошибочным искать причины его падения в его политике по отношению к Англии[1042]. Действительно, союз гентцев с Эдуардом остался столь же тесным и сердечным после убийства Артевельде, как и до него. В июле 1345 г. король писал виконту Ланкастерскому, что Фландрия никогда не была ему более преданной[1043]. В следующем году «три города» доказали свою преданность английской политике, послав войска для осады Калэ. Словом, смерть Артевельде, бывшая результатом борьбы городских клик, знаменовала сперва для Гента, а вскоре затем и для других больших городов приход к власти партии ткачей. Однако она отнюдь не означала перемены ориентации во внешней политике. Но именно в силу того, что при новом строе вся власть сосредоточилась в руках одной определенной социальной группы, исключавшей все остальные, она немедленно наткнулась на сильнейшее сопротивление. Враги ткачей — купцы, сукновалы и мелкие цехи — без всяких колебаний заключили союз против них и объединили свои силы с силами небольших городов и сельских местностей. Как ни различны были их стремления и их интересы, но на время они объединились на общей платформе восстановления законного правительства, т. е. возвращения графа и восстановления его верховных прав. Людовик Неверский не воспользовался этой возможностью. Находясь почти постоянно во Франции в королевских войсках, он предпринял против Фландрии лишь несколько плохо задуманных и потерпевших неудачу попыток. Впрочем, год спустя после убийства Артевельде, 26 августа 1346 г., он пал в битве при Креси, сражаясь с англичанами под знаменами Филиппа Валуа, ради которого он пожертвовал всем, кроме феодальной чести. Эта смерть равносильна была исполнению заветнейших желаний английского короля. Действительно, Эдуард вынужден был удовольствоваться союзом с фландрскими городами лишь потому, что он не мог добиться союза с их государем[1044]. Присоединение графа, придя в законнейший характер его притязаниям на французскую корону, было бы в его глазах гораздо более ценным, чем помощь Артевельде, и он отказался от переговоров с Людовиком Неверским лишь убедившись под конец в бесплодности всех предпринятых им шагов. Но Людовик Мальский, свободный от обязательств по отношению к Филиппу Валуа, должен был, несомненно, оказаться уступчивее своего отца. Можно было надеяться, что он согласится принести ту присягу, от которой последний всегда с отвращением отказывался, и что, наконец, будет заключен его брак с одной из принцесс из дома Плантагенетов, руку которой ему тщетно предлагали пять раз подряд[1045]. Со своей стороны, гентские ткачи не могли не высказаться в пользу своего законного государя, который принес бы присягу Эдуарду и, ввиду его молодости, они рассчитывали легко склонить его к этому. Таким образом, те самые люди, которые особенно решительно и упорно выступали против Людовика Неверского, были вполне готовы принять его сына, прибытие которого во Фландрию было встречено с восторгом всеми партиями. Хотя Людовик Мальский вынужден был впоследствии вести политику, заставившую его порвать с Францией, однако нет ничего удивительного в том, что он не мог решиться жениться на дочери Эдуарда III через такой короткий срок после битвы при Креси. Его поддерживал, кроме того, в его сопротивлении герцог Брабантский, в свою очередь старавшийся связать его путами брака с, о своим домом. Когда Людовик заметил, что, несмотря на его нежелание, гентцы хотят заставить его жениться на Изабелле Английской, он поспешно покинул графство. Чем более надежд породило его возвращение у противников партии ткачей, тем больше ненависти против этой партии вызвал его отъезд. Господство цеха «weverie» в больших городах, гегемония Гента над сельскими местностями становились все более ненавистными и в 1348 г. привели к гражданской войне. Вольный Округ Брюгге поднялся в пользу графа; Оденард, Граммон, Термонд открыли ему свои ворота или приняли его гарнизоны. В Брюгге на ткачей напали другие цехи, разоружившие их и истребившие многих из них. Та же участь постигла вскоре ипрских ткачей[1046]. Один только Гент, куда спаслись беглецы из других городов, держался еще против всей остальной Фландрии. Разграбление аббатств, конфискация доходов графа, принудительный заем дали ему средства для ведения войны, а демократический идеал — вдохновил его на тот дикий героизм, который так часто с тех пор изумлял его врагов. Покинутые английским королем, с которым примирился Людовик Мальский (Дюнкирхенский мир, 25 ноября 1348 г.), блокируемые со всех сторон, доведенные до голода, страшно страдая от «Черной смерти», гентские ткачи не желали сдаться, а их «капитан» поклялся, что для него нет другого кладбища, кроме большого рынка[1047]. Но сукновалы, большинство мелких цехов, все богатые горожане покинули их и примкнули к армии графа. Ткачам оставалось только ждать финальной катастрофы. Не будучи в состоянии обеспечить защитниками огромную стену, окружавшую город, они окопались на Пятницком рынке. Наконец, 13 января 1349 г. их враги проникли в город, завязали с ними неравную борьбу, разбили их наголову, сбросив остатки их в реку Лис, и таким образом закончили подчинение той Фландрии, которая, по словам Жилля ле Мюизи «тревожила так долго не только французское и английское королевства, но и весь христианский мир»[1048]. Людовик Мальский не продолжал той политики, которую проводил его отец после битвы при Касселе. Несмотря на многочисленные казни, привилегии страны были сохранены. Однако с ткачами обошлись сурово. Их не только лишили преобладания в городах, которым они пользовались в течение последних лет. В Генте они перестали составлять один из трех «членов» городского управления, у них отняли их старшину, был восстановлен налог — weversgeld[1049]. В Брюгге за ними был учрежден строгий надзор. Многие из них предпочли покинуть страну, чем примириться с этим положением. Английский король поспешил дать им убежище, и графства Кент и Сэффольк, где они в большом числе поселились, стали центром промышленности, грозную конкуренцию которой Фландрии предстояло испытать полвека спустя. «Черная смерть» способствовала восстановлению мира еще больше, чем победа графа. Хотя в душах все еще продолжала кипеть неугасимая ненависть, но посреди обрушившейся на страны катастрофы, в опустошенных чумой городах у людей не хватало энергии для продолжения борьбы. Мор прекратил на некоторое время гражданскую войну.
Глава пятая
Территориальные конституции
До конца XIII века почти во всех нидерландских территориях князь, руководивший самолично внешней политикой, являлся также и в области внутренней политики центром и главным органом государственного управления. Благодаря усилению независимости от своего сюзерена он с ранних пор присвоил себе все верховные права, сделал свою власть строго наследственной и путем введения права первородства — неделимой.
Великое экономическое возрождение XII века благоприятствовало его усилению. Он отнял или откупил у своих вассалов, ослабевших вследствие уменьшения их доходов, права юрисдикции (justices), связанные с их феодами, и, сведя их к роли простых местных сеньеров, перестал делить с ними государственную власть, став отныне единственным носителем ее. Назначавшиеся и оплачивавшиеся им бальи повсюду заменили кастелянов феодальной эпохи. Благодаря им его влияние распространилось на все отрасли. Управление страной, сосредоточенное в его руках и передаваемое ответственным только перед ним чиновникам, стало недоступным для всякого постороннего вмешательства. Сверх старых обычных институтов оно ввело новые нормы и принципы, представлявшие по сравнению с последними такой же резкий контраст, как во франкскую эпоху королевское право капитуляриев по сравнению с правом национальных «правд».
Формы финансовой, военной и судебной организации, которую различные территории сохранили до конца Средних веков, в основных чертах сложились уже в середине XIII века; в то же время появилась также письменная отчетность, благодаря которой князь, сообщавший движение всему правительственному механизму, мог проверять и контролировать чиновников, которым было поручено приводить в движение различные колесики его.
Однако вместе с ростом влияния князя деятельность его начинает затрагивать интересы его подданных. Пока она была направлена против феодального дворянства, пока результатом ее было уничтожение устарелых привилегий и внесение порядка и правильности вместо сложного переплетения разных прав и «юрисдикции», она могла рассчитывать на поддержку огромного большинства населения. Деревенские и городские классы, видевшие в ней драгоценное орудие своего освобождения и своей независимости, охотно оказывали ей помощь. Но когда она закончила дело объединения, когда, пользуясь социальными переменами, вызванными пробуждением промышленности и торговли, она уничтожила все помехи к общению между людьми, ставившиеся прежней земледельческой цивилизацией, когда, наконец, жители различных княжеств, независимо от своей классовой принадлежности — будь они клирики, дворяне, горожане или крестьяне — оказались; связанными прямо с князем и непосредственно подчиненными его власти, они захотели разделить последнюю с ним. Они не желали предоставить ему монополию государственного управления, предоставить ему заботу о своих интересах и право залезать в их кошелек. Благодаря именно тому, что каждая территория составляла отныне единый политический организм, она, так сказать, сознала самое себя и заставила своего сеньора считаться с собой. Чем шире стали функции и разнообразнее деятельность правительственного механизма, тем сильнее стало желание подданных участвовать в управлении. Повсюду с начала XIV века наблюдается постоянный конфликт между князьями и их странами и повсюду в результате этого конфликта возникают компромиссы и соглашения, которые, комбинируясь между собой, дают начало конституциям разных территорий, устанавливающим роль и права обеих договаривающихся сторон.
Нигде эти конституции не развивались так стремительно и так полно, как в Нидерландах. Их живучесть была так велика, что ни бургундские герцоги, ни испанские короли, ни, наконец, позднее — австрийские императоры, не могли уничтожить их. Накануне нового времени брабантцы восстали против Иосифа II, во имя «Joyeuse Entree», а предлогом для льежскои революции 1789 г. послужил Фекский мир.
Как ни отличны были друг от друга институты, о которых мы собираемся говорить, однако все они сходны были в одном пункте. Действительно, в каждом из них поражает исключительная роль городов, и прежде чем приступить к изучению их, надо сначала выяснить, каковы были могущество и интересы этих крупных коммун, которым они обязаны наиболее оригинальными своими особенностями.
I
Если территориальное государство XIV века в деле организации своего внутреннего управления являлось ареной непрерывной борьбы между князем и страной, то зато в своих отношениях к соседним государствам оно характеризовалось полнейшим согласием и сотрудничеством. Подданные видели теперь в территории общее с их сеньором достояние и поэтому они были также непосредственно, как и он, заинтересованы в том, чтобы сохранить ее целостность и независимость. Они перестали смотреть на нее только как на наследственную собственность династии; они поняли, что она составляет гарантию их политической автономии и высшую охрану их интересов. Ее неотчуждаемость стала священной в их глазах[1050]. Мы видели выше, как энергично брабантцы помогали своему герцогу в 1334 г. против коалиции его противников. 20 лет спустя они заставили вписать в «Joyeuse Entree» обязательство князя охранять целость и неприкосновенность страны (onghesundert enbe onghemindert). Князья, разумеется, воспользовались этими настроениями, чтобы повсюду завладеть врезавшимися в их территории, чужеземными клиньями, чтобы округлить свои границы и совершенно закрыть к ним доступ для своих соседей. Граф Генегау выкупил феоды, которыми владел на его территории Иоанн Слепой[1051]; герцог брабантский, под конец, присоединил Мехельн к своему государству, он боролся всеми силами с попытками льежского епископа навязать свою юрисдикцию его подданным и получил в 1349 г. от императора Карла IV привилегию «de non evocando», освобождавшую брабантцев от обязанности являться на суд вне герцогства[1052] Выделяется и уточняется понятие о территориальном суверенитете. Повсюду, где князь обладал правом верховной юрисдикции, он желал отныне владеть также землей, и повсюду, где от него зависел какой-нибудь феод, он требовал также и права юрисдикции[1053]. Словом, чем дальше, тем больше каждая территория сплачивалась в единое неделимое целое, образуя все более спаянную и компактную массу, причем одновременно росла солидарность интересов князя и страны. Однако будучи единодушными в вопросе о суверенитете по отношению к постороннему вмешательству, князь и страна понимали его каждый по-своему в области внутренней политики, и в их разногласиях ясно обнаруживался коренной дуализм территориального государства. Непрерывный рост княжеских прерогатив в течение XIII века повлек за собой значительное изменение во взглядах князя на его власть. Он перестал смотреть на себя, как на защитника или фогта, открыто усвоив все манеры независимого государя. Он стал теперь приписывать себе божественное происхождение. Его власть вытекает-де из власти, данной богом сыновьям Ноя[1054], она делает его верховным, необходимым и естественным представителем всякого правосудия, основным условием сохранения порядка и права. Он повелевает страной точно так, как голова повелевает телом, он обладает altum dominium (высшей властью) над своими подданными, как над своими землями, и в качестве верховного сеньора он может закладывать их, «в силу могущества своей верховной власти»[1055]. Отныне государственная власть; воплощается в нем, и он безраздельно располагает ею по своему усмотрению. Он перестает созывать свою старую курию (curia) и прибегать: к той «повинности совета», которую феодальное право налагало на вассалов, подобно тому, как оно обязывало их к несению военной; повинности. С середины XIII века князь все более и более привыкает; действовать самолично, а в его грамотах исчезают имена свидетелей, некогда дававших свое согласие на его решения. В следующем веке он стал называть письменные проявления своей воли эдиктами и декретами[1056]. Феодальная курия исчезла лишь для того, чтобы уступить место, другому совету, который по сравнению с ней представлял такой же контраст, как бальи по сравнению с кастелянами., Этот новый совет, первые упоминания о котором восходят к концу XIII века, был простым орудием правительства. Он функционировал не в силу приобретенных прав, и никто не мог претендовать на участие в нем без формального распоряжения князя, создавшего его и назначавшего участников его по своему усмотрению. Князь назначал в него членов своей семьи, бальи, рыцарей, духовных лиц, но в особенности — и все в большем числе по мере приближения к бургундской эпохе — докторов права. Ничто: ни социальное положение, ни национальность не ограничивало его выбора. В Льежской области Адольф Маркский окружил себя немецкими советниками, а начиная с Гюи де Дампьера среди советников фландрских графов встречаются французские юристы и ломбардские банкиры[1057]. Таким образом, княжеский совет был свободен от всякого контроля, кроме контроля самого князя. Он существовал только в интересах князя и не занимался ничем другим. Кроме того, (члены его вдохновлялись при исполнении своих обязанностей чувствами, совершенно отличными от прежней феодальной верности. Многие из них, вышедшие из рядов горожан, духовенства или мелкого дворянства, попали в совет лишь благодаря своей учености или специальным знаниям. За их помощь князь платил им жалованье или ренты, он видел в них не вассалов, а слуг. Впрочем, он старался поощрить их преданность надеждой на щедрое вознаграждение. Свою благодарность он выражал им, давая им пребенды, каноникаты или даже епископства[1058]. Зато он был безжалостен к тем из них, которые злоупотребляли его доверием, и внезапная немилость к Бернье — в Генегау или к Финн — во Фландрии[1059] напоминает, — хотя и в более скромных размерах, — сенсационные падения французских министров XIV века. Эти неожиданные повороты в судьбе, непонятные для народа, бывшего их свидетелем, немало содействовали возникновению мрачных историй о политических отравлениях и убийствах, которые стали так широко циркулировать с этого времени. Княжеский совет с его секретными заседаниями приобрел в глазах общества таинственный характер, вызывая к себе лишь недоверие или ненависть. Его считали ответственным за все усиливавшиеся монархические тенденции, обнаруживаемые князем. Действительно, уже со второй половины XIV века князья стали в своем поведении явно копировать поведение французских королей. Альберт Баварский пытался в 1364 г. ввести в Генегау налог на соль[1060], а при его преемнике юрист Филипп Лейденский составил политическое руководство, в котором безоговорочно сформулировал теорию суверенитета[1061]. Достижения верховной власти выражались не только в этих нововведениях. Они проявлялись также в той непринужденности, с которой князь порывал с традицией. Функции канцлера Фландрии, принадлежавшие с 1089 г. пробсту церкви св. Донациана в Брюгге, были отняты у него и перешли к особому чиновнику, назначавшемуся по выбору графа[1062]. Но в своем продвижении к централизованной монархической власти князь постоянно натыкался на препятствия, вынужден был надолго задерживаться и даже возвращаться вспять, и хотя он успел добиться многого, но все же не достиг своей цели. Подобно тому, как нидерландские города не сумели превратиться в вольные города, в независимые республики, так и князьям не удалось добиться абсолютной власти. Сколько они ни подражали французским королям и ни вдохновлялись советами своих легистов, но между средствами, которыми они располагали для осуществления своего идеала и препятствиями, которые надо было для этого преодолеть, диспропорция была слишком велика. Сопротивление страны князьям поставило им повсюду границы, которых они не могли перейти. Это, однако, не значит, что их верховная власть когда-либо оспаривалась. В самый разгар своих мятежей их подданные не переставали видеть в князьях своих «природных сеньоров». В светских княжествах наследственность власти делала ее священной в глазах населения. Оно считало князя стоящим выше посягательств, и ему никогда не приходила в голову мысль о свержении князя. Если в пору расцвета феодализма вассалы отказывались принести присягу своему сюзерену, поддерживали против него его соперников и даже устраивали заговоры на его жизнь, то ничего подобного нельзя было уже наблюдать в XIV веке. Дело в том, что с течением времени личные узы верности между сеньором и его подданными уступили место политическому подчинению. Несмотря на борьбу с князем, никто во всяком случае не думал оспаривать его прав. Этим восстания того времени радикально отличаются от наших современных революций. Мы видели, как фландрцы, присягнув Эдуарду III, продолжали в то же время признавать своим графом Людовика Неверского[1063]. Таким образом, никто не оспаривал прав верховной власти, недоразумения возникали лишь по вопросу о способах применения ее. Договор, связывавший страну с князем, последний считал односторонним договором, обязывавшим жителей страны, но не его самого, между тем как страна, наоборот, видела в нем обоюдный договор, обусловливавший обязанности каждой из сторон признанием ее прав другой стороной. Новой идее неограниченного суверенитета противостояла старая идея нерушимости приобретенных прав и святости традиции. Юристам, говорившим об «altum dominium» и «merum imperium» (высшей и истинной власти), отвечали словами о «добрых обычаях, вольностях и привилегиях». У церкви, дворянства, городов, у всех были свои особые вольности и привилегии, и ими они измеряли и ограничивали княжескую власть. Правда, они измеряли и ограничивали ее каждый в том, что его касалось, и если она не затрагивала их интересов, то они не мешали ей посягать на интересы другого сословия. Но так или иначе верховная власть, которой каждое из привилегированных сословий оказывало свое частичное сопротивление, в силу этого одинаково находилась под ударами со всех сторон. Это положение вещей было тем опаснее для князя, что параллельно с ростом его правительственных функций росли и его расходы, и он оказывался вынужденным для получения денег, в которых он нуждался, обращаться к привилегированным сословиям. Сколько бы легисты ни втолковывали ему, что подданные не имеют права отказывать ему в уплате налогов[1064], но от теории до практики было далеко, ибо каким образом можно было заставить их платить, если они от этого отказывались? Поэтому князь вынужден был идти на соглашения с ними, апеллировать к их доброй воле и, при всем своем нежелании, вступить в переговоры, вместо того, чтобы приказывать. Если он и получал наконец помощь, которую он просил, то ценой дарования разных привилегий, так что он как бы вертелся в порочном кругу: чем более расширялась его власть, тем более он вынужден был делить ее со своими подданными. Эти непрерывные переговоры, эти вечные компромиссы привели в конце концов к более или менее устойчивому равновесию между противоположными тенденциями, представителями которых были князь и страна. Выработанные в течение XIV века в различных территориях конституции были повсюду плодом стечения обстоятельств. Роль, отводившаяся ими различным элементам, действие которых они пытались сочетать, определялась соотношением сил каждого из этих элементов. Иначе говоря, эти конституции отводили главную роль в Льежской области, как и в Брабанте, а в Брабанте, как и во Фландрии, — городам.II
В течение XIII века Льежская область окончательно сформировалась в территориальное княжество. Светская власть епископов, господствовав ших в X и XI вв. на всем протяжении диоцеза, была ограничена после, падения имперской церкви все более и более тесными рамками. По мере роста власти светских князей в соседних областях, последняя все более, оттесняла епископскую власть, ставя ей все более узкие границы, пока под конец она не оказалась ограниченной владениями св. Ламберта. Таким образом, территориальное формирование Льежской области i радикально отличалось от окружавших ее княжеств. Она не образовывалась, подобно им, путем непрерывных захватов, совершавшихся местными династиями, она была остатком некогда гораздо более обширной территории. Процесс образования ее шел не в сторону расширения, а, наоборот, в сторону сужения. Ее границы были установлены ее соседями. В области светской власти епископы мало-помалу утратили последние остатки своего прежнего могущества. Графы Генегауские, ставшие в XI веке под их сюзеренитет, продолжали приносить им феодальную присягу, но это была лишь простая формальность, которая не влекла за собой никаких реальных обязательств и от которой они под конец, в правление баварского дома, освободились. Герцог Брабантский открыто не считался с юрисдикцией суда мира, учрежденного некогда Генрихом Верденским (1081 г.) для всего епископства в целом. Земли, расположенные слишком далеко от церкви, ускользали из ее рук. Графы фландрские завладели Граммоном и Борнгемом, а присоединение Мехельна к Брабанту уничтожило в середине XIV века последние следы обреченного порядка вещей. Когда 80 лет спустя Гемрикур напоминал еще, что в силу особой прерогативы льежское право простирается «на весь диоцез, как на земли и области князей и сеньеров, так и на собственную область епископства»[1065], то это свидетельствовало лишь о том, что он не мог никак освободиться от воспоминаний юриста и устарелых притязаний, давно уже отвергнутых жизнью. В действительности Генрих Гельдернский (1247–1274 гг.) был последним епископом, пытавшимся сохранить еще некоторое подобие верховенства над своими соседями или, по крайней мере, вмешивавшимся в их дела. После него его преемники продолжали, конечно, заниматься делами духовного управления в своем обширном диоцезе[1066], но они были светскими князьями лишь в «собственной области епископства», да и то при очень своеобразных условиях. Действительно, в отличие от светских князей, они не владели этой страной в качестве своего наследственного достояния и не являлись в глазах жителей «природными сеньорами». Земля и подданные, которыми они управляли, были не их землей и не их подданными, а землей и подданными св. Ламберта. Беспорядочно сменяя друг друга, в зависимости от исхода выборов, — то немцы, то французы, то генегаусцы, намюрцы, гельдернцы, брабантцы, но никогда не льежцы[1067], — они не составляли с княжеством органического целого, и их власть, которой не хватало прочных уз, связывавших светские княжества непрерывностью и наследственностью династии, просто налагалась на княжество, не проникая внутрь его. Поэтому княжество, не являвшееся ни делом рук епископов, ни их собственностью, чувствовало свою отчужденность и независимость от них. Оно существовало как бы само по себе, и различные группы, на которые распадалось его население, успели гораздо быстрее, чем в других местах, отделить свои интересы от интересов своего сеньора. Установившаяся таким образом между этими группами солидарность была так велика, что, несмотря на необычную конфигурацию страны и на разношерстность ее населения, фламандского — на севере и валлонского — на юге, каждая из этих групп стала в XIII веке вмешиваться в политическую жизнь, и именно они, а не князь, являлись гарантией единства и целости территории. Хотя они и не интересовались старыми судебными прерогативами, которые их епископ пытался сохранить над своими соседями, но зато они тщательнее, чем он, заботились о неприкосновенности своих границ и рьяно использовали всякий случай для расширения их. В 1361 г. они заставили Энгельберта Маркского распространить законы страны на оставшееся вакантным Лоозское графство, завладеть им, несмотря на сопротивление германского императора, и довести таким образом княжество на севере до его естественных границ, которые оно сохранило с того времени вплоть до конца XVIII века. Епископы должны были прежде всего считаться с капитулом св. Ламберта, самым многочисленным с его шестидесятью канониками и, пожалуй, самым богатым из всех капитулов Империи[1068]. Так как после окончания борьбы за инвеституту (Вормсский конкордат 1122 г.) епископы назначались капитулом, то они неизбежно подпали под влияние капитула, от которого никак не могли уже освободиться. Действительно, капитул был постоянным учреждением, между тем как епископы появлялись каждый лишь на время. Далее, капитул был признанным органом интересов и традиций льежской церкви, верховным главой всего духовенства, предоставившего ему полностью руководство собою, он был избирателем «мамбура», которому передавалось управление, когда епископский престол пустовал, он владел колоссальными земельными богатствами. Поэтому капитул обладал всеми элементами силы, которых лишены были епископы. Конечно, его претензии представлять «patria» не были правомерны. Защищавшиеся им интересы были в действительности интересами одной лишь группы и притом такой группы, значительная часть членов которой принадлежала к дворянству соседних территорий[1069]. Но в многочисленных конфликтах, возникавших между ним и князем, капитул старался опираться на другие группы и объединять вокруг себя рыцарство и города. В силу этого его законное право вмешательства соединялось с случайным, на первых порах неузаконенным вмешательством последних: лишь в конце XIII века рыцарство и города добились права составлять вместе с капитулом «волю страны» («sens du pays»)[1070] и принимать участие, подобно ему, в совещаниях с князем. Ограничения, внесенные авиньонскими папами с начала XIV века в права капитула, разумеется, ослабили его роль по отношению к епископам. Последние воспользовались этим и попытались расширить свою власть. Адольф Маркский (1313–1344 гг.), а затем его племянник и преемник Энгельберт (1345–1363 гг.), подражая светским князьям, пытались, подобно им, сосредоточить в своих руках управление государством и подчинить его своей верховной власти. Так как они происходили из одного и того же дома, проникнуты были одинаковыми идеями и окружены одними и теми же немецкими советниками, последовавшими за ним на берега Мааса, то их политика в течение полувека отличалась единством плана и действий, придававшим ей характер чисто династической политики. Но она слишком резко противоречила традициям страны, чтобы не вызвать против себя единодушного сопротивления. Те 50 лет, когда она проводилась, были пятьюдесятью годами гражданской войны, и в ходе этой войны окончательно выработались благодаря ряду «миров», заключенных между князьями и страной, основные принципы льежской конституции, остававшиеся нерушимыми вплоть до провозглашения «прав человека». Первый из этих «миров» был заключен, как мы видели, в Фексе 17 июня 1316 г.[1071] Этот знаменитый документ меньше всего походил на конституционный акт. Будучи просто компромиссом между Адольфом Маркским, с одной стороны, и капитулом, дворянством и городами — с другой, заключенный в силу невозможности продолжать гражданскую войну в обстановке свирепствовавшего тогда страшного голода, он не вводил никаких новых государственных институтов и ограничивался формулировкой нескольких общих принципов, не пытаясь даже примирить их между собою. Хотя он закреплял за епископом обладание altum dominium, но зато он устанавливал, что чиновники епископа, вступая в должность, должны приносить присягу в том, что они будут поступать с каждым по закону и суду. Капитул обязан был принимать жалобы на них, и если епископ, получив в надлежащей форме просьбу оказать правосудие, не выполнит этого в течение двух недель, то страна может прибегнуть к восстанию, чтобы принудить его. Кроме того, «воле страны» предоставлялось право выносить в будущем постановления относительно обычных прав и изменять те из них, которые окажутся «слишком широкими или слишком узкими». Составленный таким образом мирный договор, который торжественно прибили на одной из колонн «большого капитула», покоился, как правильно замечает хронист Гоксем, на коренном противоречии. Обе враждующие стороны, вынужденные покончить с междоусобием, включили в него каждая то, что было для нее важно. Но был точно установлен водораздел между «верховными правами» епископа и «Законами и обычаями», гарантированными жителям. Но во всяком случае имелось одно достижение: формальное и легальное признание разделения власти междукнязем и страной. Фекский мир, давая капитулу право докладывать епископу о жалобах страны, признавал, кроме того, за ним привилегированное положение по сравнению с обоими другими сословиями. Однако оно сохранялось недолго. Чем более усложнялась социальная жизнь, тем более многочисленными становились функции государственного управления, и выяснялось, что последнее не могло дольше оставаться под преобладающим влиянием духовного сословия, имеющего свои частные интересы и свои особые стремления. Уже в 1312 г. каноникам пришлось защищать от дворянства свое право избрания «мамбура», и они победили только благодаря поддержке льежского народа, который вел в то время борьбу с «богачами». После смерти Адольфа Маркского опять всплыли эти трудности, и дело окончилось на сей раз поражением капитула. За ним осталась только иллюзорная прерогатива утверждать в должности «мамбура», которого рекомендовали его выбору рыцари и города. Не имея никакой военной силы, капитул лишен был, кроме того, всякой возможности сохранить свой авторитет посреди непрерывных войн, раздиравших в XIV веке княжество. С другой стороны, во время этого периода усобиц он часто распадался на враждебные партии, одна из которых становилась на сторону епископа, другая — страны. Эти внутренние раздоры нанесли смертельный удар и без того уже пошатнувшемуся; влиянию капитула. Мало-помалу он примирился с своей политической, смертью, неизбежность которой он сознавал. До нас дошло одно любопытное рассуждение, в котором Гоксем решительно признает, что миряне; понимают лучше клириков, что соответствует светским интересам[1072]. Словом, капитул постепенно сошел с политической сцены, чтобы все более и более замкнуться в сферу своих интересов. Сохраняя за собой общее руководство льежским духовенством, один только представляя его в собраниях страны, он с 1316 г. все менее и менее вмешивался в дела государственного управления. Под конец он даже тесно сблизился с князем. Это ослабление роли капитула было выгодно только городам. Действительно, дворянство не сумело занять освободившегося после него места. Происходя большей частью из прежних министериалов церкви, из феодальной военной милиции, созданной епископами в первую половину средневековья для защиты своих земельных владений, оно насчитывало в своих рядах очень мало тех богатых баронов, которые были столь многочисленны во Фландрии, Брабанте и Генегау[1073]. Рыцари, из которых оно почти исключительно состояло, были сеньорами средней руки, отличавшимися грубыми нравами и владевшими незначительными состояниями. Яков Гемрикур описывает нам их разбросанные по Газбенгау деревенские замки, окруженные такой низкой стеной, что человек, опираясь на копье, мог перескочить через, нее[1074]. Кроме того, это деревенское рыцарство не отличалось особо горячей преданностью своему сюзерену — епископу. Во время вторжения в Льежскую область Генриха Брабантского (1213 г.) лишь ничтожная часть рыцарства отозвалась на призыв Гуго Пьеррпонского, и с тех пор оно играло очень скромную роль в военной истории епископства. Его воинственные инстинкты находили себе более выгодное применение на службе светских князей. Война являлась для этих нуждавшихся деревенских дворян выгодной профессией, и они жадно искали случая наняться в чужеземные войска. Они дрались за того, кто больше платил, не только в Нидерландах, Франции и Германии, но также в Англии и даже в Италии. В XIV веке вымерло большинство семейств газбенгауского дворянства, еще очень многочисленного в XIII веке. Начавшаяся в 1296 г. вражда между домами Аванов и Вару вскоре захватила все дворянские роды Газбенгау, находившиеся в родстве друг с другом. В течение 40 лет они систематически истребляли друг друга, ибо одно убийство вело за собой другое и поджог одной деревни неминуемо влек за собой возмездие. Когда наконец «мир между родами» (1335 г.)[1075] положил конец этой «войне друзей», то от разоренного и обескровленного рыцарства осталась одна лишь тень. В 1398 г., когда Яков Гемрикур составил свое «Miroir des nobles de la Hesbaye» (Зерцало дворян Газбенгау), оно насчитывало всего лишь около 50 семейств. После ослабления капитула, после страшного поредения рядов рыцарства в стране осталось только одно сословие, способное противостоять власти князя, — именно города[1076]. Менее могущественные, чем фландрские города, они не так усиленно соперничали друг с другом; кроме того, отделенные друг от друга благодаря географической конфигурации епископства довольно обширными пространствами, они не могли мешать друг другу и поэтому жили почти всегда в добром согласии между собою и придерживались одной и той же линии поведения. Независимо от того, были ли они романского или германского происхождения, они признавали руководство столицы, их «главы» и их «матери», и работали вместе с ней над расширением во всех областях влияния горожан и подчинением им «воли страны». Размеры достигнутых городами успехов ясно сказались во время смут, вспыхнувших, разумеется, как только пришлось применить на практике условия Фекского мира. Их войска дрались с князем, их «бургомистры» диктовали заключенные с ним «миры». Нет сомнений в том, что в 1324 г. города потребовали создания для улучшения положения страны комиссии из 20 человек, в которой им было бы предоставлено 8 мест, а епископу, капитулу и дворянству — каждому по четыре[1077]. Во всяком случае бесспорно, что они предложили в это время поручить изучение всех жалоб на княжеских чиновников составленному из 6 светских лиц суду, который обладал бы правом выносить обязательные для самого князя постановления[1078]. Проект этот, подсказанный, очевидно, недавним созданием кортенбергского совета в Брабанте (1312 г.), но проникнутый более исключительными и более радикальными тенденциями, отлично характеризует городскую политику. Если бы он был принят, то он лишил бы капитул его роли хранителя Фекского мира, и подчинил бы окончательно верховную власть князя воле страны. Но благодаря упорному сопротивлению епископа этот проект на сей раз был отклонен. Однако, несмотря на все перипетии гражданской войны, сигналом к которой послужило отклонение его, города не забыли о нем и в 1343 г. добились своей цели. В указанном году пришли к решению, что при епископе будет создан совет из 22 пожизненных членов, четырех каноников и 18 мирян, которым будет поручено выносить постановления по поводу жалоб на епископских чиновников и заботиться о хорошем управлении страной[1079]. Так как этот совет пополнялся путем кооптации, то он был совершенно недоступен влиянию князя, полномочия которого он в конце концов сводил к чисто почетным прерогативам. Он не пощадил и положения капитула. Так как у капитула было в совете ничтожное количество мест, то он всегда оказывался в меньшинстве, и Гоксем с полным правом издевался над канониками, которые, согласившись на него, «попались, как мышь, в мышеловку»[1080]. Считаясь с единодушием трех сословий, Адольф Маркский не осмелился протестовать. Но он уступил лишь силе, и досада его была так велика, что он заболел от ярости и одно время боялись за его рассудок[1081]. В следующем году он добился у четырех каноников, занявших места в совете, их отставки, а также отставки четырех горожан, и разорвал грамоту, к которой он приложил несколько месяцев назад свою печать. Впрочем, вскоре после этого он умер, обремененный такими огромными долгами, что никто не захотел принять его наследства. Его племянник Энгельберт стал, подобно ему, льежским епископом не по выбору капитула, а по папскому назначению. При вступлении на епископский престол он дал присягу соблюдать Фекский мир[1082], и с тех пор эта церемония выполнялась всеми его преемниками. Однако Фекский мир, ограничившийся формулировкой принципов правления, но не указавший способов применения их, не мог создать длительного равновесия между противоположными стремлениями князя и его страны. Допуская различные толкования, он стал источником вечных конфликтов, и правление Энгельберта было не менее бурным, чем правление Адольфа. Для городов, которые становились с каждым годом все более предприимчивыми и энергичными, было недостаточно, чтобы епископ, оставаясь верным своей присяге, управлял княжеством в согласии с «волей страны». Этот раздел власти с князем казался им явной узурпацией их прав, и если они соглашались признавать ahum dominium своего сеньора, то лишь при условии, чтобы это оставалось только на бумаге. Их недовольство вызывали в особенности епископские чиновники, многие из которых, прибыв из Германии вместе с епископом, были ему тем более преданны, что они чувствовали себя одинокими среди враждебного им населения. Города находили нестерпимым, что они не могут их подчинить своему влиянию и контролю и, за неимением лучшего, ставили во всех областях препятствия их деятельности, к большому ущербу для нормального управления страной. В правление Энгельберта городам не удалось добиться ничего большего, но они восторжествовали наконец при его преемнике Иоанне Аркельском, миролюбивом и добродушном прелате, который, не имея таких влиятельных родственников, как члены Маркского дома, не мог, подобно им, опираться на помощь своей семьи и бороться со все более смелевшей оппозицией. 2 декабря 1373 г. он принял мир XXII[1083]. По условиям его, все епископские чиновники и советники должны были быть впредь родом из Льежской области, или Лоозского графства, причем они должны были быть поставлены под надзор трибунала из 22 лиц — четырех каноников, четырех рыцарей и четырнадцати горожан, которые собирались ежемесячно для суждения об их поведении и решения которых были окончательными. Принятие этого мира епископом было почти равносильно отречению. Безоговорочно согласившись на подчинение представителей своей власти юрисдикции страны, он отныне сохранял лишь видимость власти. Толкование Фекского мира, являвшееся в предшествующие правления поводом к стольким столкновениям, отныне было окончательно установлено и притом в невыгодном для князя смысле. Впрочем, фактически торжествовала не столько страна, сколько города. Огромное преобладание их в трибунале XXII показывает, какую крупную роль они играли отныне в княжестве.III
Брабантская конституция, подобно льежской, восходит к началу XIV века и во многом похожа на нее. Однако она развивалась в совершенно иных условиях и вызвана была совсем иными причинами. Дело в том, что взаимоотношения между князем и страной и их относительная сила представляли в Брабанте совсем иную картину, чем в Льежском княжестве. Если власть епископа была лишена авторитета и устойчивости, то, наоборот, герцоги, которые в течение трех веков от Ламберта Лувенского до Иоанна III непрерывно сменяли друг друга от отца к сыну, пользовались популярностью и большим авторитетом. Их история сливалась с историей страны, которой они управляли. Брабантцы по своему происхождению, по своим нравам, по своим интересам, они полностью отождествляли себя со своими подданными, и, с XII века, они могли называть себя «покровителями» и «фогтами» «patriae Brabantensis». Их фамильные аллоды составляли «истинный Брабант» (rechte Brabant), вокруг которого они путем непрерывных расширения и захвата прав императора, собрали остальную часть территории. Одновременно, по мере роста этой территории, они все более подчиняли ее своему суверенитету. В XIII веке они поручили управление ею своим бальи, разделили ее на мэрии и амманства, даровали многочисленным деревням своих поместий (s'heeren dorpen) грамоты кутюмов, которые, распространяясь на деревни частных сеньоров, постепенно придали территориальному праву единообразный характер. В противоположность тому, что наблюдалось в Льежском княжестве, эта столь разносторонняя деятельность князя долго не вызывала никакого сопротивления. До тех пор пока герцогу хватало домениальных и феодальных доходов для покрытия расходов, вызывавшихся его политикой, ниоткуда не раздавалось никаких протестов и никто не ставил никаких препятствий его верховной власти. Но в начале XIV века финансовые возможности династии явно стали непропорциональны ее политическому могуществу. Герцоги оказались вынужденными отчуждать свои домены, занимать деньги у ломбардских банкиров, закладывать свои доходы и продавать судебные должности тому, кто больше платил. Эти финансовые затруднения не только подрывали корни могущества герцогов, но приводили также к плачевным последствиям для их подданных. Если князь оказывался не в состоянии платить свои долги, то его кредиторы накладывали за границей арест на имущество брабантцев, присваивали себе их доходы, конфисковали их сукна или их шерсть, заставляя их таким образом — хотели ли они того или нет — быть поручителями за долги своего государя и отвечать за обязательства, которых они не заключали. Эта принудительная солидарность в финансовых делах неизбежно должна была повлечь за собой сотрудничество в государственных делах. Подданные соглашались брать на себя долги князя лишь при том условии, что впредь они будут принимать участие в государственном управлении. Они давали ему свои деньги лишь в обмен на серьезные гарантии, и договоры, которые они заключали с ним, походили на соглашения купца, находящегося накануне банкротства, с банкирами, у которых он просит помощи. Кортенбергская хартия, дарованная Иоанном II 27 сентября 1312 г.[1084], дает нам представление об уступках, которыми герцог заплатил за их помощь. Согласно ей, был создан пожизненный совет из 14 лиц, выбиравшихся из дворян и горожан, совет, имевший задачей надзирать за соблюдением привилегий и кутюмов герцогства. Этот совет должен был собираться раз в три недели, и его решения были окончательными. Если герцог отказывался признавать их, то страна освобождалась от обязанности повиноваться ему до тех пор, пока он продолжал свое сопротивление. Как мы видим, Кортенбергская хартия весьма походила на Фекский мир, который она опередила всего лишь на четыре года. Однако она отличалась от него многими особенностями. Во-первых, она не была результатом гражданской войны. Это была уступка, сделанная государем в результате договора, или, вернее сказать, конкордата. Ее целью отнюдь не было положить конец старому спору об использовании князем своих верховных прав. Она ограничивалась установлением условий этого использования. Будучи более ясной, чем льежский документ, она точно устанавливала границы вмешательства страны и давала ей в качестве органа для этого вполне определенный институт. Но каковы бы ни были эти различия по форме и существу в епископском княжестве и в Брабанте, оба документа сходились в основном пункте: как тут, так и там, князь признавал отныне страну, как противостоящую ему политическую единицу, и в обоих случаях он давал ей в качестве гарантии право отказывать ему в своей помощи. В то время как в Фекском мире единодушно объединились против епископа капитул св. Ламберта, рыцарство и города, в Кортенбергской хартии фигурировали только города и дворянство. Действительно, брабантское духовенство играло на протяжении всего средневековья лишь весьма скромную роль в делах герцогства. Брабантские монастыри, построенные на землях герцога, разбогатевшие благодаря ему, подчиненные его фогтской власти, обязанные содержать герцога и его свиту во время их поездок и поставлять рабочие руки для барщин, совершенно не имели того авторитета, которым пользовался льежский капитул. Аббаты, довольные мирным существованием среди прекрасных пейзажей, в своих монастырях, где царили мистические настроения, — которые вскоре нашли себе такое прекрасное выражение в писаниях Рюисбрука, — поглощенные, кроме того, собственными хозяйственными заботами, не имели никаких оснований требовать себе доли политического влияния, наряду с обоими светскими сословиями. Обособившись от всей остальной страны, они отдельно вели переговоры с герцогом, требуя за оказываемую ему денежную помощь лишь уступок, строго ограниченных сферой их интересов. В 1338 г. они добились от Иоанна III ограничения налагавшейся на церковную землю барщины 1600 рабочими днями в год[1085]. Но совсем иначе обстояло дело с дворянством и с городами. Дворянство, сгруппировавшееся вокруг могущественных баронов — Бертгутов, Арсхотов, Гасбеков, — которые владели обширными поместьями и неприступные замки которых резко отличались от бедных усадеб льежских рыцарей, дворянство, многочисленное и необходимое герцогу в случае войны, имело свое определенное место в совете страны. Города, игравшие еще более важную роль, чем дворянство, потому что они были богаче и потому что от них в конце концов зависело погашение долгов князя, требовали для себя влияния, соответствовавшего оказываемым ими услугам. Они были представлены в Кортенбергском совете 10 горожанами, наряду с заседавшими там четырьмя рыцарями. Таким образом, уже в первом документе, освящавшем законное вмешательство страны в дела государственного управления, силой обстоятельств было установлено преобладание обоих светских сословий и привилегированное место городов. Финансовые трудности, с которыми князю приходилось бороться и в дальнейшем, повлекли за собой быстрый рост этой роли городов. Преследуемый своими кредиторами, Иоанн III, подобно своему отцу, обратился к их помощи; они согласились дать ее лишь взамен двух новых привилегий: Валлонской и Фламандской хартий (12 июля 1314 г.)[1086]. Читая их, можно подумать, что герцог, подобно моту, не умеющему распоряжаться своими средствами, стал под опеку горожан и предоставил им заботу о своих делах. Отныне для назначения высших чиновников герцогства требовалось согласие городов, без их согласия нельзя было издавать указов, содержавших тягостные для князя или страны обязательства; без их одобрения нельзя было производить никаких отчуждений земель. Города же намечали средства для погашения долгов государя, перед ними, наконец, отчитывались все чиновники финансового ведомства. Кроме того, они добились права надзора за чеканкой монеты, отмены продажи должностей и обещания, что деньги, собираемые на содержание дорог, не будут употреблены по другому назначению. Большие войны, который Иоанн III вынужден был вести со своими соседями, послужили поводом для новых уступок, ибо эти войны потребовали новых расходов. В 1334 г. был создан совет из шести лиц (двух рыцарей, двух брюссельских и двух лувенских горожан), задачей которого было взимание и распоряжение всеми суммами, предназначавшимися для погашения займов, заключенных князем в целях обороны страны[1087]. Итак, мы видим, что в силу любопытного контраста, те самые этапы конституционного развития, которые ознаменованы были в Льежском княжестве многочисленными конфликтами с епископом, в Брабанте были отмечены просьбами о помощи, обращенными герцогом к его подданным. В одном случае участие страны в государственном управлении было добыто силой и включено в мирные договоры, в другом — перед нами ряд подтверждающих его хартий, пожалованных государем. Льежцы прямо нападали на altum dominium своего епископа; брабантцы же довольствовались гарантиями, суживавшими функции верховной власти все более тесными рамками. Эта разница, несомненно, объяснялась различным положением в обоих случаях городов по отношению к князю. Вместо того чтобы постоянно устраивать восстания по примеру демократических городов епископства, большие брабантские города, управлявшиеся олигархией из патрициев и купцов, остерегались рвать с династией, защищавшей их от ремесленников. Кроме того, могущество дворянства помешало им добиться того исключительного авторитета, которым пользовались их соседи. Наряду с ними значительную долю политического влияния сохранили бароны — baenrotsen, и рыцари — ridders, или smalheeren, и различие интересов поддерживало между обоими светскими сословиями известное равновесие. Прекращение мужской линии династии в 1355 г. дало возможность подвести прочный фундамент под конституционную систему, выработавшуюся постепенно с начала XIV века. Прежде чем согласиться признать государем чужеземного князя, Венцеслава Люксембургского, мужа старшей дочери Иоанна III, Брабант, осознавший теперь свою территориальную индивидуальность, поставил свои условия и потребовал гарантий. И здесь инициатива принадлежала городам. За несколько месяцев до смерти герцога они вступили в союз между собой, решили не допускать никакого расчленения герцогства, обещали друг другу заставить «всю страну в целом» (gemeen land) признать государем того, в пользу кого они выскажутся, и оказывать друг другу помощь в сохранении своих вольностей и привилегий[1088]. Это общее соглашение между населением различных городов явилось как бы прологом к «Joyeuse Entree» (blijde incomst). Оно заранее предвосхищало условия этого знаменитого документа и предупреждало Венцеслава о том положении, которое ему предстояло занять среди его будущих подданных. По отношению к этому чужеземцу Брабант занял совсем иную позицию, чем он занимал по отношению к своим национальным князьям, наделенным авторитетом традиции и являвшимся хранителями власти, освященной вековым обладанием. Брабант видел в нем как бы претендента и соглашался признать его при условии компромисса, устанавливавшего на будущее время характер и функции верховной власти. Фактически «Joyeuse Entree», которой Венцеслав присягнул 3 января 1356 г., носила характер капитуляции[1089]. Этот документ подтверждал, подобно Фекскому миру, но более ясно и отчетливо, права страны по отношению к князю, освящая их конституционным актом, принятым обеими сторонами. Его главные пункты устанавливали неделимость государства, право замещать все должности только брабантцами, обязательство для князя заключать союзы, начинать войну, чеканить момент — лишь с согласия gemeen land (всей страны). Под этим термином, который в начале V века был заменен термином Staeten, понимались три сословия страны: прелаты, бароны и рыцари, и брабантские города — «prelaete, baenrotsen ende smalheeren, ende die steden van Brabant». После введения «Joyeuse Entree», как и до нее, роль первых оставалась очень ограниченной, проявляясь лишь в случае вотирования налогов, что касается обоих светских сословий, то их вмешательство в дела государственного управления продолжало усиливаться вплоть до правления Филиппа Доброго. При слабом Иоанне IV они почти совсем захватили в свои руки управление герцогством и взяли князя под свою опеку. Надо, впрочем, заметить, что в эту эпоху, от имени штатов, управляли фактически города. Освободившись от тяготевшей над ними олигархии, опираясь на герцога, они теперь нисколько не щадили его. Их политический идеал вдохновлялся, по-видимому, муниципальным строем, существовавшим в их стенах. Они желали подчинить князя штатам, где их воля была всемогуща, подобно тому, как их бургомистры и их эшевены, в свою очередь, подчинены были в каждом городе большому совету (breeden raed) городской общины. Таким образом конституционная история Брабанта, как и Льежской области, завершилась одинаковым образом — гегемонией городов.IV
Из всех нидерландских княжеств только Льежская область и Брабант обладали в XIV веке письменными актами, сообщавшими их конституционному строю законный характер. Ни в Генегау, ни во Фландрии не было ничего подобного. Установление договорного modus vivendi между князем и его подданными было бесполезно — в первом и невозможно — во второй, и в обоих случаях это отличие объяснялось опять-таки ролью городов. В Генегау в Средние века не образовалось ни одного крупного городского центра, за исключением Валансьена. Эта область, которой в XIX веке предстояло столь блестящее промышленное будущее, имела тогда чисто земледельческий характер. Прекрасные равнины покрывали ее тогда еще неоткрытые угольные богатства, и только в тех местах, где уголь выходил на поверхность земли, устроили несколько копей, доставлявших топливо окрестным жителям. Графство, отлично возделанное, очень плодородное, повсюду распаханное, усеянное крупными церковными поместьями и замками, резко отличалось своими очаровательными пейзажами и своим цветущим видом по сравнению с бедностью и дикостью Арденн. Соседним областям, и в частности Фландрии, оно поставляло значительную часть нужного им зерна. Экономическое значение земледельческих классов далеко превосходило здесь значение городского населения. Монс, Авен, Ат, Бушен, Мобеж, Бинш представляли в конце концов лишь большие укрепленные крепости, местная промышленность которых имела рынком сбыта окружающие деревни. Их скромное население, состоявшее из зажиточных ремесленников и мелких рантье, влачило незаметное провинциальное существование. Здесь нельзя было встретить тех резких социальных контрастов и той напряженной и выражавшейся в непрерывном брожении жизни, которую мы видим в крупных суконных центрах Севера. При этих условиях легко понять, что горожане Генегау не могли играть выдающейся политической роли. Их интересы, ограниченные очень узкой сферой, не приводили их в столкновение ни с князем, ни с духовенством, ни с дворянством. Граф призывал их на совет лишь тогда, когда чувствовал нужду в их денежной помощи. С 1338 г. становятся все многочисленнее «заседания» («journées») и «парламенты» («parks merits»), на которых присутствовали депутаты горожан, то одни, то совместно с депутатами дворян, а также «прелатов и коллегий»[1090]. Мало-помалу это вмешательство страны в государственные дела сделалось нормальным явлением и стало законным. Вступление на престол новой династии на место дома д'Авенов (1345 г.) привело к таким же последствиям, как и в Брабанте при вступлении на престол Венцеслава. Маргарита Баварская обещала обоим первым сословиям уважать «добрые и старые обычаи страны» и принесла присягу жителям Монса и Валансьена сохранить в силе все их жалованные грамоты, патенты, привилегии И вольности[1091]. Таким образом ей с самого же начала пришлось считаться с городами. На основании молчаливого соглашения они стали принимать участие в делах управления наряду с дворянством и духовенством. Политическое равновесие гарантировалось традицией. Горожане довольствовались отведенной им ролью. Они не пытались подчинить себе князя и еще менее пытались лишить его верховных прерогатив. Все три сословия заняли каждое свое место около государя и приобрели право вотировать налоги. Без всяких грамот и привилегий, которые оговаривали бы их права, они сотрудничали теперь с князем. Хотя их право покоилось только на обычае, но оно было достаточно прочно. С середины XIV века[1092] их регулярно собирали вместе на «парламенты», которые под названием «штатов» оставались затем вплоть до конца старого порядка одним из основных элементов территориальной конституции. Во Фландрии, в связи с подавляющим перевесом городов, невозможно было то равновесие между тремя сословиями, которое установилось в Генегау. Во Фландрии, между большими городами, которые могли выставить тысячи бойцов, которые распоряжались в своих кастелянствах, подчинили себе второстепенные города, раздавали в деревнях своим «внешним горожанам» сословные права бюргерства, неравенство между ними, с одной стороны, и дворянством и духовенством — с другой, было слишком велико, чтобы они могли согласиться на уменьшение своей власти и на раздел ее с последними. Они знали, что благосостояние страны покоится на их промышленности, что ее безопасность гарантируется их военным могуществом, и требовали себе роли, соответствующей их значению. В силу экономического развития Фландрии города занимали по отношению к другим сословиям такое же положение, какое принадлежало в каждом из них ремесленникам, занимавшимся обработкой шерсти, по сравнению с другими ремесленниками. Интересы духовенства и дворянства не могли получить преобладания над интересами городов или хотя бы мириться с ними. Все усиливавшемуся напору городов на страну они могли противопоставить лишь слабую плотину, которая была вскоре прорвана. Благодаря праву «внешнего гражданства», благодаря все возраставшему вмешательству больших городов в дела сельских местностей привилегии духовенства и дворянства непрерывно суживались, если не юридически, то во всяком случае фактически. Надо, впрочем, заметить, что в течение XIII века сам граф очень ослабил их. Деятельность бальи, пожалование местных грамот, унифицировавших право и придавших единство управлению, лишили привилегированные сословия значительной доли их влияния, подчинили их налогам и помешали им сохранить характер легальных классов и корпораций. В правление Гюи де Дампьера и Роберта Бетюнского они перестали уже быть особыми политическими единицами. Говоря о своих подданных, князь уже не упоминает о них отдельно; он объединяет их в официальном языке со всей совокупностью «своих фландрских подданных и областей». Эта нивелирующая деятельность государя была, разумеется, на руку городам. Граф работал на них и расчищал путь их посягательствам на его верховные права. Он сам стал жертвой своей монархической политики, ибо, сломив силу сопротивления духовенства и дворянства, убрав тот противовес, который мог уравновесить напор больших городов, он оказался совершенно один лицом к лицу с ними, и примерно в начале XIV века его положение стало чрезвычайно затруднительным. Действительно, города были слишком могущественны, чтобы задумываться о правах своего сеньора; если они признавали их в теории, то игнорировали их на практике. Не имея никакого легального титула, опираясь только на свою силу, они заявляли теперь, что представляют всю страну в целом, gemeen land. В действительности они поглотили ее и, так сказать, инкорпорировали в себе. В течение XIV века старое традиционное выражение «три города Фландрии» (de drie steden van Vlaenderen) уступило место новому выражению «три члена Аландрии» (de drie leden van Vlaenderen), пережившему века[1093]. Между князем и триумвиратом Гента, Брюгге и Ипра царила открытая вражда, а противоречие принципов делало невозможным какое бы то ни было соглашение. Право законного суверенитета графов и сила реального суверенитета городов резко сталкивались между собой, не приводя к решающему перевесу какой-нибудь из сторон, обнаруживавших одинаковую непримиримость. Никто не думал о компромиссе или о разделе власти. Обе стороны охотно прибегали к неопределенным и двусмысленным выражениям. При переговорах друг с другом они тщательно избегали пользоваться точными терминами. Когда в 1379 г. Людовик Мальский примирился со страной, т. е. с городами, то ограничились заявлением, что граф останется «свободным государем» (vrij heere), а его подданные «свободными людьми» (vrije lieden)[1094]. Могло бы казаться странным, каким образом «три города» не сумели восторжествовать окончательно над князем и заставить его капитулировать, если не учитывать характера их взаимоотношений. Чтобы быть непобедимыми, они должны были, подобно, например, льежским городам, действовать сообща, подчиняясь единому руководству. Но равенство их сил и их взаимное соперничество мешали прочному объединению их усилий. Граф воспользовался их раздорами. Его спасла борьба Гента с Брюгге, а затем — Брюгге с Гентом. С другой стороны, мы видели, что мелкие города объединились вокруг графа, и так же поступили духовенство и дворянство. Князь стал, таким образом, центром притяжения всех интересов, задетых гегемонией больших городов. Его верховные права стали казаться всем тем, кого угнетали города, необходимой гарантией их свободы. Этим объясняется то своеобразное явление, что параллельно росту могущества «трех членов Фландрии» все более усиливались монархические поползновения графа. Чем резче выступали тенденции городской политики, тем многочисленнее становились противники городов, и следовательно, сторонники князя. Начиная со второй половины XIV века можно предвидеть, что в предстоящем решительном поединке возьмет верх князь, и Людовика Мальского следует рассматривать в Нидерландах как предшественника монархической формы правления, восторжествовавшей при бургундских герцогах.
Толковый словарь
Адуатуки — небольшое кельтизированное германское племя, обитавшее во времена Цезаря в окрестностях нынешнего Намюра. Азенкур — город в Артуа, где французы были разбиты англичанами в 1415 г. Александр III — папа (1159–1181 гг.), ранее Роланд Бандинелли, будучи папским легатом, провозгласил, на рейхстаге в Безансоне, что император получает корону в лен от папы. Фридрих I Барбаросса отказался признать его выбор законным и назначил своего папу, Виктора IV. Вел ожесточенную борьбу с Фридрихом I. Алеманны — крупное германское племя. Упоминаются в источниках впервые под 213 г. н. э. В III–IV вв. совершали постоянные набеги на Рецию и Галлию; в прирейнских областях с ними вели во второй половине IV в. упорную, борьбу императоры Юлиан, Валентиниан и Грациан (см. Юлиан); их набеги на Галлию исходили из бассейна Майна и Неккара, который они заняли» прорвавшись уже в III в. через «limes» (римско-германский пограничный вал). Эта область — вместе с нынешним Эльзасом, Пфальцом и сев. — зап. Швейцарией (район Боденского озера) — и составила в V в. основную территорию расселения алеманнов, в VI в. вошедшую в состав франкского государства. Позднейшее название населения части этой территории — «швабы» — происходит от слова «свевы». Алкуин (735–804 гг.) — богослов и грамматик, по происхождению англо-сакс (монах из Йорка); в 781 г. встретился в Италии с Карлом Великим и сделался впоследствии руководителем его дворцовой школы и самым влиятельным членом «Академии» при дворе Карла. Роль Алкуина в истории средневековой культуры сводится, главным образом, к посредничеству в деле передачи франкам традиций англосаксонской образованности, стоявшей в то время на острове выше, чем на континенте. Альфонс Кастильский — родственник Гогенштауфенов, после смерти Вильгельма Голландского (см.) был избран германским королем некоторыми из германских епископов и князей (1256). Однако он даже не появился в Германии. Вся его деятельность как германского короля состояла в том, что он вел В папской курии процесс о своем королевском сане. Аммиан Марцеллин — римский историк IV в. н. э., грек по происхождению; род. ок. 330 г. в Антиохии, ум. в конце IV в. в Риме; написал на латинском языке римскую историю в 31 книге (до нас дошло 18), представляющую собой самый ценный для данной эпохи (IV в.) литературный источник повествовательного характера. Арагон — одно из христианских королевств на Пиренейском полуострове в Средние века; выделилось в 1037 г. в небольшое самостоятельное королевство на севере полуострова, но уже в конце XIII в. включало в свой состав Барселону, Валенсию и Сицилию, в XIV в. — Балеарские острова и Сардинию, а в XV в. Южную Италию. В XIV–XV вв. арагонская федерация представляла собой сильную средиземноморскую державу. Арлъское королевство или Арелат — название, применявшееся в XII–XIV вв. к Бургундскому королевству (по гор. Арлю), см. Бургундия. Арнулъф — сын баварского короля Карломана, сменивший Карла Толстого; был королем в восточнофранкском государстве (в Германии) с 887 г., императором — с 896 по 899 г. Атребаты — галльское племя из группы белгов, жившее на территории нынешней провинции Артуа. Bede — древнейшая прямая подать у германцев, образовавшаяся из «добровольных» приношений графу, фогту или сеньору. Белги — группа галльских (кельтских) племен, обитавших к северо-востоку от Сены и Марны (см. Нервии). «Belgica prima» и «Belgica secunda» — две основные части римской провинции Бельгика, территорию которой составляли сев. — вост. области завоеванной Цезарем Галлии — от Сены до границ Нижней Германии и устья Шельды на сев. — вое. и до берегов Северного моря на сев. — зап. и на севере. Бенедиктинские монастыри — католические монастыри, придерживающиеся устава Бенедикта Нурсийского (VI в.). К бенедиктинскому ордену принадлежали старейшие и богатейшие монастыри Западной Европы, сосредоточившие в своих руках огромные земельные богатства, эксплуатировавшиеся ими при помощи крепостного труда. Бланка Кастильская (1187–1252 гг.) — французская королева, жена Людовика VIII (1223–1226 гг.) и мать Людовика IX (1226–1270). Управляла королевством во время юности Людовика IX, а также во время 7-го крестового похода. Оказывала огромное влияние на своего сына. Бонифаций VIII — папа (1294–1303 гг.). С его понтификата начинается упадок папства. Бонифаций пытался сохранить международное влияние папства, проповедовал верховенство церковной власти над светской, пытался выступать в качестве арбитра между государями, проповедовал крестовый поход. Увеличивал папские доходы новыми поборами с верующих. Запретил обложение духовных доходов светскими властями. На этой почве произошло столкновение с французским королем Филиппом IV Красивым, закончившееся победой короля. Вскоре после смерти Бонифация папский престол был перенесен из Рима в Авиньон. Бургундия — под этим названием фигурируют различные политические образования. Следует различать: а) Королевство Бургундию (Транс-Юранскую); оно было основано Рудольфом I в 888 г. из одноименного герцогства, расположенного за Юрой, и включало в свой состав сев. часть Савойи и всю Швейцарию между Юрой и р. Рейсе. б) Королевство Бургундию (Цис-Юранскую); оно было основано в 879 г. герцогом Цис-Юранской Бургундии Бозоном (зятем Карла Лысого), который провозгласил себя «королем бургундцев и провансальцев»; в состав этого королевства входили, кроме Прованса, еще Дофинэ, южная часть Савойи и область между Юрой и р. Соной. — Из соединения составных частей этих обоих королевств, а именно: территории первого из них и Прованса в 932 г. образовалось в) Арелатское королевство (или Арелат), территория которого лишь час тично совпадала с территорией Бургундского королевства, основанного бургундами в 449 г. (бассейн Соны и Роны) и завоеванного франками в 534 г., при преемниках Хлодвига. Королевство Арелат было в 1034 г. присоединено к Германии, но после смерти Карла IV (1378 г.) распалось на ряд самостоятельных территорий. В тексте Пиренн имеет в виду либо первое из названных королевств, либо Арелат, или объединенную Бургундию. Однако, кроме этого, существовало еще: г) Герцогство Малая Бургундия (впоследствии Франш-Контэ), территория которого занимала часть королевства Транс-Юранской Бургундии (без сев. Савойи) и д) Графство Бургундия (Верхняя Бургундия) — между Соной и Юрой, лен Германской империи. Из северной части Цис-Юранской Бургундии, перешедшей в XI в. к боковой линии Капетингов, составилось впоследствии у) Герцогство Бургундия (или Нижняя Бургундия) — путем присоединения областей между pp. Соной и Луарой (к сев.-зап. от Арелата). Это герцогство в XIV в. пожаловано было королем Иоанном Филиппу Валуа, потомком которого является знаменитый бургундский герцог XV в. Карл Смелый, противник Людовика XI. Бургунды — германское племя, жившее в I в. н. э. между Одером и Вислой. Во второй половине III в. бургунды — уже соседи алеманнов на Рейне, а в IV в. — сражаются с ними на стороне римлян. В 410–413 гг. утверждаются на левом берегу Рейна. В 443 г. поселяются в качестве федератов в Савойе (между Роной, Женевским оз. и Дюрансой), а во второй половине V в. захватывают весь бассейн Роны, образуя Бургундское королевство. Bourgeois forams (нем. Ausburger) — горожане, живущие вне того города, в котором они приобрели сословные права гражданства. Такие бюргеры стремятся освободиться от уплаты подати тому территориальному князю или той общине, во владениях которых они проживают, и вносят ее тому городу, в котором они в свое время приобрели права граждан. Вальтер фон дер Фогельвейде (род. ок. 1160 г.), знаменитый миннезингер. Ввел в рыцарскую поэзию политико-дидактические мотивы, обличая алчность римской церкви. Знаменит своей любовной лирикой. Ван-Эйк Ян (ум. 1441 г.) — знаменитый нидерландский художник, основатель реалистического направления в нидерландской живописи. Вестготы — см. Готы. Велъфы — крупнейший княжеский род в средневековой Германии. Процветание Вельфов относится к XI–XII вв. В руках их собирается ряд крупных владений в Германии и Италии, в том числе герцогства Бавария и Саксония. Соперничали с Гогенштауфенами (см.) из-за императорского престола. Сильнейшим из Вельфов был Генрих Лев, знаменитый современник Фридриха I Барбароссы. Фридриху I удалось при помощи князей отнять у Генриха большую часть его владений, оставив ему Брауншвейг. Внук Генриха, Отгон IV, был единственным императором из рода Вельфов (1198–1218 гг.). Борьба Вельфов и Гогенштауфенов («гибеллинов») была в Германии борьбой между сторонниками княжеской и императорской власти. От имени Вельфов идет название антиимператорской и антифеодальной партии в Италии — «гвельфы». Верденский договор — договор между тремя сыновьями Людовика Благочестивого (843 г.), в силу которого произошел раздел франкского государства на следующих основаниях: Лотарь (император с 840 по 855 гг.) получил Фрисландию, бассейн Н. Рейна и средне-рейнские земли (за исключением Майнца, Шпейера и Вормса) до саксонской границы на востоке и до Шельды и Мааса на западе: кроме того: Бургундию (по Соне и Роне), Прованс и владения Карла Великого в Италии; Людовик II Немецкий (ум. в 876 г.) получил Баварию, Алеманию, Тюрингию, Саксонию, т. е. все немецкие земли от Рейна до Эльбы (с включением Майнца, Вормса и Шпейера); Карл Лысый (император с 875 до 877 гг.) получил Галлию с Испанской маркой. После раздела срединного королевства Лотаря между двумя его братьями Карлом Лысым и Людовиком II Немецким (в силу Мерсенского договора 870 г.) из состава бывшего франкского государства выделились те две страны, из которых с X в. сформировались Франция и Германия. ВильгельмГолландский — германский король (1247–1256 гг.), избран в противовес Гогенштауфенам (Фридриху II, с 1250 — Конраду IV). С 1254 г. — единственный король Германии. Делает попытку усилить королевскую власть, осуществив компромисс между городским (Рейнским) союзом и князьями. Вильгельм Завоеватель (1027–1087 гг.), герцог Нормандии, с 1066 г. король Англии. В 1066–1070 гг. завоевал Англию. Основатель сильной королевской власти, первый король Нормандской династии. Вильгельм Оранский (1533–1584 гг.), один из крупнейших деятелей буржуазной революции в Нидерландах. О его деятельности см. Пиренн, Нидерландская революция. Вольфрам фон Эшенбах (ум. 1220 г.), один из крупнейших поэтов средневековья. Подражая французскому поэту Кретьену де Труа (см.), написал на немецком языке большую поэму «Парсифаль». Восстание «молотил» — в Париже в 1380–1383 гг. было вызвано страшным разгромом страны во время Столетней войны, развалом промышленности и торговли и огромным ростом налогов. Начавшиеся в окт. 1380 г. в Париже народные волнения заставили правительство пойти на отмену большей части налогов, введенных со времени Филиппа IV. Но немедленно вслед за этим оно пытается разными способами восстановить хотя бы часть их. Это вызвало новые волнения в марте 1382 г. Народ захватил в городской ратуше оружие (в том числе тяжелые молоты — mailots — отсюда и название движения). Сборщики налогов были перебиты, были разрушены дома некоторых из королевских советников и приближенных. Восстание охватило также ряд городов северной Франции (в том числе Руан) и Фландрии. Разгромив движение в этих городах, король подступил к Парижу. Парижская буржуазия, с самого начала занявшая нерешительную. позицию и боявшаяся как короля, так и народа, сдала город без боя. Последовала расправа с восставшими, причем сильно пострадала и городская верхушка. Были восстановлены прежние налоги. Выборность цеховых старшин была отменена (янв. 1383 г.). Восстание Уота Тайлера — крестьянское восстание в вост. Англии в 1381 г. Было вызвано усилением эксплуатации крестьянства в связи с ростом товарно-денежных отношений в деревне, захватами общинных земель помещиками и феодальной реакцией, наступившей после чумы 1348–1349 гг. К причинам восстания относятся также «рабочее законодательство», начавшееся в 1349 г., устанавливавшее максимум заработной платы и принудительный наем и запрещавшее союзы между рабочими. Непосредственным поводом восстания было введение нового поголовного налога (poll-tax) и злоупотребления при его взимании. Начавшись как протест против налогов, восстание скоро переросло в антифеодальное движение, захватившее большой район. Некоторые из крестьянских отрядов (из графств Эссекс и Кент) пошли на Лондон и, поддержанные городской беднотой, заняли столицу. Вместе с горожанами они произвели расправу с рядом лиц, которых считали виновниками притеснений народа. Добившись свидания с королем, они предъявили ему ряд требований, в том числе требования отмены крепостного права и барщины. Когда король дал согласие на эти требования, часть крестьян ушла из Лондона, но другая часть, с Уотом Тайлером во главе, добилась нового свидания с королем и предъявила новые требования, содержавшие план конфискации церковных земель, раздела их между крестьянами и общего уравнения сословий. Во время переговоров с королем Уот Тайлер был предательски убит. Лондонская буржуазия, сначала поддерживавшая крестьян, надеясь использовать их движение в своих целях, перешла на сторону короля и феодалов, как только увидела, что крестьянское восстание вызвало движение среди городской бедноты. Соединенными силами рыцарства и буржуазии крестьяне были разгромлены, вслед за чем последовали массовые казни крестьян и городской бедноты. Hagastaldi (Hagestolze) — не вступившие в брак младшие члены крепостных семей, не имеющие наследственных держаний и обязанные личным оброком и легкой барщиной (ср. А. Д. Удальцов, «Из аграрной истории Каролингской Фландрии», «Известия ГАИМК», вып. 140. М.-Л., 1935, стр. 45; также стр. 44, 46). Ганза Великая Немецкая — торговый союз северо-немецких городов. Возникает в XIV в. сначала как несколько городских союзов, объединившихся в один общий союз для борьбы с Фландрией в 1356 г. Центром Ганзейского союза был Любек. Главнейшие торговые конторы вне союза находились в Брюгге, Лондоне, Бергене и Новгороде. Целью Ганзы была монополия на торговлю в области союза и отвоевание торговых привилегий в других государствах. Ганза вела упорную борьбу с Данией и одержала над ней победу (1370 г.), закрепившую за Ганзой ряд важных привилегий. Ганзейский союз преследовал также социальные цели — удержание власти купеческого патрициата и подавление цеховых движений. С XV века могущество Ганзы начинает подрываться внутренними противоречиями между интересами отдельных городов, а также ростом торговли других стран Северной Европы. В XVI в. происходит упадок Ганзейской торговли. В XVII в. союз фактически прекращает существование. Ганза Лондонская — союз фландрских и северо-французских купцов, закупавших шерсть в Англии. Лондонская Ганза возникла в начале XIII в. и просуществовала до XV в. Центром ее был Брюгге. Она включала до 17 фландрских городов и до 7 французских, в том числе Париж. Лондонская Ганза не допускала ремесленников к непосредственным сношениям с английским рынком и поддерживала господство патрициата в городах. Расцвет ее падает на XIII век. Гартман фон дер Ауэ — миннезингер конца XII и начала XIII в., представитель придворного эпоса. Главное произведение — «Бедный Генрих». Геванны — Gewannen — см. Мане. Генрих I (1100–1135 гг.) — английский король Нормандской династии. Сын Вильгельма Завоевателя. Завладел английским престолом в ущерб правам своего старшего брата Роберта, герцога Нормандского. Дал церкви и баронам первую Хартию вольностей. При нем происходит укрепление центрального аппарата управления (королевская курия). Вел борьбу со своим братом Робертом и присоединил Нормандию к своим владениям. После его смерти начинается борьба за трон между его дочерью Матильдой и племянником Стефаном Блуасским. Генрих II Плантегенет — граф Анжуйский, герцог Аквитанский с 1154 г. король Англии (ум. 1189). Основатель в Англии Анжуйской династии (иначе династия Плантагенетов). При нем укрепляется центральная власть в Англии, проводится судебная реформа, расширяющая компетенцию королевского суда за счет феодальных и заменяющая старинный сакральный процесс расследованием через присяжных. Военная реформа Генриха заменила военную службу феодалов денежными взносами (щитовыми деньгами) и системой наемных войск. Усилен контроль центрального управления над органами короны на местах (шерифами). Генрих III (1207–1272 гг.) — английский король из династии Плантагенетов. При нем происходит в Англии гражданская война, в которой к оппозиционным баронам примыкают города и рыцарство. Король был разбит Симоном де Монфором при Льюисе. Во время этой войны созываются первые парламенты в Англии. Война заканчивается компромиссом, укрепляющим парламент как представительство крупных феодалов, рыцарства и городов. Генрих IV — германский император Франконской династии (король с 1056 по 1084 г., император с 1084 по 1106 гг.). При нем впервые вспыхнула острая борьба между папством и империей, которая на данном этапе свелась, главным образом, к так наз. спору из-за инвеституры (начался в 1073 г., закончился при Генрихе V в 1123 г.), т. е. к конфликту между взаимно исключавшими друг друга притязаниями папы и императора на утверждение церковных должностных лиц, главным образом епископов, в их должностях и на ввод их во владение земельными пожалованиями, обладание которыми бьио связано с выполнением той или иной церковной должности. Генрих V — германский король (1106–1125 гг.), император с 1111 г., сын Генриха IV, последний представитель Франконской династии. При нем закончился первый этап борьбы папства с империей, и спор об инвеституре был временно прекращен в силу компромиссного договора, получившего название Вормсского конкордата (заключен в 1122 г. между Генрихом V и папой Каликстом II). Генрих VI — германский император (1190–1197 гг.), сын Фридриха Барбароссы. Был одновременно германским императором и королем Южной Италии и Сицилии. Germama inferior — Нижняя Германия — римская провинция, территорию которой составляли левобережные области среднего и нижнего течения Рейна, а также бассейн Мааса и дельта Рейна. «Гинекеи» или «гениции» — женские мастерские в поместьях короля, и магнатов времен Каролингов. В них работали несвободные дворовые женщины. Главное их занятие — изготовление льняных и шерстяных тканей и одежды. Гогенштауфены (или Штауфены) — императорская династия Германии (1138–1254 гг.)), иначе называются Швабской династией. К ним и их сторонникам применялось иногда название гиббелинов. Гогенштауфены вели агрессивную политику в Италии, в Германии вели борьбу с соперничавшим с ними домом Вельфов (см,). Hospites — держатели монастырских вотчин, не имеющие собственных наделов и сидящие на особых участках (hospitia), не входящих в систему мансов (т. е. тяглых наделов). Возможно, что это — пришельцы со стороны. «Hospites» могли быть по своему сословному положению и свободными, и литами, и сервами. Готфрид Бульонский (1060–1100 гг.) — герцог Нижней Лотарингии, участник 1-го крестового похода, глава Иерусалимского государства (1099–1100 гг.). Готфрид Горбатый — герцог Нижней Лотарингии и Сполето, в 1069 г. женился на маркграфине тосканской Матильде; в борьбе Григория VII с Генрихом IV стал на сторону последнего. Умер в 1076 г. Готы — одно из крупнейших германских племен, обитавшее во времена Тацита в бассейне нижней Вислы. Во второй половине II в. н. э. начинается передвижение готов на юг. В середине III в. они захватывают провинцию Дакию и расселяются между Днестром и Доном, с одной стороны (т. н. грейтунги или остготы, остроготы, восточные готы), и в самой Дакии, между Днестром и Дунаем — с другой (т. н. тервинги или вестготы, визиготы, западные готы). Здесь среди готов распространилась христианская «ересь» Ария. В IV в. преобладание переходит к остготам, вождь которых Германарих господствует не только над готами, но также и над другими германскими племенами, а может быть, и над частью славян и финнов. Нашествие гуннов на королевство Германариха в 375 г. приводит к поселению вестготов в Мезии (на правом берегу нижнего Дуная, в нынешней Болгарии), а остготов в Паннонии (в нынешней Венгрии). Вестготы вскоре после этого объединяются под властью Алариха и производят нашествие сначала на Пелопоннес (в конце IV в.), а затем на Италию (из Иллирии, где они были поселены в качестве федератов). Отраженные Стилихоном (см.) в 401–403 гг., они, однако, после его смерти вновь вторгаются в Италию, три раза осаждают Рим (в 408–410 гг.) и наконец подвергают его трехдневному разграблению (24–27 августа 410 г.). После смерти Алариха вестготы передвигаются в Ю. Галлию, где в 419 г. основывают первое варварское государство на территории Западной Римской империи — толозское королевство вестготов в Аквитании, а затем (в 416–428 гг.) захватывают Нарбоннскую Галлию (юго-вост. часть Галлии) и Испанию. — Остготы в середине V в., после распадения гуннского царства Аттилы (453 г.), покинули Паннонию и заняли балканские провинции Восточной Римской империи (Фракию, Мезию, Эпир), а затем их король Теородих в 488–493 гг. завоевал Италию, где и основал остготское королевство, просуществовавшее до 555 г., когда оно было завоевано Византийской империей. Григорий VII (Гильдебранд) — папа (1703–1085 гг.). Родился в 1020 г. Гильдебранд фактически руководил политикой папства при пяти папах (1049–1073 гг.). Под его давлением Латеранский собор 1059 г. издал декрет о выборах папы коллегией кардиналов с устранением влияния на выборы римской знати и с ограничением влияния на них императора. Став папой под именем Григория VII, Гильдебранд развернул широкую программу церковных реформ; вот ее основные пункты: 1) введение целибата (т. е. запрещение браков и внебрачного сожительства для белого и черного духовенства); 2) запрет симонии (т. е. продажи церковных должностей); 3) отмена светской инвеституры епископов и предоставление прав на инвеституру церковных должностей исключительно папе; 4) признание примата духовной власти над светской. Эта программа сделалась главным поводом борьбы между Григорием VII и Генрихом IV. Григорий IX — папа (1227–1241 гг.). Вел ожесточенную борьбу с Фридрихом II Гогенштауфеном. Много раз отлучал императора от церкви. Гуго Капет — герцог «Франции» (области между Сеной и Луарой), 3 июля 987 г. был избран французским королем на собрании знати и положил основание династии Капетингов, удержавшейся на французском престоле в течение почти трех с половиной столетии (987–1328 гг.). Дагоберт I — франкский король из династии Меровингов (629–639 гг.) сын Хлотаря II. Денарий кельнский — мелкая счетная единица, 1/144 часть кельнской марки, равной по стоимости 268,8 гр. серебра. Марка, шиллинг (1/12 марки) и денарий представляли не реальные монеты, а мерило для определения стоимости многочисленных обращавшихся в Кельне монет. Но и курс марки значительно менялся с течением времени. Диоцез (церковный) — область, находящаяся под управлением епископа. Доминиканцы (ivatres, praedicantes — братья проповедники) — нищенствующий монашеский орден, основанный испанцем Домиником в начале. XIII в. для борьбы с ересями. Орден должен был хранить «чистоту» католического учения, и потому центральное место в его деятельности было отведено изучению богословия. Доминиканцы основывали при своих монастырях школы и даже университеты и стремились захватить в свои руки кафедры богословия в важнейших университетах Европы. Из среды доминиканцев вышли крупнейшие представители схоластического богословия. С 1232 г. им была передана инквизиция. Земский мир (Landvrede, Landfriede) — соглашение о поддержании мира между феодалами. Впервые был провозглашен на 4 года императором Генрихом IV в 1103 г. Впоследствии несколько раз провозглашался императорами, а также князьями и городами. Успеха учреждение «земского мира» не имело и не могло прекратить феодальных усобиц. Жакерия — крестьянское восстание в северной Франции в конце мая и начале июня 1358 г., вызванное общим ухудшением в положении крепостного крестьянства, связанным с развитием товарно-денежных отношений в деревне, а также разорением крестьянского хозяйства во время Столетней войны. Крестьяне уничтожали замки и монастыри и убивали дворян. Во главе их стал бывший солдат Гильом Карль. Парижская буржуазия с Этьеном Марселем (см.) во главе сделала попытку использовать крестьян в своих целях. Но крестьянское восстание было быстро подавлено французскими феодалами, к которым присоединились и недавние их враги — англичане. Последовало массовое избиение крестьян. Поскольку восставшие выступали против феодальной эксплуатации, движение их было прогрессивным. Иммунитет — передача королем церковному учреждению или светскому феодалу тех или иных политических прав над населением. Обычно права иммунитета заключались в запрещении королевским агентам въезда на иммунитетную территорию для производства суда, для захвата преступников и т. д. Иммунист, т. е. лицо, получившее иммунитетные права, получал право иметь свои особые суды для населения своей территории. Иммунитет передавал иммунисту также полицейскую власть над населением и права на получение тех судебных сборов, пошлин и иных доходов, которые раньше шли в пользу короля, или его агентов, иногда право чеканки монеты. Иммунитетные права могли быть больше или меньше и определялись особой иммунитетной грамотой. Для исполнения судебных и административных функций, связанных с иммунитетными правами, назначались особые лица, которые в церковных учреждениях часто носили название авуэ (advocati) или фогтов. Инвеститура — собственно церемония передачи сеньором феода вассалу; заключавшаяся во вручении какого-либо символического предмета, напр. палки («скипетра»). Германские императоры давали епископам инвеституру не только на их земли, но и на их должность, вручая им посох и кольцо. Из-за этого возгорается длительная борьба между папами и императорами, начиная с Григория VII и Генриха IV. Папы стремятся взять инвеституру в свои руки. Смысл этого спора заключался в праве назначения на высшие церковные должности. Длительная и драматическая борьба за инвеституру нашла частичное разрешение в Вормском конкордате 1,122 г., разделившем инвеституру на духовную и светскую и отдавшем первую папе, а вторую императору. Впрочем, и этот конкордат оставил весьма широкое поле для дальнейших столкновений. Иннокентий III — папа (1198–1216 гг.). Самый могущественный из средневековых пап. Создал стройную доктрину, согласно которой папская власть является высшей властью во всем мире. К нему обращались за разрешением крупнейших политических вопросов. Его вассалами признали себя короли Иоанн Безземельный, Петр Арагонский и др. Вмешивался также и в дела Франции. Был организатором четвертого крестового похода, превратившегося в конце концов в завоевание Византийской империи. При нем был организован крестовый поход против еретиков — альбигойцев, против прибалтийских язычников — пруссов и др. Произвел реформу значительно увеличенных им папских доходов, превратив папскую курию в один из крупнейших финансовых центров Европы. При Иннокентии III вводится в широких размерах в качестве борьбы с ересью инквизиция. При нем же основаны были два крупнейших монашеских ордена — францисканцев и доминиканцев. Иоанн Безземельный — английский король (1199–1215 гг.). Вел неудачную борьбу с Филиппом II Августом (см.), отнявшим у него большую часть владений Плантагенетов во Франции. Столь же неудачна была его борьба с папой Иннокентием III, вассалом которого он должен был себя признать. В результате восстания баронов должен был в 1215 г. дать «Великую хартию вольностей». Кагорцы (cahorsins), так называли в XIII в. купцов и ростовщиков из Кагора и других городов Южной Франции, а также из Северной Италии. Они пользовались покровительством пап и исполняли поручения по сбору папских доходов. Каликст II — папа (1119–1124 гг.). При нем был заключен Вормсский конкордат. Каноники — см. Капитул. Различались «регулярные» или монашествующие каноники и каноники, принадлежавшие к белому духовенству и не принимавшие монашеских обетов. Капетинги — французская королевская династия, начавшаяся в 987 г., когда на престол вступил Гуго Капет, и продержавшаяся до 1328 г., когда прекратилась старшая линия этого дома и на престол вступила младшая ветвь — Валуа — в лице Филиппа IV. Капитул — коллегия духовных лиц, состоящая при епископской кафедре. Члены капитула называются канониками. Капитулу принадлежало право избрания епископа. Капитул обычно располагал обширными землями и доходами. Места каноников заполнялись младшими сыновьями знатных лиц. Капитулярий о поместьях (Capitulare de villis) — хозяйственная инструкция Карла Великого управляющим его поместьями, изданная, вероятно, в начале IX в. Capitulare de villis представляет собой важный исторический источник для изучения хозяйственной структуры королевского землевладения, поскольку король выступает в нем как крупный вотчинник. Каравзий — узурпатор, захвативший в начале правления Диоклетиана и Максимиана (в 286 г.) Британию, которая и была у него отвоевана одним из цезарей — Констанцием Хлором (см.) в 293 г. Карл I Анжуйский — король Неаполя и Сицилии (1266–1285 гг.), брат французского короля Людовика IX (см.). Вначале путем брака сделался властителем Прованса, в 1261 г. получает от папы права на Сицилийское королевство. По предписанию папы совершил во главе провансальского рыцарства и 15-тысячного войска крестовый поход в Италию. Его приход к власти в королевстве обеих Сицилии ознаменован был истреблением местной норманнской знати. Результатом произведенного им повышения налогов был ряд восстаний. Самое крупное из них — так наз. «Сицилийская вечерня» (30 марта 1282 г.). В этом восстании были перебиты почти все французские войска в Сицилии и власть Анжуйской династии в Сицилии прекратилась. В результате отпадения Сицилии государство Карла свелось к одному только Неаполитанскому королевству. Карл Великий — крупнейший представитель династии Каролингов, с 800 г. император (годы правления Карла Великого 768–814 гг.; с 768 по 771 г. правил совместно со своим братом Карломанном). При Карле Великом франкское государство достигло наибольших своих размеров, объединив земли на континенте Европы до Эльбы, Среднего Дуная и северного побережья Адриатики на востоке и до р. Эбро на юго-западе; в состав владений Карла В. входила также и значительная часть Сев. и Сред. Италии (кроме Папской области); Карлу платили дань славянские племена между Эльбой и Одером. Карл Лысый — один из трех сыновей Людовика Благочестивого, заключивших в 843 г. Верденский договор; в силу этого договора он получил западную часть франкского государства — Галлию с Испанской маркой. С 875 по 877 г. император (см. Верденский договор). Карл Смелый (Charles le Temeraire) — последний самостоятельный герцог Бургундии (1467–1477 гг.), сын Филиппа Доброго. Стремился объединить свои разрозненно лежавшие владения — с одной стороны, Нидерланды, с другой, Бургундию — в единую компактную территорию. На этой почве вел неустанную борьбу с Людовиком IX (см.). У Карла Смелого были, кроме того, постоянные столкновения с герцогами Лотарингскими и со швейцарцами. В битве с ними он и погиб (при Нанси 1477 г.). Значительная часть его владении перешла к Людовику XI. Остальная часть — почти все Нидерланды и графство Бургундское — перешли к единственной дочери Карла Смелого — Марии Бургундской, а после брака ее к Максимилану Габсбургскому, который стал впоследствии императором. Кастилия — одно из христианских королевств средневековой Испании. В XI в. занимало северо-западную часть полуострова (вместе с Леоном); главным городом Кастилии был в то время Бургос. Затем Кастилия временно отделяется от Леона. В результате целого ряда успешных войн с арабами Кастилия в течение XII–XIII вв. захватывает Толедо, затем Кордову, Севилью, Кадикс (к концу XIII в.), а также Мурсию, воссоединяется с Леоном и образует государство, простирающееся через весь полуостров с севера на юг, от моря до моря (до границ Гренадского халифата на юге). Из соединения Арагона и Кастилии в одно королевство в правление Изабеллы Кастильской (1474–1504 гг.) и ее мужа Фердинанда Арагонского (1479–1516 гг.) образовалась в конце XV в. Испания, объединение которой довершилось завоеванием Гренадского халифата (1492 г.). Кимвры и тевтоны — два германских племени, передвижения которых привели к первому нашествию германцев на римские владения, а именно в Ю. Галлию и Сев. Италию. За время с 113 по 105 гг. до н. э. кимвры и тевтоны нанесли римлянам ряд поражений, но затем были разбиты наголову римским полководцем Марием в битвах при Аквах Секстийских (нынешний Экс в Ю. Франции, возле Марселя) в 102 г. и при Верцеллах (в нынешнем Пьемонте) в 101 г. до н. э. Климент V — папа (1305–1316 гг.). Первый из авиньонских пап, из французских прелатов. Был проводником политики Филиппа Красивого (см.). Константин Великий — римский император (307–337 гг.), сын Констанция Хлора. С 323 г. (после победы над своим соправителем Лицинием) — властитель всей империи. При Константине Великом объявлено было равноправие христианства с язычеством (313 г.), и христианство фактически стало господствующей религией. Константин Великий усилил бюрократическую машину и содействовал дальнейшему ходу процесса прикрепления сословий к государственному тяглу (в том числе и закрепощения колонов). В 330 г. перенес столицу на Восток, основав на месте Византии Константинополь. Вел борьбу с готами, вандалами, персами. Умер в 337 г. в Никомедии и перед смертью принял христианство. Констанций Хлор — правитель Галлии и Британии при Диоклетиане, в качестве цезаря (293–305), с 305 по 306 гг. — август Западной Римской Империи. «Королевские гуфы» (Konigshufen), гуфы на колонизованных территориях, т. е. на лесных расчистках или культивированных болотистых местностях (отсюда термины «Waldhufen» и «Moorhufen»). Королевские гуфы отличались большими размерами в 120 моргенов (см. Мане). Креси — город в Сев. Франции, близ которого французы были разбиты англичанами во время Столетней войны (1346 г.). Кретьен де Труа — знаменитый французский поэт XII в. Прославился своими стихотворными рыцарскими романами, принадлежащими к циклу Круглого стола. Курия королевская (Curia regis) — термин, под которым понимают несколько различных учреждений: 1) собрание крупнейших феодалов королевства, с которыми король совещается о тех или иных делах; ни состав этой курии, ни компетенция ее не были точно определены; 2) собрание приближенных советников короля, которым поручались те или иные отрасли управления; 3) высшие судебные органы королевской власти, заполнявшиеся обычно легистами (см.); 4) собрание королевских вассалов по какому-либо торжественному случаю. Курия поместная — сход крестьян поместья под руководством господского приказчика или старосты. Разбирались хозяйственные дела, имущественные дела между крестьянами, дела по нарушению отбывания крепостных повинностей или крепостной дисциплины и т. д. Курия феодальная — собрание вассалов, обязанных давать сеньору «совет и помощь» (consilium dt auxilium), главным образом с судебными и совещательными функциями. Но нередко также торжественное собрание по случаю какого-нибудь празднества и т. д. Латинская империя — основана крестоносцами и венецианцами во время 4-го крестового похода, в 1204 г. Охватывала большую часть завоеванной крестоносцами Византийской империи. Крупная доля добычи досталась венецианцам, получившим большую часть греческих островов, в том числе Крит и Родос, ряд важных приморских пунктов и часть Константинополя. Латинская империя распадалась на ряд феодальных владений. «Латинские» феодалы страшно Притесняли и грабили местное население и постоянно враждовали друг с другом. Это помогло грекам, сохранившим часть своих владений в Эпире и Малой Азии (Никейская и Трапезундская империи), завоевать «Латинские» владения и восстановить Византийскую империю (1261 г.). Удержались лишь второстепенные феодальные владения «латинян» в Морее и владения венецианцев. Лев IX — папа с 1049 по 1054 гг., третий из пяти немецких пап (немецкий епископ Бруно), сменивших друг друга за время с 1047 по 1058 гг. Легисты — так назывался персонал административных и судебных учреждений феодальной монархии; получившие юридическое образование на изучении римского права, легисты проводили в жизнь принцип королевского верховенства, расширяли королевскую юрисдикцию за счет феодальной и подчиняли страну господству королевского общего права. Они выходили из среды низшего дворянства, духовенства и из горожан и были в руках королевской власти важным орудием в борьбе с политической самостоятельностью крупных феодалов. Людовик IV Заморский — король Франции (936–954 гг.); после смерти Рауля Бургундского временно восстановил династию Каролингов во Франции. Людовик IV Дитя (сын Арнульфа и правнук Людовика II Немецкого) — последний представитель династии Каролингов в Германии, король с 900 по 911 гг. Людовик IX Святой — французский король (1226–1270 гг.). При нем проведен ряд важнейших реформ — судебная, военная, монетная, — имевших целью усиление королевской власти. Возглавлял седьмой (1248 г.) и последний, восьмой (1270 г.) крестовые походы. Во время последнего умер от чумы. Людовик XI — французский король (1461–1483) гг. Вел борьбу с Карлом Смелым (см.), после смерти которого к Франции было присоединено герцогство Бургундское и южная часть нидерландских владений Карла Смелого. При нем же, кроме того, присоединен Прованс. Поощрял торговлю и промышленность. Людовик XVI — последний король предреволюционной Франции. В 1774 г. вступил на престол. 21 января 1793 г. казнен по приговору революционного правительства. Максимиан — соправитель императора Диоклетиана (284–305 гг.), возведенный им в цезари (284 г.), а затем — в августы (286 г.). Манихейство — религиозное учение, возникшее в III в. и широко распространившееся на Востоке (в Иране, Индии, даже Китае). С конца III в. оно начинает распространяться в Римской империи. Манихейство является дуалистическим учением, противопоставляющим царство света, где господствует бог, царству мрака, где господствует сатана. Между этими царствами идет непрерывная война. Из смешения элементов света и мрака создан мир и человек, постоянно раздираемый борьбой света и мрака. В людях частицы мрака и света распределены неравномерно (в женщинах элементы мрака преобладают). Путем строго аскетизма человек должен освободиться от власти мрака, и тогда заключенный в нем свет объединится со своим источником — солнцем. Строгий аскетизм, проповедывавшийся манихейством, должен был быть уделом лишь избранных, которые ведут к спасению других верующих. Манихейство устанавливало особую иерархию и упрощало обрядность. Манихейство оказало большое влияние на ряд христианских сект на Востоке и на Западе (богумилы, катары). Мане (mansus) — термин, обозначающий: а) надел пахотной земли, обладание которым связано было с правом пользования неподеленными пустошами, лугами, лесами, водами и общинным пастбищем; б) жилой дом с пристройками, садом, огородом или виноградником, так наз. двор или усадьбу сидящего на мансе лица. Мане мог быть либо наделом свободного мелкого собственника — общинника, либо зависимым от вотчины земельным держанием, представлявшим собою в то же время и единицу взимания вотчинных повинностей. В первом случае все деревенские поля по качеству почвы делились на известное число четырехугольников — геваннов (Gewanne), и каждый из них распадался на такое число полос, которое соответствовало числу мансов (или туф) в данной деревне. Величина гуфы или манса колебалась от 30–40 моргенов пахотной земли до 60–90 и даже 120 моргенов («королевские гуфы» на колонизованных территориях). Так как морген (количество земли, которое можно вспахать при помощи плуга и пары волов в течение одного дня) представлял собой величину неопределенную, то колебания в размерах манса или гуфы в разных местностях были весьма значительны. Марка (английская) — 2/3 фунта стерлингов, или 13 шиллингов и 4 пенса. Маркграфство Бранденбургское — территория в бассейне Гавеля и Шпрее (между средним течением Эльбы и Одера), приобретённая в середине XII в. асканским герцогом Альбрехтом Медведем и превратившаяся в XIV в. в курфюршество (в силу «Золотой буллы» Карла IV в 1356 г.). В XVII в. из объединения территории Бранденбурга (значительно расширившейся к тому времени на восток за Одер, до границ Померании и Силезии) с герцогством Прусским (бывшим владением тевтонского ордена) образовалась Пруссия, включившая в свой состав еще ряд промежуточных территорий (расположенных между Бранденбургом и Прусским герцогством). Матильда — маркграфиня Тосканская, сторонница Григория VII, который опирался на военную силу ее вассалов в борьбе с Генрихом IV. На почве политических разногласий развелась с Готфридом Горбатым; после смерти Григория VII вышла замуж за баварского герцога Вельфа V (сына Вельфа IV), что привело к соединению Баварии, Ломбардии и Тосканы в один комплекс владений, которые в силу завещания Матильды должны были достаться папе. Однако когда Вельф V, надеявшийся приобрести наследство Матильды, узнал о ее завещании в пользу папства, он развелся с нею. В 1111 г. Матильда заключила тайное соглашение с императором Генрихом V (сыном Генриха IV), в силу которого Генрих V после ее смерти в 1115 г. заявил притязания на ее наследство. Междуцарствие в Германии — так называется время между концом династии Гогенштауфенов (1254 г.) и избранием Рудольфа Габсбургского (1273 г.). На самом деле в Германии в это время королевская корона принадлежала сначала Вильгельму Голландскому (до 1256 г.), потом Ричарду Корнуольскому (до 1272 г.) и одновременно с ним Альфонсу Кастильскому, выбранному другой частью князей. Это — время глубочайшего упадка королевской власти и господства феодальной анархии в Германии. Менапии — галльское (кельтское) племя из группы белгов, обитавшее во времена Цезаря по нижнему течению Шельды и Рейна (по обоим берегам этого последнего). Меровинги — династия французских королей, ведущая свое начало от короля салических франков Меровеха или Меровея (430–460 гг.). Уже в первой половине VII в. Меровинги утрачивают реальную власть, которая переходит к майордомам. В 751 г. последний меровингский король Хильдерих III был смещен майордомом Пиппином Коротким, основавшим династию Каролингов. Ministeriales — министериалы — во франкскую эпоху высший слой несвободных слуг короля или крупных землевладельцев-вотчинников; министериалы выполняли свою службу в качестве лиц в дворцовом управлении или барском хозяйстве, а иногда на войне. Министериалы получали за свою службу оброчные держания и служилые лены. Королевский дворцовый министериалитет послужил на первых порах ядром, из которого сформировался центральный административный аппарат средневекового феодального государства. Наряду с этим существовали министериалы, занимавшие более мелкие должности в королевском хозяйстве и управлении (и королевские ремесленники считались в IX в. министериалами), а также министериалы вотчинников. Этот обширный слой министериалов с XI в. начинает складываться в особое сословие, члены которого в результате раздачи им служилых и вассальных ленов за административную и военную службу выделяются из массы несвободных. Missi dominici — государевы посланцы (или королевские посланцы) — при Карле Великом должностные лица, наделенные чрезвычайными полномочиями в области контроля деятельности графов и их помощников, а также и церковных администраторов. Вся империя была разделена на ряд округов (missatica или legationes), и в каждый из них посылались на, год по два missi (один светский и один духовный сановник). Кроме того, иногда назначались и чрезвычайные посланцы, посылавшиеся не на год, а на короткий срок для выяснения или расследования какого-либо дела на месте. Морины — галльское племя из группы белгов, в нынешней Бельгии, обитавшее у побережья Северного моря. Нейстрия, Австразия и Бургундия — три королевства, на которые фактически распалось франкское государство в конце VI в. Территория Австразии занимала сев.-вост. часть нынешней Франции и область нижнего Рейна — от Арденн до Майна, Липпе и Рура. Нейстрия была расположена к западу от Австразии и простиралась до среднего и нижнего течения Луары. Бургундия обнимала бассейн Соны, Роны и верхней Луары. Наибольшее значение в истории франкского государства имели Австразия и Нейстрия. Их короли, а затем их майордомы вели между собой упорную борьбу, которая закончилась в 687 г. победой австразийского майордома Пиппина Геристальского (681–714 гг.), ставшего палатным мэром всех франкских королевств, и установлением наследственности самой должности майордома. Нервии — одно из племен так наз. группы белгов (т. е. кельтов, обитавших в сев.-вост. Галлии). Во время Цезаря нервии жили по берегам р. Самбры (левый приток Мааса), между Самброй и Шельдой. Нитхард — политический деятель и историк эпохи Каролингов, сын поэта Ангильберта и дочери Карла Великого Берты; участвовал в междоусобных войнах 840–843 гг. на стороне Карла Лысого и написал исторический труд, излагающий в 4 книгах основные события царствования Людовика Благочестивого (814–840 гг.) и особенно подробно — ход усобиц, разыгравшихся после его смерти между его сыновьями. Норманны — совокупность германских племен, населявших в IX в. нынешнюю Данию и Южн. Скандинавию. Совершали в течение IX–XI вв. постоянные набеги на Англию, Францию, Германию, Италию, и дали толчок к основанию или формированию ряда государств (герцогство Нормандия во Франции в начале X в.; датское владычество в Англии в IX–XI вв. и нормандское завоевание Англии в 1066 г.; норманнские государства в Италии с XI в. и др.). Норманны сыграли огромную историческую роль в качестве торговых посредников. Норвежские и исландские норманны открыли Гренландию и первыми дошли до берегов Сев. Америки (Винланд, близ нынешнего Нью-Йорка). Оммаж (hommage, homagium) — церемония вступления в вассальные отношения. Она заключалась в том, что лицо, желающее вступить в вассальные отношения к тому или иному сеньору, становилось перед ним на колени и вкладывало свои руки в его руки. Сеньор поднимал его с колен и целовал его. От оммажа следует отличать феодальную присягу в верности (фуа, foi, fidelitas) и инвеституру (передачу феода). Орозий — историк первой половины V в., родом из Испании (Таррагона). Написал на латинском языке очерк мировой истории, доведенный до 419 г. н. э. и имевший целью показать, что христианство неповинно в несчастьях, обрушившихся на Римскую империю. Оттон Великий — сын Генриха I Птицелова, король Германии с 936 по 973 гг., основатель империи, получившей впоследствии название «Священной Римской империи германской нации» (962 г.). Оттон II — германский император (973–983 гг.), сын Отгона I и отец Оттона III. Оттон II и Оттон III пытались захватить Южную Италию и превратить Рим в действительную столицу вновь возданной империи. Оттон III мечтал о создании западной империи наподобие Римской, а также о теократической постановке императорской власти. Политика Оттона II и Оттона III в Италии потерпела полный крах, и их попытки захвата Южной Италии закончились поражением императорских войск. Оттон IV — германский император (1197–1218 гг.), сын Генриха Льва из Вельфского дома. После смерти Генриха VI (см.) оказались выбранными сразу два императора: Оттон IV и Филипп II Швабский (см.) из дома Гогенштауфенов. Это ослабление императорской, власти было на руку папству. Папа Иннокентий III (см.) принял сторону Вельфов и поддерживал Оттона, добившись за это ряда уступок церкви. Перемена политики Оттона IV, начавшего захватывать североитальянские города, приводит его к столкновению с Иннокентием III, отлучившим его от церкви и выдвинувшим в противовес ему Фридриха II, сына Генриха VI и племянника убитого Филиппа Швабского. Фридрих II в 1216 г. с помощью папы переправляется в Германию и провозглашает себя королем. Борьба между обоими королями, Фридрихом II Гогенштауфеном и Отгоном IV, была окончена со смертью последнего. Пасхалий II — римский папа (1099–1118 гг.). В 1111 г. пытался разрешить спор об инвеституре проектом возвращения королю всех земель и прав, пожалованных церкви германскими и восточно-франкскими королями со времен Карла Великого, при условии сохранения за церковью частных земельных дарений И десятин и отказа короля от инвеституры. Проект вызвал протест со стороны духовных князей, а также и части светских, боявшихся усиления королевской власти и не уверенных в судьбе своих ленов из имперских церковных земель, и поэтому в жизнь проведен не был. Плантагенеты — графы Анжуйские, с 1154 г. — короли Англии. С 1154 г. до начала XIII в. держава Плантагенетов объединяет огромные владения во Франции (Нормандию, Анжу, Мэн, Турень, Пуату, Аквитанию) с Англией. Во Франции Плантагенеты соперничают с французским королевским домом Капетингов. Короли дома Плантагенетов — Генрих II (1154–1189 гг.), Ричард I (1189–1199 гг.), Иоанн Безземельный (1199–1216 гг.), при котором Плантагенеты теряют большую часть своих владений во Франции, Генрих III (1216–1272 гг.), при котором идет дальнейшее сокращение французских владении Плантагенетов, Эдуард I (1272–1307 гг.), Эдуард II (1307–1327 гг.), Эдуард III (1327–1377 гг.), при котором начинается Столетняя война с Францией, и Ричард II (1377–1399 гг.), низложенный баронами, возведшими на престол Ланкастерскую династию. Подеста (podesta) — в Италии лицо, стоящее во главе городского управления. Гогенштауфены ставили подест во главе управления в городах Италии. К XIII в. коллективная власть консулов заменяется единоличной властью подесты во многих итальянских городах. Польдеры или марши (от голландского «Marsch», низменность) — низкие луга по берегам Северного моря, весьма пригодные для скотоводства и отчасти для земледелия. Отгорожены от моря плотинами. Постум — римский полководец, захвативший при императоре Галлиене власть (один из так наз. «тридцати тиранов») и провозгласивший себя императором (257–267 гг.). Пребенда (praebenda) — доходы, определенные на содержание духовных лиц (земельные владения, дома и пр.), а также в католических странах вознаграждение духовных лиц за отправление церковного богослужения. Пуатье — гл. город графства Пуату. Здесь в 1356 г. французы были наголову разбиты англичанами. Король Иоанн Добрый был взят в плен. Рерик — один из норманнских вождей, брат датского короля Гаральда. Рипуарии — см. франки. Ричард Корнуольский — брат английского короля Генриха III. Германский король (1256–1272 гг.), ставленник папы, которому он заплатил огромную сумму. Большие деньги были заплачены за избрание также германским архиепископам и князьям. Ричард не пользовался никаким влиянием в Германии. Ричард I.Львиное сердце — английский король (1189–1199 гг.). Считался воплощением всех рыцарских доблестей, храбрейшим и сильнейшим из всех европейских рыцарей, но, в сущности, был жестоким и необузданным насильником. Вместе с Фридрихом Барбароссой и Филиппом Августом возглавлял 3-й крестовый поход (1190 г.). На обратном пути с Востока попал в плен к своему врагу, австрийскому герцогу Леопольду, и был выпущен на свободу (1194 г.) с условием заплатить выкуп в 150 тыс. марок. Вел борьбу с Филиппом II Августом (см.) за свои континентальные владения во Франции. Почти все время своего царствования провел вне Англии. Роберт Парижский — в союзе с Раулем Бургундским и графом Вермандуа сверг Карла Простоватого и в 922 г. провозгласил себя королем, но в 923 г. пал в битве при Суассоне. Рудольф Бургундский — основатель королевства Транс-Юранской Бургундии (888 г.); Рудольф II Бургундский — основатель королевства Арелата (932 г.). В тексте Пиренна имеется в виду, по всей вероятности, не Рудольф I, и не Рудольф Бургундский (оба они были королями Бургундии), а герцог Бургундии, Рауль (ошибочно назван Рудольфом), ибо его Пиренн называет преемникомРоберта Парижского; Рауль Бургундский после смерти Роберта Парижского был королем Франции (923–936 гг.). Рудольф Габсбургский — германский король (1273–1291 гг.), первый король Габсбургского дома. При его избрании впервые выступает коллегия семи курфюрстов. Владетель небольших земель в Эльзасе и Швейцарии, Рудольф использует свой королевский сан для расширения своих личных владений. Отнимает у чешского короля Оттокара Австрию, которая делается главным владением Габсбургского дома. Саксы — одно из важнейших германских племен. Обитали по правому берегу Нижней Эльбы, на островах Северного моря и в южной части Ютландского полуострова. В 286 г. вместе с франками производили набеги на берега северо-восточной Галлии. В течение IV–V вв. саксы распадаются на две ветви, из которых одна поселяется на берегах северной Галлии от Шельды до Бретани, а другая образует большое племя в бассейне Везера и Эльбы (в состав его входит целый ряд более мелких племен). С III в. производили набеги на Британию, с середины V в. участвуют в ее завоевании. Салии или салические франки см. Франки. Салический закон, т. е. Салическая Правда — Lex Salica — самая ранняя из варварских правд германских племен, запись обычного права салических франков, составленная в последние годы правления Хлодвига между 508 и 511 г. Священная Римская империя (962—1806 гг.) — основана Оттоном I. Связана с притязаниями германских королей Саксонской, Франконской и Гогенштауфенской династий на господство над Италией и на гегемонию в Европе. Во второй половине XI в. начинается ожесточенная борьба между императорами и папами, заканчивающаяся в середине XIII в. фактическим падением Священной Римской империи, сохраняющейся лишь в виде титула и бессильных притязаний до отречения Франца II от этого титула (1806 г.) по Пресбургскому миру с Наполеоном. Слейс — порт во Фландрии, где французский флот был истреблен английским в начале Столетней войны (1340 г.). Смуты середины XIII в. в Империи — вызваны усилением самостоятельности князей, ослаблением императорской власти в Германии, непопулярной итальянской политикой Гогенштауфенов и их неудачами в Италии. Папа объявляет Фридриха II Гогенштауфена низложенным, в духовные князья выбирают «поповского короля» Фридриха Тюрингского (1246 г.), но он в следующем году умирает. В 1247 г. часть князей выбирает королем Вильгельма Голландского (см.). Одновременно императором остается Фридрих II, а после его смерти (1250 г.) Конрад IV, который умер в 1254 г. С ним прекратилась династия Гогенштауфенов. Стилихон — римский полководец и государственный деятель конца IV — начала V в. н. э., опекун западного римского императора Гонория (395–423 гг., сына Феодосия Великого) в период несовершеннолетия Гонория и фактический правитель Западной Римской империи в 395–408 гг. Стилихон, вандал по происхождению, известен как энергичный организатор военных сил империи в эпоху т. н. «переселения народов». В 395 г. ему удалось прогнать вестготов (см. Готы) во главе с их вождем Аларихом из Пелопоннеса, после чего они были поселены в Иллирии, а в начале V в. он отразил первое нашествие вестготов на Италию, разбив Алариха в битвах при Аквилее (401 г.), при Полленции (402 г.) и Вероне (403 г.). Будучи сторонником установления устойчивого равновесия между империей и германцами путем поселения последних на территории римских провинций в качестве военных союзников империи — федератов, Стилихон вступил в переговоры с Аларихом, что и подало повод Гонорию обвинить его в государственной измене. Стилихон был казнен в Равенне 23 авг. 408 г. Судебная реформа Карла Великого — сводится: а) к изменению состава и сроков созыва судебных собраний и б) к созданию коллегии шеффенов или скабинов. До этой реформы явка на регулярные судебные собрания считалась обязанностью всех свободных жителей данного округа или сотни. Карл Великий ограничил созыв регулярных обычных собраний графства или округа («echte Dinge») двумя-тремя заседаниями в году, при чем судебная повинность всех свободных сводилась к явке только на эти собрания, а на остальные судебные собрания, возникавшие из прежних экстренных собраний и созывавшиеся теперь значительно чаще, должны были являться лишь наиболее зажиточные жители данного округа. Этой артистократизации состава судебных собраний соответствовала и реорганизация коллегии судебных заседателей. Прежних рахинбургов, выбиравшихся из среды именитых людей (boni homines) сотни или округа, сменили скабины иначе шеффены или эшевены, назначавшиеся «государевыми посланцами» («missi dominici») при участии графа и народа из числа землевладельцев данного округа («meliores») в качестве постоянных должностных лиц (ministeriales), деятельность которых простиралась на всю территорию графства и которые могли быть смещены за плохое исполнение их обязанностей. Коллегия шеффенов (числом от 7 до 12) должна была «находить приговор», т. е. предлагать суду то или иное решение дела согласно казусам, собранным в соответствующих варварских правдах, а председатель суда — граф давал распоряжение о приведении этого приговора в исполнение. Terra indominicata — барская или господская земля, барская запашка, противополагаемая держательской земле. Господская земля нередко называется в источниках господским мансом («mansus indominicatus»), т. е. господским двором или усадьбой (см. «Мане»). Токсандрия — область к югу и к западу от нижнего течения Мааса (см. Франки). Треверы — племя, кельтское по культуре и языку, но, может быть, германского происхождения. Занимало обширную территорию Мозеля, к югу от «Germani cisrhenani», часть которых иногда попадала в зависимость от них. Турский грош. (Gros tournois) — грош, равный 12 денариям. Появляется во Франции при Людовике IX. В 1300 г. подобные гроши были выбиты в Богемии, и с тех пор эта монета стала распространяться во всей Западной Европе. Тюринги — крупное германское племя. Ок. 500 г. занимают обширные области в бассейне верхней Эльбы, верхнего Дуная и их притоков (из части этой территории впоследствии образовалось герцогство Тюрингия). В 531 г. потеряли свою самостоятельность под соединенным напором франков и саксов, причем большая часть территории тюрингов вошла в состав франкского государства, за исключением северной ее оконечности, которая отошла к саксам. Угольный лес (Silva Carbonaria) — лес, тянувшийся от впадения Самбры в Маас до Шельды и составлявший северо-западное продолжение «Арденнского леса» (т. е. леса, который покрывал склоны Арденнской возвышенности). Familia — термин, имеющий широкое и не всегда достаточно определенное значение: этим термином зачастую обозначаются и несвободные слуги крупного землевладельца, его дворовые и вся совокупность зависимых от него людей — «homines nostri» (ср., напр., «Капитулярий о поместьях»). Феофано — византийская принцесса, дочь византийского императора Иоанна Цимисхия; в 972 г. вышла замуж за Отгона II (германский император с 973 по 983 г.). Филипп I — французский король (1060–1108 гг.), четвертый представитель династии Капетингов. Вел борьбу с герцогом Нормандским и войну за фландрское наследство. Филипп II Август — французский король (1180–1222 гг.), один из основоположников сильной королевской власти во Франции, участник 3-го крестового похода. По браку с Изабеллой Генегауской присоединил к королевскому домену графство Артуа. Отнял у Плантагенетов из их французских владений Нормандию, Анжу, Мэн, Турень, часть Пуату. Разбил при Бувине (1214 г.) коалицию англичан, фламандцев и немцев. Усилил централизацию управления. При нем был совершен крестовый поход против альбигойцев и начато было завоевание графства Тулузского (Лангедока). Филипп III Смелый — французский король (1270–1285 гг.). В начале его царствования к королевскому домену были присоединены значительные владения в Южном Пуату и в Лангедоке. Вел неудачную войну с Арагонским королевством. Филипп IV Красивый — французский король (1285–1314 гг.). При нем была присоединена Шампань, происходила борьба за присоединение Фландрии. Вел борьбу с папством в лице Бонифация VIII. При нем папы переселились из Рима в Авиньон. Впервые созывает генеральные штаты. Филипп IV Валуа — французский король (1328–1350 гг.). Первый представитель династии Валуа. О его помощи графу Фландрскому в борьбе с городами, битве при Касселе и др. см. у Пиренна. При нем началась в 1338 г. Столетняя война. Филипп Швабский (1197–1208 гг.) — германский король из дома Гогенштауфенов, брат Генриха VI. Был выбран частью германских князей одновременно с Отгоном IV вельфского дома. Фирма города (firma burgi) — ежегодная фиксированная денежная рента уплачиваемая городом королю или другому сеньору. Флорин — средневековая золотая монета, чеканившаяся во Флоренции. Так как флорентийские купцы находились в оживленных сношениях с торговым! городами Европы, то их золотая монета получила широкое распространение и вызвала много подражаний. Флорины стали благодаря этому чеканиться в Франции, Германии и др. странах. Фогт (advocatus) — должностное лицо иммунитетной вотчины, ведающее судебным делом на ее территории. В Х–ХI вв. фогты стремятся феодализировать свою должность и из защитников иммунитетных интересов часто превращаются в их нарушителей, что приводит к размежеванию полномочий между ними и вотчинниками-иммунистами. Франки — обозначение совокупности прирейнских германских племен, проявляющееся в источниках в первой половине III в. (в 235 и 242 гг.). Франки делились на верхних, средних и нижних (по их географическому размещению вдоль течения Рейна). Ветвь франков, обитавшая по левому берегу Рейна в районе нынешнего Кельна, называлась также рипуариями или рипуарскими франками. Ядро приморских (нижних) франков составляли салии или салические франки, занимавшие первоначально т. н. Батавский остров, омываемый Старым Рейном, Ваалом и Северным морем, откуда они в середине IV в. распространились до Шельды, а вслед затем до Мааса, захватив всю Токсандрию, которая — и сделалась исходным пунктом их дальнейших завоеваний. В состав верхних и средних франков вошли также и еще некоторые зарейнские племена — бруктеры, хатты и др. Francia — название области, составившей королевский домен во Франции при первых Капетингах, т. е. территория по средней Сене и средней Луаре (впоследствии стала называться Иль-де-Франс). Фридрих I Барбаросса — германский император (1152–1190 гг.). Пытался установить свое господство над северо-итальянскими городами, что объединило против него почти всю Италию вместе с папством. Потерпел поражение от городских ополчений Ломбардского союза при Леньяно (1176 г.) и был принужден признать самостоятельность итальянских городов. Утонул в Малой Азии, участвуя в 3-м крестовом походе. Фризы — германское племя, обитавшее в I в. н. э. между оз. Флево (на месте нынешнего Зюйдерзее) и р. Эмсом. Хилъдерих I — король салических франков (457–481 гг.), отец Хлодвига. Хлодвиг — король салических франков (481–511 гг.), объединивший все ветви этого племени и основавший франкское государство Меровингов, в состав которого к концу его правления входила значительная часть Галлии, за исключением юго.-зап. и юго.-вост. ее частей (Гаскони, Септимании, Бургундии и Прованса), а также прирейнские земли до бассейна Майна (Сев. Алеманния). Хлогион — один из вождей салических франков (430–460 гг.), завоевал часть территории нижнерейнских тюрингов и распространил свое владычество на юго-запад вплоть до р. Соммы. Хлотарь II — франкский король из династии Меровингов (584–629 гг.), сын Хильпериха и Фредегонды, до 613 г. — король Нейстрии, с 613 г. по 623 г. — Нейтрии и Австралии. Цензива — держание земли на условии уплаты фиксированного денежного оброка (ценза), а также натурального оброка и некоторых барщинных повинностей, несения баналитетов. Цензива наследственна, может быть отчуждаема, но при наследовании и отчуждении уплачивается сеньору пошлина. Большинство крепостных крестьянских владений во Франции постепенно переходят в цензивы. Уничтожена во время французской буржуазной революции конца XVIII в. Cerocensuales — группа оброчных держателей, зависимость которых от монастырского вотчинника выражается в уплате оброка (ценза) воском («сеrа», откуда и название), нередко переводимого на деньги или, по крайней мере, исчисляемого в денежных единицах. Оброк воском (и медом) весьма часто взимался именно на монастырских землях в средневековой Франции и Германии и упоминается в целом ряде источников церковного происхождения (напр. в Сен-Жерменском полиптике, в Лоршском картулярии и в др.). Цистерцианцы — монашеский орден, основанный в конце XI в. в Сито (в французской Бургундии). Цистерцианцы прославились своей хозяйственной деятельностью, главным образом по расчистке лесов и организации пастбищного хозяйства, причем ими эксплуатировался труд воспитывавшихся ими сирот, которые составляли младший персонал монастыря (так наз. «конверсы»). Сыграли крупную роль в колонизации немцами заэльбских земель. К началу XIII в. у цистерцианцев было свыше 300 монастырей во всех основных странах Западной Европы. Английские цистерцианские монастыри вели обширную торговлю шерстью с Фландрией. Черная смерть — чума, свирепствовавшая в Европе между 1346 г. и 1350 г. Распространилась из Азии и через Константинополь и Сирию была занесена в торговые города Италии. В 1347 г. и начале 1348 г. распространилась по Италии, Испании, Франции, с августа 1348 г. по Англии. Причиненные ею опустошения были весьма значительны (по мнению некоторых исследователей, они доходили до половины всего населения). Социальные ее последствия часто преувеличиваются. Несомненно, она обострила классовую борьбу в деревне и городе, усилив эксплуатацию как наемного труда, так и труда крепостных крестьян. Шампанские ярмарки — процветают с середины XII до середины XIV вв. Они происходили 6 раз в году в городах Ланьи, Боре, Провене, Труа, продолжаясь почти непрерывно в течение года. Здесь встречались купцы из Франции, Италии, Испании, Фландрии, Брабанта, Германии и Англии. В сроки ярмарок происходили платежи по долговым обязательствам купцов и князей. Упадок шампанских ярмарок связан с присоединением Шампани к французскому королевскому домену и с утратой ею значения нейтрального места встречи купцов из разных стран. Эбуроны, кондрузы, цэрозы, пэманы, сегны — германские племена, обитавшие во времена Цезаря по эту сторону Рейна (составлявшие группу племен, обозначаемую Цезарем, как «Germani cisrhenani») и подвергшиеся сильному кельтскому влиянию. Из них эбуроны жили между Маасом и Рейном (от нынешнего Льежа до Аахена), а кондрузы — в окрестностях нынешнего Льежа и к юго-западу от него, по течению Мааса. Эд Парижский — сын Роберта Сильного, графа и маркиза Анжу, Оксерра и Невера; Роберт был в 861 г. назначен герцогом в области между Сенои и Луарой (так наз. Francia) и поставлен во главе военных сил этой области против норманнов. Через некоторое время после смерти Роберта Сильного (866 г.). Эд получил его владения (кроме Анжера) и стал графом Парижским, а в 888 г. был избран королем западно-франкского государства (Франция). Король с 888 по 898 гг. Эдуард III — английский король (1327–1377 гг.). При нем началась Столетняя война с Францией (1338–1453 гг.). Этьен Марсель — вождь парижского восстания в 1356–1358 гг. Ближайшей причиной восстания было поражение французских рыцарей при Пуатье в 1356 г. Созванные дофином Карлом Генеральные Штаты, в которых преобладали представители северо-французских городов, предъявили правительству требование передать в руки Штатов контроль над управлением государством и над финансами. Генеральные Штаты опирались на революционное движение парижского населения, во главе которого стал купеческий старшина (prevot des marchands) Этьен Марсель. Роспуск дофином Генеральных Штатов вызвал вооруженное восстание в Париже, заставившее дофина созвать новые Штаты в которых буржуазия имела еще больший перевес. Новые Генеральные Штаты провели так наз. Великий Ордонанс (март 1357 г.), устанавливавший регулярный созыв Штатов и передававший управление назначенному Штатами Государственному совету. Попытка дофина избавиться от этого Совета вызывает новое вооруженное выступление под руководством Этьена Марселя, во время которого вооруженная толпа ворвалась во дворец и на глазах дофина убила нескольких его приближенных. После этого дофин бежал из Парижа, и между ним и Парижем начинается война, в которой Этьен Марсель старался использовать восставших крестьян (см. Жакерия). Этьен Марсель объединился также с некоторыми городами северной Франции и Фландрии. Восстание окончилось сдачей Парижа дофину. Еще до сдачи Этьен Марсель погиб в одной стычке (1358 гг.). Юлиан Отступник — римский император с 361 по 363 гг., прозванный так за политику, направленную на реставрацию язычества. В 50-х гг. IV в. в качестве консула и цезаря вел войны с алеманнами и франками и в 357–359 гг. совершил три перехода через Рейн.


Последние комментарии
3 часов 19 минут назад
9 часов 3 минут назад
10 часов 10 минут назад
11 часов 8 минут назад
11 часов 22 минут назад
20 часов 33 минут назад