Между жизнью и сновидением [Собрание сочинений: Пьесы. Роман. Эссе] [Эжен Ионеско] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]

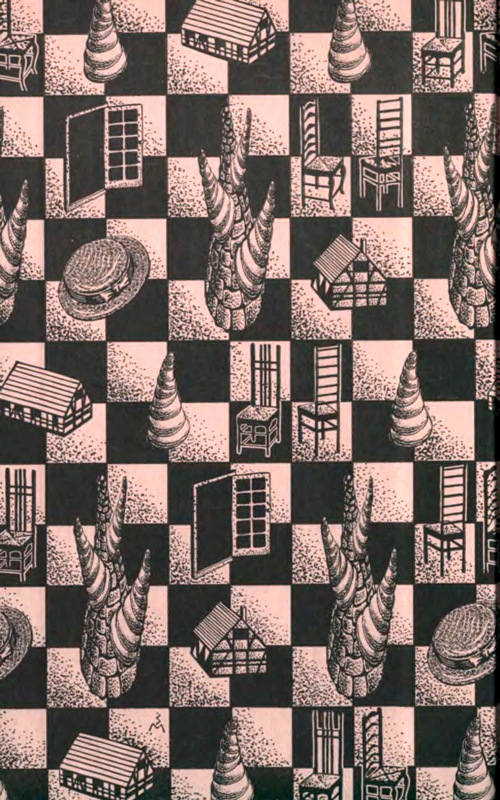


Эжен Ионеско. Между жизнью и сновидением
{1}

М. Яснов. Поверх абсурда
Однажды Эжен Ионеско обмолвился: «Я всегда имел привычку думать не так, как другие». Те «изначальные реальности» его мира, о которых мы говорили в предисловии к книге «Носорог», — любовь и изумление, греза и смерть сливаются в его пьесах и прозе с еще одним космогоническим элементом — одиночеством. И это еще один сюжет, где оригинальность мышления нередко приводит автора к таким пределам абсурда, поверх которых открывается новая реальность, обнажающая самые тайные и болезненные глубины жизни и сознания.Тема одиночества по-разному интерпретируется в произведениях Ионеско. Восемнадцатилетняя ученица одинока и беззащитна перед чужим способом мышления и речи, который в «комической драме» «Урок» постепенно превращается из метафоры насилия в инструмент власти, а затем в конкретную смерть. Одиночество — главная тема «Стульев»: слова, замещающие реальный мир, могут прервать одинокую старость только одним, самым бесчеловечным способом. Шуберт, Мадлена, полицейский — не только жертвы долга в пьесе «Жертвы долга», но и жертвы одиночества, которое разводит их по разным «углам» подсознания. Не говоря уже про героев «Бреда вдвоем», не слышащих, не понимающих друг друга, или «Макбета», в котором никто ни с кем не может поладить, и это социальное одиночество вновь приводит к насилию. Любая власть, утверждает Ионеско, отвратительна еще и потому, что самыми изощренными способами разъединяет людей, с которыми куда как просто расправиться поодиночке. Даже в, казалось бы, безобидном скетче «Этюд для четверых» автор, прибегая к своему излюбленному способу «заговаривания» зрителей, показывает бессмысленность общения в кругу людей, которые слышат только себя и тем самым обречены на полное одиночество, то есть умирание. Умирание — особая тема романа «Одинокий». Еще и потому, что устами его героя с нами вновь и вновь говорит сам Ионеско, это он делится своими почти патологическими тревогами, патология подчеркивает необходимость серьезного осмысления вопросов: «Я бы не должен бояться смерти, потому что не знаю, что это такое, и потом, разве я сам не говорил, что надо дать себе свободу? Бесполезно. Срываюсь с кровати, ощущаю безумный ужас, зажигаю свет, бегаю по комнате из угла в угол, бросаюсь в гостиную, зажигаю свет там. Я не в силах ни лежать, ни сидеть, ни стоять на одном месте. И вот я двигаюсь, двигаюсь, ношусь по всему дому, всюду включаю свет и мечусь, и мечусь. Миллиарды людей терзаются от той же тревоги. Зачем, вдобавок ко всему, нас подвергают еще и этому? Это не объяснить никакими доводами, никакими словами. Потею от страха. Как многие, многие другие. Каждый из миллиардов живущих на земле — вместилище такой тревоги, словно в каждом умирает и он сам, и миллиарды других людей. Почему? Отчего?» У Марселя Марсо был знаменитый мимический номер, когда человек, выбираясь из одной клетки, тут же оказывается в другой, большей по размеру. То, что Марсо делал на сцене, Ионеско описывает в романе: «Вселенная представлялась мне чем-то вроде большой клетки или, вернее, большой тюрьмы, небо и горизонт казались мне стенами, за которыми, наверно, есть что-то другое, но что?.. Что делается там, по ту сторону стен? Наконец все-таки со мной случилось что-то хорошее: ежедневная каторга, маленькая тюрьма внутри большой, распахнула передо мной свои двери. Теперь я мог гулять по широким аллеям, по просторным проспектам большой тюрьмы. Этот мир можно было сравнить с зоологическим садом, в котором звери содержатся в полусвободном состоянии: для них насыпаны фальшивые горы, насажены искусственные леса, вырыты подобия озер, но в конце все равно решетки». Герой романа только одним, собственно, и занимается — без конца мучает себя вопросами, пытаясь понять, как совместить свое одиночество с теми представлениями о жизни, которые пришли к нему с опытом взросления и усвоения культуры. В подобных «философских заклинаниях» та трагедия языка, о которой не уставал повторять Ионеско, проявляется в еще большей степени, чем на уровне собственно языковых экспериментов: человек бесконечно проговаривает одно и то же, и эти повторы уничтожают не только язык, но и саму мысль. Ионеско стремился понять, как устроен механизм преодоления одиночества, — и делал это не только путем умозаключений, не только в рассуждениях, но и в реальной жизни. В 1950 году режиссер Никола Батай, только что поставивший «Лысую певицу», предложил ему сыграть роль Степана Трофимовича в инсценировке «Бесов» Достоевского. После многих попыток отказаться от роли Ионеско вдруг понял, как замечает Мартин Эсслин в книге «Театр абсурда», что именно растворяясь в образе Степана Трофимовича, персонажа, который ему не нравился, он по-новому обретал свое «я». «Я осознал, — писал он впоследствии, — что каждый из нас — это все остальные, что мое одиночество не было настоящим и что актер лучше, чем кто бы то ни было, может понять других путем понимания самого себя. Учась играть, я также, в некотором смысле, научился признавать, что другие — это как ты сам, что ты, твое „я“ — это другие и что все одиночества становятся равными» [1]. Экзистенциальный страх одиночества выражен Ионеско столь сильно и потому, что этот страх был его личным, индивидуальным переживанием, и потому также, что он был в определенном смысле знаком эпохи, символом ее философского осмысления людьми самых разных мировоззрений и творческих установок. Вот свидетельство с совершенно неожиданной, хотя и достаточно близкой стороны. Дмитрий Вячеславович Иванов, сын поэта Вячеслава Иванова, вспоминает: «Одно из важнейших переживаний в личном опыте моего отца, несомненно повлекшее за собой эволюцию его творчества, — опыт глубокого одиночества, метафизического одиночества человека. Это опыт пустоты, в которой мы оказываемся, когда не укоренены в трансцендентной, абсолютной реальности. Меня поражает сходство этого опыта с тем, что пережили… такие властители дум, как Беккет, Сартр, Ионеско… Сто лет назад мой отец встретил эту проблему лицом к лицу и разрешил ее на свой лад»[2]. Метафизику одиночества Ионеско изучает на фоне разного рода событий политической и культурной жизни и вслед за героем своего романа приходит к единственному выводу: общество не может быть основано ни на какой морали, ни на какой религии, сами условия человеческого существования недопустимы ни в социальном, ни во внесоциальном смысле. И вот это несуществование оказывается залитым кровью. Мы не живем, без конца повторяет он. Люди убивают себя и других, чтобы доказать, что жизнь на самом деле есть.
«Если на моей могиле будет сделана надпись, я хотел бы, чтобы начертано было только одно слово: Одинокий», — говорил в середине прошлого столетия Сёрен Кьеркегор, «отец экзистенциализма», к которому, через европейскую философию XX века, через Кафку и Сартра, обращен Ионеско. Если, вглядываясь в социальную жизнь общества, Ионеско рассуждал о толпе и одиночке, об агрессии и выживании, то в мыслях о литературе он вооружается не менее сложными, не менее мучительными вопросами. Как быть справедливым? Как объективно и точно говорить правду? Как сделать, чтобы эта правда была подлинной, а не субъективной? Как избежать обмана и не стать его жертвой? Все эти вопросы подводят к одному, фундаментальному: зачем писать? В 1976 году была опубликована, возможно, наиболее развернутая его статья на эту тему, в которой он попытался ответить самому себе, — статья так и называлась: «Зачем я пишу?» Вот его ответы. «Одна из главных причин, почему я пишу, — это, наверное, чтобы вернуть чудо моего детства наперекор обыденности, радость наперекор драме, свежесть наперекор ожесточению… Все мои книги, все мои пьесы — зов, выражение ностальгии, я ищу сокровище, оброненное в океане, потерянное в трагедии истории. Или, если хотите, я ищу былой свет, который, мне кажется, словно бы снова вижу время от времени. Это причина, по которой я не только занимаюсь литературой, это еще и причина, почему она для меня так питательна. В постоянных поисках этого надежного света по ту сторону тьмы»[3]. В комментариях к своему творчеству Ионеско нет-нет да и возвращается к этой оппозиции: свет — тьма, настаивая на том, что его пьесы следует интерпретировать только как поиск света в конце туннеля, и как бы ни была убийственно трагична жизнь, этот свет существует даже в самом замкнутом ее пространстве. Поиск мира, вернувшего себе девственность, поиск истоков Истории, поиск выхода из тьмы, в которой блуждают его герои, наконец, поиск того изумления, которым окрашивается детское узнавание жизни, — вот тот, пользуясь названием одной из его книг, «прерывистый поиск», который одновременно и средство, и цель творчества. С одной стороны — вожделенный свет, с другой-трясина, увязание в грязи, умирание. «Если я и не сказал ничего нового, — пишет Ионеско, — (а помимо этого ничего „нового“ нет), все же, мне думается, я напряженно пережил эти два противоречивых ощущения: мир одновременно удивителен и жесток, он чудо и ад; и эти два противоречивых чувства, эти две очевидные истины составляют фон моего личного существования и моих литературных произведений… Я пишу, чтобы отдать себе отчет в этих фундаментальных истинах, в этих абсолютных вопросах: зачем наше существование, или, вернее, что такое наше существование; и как возможно зло, или, вернее, почему зло вмешивается в чудо существования?» [4] В поисках ответов Ионеско ставит еще один, возможно, метафизический вопрос: как при помощи литературы и театра разрешить противоречие между индивидуальностью и массой? Народ и масса, говорит он, всего лишь идеи, лишенные смысла, личность каждого — идея конкретная; в борьбе этих идей рождается еще одна очевидная истина, которая, с его точки зрения, должна означать победу индивидуальности над толпой. Ионеско пытается реализовать метафоры, заложенные в культуре. За столетие до него о том же думал, например, Альфред де Виньи. «Каждый человек, — записывал он в 1929 году в „Дневнике поэта“, — лишь образ какой-либо идеи всеобщего разума. Человечество ведет бесконечный разговор, в котором человек иллюстрирует какую-либо идею» [5]. Каким бы новатором ни признавали Ионеско, он сам никогда не отказывался от традиции, и явление театра абсурда в том толковании этого термина, который сложился в современной ему критике, противопоставлял более внятному ему терминологически театру «странному», или «парадоксальному», к которому причислял не только себя и своих современников, Адамова или Беккета, но и предшественников, Мольера и Шекспира.
Поэтому естественным выглядит его обращение к шекспировскому «Макбету», на основе которого он создал свою пьесу «бесконечных превращений». Все персонажи его «Макбета» — оборотни, но изменения, которые с ними происходят, закономерны: даже само желание власти не может породить ничего человеческого. Исторический пессимизм Ионеско понятен: чьи бы идеи, от Макиавелли до Маркса, ни интерпретировали его герои, зло множится, потому что в этих идеях заложен постулат главенства государства и, как результат, уничтожение личности. Всевозможные метаморфозы стали существенным элементом художественной системы Ионеско. Герои превращаются друг в друга, видоизменяются ситуации, и вновь, по кругу, все возвращается в изначальное состояние. В финале «Лысой певицы» супруги Мартин обмениваются точно такими же репликами, какими в начале пьесы обмениваются супруги Смит. В «Жертвах долга» Никола, убийца полицейского, тут же начинает играть его роль, которую одновременно с ним подхватывают Шуберт и Мадлена. «Бред вдвоем» кончается на той же ноте, с которой пьеса началась. В «Уроке» учитель убивает ученицу, свою сороковую жертву, но в дверь уже звонит сорок первая… На память приходят известная повесть Бориса Лавренева «Сорок первый» и поставленный по ней одноименный кинофильм Григория Чухрая. Фабула «Урока» — учитель убивает ученицу из-за фундаментальной невозможности примирить две противоположные системы общения — выглядит как явная пародия на фабулу «Сорок первого»: Марютка убивает Говоруху-Отрока из-за фундаментальной невозможности примирить чувство с революционным долгом. Если предположить, что Ионеско читал Лавренева или смотрел первую, еще немую экранизацию его повести, сделанную в 1927 году Яковом Протазановым, то схожесть мотивов становится достаточно явной. Но дело даже не в этом гипотетическом знании. Ионеско чутко улавливал бродячие «идеологические» сюжеты своего времени и пародировал, смешивая комическое и трагическое в одном тексте. Швейцарский ученый Жан-Филипп Жаккар в монографии о Данииле Хармсе блестяще показал, как могут быть схожи две пьесы— речь о «Елизавете Бам» Хармса и «Носороге» Ионеско — при, естественно, полном неведении авторов друг о друге. Экзистенциальный кризис, вызванный общей идеологической ситуацией, приводит, по справедливому мнению Жаккара, к изображению той некоммуникабельности, которая становится центральной темой обеих пьес. Речь идет «об элементарном уровне, диалоге, но ясно, что неспособность довести свою речь до непосредственного собеседника неминуемо приводит субъекта к самому себе и к очевидности, означающей, что „я мир, а мир не я“» [6]. Трагическое под пером Ионеско превращается в комическое — и наоборот. Он и сам не раз утверждал, что не может понять разницы между комическим и трагическим, более того, полагал, что комедия — это предчувствие абсурда, и поэтому она кажется ему более безысходной. Возможно, поэтому свои трагедии он называл «комическими драмами», «фарсами», а комедии — «антипьесами». Все комическое трагично, все трагическое смехотворно, метаморфозы продолжаются. Герой, без которого не может обойтись ни одна трагедия, в театре абсурда превращается в антигероя — как правило, это существо, совершенно дезориентированное в окружающем мире, лишенное каких бы то ни было качеств героя и тем самым способствующее дезориентации самого понятия трагедии. В одном из интервью Ионеско примечательно вспоминает политический анекдот: на последнем заседании Рейхстага Гитлер срывает с себя усики и фальшивую прядь со лба и заявляет: «Ну вот, игра окончена. Меня зовут Джон Смит. Я английский разведчик…» [7]. Сценка явно в духе его театра. Дюпон, персонаж «Этюда для четверых», одет как Дюран, другой персонаж пьесы, Дюран, одет как Дюпон; Мартен, третий персонаж, «одет точно так же». В мире безликости и стертости любой может подменить любого, одно слово может означать смысл другого или вовсе ничего не означать. В этом мире масок в принципе нет движения, нет перспективы. Последняя реплика Макбета — слово «Дерьмо!» (в переводе оно сглажено: «Беда!») — корреспондирует с первой репликой фарса «Король Юбю»: именно этим словом папаши Юбю начинается пьеса. Театр абсурда, если пользоваться нелюбимым Ионеско термином, превращает действительность в пародию на действительность, слово — в пародию на слово, а зрителя — в пародию на зрителя.
Жан-Поль Сартр вспоминает, что Беккет в день постановки «В ожидании Годо», услышав в зале оглушительные аплодисменты, воскликнул: «Боже мой, я, наверное, ошибся, это невозможно — они аплодируют!» Сартр предполагал, что для авторов нового, критического, как он говорил, театра «согласие может прийти лишь после возмущения» [8]. В одном из своих многочисленных интервью Ионеско так рассказал о первых представлениях «Лысой певицы»: «Вместе с актерами „Театр де Ноктамбюль“ мы прохаживались взад-вперед по бульвару Сен-Мишель и убеждали людей приходить на наши спектакли. Рядом с этим крохотным театриком был кинотеатр, куда всегда стояли большие очереди. Мы пытались и этих людей заманить к себе, но большей частью — безрезультатно. Частенько мы играли перед двумя-тремя зрителями, иногда перед одним — моей женой. Один раз актеры играли вообще без публики, просто так, для себя, — у моей жены болели зубы, и она не смогла прийти. Я был вне себя от ярости и направился к кинотеатру: „Здесь рядом играют ужасно хорошую вещь, идите же, посмотрите!“ Наконец мне удалось затащить одного мужчину. Тот просидел весь спектакль „Лысая певица“ и вместо аплодисментов в конце постановки сказал, что никогда ни один человек не замарает своего языка, упомянув эту пьесу или ее автора» [9]. Театр абсурда начинается со зрителя: ему, зрителю, приходится либо мириться с пародией на самого себя, либо возмущаться, либо вместе с театром задаваться каверзными вопросами, ставящими под сомнение само существование человека, его судьбу. Для Ионеско в равной степени неприемлемы и театр бульваров, усыпляющий сознание, и политический театр, подменяющий искусство идеологией. Ему важен театр, для которого, как он говорил, единственный возможный ответ — сам вопрос.
В этом смысле Ионеско куда ближе Беккет, чем Адамов, хотя именно с Артюром Адамовым критика роднила раннего Ионеско. Он отвечал: «Адамов перестал сопротивляться, принял политическую ангажированность, обратился в примитивный марксизм брехтовского толка и заслужил аплодисменты идеологической критики. Но публика ему не аплодировала. Его поддерживала только горстка буржуазных мыслителей, считавших себя революционерами, без реального контакта с человечеством в целом. Артюр Адамов отрекся от своих первых работ и погубил себя как писатель и художник. В конце своей жизни, я знаю, он жалел об этом» [10]. Другое дело — Сэмюэль Беккет, которому Ионеско посвятил немало проникновенных строк. В Беккете Ионеско всегда видел своего сподвижника и не уставал повторять, что не согласен с современной критикой, которая усматривает в авторе «В ожидании Годо», «Последней ленты Креппа» и «Счастливых дней» некую жертву современного общества, чуть ли не шизофреника, объятого страхом от социальных невзгод. По Ионеско, Беккет страдает вовсе не от социальных или политических условий, но прежде всего от экзистенциального, онтологического состояния человека. Безусловно, и Адамов, и Беккет, и Ионеско, пьесы которых пришли на смену и в развитие театра Жироду, Ануйя, Камю и Сартра, во многом родственны. И в том, как отмечал Ионеско, что сквозь кажущийся распад формы в их пьесах проступает обнаженная реальность переживания. И в том, что Сартр называл «панвербализмом»: они убедительно показывают, что такое власть языка — и что такое власть над языком. Какие бы комплексы и фобии ни пестовал Адамов (известно, как его личная судьба повлияла на идеологию его театра), до какой бы антитеатральности ни доходил Беккет (как в пьесе «Не я», единственным героем которой выступает не человек, а оставшийся от него один рот), в какой бы патологической трясине между жизнью и сновидением ни утопал Ионеско, всем троим в высшей степени свойственно осмысление одного из центральных явлений современной европейской культуры: существование речи, языка как непосредственной судьбы человека.
Психолингвистика могла бы задаться вопросом: почему основоположниками театра абсурда стали армянин Адамов, ирландец Беккет или румын Ионеско? Не нужен ли для глубочайшего внедрения в язык некий, может быть, даже генетический «взгляд со стороны»? Ионеско задумывался над этим. Французский язык был для него родным, но румынский, по его собственному признанию, безусловно сыграл свою роль в его лингвистическом воспитании. «Я попал в Бухарест в тринадцать лет, — рассказывает он Клоду Бонфуа, — и уехал оттуда только в двадцать шесть. Румынский язык я выучил там… Постепенно я научился писать по-румынски. И свои первые стихи сочинил на румынском. Я стал хуже писать по-французски, начал делать ошибки. Когда я вернулся во Францию, я, конечно, французский не забыл, но разучился на нем писать. Я имею в виду писать „литературно“. Мне пришлось учиться заново. Уметь, потом разучиться, выучиться заново — по-моему, это интересный опыт». Французская литература знает и жадно впитывает в себя подобные «интересные опыты». Достаточно вспомнить сравнительно недавнее событие — появление в конце восьмидесятых оригинальной прозы венгерки Агота Кристоф, показавшей, как можно писать на французском языке, почти не употребляя прилагательных. Или сегодняшнее — уникальную работу по переводу русской литературы, которой занимается переводчик Андре Маркович, внедряющий в современную французскую прозу лингвистическую сумятицу речи героев Достоевского. «Взгляд со стороны», очевидно, характерен прежде всего для литературы абсурда, которая обнажает противоречия: между реальностью и идеологией, между жизнью и сновидением, между сознанием и языком.
«Трагедией языка» назвал Ионеско речь, произнесенную в Италии, во Французском институте, в 1958 году. В этой речи он рассказал уже ставшую с тех пор общим местом историю возникновения замысла «Лысой певицы», когда, купив самоучитель и приступив к изучению английского языка, драматург вдруг открыл для себя «поразительные вещи»: например, «что неделя состоит из семи дней, хотя, впрочем, мне это было известно; или что пол находится внизу, а потолок — наверху: это я тоже вроде бы знал, но никогда над таким фактом серьезно не задумывался или просто забыл о нем, но внезапно открыл всю его истинность, исключительную и безусловную» [11]. Самоучитель, состоящий из речевых штампов, стершихся фразеологизмов, элементарных прописных истин, мог бы стать блестящим произведением абсурдистской литературы. Чета Смит из учебника, продемонстрировавшая, что такое автоматическая речь, лишенная жизни, превратилась в чету Смит из «Лысой певицы», обнажившей примитивность обывательского сознания и бессмысленность какого-либо общения в мире, где слова замещают поступки. Оказалось, для того чтобы изобразить экзистенциальные страхи действительности, не нужно ничего изобретать, кроме того, то) происходит в языке. И тогда открывается широчайшая панорама лингвистических приемов — псевдологических доказательств, интеллектуальных игр, филологического юмора, — которые превращают театр в речевую феерию, позволяя читателю и зрителю импровизировать на равных с героями этой трагедии языка. Круговая порука реплик пронизывает весь театр и всю прозу Ионеско одними и теми же приемами и сюжетами. Бесконечный разговор о семействе Бобби Уотсонов в «Лысой певице» аукается в «Носороге» перекличкой имен Жана и его старичка соседа, которого тоже зовут Жан, и отзывается в «Сказках» многочисленными Мадленами, которыми оказывается переполнен мир маленькой Жозетты. Цитаты переиначиваются: «Истину берут там, гае она плохо лежит» («Стулья»); исторические факты пародируются: «Оставшись без головы, Мария Антуанетта так рассердилась, что с ней случился удар» («Бескорыстный убийца»); главными в речи становятся прописные истины: «Когда я была маленькая, я была ребенком. Дети моего возраста тоже были маленькие» («Бред вдвоем»); псевдологика доходит до идиотизма: «Как же вам не стыдно говорить, что мы ничего не сказали, когда вы сами только что сказали, что мы говорим-говорим, а ничего не сказали, хотя совершенно невозможно говорить и ничего не сказать, потому что всякий раз, когда кто-то что-то сказал, это значит, что он говорил, и, соответственно, когда кто-то говорил, это значит, что он что-то сказал» («Этюд для четверых»); реальность исчезает: «Непросто не быть нигде» («Бред вдвоем»); слова теряют какое бы то ни было значение: «…Надеяться! Это слово уже не французское, и не турецкое, и не польское… бельгийское разве что… да и то…» («Бескорыстный убийца»); речь распадается, превращаясь в отдельные слова и, наконец, просто в звуки («Лысая певица»).
Когда-то Гийом Аполлинер в стихотворении «Понедельник улица Кристины» скрупулезно записал слова, которые произносили люди, сидящие рядом с ним в ресторане, и методом монтажа превратил эти записи в лирическую поэзию. То была эпоха симультанности, то есть осознания одновременного протекания во времени самых разных процессов и явлений действительности. На смену симультанности пришло новое осмысление реальности: время раздроблено, предметы разбросаны, слова не связаны речью. Герой романа «Одинокий» сидит в таком же парижском ресторане, в какой захаживал Аполлинер, но не понимает слов, которые звучат вокруг него: «Все это был обыкновенный шум или звуки чужого языка. Все превратилось в мимолетные видения, во что-то вроде иллюзии пустоты». Ионеско показал в романе, как происходит сам процесс отчуждения слова от вещи, которую оно означает: «Я рассматривал предмет, оказавшийся у меня перед носом: метр семьдесят в высоту, метр двадцать в вышину, две открывающиеся дверцы. Внутри — рейки, на которых развешана одежда, моя одежда, а на полках разложено белье, тоже мое. Разумеется, если бы меня спросили, что это за предмет, я бы ответил, что это платяной шкаф. Но это уже не было шкафом, я не мог искренне считать это шкафом, хотя ничем другим это тоже не было. Я бы кому угодно сказал, что это шкаф. Но слова лгали. Мало того, что вещи уже не были теми самыми вещами, но и слова тоже были уже не те. Слова казались мне неправильными. Мне представлялось, что вещи утратили свое назначение. Я что-то делал с этими вещами, но мне представлялось, что они предназначены совсем не для того, что я с ними делаю, и даже что они вообще не для того, чтобы их как-то использовать. Я словно не имел права их трогать. Я погрузился в новый мир, с которым не знал, что делать». В «Сказке № 2» отец демонстрирует Жозетте процесс абсурдного переназывания предметов, а автор дает читателю возможность понять, как мгновенно распадается действительность, лишенная опоры в языке. В «Приветствиях», одном из своих первых скетчей, написанном в 1950 году, Ионеско показал, как все это происходит на уровне одного слова — ответа на вопрос: «Как поживаете?» Три персонажа пьесы на протяжении нескольких страниц стараются ответить, употребляя самые разные слова в одной форме: тепловато, холодновато, приятновато, неприятновато, потешно-вато, печальновато, ясновато, вечерневато, тучновато, практичновато, абстрактновато и так далее, перебирая по алфавиту все возможные и невозможные для употребления в данном случае слова, пока и сами, и зрители не вязнут в этой вате, поглощающей даже намек на общение. Задача театра абсурда, как ее понимал Ионеско, состояла в том, чтобы доказать, как нереалистична реальность, что реализм — только школа, такая же условная, как и все остальные, и что в этом смысле театр абсурда — это прежде всего театр правды.
Две книги произведений Эжена Ионеско называются «Носорог» и «Между жизнью и сновидением». В определенном смысле соединение этих названий в одно — «Носорог между жизнью и сновидением» — могло бы дать метафору всего творчества Ионеско: человек пытается сопротивляться всем видам насилия и агрессии, но существует в пространстве между реальностью и грезой. В этом мире нет победителей, но есть надежда, хотя и почти утраченная, в этом мире нет окончательного знания, но есть ирония, которая спасает. И в этом мире есть некая тайна, само существование которой все-таки заставляет жить. Как говорил один из персонажей «Бескорыстного убийцы»: «Я сам не знаю, что у меня в портфеле. Я уважаю свои секреты».
Михаил Яснов

Театр

УРОК
Комическая драма{2}
Действующие лица: Учитель, лет 50–60 Ученица, 18 лет Служанка, лет 45-50
Декорации: Кабинет старого учителя, служащий также столовой. С левой стороны сцены дверь, выходящая на лестничную площадку; в глубине, с правой стороны, — другая, ведущая в коридор квартиры. В глубине, левее, небольшое окно с простыми занавесками, снаружи перед окном — горшки с простенькими цветами. Из окна видна панорама небольшого городка: невысокие дома с красными черепичными крышами. Серовато-голубоватое небо. Справа на сцене стоит деревенский буфет. Посреди комнаты стол, одновременно обеденный и письменный. Перед ним три стула, еще два — справа и слева от окна: на стенах, оклеенных светлыми обоями, несколько полок с книгами.
Поднимается занавес, довольно долго сцена остается пустой. Наконец раздается звонок в левую дверь.Голос служанки (за кулисами). Да-да. Сию минуту.
Появляется сама служанка, которая, видимо, бегом спустилась со второго этажа и запыхалась. Это крупная краснолицая женщина лет 45–50 в деревенском чепце. Служанка стремительно вбегает через правую дверь, которая захлопывается за ней, и спешит, вытирая фартуком руки, к левой. Раздается еще один звонок.
Сейчас. Уже иду. (Открывает дверь.)
Входит 18-летняя девушка в строгом сером платье с белым воротничком, под мышкой зажат портфель.
Добрый день, мадемуазель. Ученица. Добрый день, мадам. Господин учитель дома? Служанка. Вы пришли на урок? Ученица. Да, мадам. Служанка. Он вас ждет. Присядьте пока, а я доложу. Ученица. Благодарю вас, мадам.
Она садится к столу, лицом к публике. Служанка все так же торопливо выходит в дверь, ведущую внутрь квартиры, и зовет учителя.
Служанка. Мсье, к вам ученица. Пожалуйте вниз. Голос учителя (дребезжащий). Спасибо… Иду… Одну минутку…
Служанка уходит. Ученица садит, выпрямившись, на стуле, положив портфель на колени, и послушно ждет; мельком оглядев комнату, мебель, потолок, достает из портфеля тетрадь, листает ее, задерживается на какой-то странице и как будто повторяет урок или проверяет в последний раз домашнее задание. Она производит впечатление воспитанной, учтивой, подвижной, жизнерадостной, энергичной девушки с приветливой улыбкой; по ходу действия ее движения замедляются, делаются вялыми; из веселой и улыбчивой она становится грустной и мрачной; бодрость ее сменяется усталостью и апатией, а к концу пьесы она выказывает явные признаки нервной депрессии: с трудом подбирает и выговаривает слова, язык у нее заплетается и, кажется, вот-вот отнимется совсем. Самоуверенность ученицы, доходящая до строптивости, мало-помалу исчезает, девушка словно превращается в неодушевленный предмет, в безвольную куклу в руках учителя, все ее чувства и естественные рефлексы настолько атрофируются, что даже последнее его деяние не вызовет у нее никакой реакции, лишь в глазах на неподвижном лице отразится несказанное изумление и ужас; переход от одного состояния к другому должен, разумеется, происходить незаметно. Входит учитель. Сухонький старичок с седой бородкой; в черной ермолке, пенсне, в длинном черном учительском сюртуке с пристежным воротничком, при черном галстуке, в черных туфлях. Он чрезвычайно вежлив, очень застенчив, даже несколько запинается, в общем — типичный учитель, воплощенная благопристойность. То и дело потирает руки, а в глазах по временам вспыхивает и тут же гаснет похотливый блеск. По ходу действия робость его постепенно и незаметно исчезает, похотливый блеск разгорается в жадное, неистовое пламя. Поначалу кажущийся безобиднейшим существом, учитель мало-помалу становится все более самоуверенным, раздражительным, агрессивным, властным и наконец совершенно подчиняет себе пассивную ученицу. Его голос, вначале дребезжащий и слабенький, набирает силу, становится мощным, как трубный глас, в то время как голос ученицы, вначале звонкий и ясный, превращается в чуть слышный шепот. В первых сценах учитель может чуть-чуть заикаться.
Учитель. Добрый день, мадемуазель… По всей вероятности, вы и есть новая ученица? Ученица (светски-непринужденно оборачивается, встает навстречу учителю, подает ему руку). Да, мсье. Добрый день, мсье. Как видите, я пришла вовремя. Мне не хотелось опаздывать. Учитель. Прекрасно, мадемуазель. Благодарю вас. Не стоило торопиться. Виноват, я заставил вас ждать… Я тут… как раз заканчивал… Словом, прошу прощенья… Извините… Ученица. Не стоит извинений, мсье. Какие пустяки. Учитель. Виноват… Вы легко нашли мой дом? Ученица. О да… Сразу… Я спросила. Вас здесь все знают. Учитель. Я живу в этом городе уже тридцать лет. А вы приехали совсем недавно? Вам здесь нравится? Ученица. О да, вполне. Красивый, приятный город, с прекрасным парком, пансионатом, епископом, красивыми домами, улицами, проспектами… Учитель. Вы правы, мадемуазель. И все же мне бы хотелось жить в другом месте. В Париже или хотя бы в Бордо. Ученица. Вы любите Бордо? Учитель. Не знаю. Я там не бывал. Ученица. Тогда, значит, бывали в Париже? Учитель. Нет, и там не бывал. Кстати, не могли бы вы сказать, Париж — это столица… чего? Ученица (ищет ответ). Париж… это столица… (Вспомнив и просияв.) Франции? Учитель. Конечно, мадемуазель, браво, хорошо, просто отлично. Поздравляю. В географии вы сильны. Столицы знаете назубок. Ученица. О, мсье, еще не все, их так трудно выучить. Учитель. Ничего, со временем запомните. Главное — упорство… Да, мадемуазель, было бы, с позволения сказать, терпение… терпение и упорство… И вот увидите, все получится… Сегодня хорошая погода… или не очень… Нет, все-таки ничего… Главное, не слишком плохая… Э-э… Нет дождя, и снега тоже. Ученица. Последнее было бы несколько странно, сейчас как-никак лето. Учитель. Разумеется, мадемуазель, именно это я и собирался сказать… но со временем вы узнаете, что ничего невозможного нет. Ученица. Конечно, мсье. Учитель. В этом мире ни в чем нельзя быть уверенным. Ученица. Снег бывает зимой. Зима — одно из четырех времен года. А три других, это… э-э… ве… вес… Учитель. Ну-ну? Ученица …Вес… весна, потом лето… а потом… э-э… Учитель. Начинается так же, как «осина»… Ученица. Ах да — осень… Учитель. Правильно, мадемуазель, совершенно верно. Вы, я вижу, способная ученица. Вы прекрасно усваиваете, умны, весьма эрудированны, и у вас, как мне кажется, хорошая память. Ученица. Правда, я хорошо знаю времена года? Учитель. Конечно, хорошо… или почти что… но постепенно все придет. Пока неплохо и так. А скоро будете знать все времена года наизусть, с закрытыми глазами. Как я. Ученица. Это так трудно. Учитель. О нет. Нужно только сделать усилие, постараться, проявить прилежание. Вот увидите. И все получится, будьте уверены. Ученица. О, я так хочу! Я просто жажду учиться. И папа с мамой тоже хотят, чтобы я углубила свои знания и получила специальное образование. Они считают, что общей культуры, даже весьма обширной, в наше время недостаточно. Учитель. Ваши родители совершенно правы, мадемуазель. Вам надо продолжать образование. Осмелюсь сказать, образование просто необходимо. Современная жизнь так сложна. Ученица. Да, весьма непроста… К счастью, мои родители достаточно состоятельны и могут помочь мне получить высшее образование. Учитель. Значит, вы собираетесь сдавать экзамен… Ученица. Да, на степень доктора, и как можно скорее. Через три недели. Учитель. А диплом бакалавра у вас, позвольте спросить, есть? Ученица. Да, я бакалавр естественных и гуманитарных наук. Учитель. О, в вашем возрасте это очень и очень недурно. И в какой же области собираетесь экзаменоваться? В прикладной технике или отвлеченной философии? Ученица. Папа с мамой хотели бы, если вы сочтете возможным, подготовить меня в такой короткий срок, чтобы я сдавала экзамен на полного доктора всех наук. Учитель. На полного? О, я восхищен вашей смелостью. Что ж, попытаемся сделать все возможное. Впрочем, у вас уже имеется изрядный багаж знаний. При том, что вы так молоды. Ученица. О, мсье! Учитель. Нов таком случае, позволю себе заметить, следует приняться за дело немедленно. У нас мало времени. Ученица. Конечно, мсье, вы абсолютно правы. Я и сама прошу вас о том же. Учитель. Не угодно ли вам будет сесть… вот сюда… И… не будете ли вы возражать, если я, с вашего позволения, тоже сяду, вот здесь, напротив вас? Ученица. Разумеется, мсье. Сделайте милость. Учитель. Благодарю покорно. (Они садятся за стал друг напротив друга, боком к зрителям.) Так. Вы принесли книги и тетради? Ученица (достает из портфеля книги и тетради). Конечно, все, что нужно. Учитель. Превосходно, мадемуазель. Превосходно. Тогда, если вы ничего не имеете против… мы можем начать? Ученица. О да, мсье, я в вашем распоряжении. Учитель. В моем распоряжении?.. (Глаза его вспыхнули, он встрепенулся, но быстро овладел собой.) О, напротив, мадемуазель, это я в вашем распоряжении. Я ваш покорный слуга. Ученица. О, мсье… Учитель. Итак, если вам угодно… мы… пожалуй… пожалуй, приступим… и для начала посмотрим, каков объем ваших знаний, чтобы определить порядок дальнейших занятий… Итак, разбираетесь ли вы в количественных категориях? Ученица. Более или менее… так себе… Учитель. Что ж. Посмотрим. (Потирает руки.)
Входит служанка, идет к буфету, что-то ищет, медлит. Учителя это как будто раздражает.
Итак, не угодно ли вам, мадемуазель, уделить некоторое время арифметике… Ученица. С превеликим удовольствием. Учитель. Это довольно новая, вполне современная наука, или, вернее говоря, не столько наука, сколько научный метод… А также лекарственное средство. (Служанке.) Вы кончили, Мари? Служанка. Да, мсье, я искала тарелку. Ухожу… Учитель. Поскорее. Идите, пожалуйста, к себе на кухню. Служанка. Да, мсье. Уже иду. (Направляется к двери, но не уходит.) Простите, мсье, но будьте осторожны, сохраняйте спокойствие. Учитель. Это просто смешно, Мари. Не беспокойтесь. Служанка. Вы всегда так говорите. Учитель. Что за возмутительные намеки! Я сам отлично знаю, как себя вести. Слава Богу, не маленький. Служанка. Вот именно. Не стоило бы начинать урок с арифметики. Арифметика слишком утомляет и возбуждает. Учитель. Право, я уже не в том возрасте, чтобы выслушивать наставления. И вообще, с какой стати вы вмешиваетесь? Я свое дело знаю. А вам здесь нечего делать. Служанка. Ладно, мсье. Не говорите потом, что я вас не предупреждала. Учитель. Я не нуждаюсь в ваших советах, Мари.
Служанка уходит.
Простите, мадемуазель, за досадное промедление. Извините эту женщину… Она вечно боится, как бы я не переутомился. Беспокоится за мое здоровье. Ученица. Не стоит извинений. Это только доказывает ее преданность. Она к вам привязана. А верные слуги так редки. Учитель. Да, но это уж чересчур. Какие-то нелепые опасения. Однако вернемся к арифметике. Ученица. Я вас слушаю. Учитель. Итак, мы с вами вступаем в область арифметики. Ученица. Да, мсье, вступаем. Учитель (острит). Не сходя с места. Ученица (оценив юмор). В самом деле, мсье. Учитель. Ну, стало быть, арифметика. Давайте же посчитаем. Ученица. Охотно, мсье. Учитель. Не затруднит ли вас ответить… Ученица. О, конечно, мсье, спрашивайте. Учитель. Сколько будет к одному прибавить один? Ученица. К одному прибавить один будет два. Учитель (восхищенный знаниями ученицы). Великолепно! Я вижу, вы уже весьма основательно приготовлены. И без труда сдадите докторский экзамен. Ученица. Рада слышать. Тем более из ваших уст. Учитель. Продолжим. Сколько будет два и один? Ученица. Три. Учитель. Три и один? Ученица. Четыре. Учитель. Четыре и один? Ученица. Пять. Учитель. Пять и один? Ученица. Шесть. Учитель. Шесть и один? Ученица. Семь. Учитель. Семь и один? Ученица. Восемь. Учитель. Семь и один? Ученица. Восемь… штрих. Учитель. Прекрасный ответ! Семь и один? Ученица. Восемь… два штриха. Учитель. Замечательно! Семь и один? Ученица. Восемь, три штриха. А иногда девять. Учитель. Великолепно! Выше всяческих похвал. Бесподобно! Искренне рад за вас, мадемуазель. Достаточно. Ясно, что в сложении вам нет равных. Посмотрим, как обстоит дело с вычитанием. Скажите, если это не слишком утомит вас, сколько будет от четырех отнять три? Ученица. От четырех отнять три?.. От четырех три? Учитель. То есть вычтите три из четырех. Ученица. Это будет… семь? Учитель. Простите, но я вынужден возразить вам. Если от четырех отнять три, никак не получится семь. Вы ошиблись: семь будет, если к четырем прибавить три, — прибавить, а не отнять… А мы занимаемся уже не сложением, а вычитанием. Ученица (силясь понять). Да, да… Учитель. От четырех отнять три… будет?.. Ну же? Ученица. Четыре? Учитель. Нет, мадемуазель, неверно. Ученица. Тогда три. Учитель. Опять неверно… Весьма сожалею… но ответ неправильный. Ученица. От четырех отнять три… От четырех отнять три… От четырех три?.. Но не десять же? Учитель. Конечно, нет, мадемуазель. Надо не гадать, а думать. Давайте подумаем вместе. Вы умеете считать? Ученица. Да, мсье. Один… два… э-э… Учитель. Значит, умеете? А до скольких? Ученица. До… до бесконечности. Учитель. Это невозможно, мадемуазель. Ученица. Ну, тогда, скажем, до шестнадцати. Учитель. Что ж, вполне достаточно. Будем довольствоваться малым. Прошу вас, приступайте к счету. Ученица. Один… два… что там после двух… три, четыре… Учитель. Стоп. Остановитесь, мадемуазель. Какое число больше? Три или четыре? Ученица. Э-э… Три или четыре? Какоебольше? Из трех и четырех? В каком смысле больше? Учитель. Ну, одни числа бывают больше, другие меньше. В бóльших содержится больше единиц, чем… Ученица. Чем в меньших? Учитель. Если, конечно, эти меньшие не состоят из меньших единиц. В таком случае в меньших числах содержится больше единиц, чем в бóльших… если единицы разные… Ученица. Значит, меньшие числа могут быть больше, чем бóльшие? Учитель. Оставим это. Иначе мы уклонимся далеко в сторону. Запомните только, что есть числа, а есть величины, суммы, группы, есть множество разных множеств: сливы, вагоны, гуси, семечки и т. д. Предположим для простоты, что все числа равного качества, тогда бóльшими будут те, в которых содержится большее количество равных единиц. Ученица. В каком их больше, то и будет бóльшим? О, я поняла, мсье, вы приравниваете количество к качеству. Учитель. Все это слишком абстрактно, мадемуазель, слишком абстрактно. И вам пока не нужно. Вернемся к нашему примеру и будем рассматривать лишь данный отдельный случай. А общие теории пока отложим. Итак, мы имеем число четыре и число три, в каждом из них содержится неизменное количество единиц, какое же число больше, большее или меньшее? Ученица. Простите, мсье… Что вы понимаете под бóльшим числом? То, которое менее малó, чем другое? Учитель. Именно, мадемуазель, именно так. Вы отлично поняли. Ученица. Тогда, значит, четыре. Учитель. Что четыре? Больше или меньше, чем три? Ученица. Меньше… то есть больше. Учитель. Отличный ответ. На сколько же единиц четыре отличается от трех? Или, если угодно, сколько единиц между тремя и четырьмя? Ученица. Между тремя и четырьмя нет никаких единиц, мсье. Четыре идет сразу за тремя. Между ними ничего нет! Учитель. Вы меня не поняли. Это я виноват. Должно быть, неточно выразился. Ученица. Нет, мсье, это я виновата. Учитель. Смотрите. Вот три спички. А вот еще одна, всего четыре. Смотрите внимательно, у вас четыре спички, одну я забираю, сколько остается?
Ни спичек, ни прочих упоминаемых в дальнейшем предметов на самом деле нет; в нужный момент учитель, встав из-за стола, будет писать несуществующим мелом на несуществующей доске и т. д.
Ученица. Пять. Если три и один будет четыре, то четыре и один будет пять. Учитель. Да нет. Совсем не то. Вас все тянет к сложению. Но надо же и вычитать. Надо не только собирать, но и разбирать. Это и есть жизнь. Философия. Наука. Это и есть прогресс, цивилизация. Ученица. Конечно, мсье. Учитель. Вернемся к спичкам. Итак, у меня четыре штуки. Одну убираем, и остается?.. Ученица. Не знаю. Учитель. Ну подумайте хорошенько. Я понимаю, это нелегко. Но вы достаточно развиты, чтобы сделать необходимое умственное усилие и понять. Ну же? Ученица. Нет, не могу. Не знаю. Учитель. Возьмем пример попроще. Допустим, у вас было бы два носа, и я бы оторвал вам один… сколько бы у вас осталось носов? Ученица. Нисколько. Учитель. Как нисколько? Ученица. Ведь теперь у меня один нос, и вы его пока не оторвали. А если оторвете, не останется ни одного. Учитель. Вы не поняли мой пример. Тогда представьте себе, что у вас только одно ухо. Ученица. Представила. Учитель. Я прибавил вам еще одно. Сколько у вас теперь стало ушей? Ученица. Два. Учитель. Так. Прибавлю еще одно. Сколько теперь? Ученица. Три уха. Учитель. Одно отрываю… Сколько остается? Ученица. Два. Учитель. Так. Отрываю еще одно. Сколько теперь? Ученица. Два. Учитель. Да нет же. У вас было два, а я одно оторвал… оторвал и съел! Сколько у вас осталось ушей? Ученица. Два. Учитель. Но если я одно съел, то и осталось одно! Ученица. Два. Учитель. Одно. Ученица. Два. Учитель. Одно! Ученица. Два! Учитель. Одно!! Ученица. Два!! Учитель. Одно!!! Ученица. Два!!! Учитель. Нет, так не пойдет! Не получается. Видимо, пример недостаточно… наглядный. Послушайте меня. Ученица. Слушаю, мсье. Учитель. Допустим, у вас… у вас… у вас… Ученица. Десять пальцев! Учитель. Если угодно. Хорошо. Чудесно. Итак, у вас десять пальцев. Ученица. Да, мсье. Учитель. Сколько бы у вас было пальцев, если бы их было пять? Ученица. Десять, мсье. Учитель. Да нет же, нет! Ученица. Да, мсье. Учитель. А я говорю — нет! Ученица. Вы же сами только что сказали, что у меня десять пальцев. Учитель. Да, но потом я сказал еще, что их стало пять! Ученица. Ноу меня же не пять, а десять пальцев! Учитель. Так. Попробуем по-другому… Ограничимся для вычитания числами от одного до пяти… Сейчас вы все поймете, мадемуазель. Я вам все объясню. (Принимается писать на несуществующей доске. Подвигает ее к ученице, та поворачивается и смотрит на доску.) Вот смотрите, мадемуазель… (Делает вид, что рисует на доске палочку, над ней цифру «1», затем две палочки и цифру «2», три — и цифру «3», четыре — и цифру «4».) Видите?.. Ученица. Да, мсье. Учитель. Это палочки, мадемуазель, палочки. Вот одна палочка, вот две палочки, вот три палочки, вот четыре и вот пять. Одна палочка, две палочки, три палочки, четыре палочки и пять палочек — это числа. Когда мы считаем палочки, каждая палочка у нас — единица, мадемуазель… Повторите, что я сейчас сказал. Ученица. «Единица, мадемуазель. Повторите, что я сейчас сказал». Учитель. Иначе говоря, это цифры! Или числа! Один, два, три, четыре, пять — это элементы числового ряда, мадемуазель. Ученица (неуверенно). Да, мсье. Элементы — это цифры, или палочки, или единицы, или числа… Учитель. Одновременно… То есть, по сути, здесь перед вами вся арифметика. Ученица. Да, мсье. Конечно, мсье. Благодарю вас, мсье. Учитель. Теперь вы можете считать с помощью этих элементов, складывать или вычитать… Ученица (повторяя, чтобы лучше запомнить). Значит, палочки — это цифры и они же числа и единицы? Учитель. Гм… можно сказать и так. И что же? Ученица. Можно вычесть две единицы из трех единиц? и две двойки из трех троек можно? или две цифры из четырех чисел? или три числа из одной единицы? Учитель. Нет, мадемуазель. Ученица. Почему же, мсье? Учитель. Потому что, мадемуазель. Ученица. Потому что — что, мсье? Разве это не одно и то же? Учитель. Нельзя и все, мадемуазель. Такие вещи не объясняются. Они понятны в силу внутреннего математического чутья. А оно или есть, или нет. Ученица. Жаль! Учитель. Послушайте, мадемуазель, если вы не способны понять азы, первоосновы арифметики, вы никогда не станете грамотным инженером. И уж тем более — преподавателем в высшей политехнической школе или в высшем дошкольном учреждении. Все это, бесспорно, сложно, очень и очень отвлеченно… разумеется… но как же, без глубоких знаний основ, вы сможете сосчитать в уме — а это самое малое, что требуется от рядового инженера, — сколько будет, ну, скажем, если три миллиарда семьсот пятьдесят пять миллионов девятьсот девяносто восемь тысяч сто пятьдесят один умножить на пять миллиардов сто шестьдесят два миллиона триста три тысячи пятьсот восемь? Ученица. Это будет девятнадцать квинтиллионов триста девяносто квадриллионов два триллиона восемьсот сорок четыре миллиарда двести девятнадцать миллионов сто шестьдесят четыре тысячи пятьсот восемь… Учитель (удивленно). Нет. Кажется, не так. Должно получиться девятнадцать квинтиллионов триста девяносто квадриллионов два триллиона восемьсот сорок четыре миллиарда двести девятнадцать миллионов сто шестьдесят четыре тысячи пятьсот девять… Ученица. Нет… пятьсот восемь… Учитель (сосчитав в уме, с нарастающим изумлением). Да… Вы правы… ответ действительно… (Невнятно бормочет.) квадриллионов… триллионов… миллиардов… миллионов… (Разборчиво.) Сто шестьдесят четыре тысячи пятьсот восемь… (Ошеломленно.) Но каким образом вы это вычислили, если вам недоступны простейшие приемы арифметического мышления? Ученица. Очень просто. Поскольку я не могу положиться на свое арифметическое мышление, я взяла и выучила наизусть все результаты умножения, какие только возможны. Учитель. Потрясающе… Однако позвольте вам заметить, мадемуазель, меня это ни в коей мере не удовлетворяет, и я не стану вас хвалить, ибо в математике вообще и в арифметике в частности главным следует считать — а арифметика только и делает, что считает, — ясное понимание… Вы должны были получить этот ответ, как и любой другой, путем математических рассуждений, путем дедукции и индукции. Математика — заклятый враг зубрежки, и хотя память — прекрасная вещь, но для математики она губительна!.. Так что я не удовлетворен… отнюдь… так не годится… Ученица (удрученно). Увы, мсье. Учитель. Ну ладно, оставим это пока. Перейдем к другим дисциплинам…
Входит служанка.
Служанка. Кхе-кхе, мсье! Учитель (не слыша ее). Весьма досадно, что вы так мало сведущи в математике… Служанка (тянет его за рукав). Мсье! Мсье! Учитель. Боюсь, вы не сможете сдать экзамен на полного доктора… Ученица. О, мсье, как жаль! Учитель. Если только… (Служанке.) Мари… Опять вы лезете не в свое дело? Ступайте на кухню! К своим кастрюлям! Ступайте, ступайте! (Ученице.) Попробуем хотя бы подготовить вас к экзамену на неполного доктора… Служанка. Мсье!.. Мсье!.. (Тянет его за рукав.) Учитель (служанке). Да отстаньте же! Отцепитесь! Что вам надо?.. (Ученице.) И если вы решите сдавать его… Ученица. Да, мсье. Учитель. Я преподам вам основы лингвистики и сравнительной филологии… Служанка. Нет-нет, мсье!.. Не нужно!.. Учитель. Ну, знаете, это уж слишком! Служанка. Только не филология, филология — прямая дорога к беде. Ученица (удивленно). К беде? (Глуповато улыбается.) Вот это новости! Учитель (служанке). Просто возмутительно! Ступайте вон! Служанка. Ладно, ладно, мсье. Только не говорите потом, что я вас не предупреждала! Филология ведет к беде! Учитель. Я совершеннолетний, Мари! Ученица. Да, мсье. Служанка. Ну, как хотите! (Уходит.) Учитель. Продолжим, мадемуазель. Ученица. Да, мсье. Учитель. Прошу вас выслушать с предельным вниманием составленный мною курс… Ученица. Да, мсье. Учитель …с помощью которого вы за пятнадцать минут постигнете основы основ лингвистической и сравнительной филологии неоиспанских языков. Ученица. О, господин учитель! (Хлопает в ладоши.) Учитель (властно). Тихо! Это еще что такое! Ученица. Простите, мсье. (Медленно опускает руки на стол.) Учитель. Тихо!
Встает и принимается расхаживать по комнате, заложив руки за спину: время от времени останавливается посреди комнаты или около ученицы и подкрепляет свои слова выразительным жестом, однако не следует играть утрированно. Ученица следит за ним взглядом, что иногда становится не так-то просто, потому что ей приходится чуть ли не сворачивать себе шею: раза два она даже поворачивается спиной к зрителям.
Итак, мадемуазель, испанский является родоначальником всех неоиспанских языков, к каковым относятся испанский, гишпанский, латинский, итальянский, наш французский, португальский, румынский, сардинский, он же сарданапальский и неоиспанский, а также в некоторой степени турецкий, который, впрочем, ближе к греческому, что вполне понятно, ибо от Турции до Греции ближе, чем от меня до вас, — лишнее подтверждение одного из основных положений лингвистики, гласящего, что география и филология — близнецы… Можете конспектировать, мадемуазель. Ученица (глухо). Да, мсье. Учитель. Неоиспанские языки отличаются друг от друга и от других языковых групп, таких как австрийские и неоавстрийские, или габсбургские; а также гельветические, эсперантистские, монакские, швейцарские, андоррские, баскские, голландские, сырные, не забывая о дипломатических и технических языковых группах, — так вот, неоиспанские языки отличаются поразительным сходством друг с другом, в силу чего их крайне затруднительно различить, хотя такое различение все же возможно по некоторым имеющимся отличительным признакам, неоспоримо говорящим об общности происхождения и в то же время указывающим на их глубокие различия, проявляющиеся в отличительных чертах, о которых я только что упомянул. Ученица. О-о-о да-а-а-а-а, мсье! Учитель. Однако не будем задерживаться на теории… Ученица (с сожалением в голосе). О, мсье… Учитель. Вы, кажется, заинтересовались. Что ж, чудесно. Ученица. О да, мсье. Учитель. Не огорчайтесь, мадемуазель. Мы еще вернемся к этому позже… а может, и не вернемся… Как знать… Ученица (восторженно). О да, мсье. Учитель. Итак, знайте и помните до самого своего смертного часа… Ученица. До самого моего смертного часа… О да, мсье. Учитель …еще одно основное положение: любой язык есть в конечном счете не что иное, как речь, и, следовательно, состоит из звуков, или… Ученица. Или фонем… Учитель. Это я и хотел сказать. Незачем забегать вперед. Будьте скромнее и слушайте. Ученица. Хорошо, мсье. Конечно, мсье. Учитель. Звуки, мадемуазель, следует схватывать на лету, пока они не упали в глухие уши. Поэтому, прежде чем заговорить, желательно по возможности вытянуть шею, задрать подбородок и встать на цыпочки, вот так, смотрите… Ученица. Да, мсье. Учитель. Тихо! Не перебивайте… И издавать звуки как можно громче, во всю силу легких и голосовых связок. Вот так: «бабочка», «эврика», «Трафальгар», «папенька». Таким образом, звуки, наполненные теплым воздухом, более легким, чем окружающая среда, полетят вверх, избежав опасности упасть в глухие уши — эти бездны, где гибнет все, что звучит. Если вы произносите несколько звуков подряд с большой скоростью, они автоматически сцепляются друг с другом, образуя слоги, слова и даже фразы, то есть более или менее значительные группировки, иррациональные сочетания, лишенные всякой смысловой нагрузки и именно поэтому способные свободно держаться в воздухе на значительной высоте. Слова же весомые, обремененные смыслом, неминуемо летят вниз и падают… Ученица. …в глухие уши. Учитель. Верно, но не перебивайте… или безнадежно перепутываются… или лопаются, как воздушные шарики. Таким образом, мадемуазель…
Ученица вдруг морщится как от сильной боли.
Что с вами? Ученица. У меня болят зубы. Учитель. Подумаешь! Не прерывать же занятие из-за таких пустяков. Продолжим… Ученица (страдая все сильнее). Да, мсье. Учитель. Не слишком задерживаясь на этом вопросе, отметим все же существование согласных, изменяющих звук в речевом потоке, когда глухие становятся звонкими и наоборот. Так, например: «столб — столбы», «гроб — гробы», «клоп — клопы», «если бы». Ученица. У меня болят зубы. Учитель. Продолжим. Ученица. Да. Учитель. Вывод: искусство произнесения звуков требует долгих лет обучения. Наука же позволяет сократить этот срок до нескольких минут. Итак, запомните: чтобы произнести слово, звук или что угодно другое, следует безжалостно исторгнуть весь воздух из легких и мало-помалу пропускать эту воздушную струю через голосовые связки так, чтобы они, точно струны арфы или листва под ветром, дрожали, трепетали, вибрировали, вибрировали, вибрировали или картавили, шепелявили, свистели, свистели; а как вспомогательные средства используются: язык и язычок… губы и зубы… Ученица. У меня болят зубы. Учитель. …а также нёбо …В конце концов слова хлынут через нос, рот, уши, поры, вырывая и увлекая за собой все вышепоименованные органы, — хлынут мощным потоком, который мы неверно называем голосом и который состоит из вокальных модуляций и симфонического сопровождения, подобного букету экзотических цветов… фейерверку из лабиальных, дентальных, палатальных, взрывных, шипящих, свистящих и прочих звуков, то ласкающих, то терзающих слух. Ученица. Да, мсье, у меня болят зубы. Учитель. Ничего, ничего, продолжим. Что касается неоиспанских языков, то они состоят в таком близком родстве друг с другом, что их можно считать двоюродными братьями. Впрочем, у них общий отец — гишпанский. Поэтому так трудно отличить один из них от другого. И так важно правильное, безукоризненное произношение. Произношение само по себе едва ли не важнее, чем все остальное. Плохое произношение чревато ошибками. По этому поводу позволю себе рассказать один случай из моего личного опыта. (Предавшись воспоминаниям, учитель смягчается, лицо его принимает умильное выражение, но ненадолго.) Я был тогда совсем молод, почти мальчишка. Служил в армии. И в полку у меня был один товарищ, виконт, который не выговаривал букву «ф» — весьма серьезный дефект речи. Вместо «ф» он произносил «ф». Например, вместо «сцена у фонтана» говорил «сцена у фонтана». Вместо «фазан» — «фазан», Фирмена называл Фирменом, Филиппа Филиппом, вместо «фу-ты ну-ты» говорил «фу-ты ну-ты», вместо «фик-фок» и «фокус-покус» — «фик-фок» и «фокус-покус», «фиг вам» вместо «фиг вам», «февраль» вместо «февраль», «март-апрель» вместо «март-апрель», вместо «Жерар де Нерваль» говорил «Жерар де Нерваль», вместо «Мирабо» — «Мирабо», «и так далее» вместо «и так далее», «и тому подобное» вместо «и тому подобное» и так далее. Но он так искусно скрывал этот дефект под маскировочной каской, что никто ничего не замечал. Ученица. Да. У меня болят зубы. Учитель (резко меняя тон, строгим голосом). Продолжим. Укажем сначала черты сходства, чтобы затем яснее усвоить различия языков. Ибо для неискушенных эти различия могут легко ускользнуть. Все слова во всех рассматриваемых языках… Ученица. Да?.. У меня болят зубы. Учитель. Продолжим… всегда одинаковы, так же как все суффиксы, префиксы, флексии, приставки и корни… Ученица. А какие у слов корни — квадратные? Учитель. Бывают квадратные, бывают кубические. Ученица. У меня болят зубы. Учитель. Продолжим. Возьмите, к примеру, слово «нос»… Ученица. Чем взять? Учитель. Чем хотите, тем и берите, только не перебивайте. Ученица. У меня болят зубы. Учитель. Продолжим… Продолжим, я сказал. Итак, возьмите французское слово «нос». Взяли? Ученица. Взяла. Ох, зубы мои, зубы… Учитель. «Нос» является корнем в слове «переносица», а также в слове «заносчивый», причем «пере» и «за» — это префиксы, а «иц» и «чив» — суффиксы. Они так называются, потому что у них идея фикс: они никогда не меняются. Не желают. Ученица. У меня болят зубы. Учитель. Продолжим. Так. Надеюсь, вы обратили внимание, что эти префиксы испанского происхождения? Ученица. О, как болят зубы. Учитель. Далее. Во французском, как вы тоже могли бы заметить, они остались неизменными. Так вот, мадемуазель, ничто не может заставить их измениться ни в латинском, ни в итальянском, ни в португальском, ни в сардинском, или сарданапальском, ни в румынском, испанском и неоиспанском, ни даже в восточном: слова «нос», «переносица», «заносчивый» неизменны, у них тот же корень, тот же суффикс, тот же префикс во всех вышепоименованных языках. Это относится и ко всем другим словам. Ученица. И во всех языках эти слова означают одно и то же? У меня болят зубы. Учитель. Абсолютно одно и то же. Иначе и быть не может. И эти, и все другие мыслимые слова во всех языках будут иметь одно и то же значение, одно и то же строение, одно и то же звучание. Ибо каждому понятию в любой стране соответствует одно-единственное слово, не считая синонимов. Да перестаньте вы держаться за щеку! Ученица. У меня болят зубы. Зубы болят! Болят и все! Учитель. Ладно, продолжим. Далее. Слышите, продолжим… Как вы скажете по-французски: розы моей бабушки желтее, чем мой дедушка, который был китайцем? Ученица. Зубы, зубы, у меня болят зубы. Учитель. Неважно, все равно, продолжим, отвечайте! Ученица. По-французски? Учитель. По-французски. Ученица. Э-э… как сказать по-французски: розы моей бабушки желтее, чем..? Учитель. …чем мой дедушка, который был китайцем… Ученица. Значит, так, по-французски это будет: розы… розы моей… как будет бабушка по-французски? Учитель. По-французски? Бабушка. Ученица. Розы моей бабушки… желтее… это будет по-французски «желтее»? Учитель. Разумеется! Ученица. Желтее, чем мой дедушка, который был ревнивцем. Учитель. Нет, который был… ки… Ученица. …тайцем… У меня болят зубы. Учитель. Верно. Ученица. У меня… Учитель. …болят зубы… знаю… Далее! Теперь переведите эту фразу на испанский и неоиспанский… Ученица. По-испански… это будет: розы моей бабушки желтее, чем мой дедушка, который был китайцем. Учитель. Нет. Неправильно. Ученица. А по-неоиспански: розы моей бабушки желтее, чем мой дедушка, который был китайцем. Учитель. Неверно. Неверно. Неверно. Вы перепутали, вместо испанского сказали по-неоиспански, а вместо неоиспанского — по-испански… То есть… наоборот… Ученица. У меня болят зубы. Вы сами запутались. Учитель. Это вы меня запутали. Не отвлекайтесь. Будьте внимательны и записывайте. Я скажу вам эту фразу сначала по-испански, потом по-неоиспански и, наконец, по-латыни. А вы повторяйте. Внимательно, потому что сходство очень велико. До полного тождества. Слушайте и следите… Ученица. У меня болят… Учитель …зубы. Ученица. Продолжим… Ох! Учитель. По-испански: розы моей бабушки желтее, чем мой дедушка, который был китайцем; по-латыни: розы моей бабушки желтее, чем мой дедушка, который был китайцем. Уловили разницу? Теперь переведите это на… ну, скажем, на румынский. Ученица. Розы моей… Э-э… Как будет «розы» по-румынски? Учитель. «Розы», как же еще? Ученица. А я думала «розы». Ох, зубы… Учитель. Да нет же, нет, ведь «розы» — это восточное заимствование французского слова «розы», которое по-испански будет «розы», понимаете? А по-сарданапальски «розы»… Ученица. Простите, мсье, но мне… о, как болят зубы… мне не совсем ясна разница. Учитель. Между тем это так просто! Проще простого! Нужен только некоторый опыт, некоторая практика в этих языках, столь отличных друг от друга, несмотря на полное их сходство. Я попытаюсь растолковать вам… Ученица. Зубы мои, зубы… Учитель. Эти языки отличаются друг от друга не словарным составом, который у них абсолютно идентичен, не структурой фразы, которая в них во всех одна и та же, не интонацией, в которой нет никаких различий, и не ритмическим строем… они отличаются… вы меня слушаете? Ученица. У меня болят зубы. Учитель. Слушаете или нет? О, я, кажется, теряю терпение! Ученица. Отстаньте, мсье! У меня болят зубы. Учитель. Клянусь козлиной бородой! Слушайте, пес вас побери! Ученица. Да-да… слушаю… ну, я слушаю… Учитель. Они отличаются как друг от друга, так и от их общего предка гишпанского… тем… Ученица (кривясь от боли). Чем? Учитель. Тем, чего нельзя определить и что познается очень нескоро, в результате долгих трудов… Ученица. Да? Учитель. Да, мадемуазель. Тут нет никаких правил. Все решает интуиция. А чтобы она появилась, надо учиться, учиться и учиться. Ученица. Зубы болят. Учитель. Правда, иногда слова в этих языках могут не совпадать, но эти, так сказать, исключительные случаи не делают погоды. Ученица. Да?.. О, мсье, как у меня болят зубы. Учитель. Не перебивайте! Не сердите меня! Или я за себя не отвечаю. Так на чем я остановился… Ах да: в некоторых исключительных случаях различия весьма ощутимы… зримы, выпуклы, если хотите… Повторяю: если хотите. Я вижу, вы меня не слушаете… Ученица. У меня болят зубы. Учитель. Так вот, как я сказал, в некоторых обиходных выражениях встречаются слова, звучащие совершенно по-разному в каждом из языков, так что определить язык весьма несложно. Приведу пример. Распространенное в Мадриде неоиспанское выражение: «Моя родина — Нео-Испания» звучит по-итальянски: «Моя родина…» Ученица. Нео-Испания. Учитель. Неверно! «Моя родина — Италия». А теперь скажите, рассуждая по аналогии, как будет «Италия» по-французски? Ученица. У меня болят зубы! Учитель. А ведь это так просто: слову «Италия» соответствует во французском слово «Франция», являющееся его точным переводом. «Моя родина — Франция». А «Франция» по-восточному будет «Восток». «Моя родина — Восток». А «Восток» по-португальски — «Португалия»! Восточное выражение: «Моя родина — Восток» переводится на португальский следующим образом: «Моя родина — Португалия!» И так далее… Ученица. Понятно! Я поняла! У меня болят… Учитель. Зубы! Зубы! Зубы!.. Сейчас я вам их вырву! Еще один пример. Слово «столица» в разных языках имеет разный смысл. Так, когда испанец говорит: «Я живу в столице», он подразумевает под словом «столица» совсем не то, что португалец, когда тоже говорит: «Я живу в столице», или произносящий эту же фразу француз, румын, латинянин, сарданапалец… Поэтому, если вам скажут… мадемуазель, мадмуазе-ель, я объясняю все это для вас! О, черт! Поэтому, услышав выражение: «Я живу в столице», вы легко распознаете, на каком языке это сказано: на испанском, гишпанском или неоиспанском, французском, восточном, румынском или латинском, стоит лишь догадаться, какую страну имеет в виду говорящий… произнося данную фразу… Но этими примерами едва ли не исчерпываются подобные случаи… Ученица. Ох, зубы, зу-бы… Учитель. Молчать! Не то я вам голову проломлю! Ученица. Попробуйте только! Вот еще болтун на мою голову! (Учитель хватает ее за руку, начинает выкручивать.) Ай! Учитель. Сидите тихо! Чтоб больше ни слова! Ученица (хнычет). Зубы… Учитель. Самое… как бы сказать… самое парадоксальное, да-да, именно парадоксальное заключается в том, что многие люди в силу полного невежества говорят на том или ином языке… слышите? Что я сказал? Повторите. Ученица. «…на том или ином языке! Что я сказал!» Учитель. Ваше счастье!.. Так вот, многие простолюдины говорят на испанском, вставляя, сами того не зная, слова из неоиспанского, а думают, что говорят на латинском… или говорят на латинском, вставляя слова из восточного, а думают, что говорят на румынском… или на испанском, вперемежку с неоиспанским, а думают, что на сарданапальском или на испанском… Понятно? Ученица. Да! Да! Да! Да! Что вам еще надо?.. Учитель. Прошу без грубостей, малютка, а то худо будет. (Захлебывается злобой.) Случаются, мадемуазель, и еще более странные ситуации, например, когда испанец говорит на латыни, которую считает испанским: «У меня с недавних пор кровь идет из пор», — обращаясь к французу, который не знает ни слова по-испански, но отлично понимает собеседника, как будто тот говорит на его родном языке. Он, впрочем, именно так и думает и отвечает: «Вот и я жил-жил, и вдруг — пот из жил», и испанец тоже его понимает и уверен, что оба они говорят на чистейшем испанском, а на самом деле это не испанский и не французский, а самый настоящий латинский с примесью нео-испанского… Сидите спокойно, мадемуазель, не ерзайте и не топайте ногами… Ученица. У меня болят зубы. Учитель. Как же получается, что простолюдины понимают друг друга, хотя сами не знают, на каком языке говорят, и принимают свой за чужой, а чужой за свой? Ученица. Ну и как же? Учитель. Это один из любопытнейших образчиков житейского опыта — не путать с опытом научным! — парадокс, нонсенс, причуда человеческой натуры, одним словом, инстинкт — именно он здесь и срабатывает. Ученица. Ой-ой-ой! Учитель. Вместо того чтобы ловить мух, пока я тут распинаюсь, вы бы лучше слушали повнимательнее… не мне же, в конце концов, сдавать экзамен на неполного доктора, я-то все экзамены давно сдал — и полного доктора получил, и диплом с отличием… Я для вас стараюсь, поймите, для вас! Ученица. Ужасная боль! Учитель. Ужасная ученица! Нет, так не пойдет, это из рук вон… из рук вон… Ученица. Я… вас… слушаю… Учитель. То-то! Как я уже говорил, лучший способ научиться различать языки — это практика… Поэтому давайте практиковаться. Сейчас я произнесу слово «нож» на всех языках, а вы запоминайте. Ученица. Как хотите… все равно… Учитель (зовет служанку). Мари! Мари! Не дозовешься… Мари! Мари!.. Да где вы там?! (Открывает правую дверь.) Мари!.. (Выходит.)
Ученица остается ненадолго одна, сидит, безучастно глядя перед собой.
Учитель (визгливо кричит за дверью). Мари! В чем дело? Куда вы запропастились? Идите сюда, раз я зову! (Возвращается, за ним входит Мари.) Здесь распоряжаюсь я, а вы должны слушаться. (Указывает на ученицу.) Вот эта ничего не понимает. Ровным счетом ничего! Служанка. Держите себя в руках, мсье, подумайте о последствиях! Дело может зайти слишком далеко. Учитель. Я сумею вовремя остановиться. Служанка. Вы всегда так говорите. Погляжу я, как это будет. Ученица. У меня болят зубы. Служанка. Вот, пожалуйста, начинается, это же симптом! Учитель. Какой, скажите на милость, симптом? О чем вы? Ученица (слабым голосом). Да, о чем вы? У меня болят зубы. Служанка. Окончательный симптом! Решающий! Учитель. Чушь! Чушь! Чушь!
Служанка хочет уйти.
Погодите! Я вас звал, чтобы вы мне принесли ножи: испанский, неоиспанский, португальский, французский, восточный, румынский, сарданапальский, латинский и гишпанский. Служанка (угрюмо). На меня не рассчитывайте. (Уходит.) Учитель (порывается что-то возразить, но сдерживается. Стоит какое-то время с нерешительным видом. Потом вдруг спохватывается). Ах да! (Быстро идет к буфету, открывает ящик и достает большой нож, настоящий или воображаемый, на усмотрение режиссера, радостно размахивает им.) Вот он, мадемуазель, вот и нож. Жаль, конечно, что только один, но мы попробуем обойтись одним на все языки! От вас требуется лишь произнести слово «нож» на всех языках, не сводя глаз с этого предмета и представляя себе, что он относится к тому языку, на котором вы его называете. Ученица. Зубы болят. Учитель (нараспев). Итак: повторяйте: но-о-ож… И смотрите, смотрите прямо на него… Ученица. Это по-какому? По-французски, по-итальянски, по-испански? Учитель. Теперь уже неважно… Какая разница. Повторяйте: нож! Ученица. Нож… Учитель (потрясает ножом перед глазами ученицы). Еще раз… Смотрите сюда… Ученица. Ну нет уж! Ни за что! Хватит с меня! И вообще, у меня болят зубы, ноги, голова… Учитель (отрывисто). Нож… Смотрите сюда… Нож… Смотрите… Нож… Смотрите… Ученица. Не кричите! У меня уже заболели уши. Вы прямо визжите. Учитель. Повторяйте: нож… нож… нож… Ученица. Нет! У меня болят уши, все-все болит… Учитель. Ах, уши! Вот я тебе сейчас, моя прелесть, их оторву, сразу перестанут болеть! Ученица. Ой! Больно! Учитель. Ну так смотрите и повторяйте: нож… Ученица. Ладно… если вы непременно хотите… Нож… (С внезапно проснувшейся иронией.) Это что, по-неоиспански?.. Учитель. Да, да, по-неоиспански, если вам угодно, только скорее… у нас мало времени… Вообще, что за дурацкий вопрос? Что вы себе позволяете? Ученица (изнемогает, отчаянно и раздраженно стонет). О! Учитель. Смотрите и повторяйте. (Монотонно.) Нож… нож… нож… нож… Ученица. Все болит, ох, как болит… голова… (Касается рукой всех частей тела, которые перечисляет.) Глаза… Учитель (монотонно). Нож… нож…
Оба поднялись с мест. Учитель, вне себя, кружит вокруг ученицы, потрясая ножом, словно исполняет танец индейца перед снятием скальпа, однако не следует переигрывать, танцевальные движения должны быть только слегка обозначены. Ученица, измученная болью, сгорбившись и пошатываясь, пятится к окну…
Учитель. Повторяйте, повторяйте: нож… нож… нож… Ученица. Болит… горло, плечи… грудь… нож… Учитель. Нож… нож… нож… Ученица. …Живот… нож… ноги… нож… Учитель. Отчетливей… нож… нож… Ученица. Нож… ох, мое горло… Учитель. Нож… нож… Ученица. Нож… ох, мои плечи… руки мои… грудь… ноги… нож… нож… Учитель. Вот так… Теперь хорошо… Ученица. Нож… ох, грудь… ох, живот… Учитель (меняя тон). Осторожно… не разбейте мне стекла… нож — орудие убийства… Ученица (слабым голосом). Да, да… что? Убийства? Учитель (взмахнув ножом, убивает ученицу). А-ах! Вот тебе!
Вскрикнув «А-ах!», она валится на как бы случайно оказавшийся у окна стул и застывает в непристойной позе, широко расставив ноги. Ее предсмертный крик сливается с возгласом убийцы; после первого удара учитель стоит спиной к зрителям, лицом к застывшей на стуле ученице, затем наносит мертвому телу еще один удар, снизу вверх, с такой силой, что, не устояв на месте, подскакивает.
Учитель (запыхавшись, бормочет). Тварь… Так ей и надо… Сразу полегчало… Ох, устал… задыхаюсь… Ох! (Тяжело дышит, падает — к счастью, стул рядом; утирает пот со лба, что-то невнятно бормочет. Наконец, отдышавшись, встает, смотрит на зажатый в руке нож, на тело девушки и, словно очнувшись, вскрикивает. В панике.) Что я наделал! Что со мной сделают? Что же будет?! Ай-ай-ай! Вот беда! Мадемуазель, мадемуазель, вставайте! (Суетится, все еще не выпуская из руки невидимый нож и не зная, куда его девать.) Ну же, мадемуазель, урок окончен… Можете идти… заплатите в следующий раз… О! Она мертва… мертва-а-а! Это я ее — вот этим ножом… Мертва-а-а… Это ужасно… (Зовет служанку.) Мари! Мари! Мари, голубушка, идите сюда! О! О!
Открывается правая дверь. Входит Мари.
Нет… не надо… Идите, Мари. Вы мне совсем не нужны… Слышите, идите…
Мари, ни слова не говоря, с суровым видом подходит к трупу.
Учитель (все неувереннее). Идите, Мари, вы мне не нужны… Служанка (саркастически). Ну и как, вы довольны своей ученицей, урок пошел ей на пользу? Учитель (пряча нож за спиной). Да, урок окончен… но… она… она не уходит… она не хочет… Служанка (холодно). В самом деле?.. Учитель (дрожа). Это не я… не я… Мари… миленькая Мари… правда не я… Служанка. А кто же? Кто? Может, я? Учитель. Не знаю… может быть… Служанка. Или, может, кошка? Учитель. Может быть… Не знаю… Служанка. Это уже сороковая сегодня!.. И так каждый день! Каждый Божий день! Постыдились бы, в вашем-то возрасте… Последнее здоровье потеряете! А учениц не останется вовсе. И поделом вам! Учитель (раздражаясь). Я не виноват! Она не желала учиться! Не слушалась! Плохая ученица! Не желала учиться! Служанка. Ложь!.. Учитель (подбираясь потихоньку к служанке, с ножом за спиной). А вам какое дело? (Размахивается, чтобы всадить в нее нож, но она перехватывает и выворачивает ему руку. Учитель роняет нож.)…Извините! Служанка (сбивает его с ног парой увесистых, звонких оплеух. Учитель хнычет, сидя на полу). Тоже мне убийца нашелся! Негодник! Безобразник! Со мной такие штуки не пройдут! Я вам не ученица! (Поднимает его за шиворот, подбирает с полу ермолку и нахлобучивает ему на макушку; он заслоняется локтем, как ребенок.) Ну-ка, положите нож на место, живо! (Учитель прячет нож в ящик буфета и снова подходит.) А ведь я предупреждала: арифметика ведет к филологии, а филология — к преступлению… Учитель. Вы говорили: «к беде». Служанка. Это одно и то же. Учитель. А я не понял. Я думал, что «беда» — это название города, и вы хотели сказать, что филология ведет к этому городу… Служанка. Опять лжете! Старый лис! Чтобы такой ученый, как вы, не знал значения слов! Так я вам и поверила! Учитель (рыдая). Я ее убил нечаянно! Служанка. Но вы хоть раскаиваетесь? Учитель. О да, клянусь вам, Мари! Служанка. Ну ладно, пожалею вас. Я знаю, вы все-таки хороший! Попробуем все уладить. Но чтобы в последний раз!.. Так недолго и сердце испортить… Учитель. Конечно, Мари! А что надо делать? Служанка. Надо ее похоронить… вместе с тридцатью девятью остальными, итого будет сорок гробов… Я вызову агента похоронного бюро и кюре Августина, моего любовника… Закажу венки… Учитель. Спасибо, Мари, спасибо. Служанка. Чего уж там. Впрочем, Августина можно и не звать, ведь вы и сами, как все говорят, можете, если захотите, его отлично заменить. Учитель. Только не слишком дорогие венки. Она не заплатила за урок. Служанка. Не волнуйтесь… Да одерните ей юбку, срам смотреть. И вообще, надо ее унести… Учитель. Да-да, Мари, конечно. (Одергивает ученице юбку.) Но как бы нас на этом не поймали… сорок гробов… Ничего себе… начнутся разговоры… А если нас спросят, что там внутри? Служанка. Не переживайте. Скажем: ничего нет. Да никто и спрашивать не будет, люди уже привыкли. Учитель. Ну все-таки… Служанка (вытаскивает повязку с каким-то знаком, возможно, со свастикой). Вот, наденьте, если боитесь, и можете быть спокойны. (Надевает повязку ему на руку.) С политикой шутки плохи. Учитель. Спасибо, милая Мари, теперь я спокоен… Вы такая добрая, такая преданная душа… Служанка. То-то. За дело, мсье. Взяли? Учитель. Да-да, милочка Мари. (Служанка и учитель берут тело девушки, одна — под руки, другой — за ноги, и несут к правой двери.) Осторожно. Не ушибите ее.
Выходят. Несколько секунд на сцене никого нет. Потом раздается звонок в левую дверь.
Голос служанки. Иду, иду, сию минуту!
Она появляется так же, как в начале пьесы, идет к двери. Еще один звонок.
Служанка (в сторону), Не терпится ей! (Громко,) Иду, иду! (Открывает левую дверь,) Добрый день, мадемуазель! Вы новая ученица? Пришли на урок? Господин учитель ждет вас. Я доложу ему, и он сейчас же выйдет. Входите же, мадемуазель, входите! [12]
Занавес
Перевод Н. Мавлевич
СТУЛЬЯ
Фарс-трагедия{3}
Действующие лица: Старик, 95 лет Старушка, 94 года Оратор, 45–50 лет И множество других персонажей
Обстановка: Комната полукругом с нишей в глубине. Справа от авансцены три двери, затем окно, перед ним скамейка, затем еще одна дверь. В нише парадная дверь с двумя створками, от нее симметрично, справа и слева, еще две двери, со стороны зрительного зала невидимые. Слева от авансцены тоже три двери, затем окно, перед ним скамейка, левое окно симметрично правому, подле окна черная доска и небольшое возвышение, своего рода эстрада. На авансцене стоят рядышком два стула.
Занавес поднимается. На сцене полумрак. Старик, стоя на скамеечке, перевесился через подоконник. Старушка зажигает газовую лампу, разливается зеленоватый свет. Старушка подходит и теребит за рукав старика.Старушка. Закрывай-ка окно, душенька, гнилой водой пахнет, и комары летят. Старик. Отстань! Старушка. Закрывай, закрывай, душенька. Иди посиди лучше. И не перевешивайся так, а то в воду упадешь. Ты же знаешь, что с Франциском Первым случилось[13]. Надо быть осторожнее. Старик. Вечно эти примеры из истории! Я, крошка, устал от французской истории. Хочу смотреть в окно, лодки на воде, как пятна на солнце. Старушка. Какие там лодки, когда солнца нет, — темно, душенька. Старик. Зато тени остались. (Еще сильнее перевешивается через подоконник.) Старушка (тянет его обратно изо всех сил). Ох!.. Не пугай меня, детка… сядь посиди, все равно не увидишь, как они приедут. Не стоит и стараться. Темно…
Старик неохотно уступает ей.
Старик. Я посмотреть хотел, мне так нравится смотреть на воду. Старушка. И как ты только можешь на нее смотреть, душенька? У меня сразу голова кружится. Ох! Этот дом, остров, никак не могу привыкнуть. Кругом вода… под окнами вода и до самого горизонта…
Старушка тянет старика к стульям на авансцене; старик, словно это само собой разумеется, садится на колени к старушке.
Старик. Шесть часов, а уже темно. Вот раньше, помнишь, всегда было светло, в девять — светло, в десять — светло, в полночь тоже светло. Старушка. Память у тебя как стекло. Так ведь оно и было. Старик. Было, да сплыло. Старушка. А почему, как ты думаешь? Старик. Откуда мне знать, Семирамидочка… Видно, чем глубже вдаль, тем дальше вглубь… А все земля виновата, крутится, вертится, вертится, крутится… Старушка. Крутится, детка, вертится… (Помолчав.) Ох! Ты — великий ученый. У тебя такие способности, душенька. Ты мог быть и главным президентом, и главным королем, и главным маршалом, и даже главврачом, будь у тебя хоть немного честолюбия… Старик. А зачем? Прожить жизнь лучше, чем мы с тобой прожили, все равно нельзя. А на общественной лестнице и мы с тобой не на последней ступеньке, как-никак я маршал лестничных маршей — привратник дома. Старушка (гладит старика по голове). Деточка моя, умница моя… Старик. Тоска. Старушка. А когда на воду смотрел, не тосковал… Знаешь, а давай поиграем, как в прошлый раз, вот и развеселимся. Старик. Давай, только, чур, теперь твоя очередь играть. Старушка. Нет, твоя. Старик. Твоя! Старушка. Твоя очередь, говорю. Старик. Твоя, твоя… Старушка. А я говорю — твоя!.. Старик. Иди и пей свой чай, Семирамида!
Никакого чая, разумеется, нет.
Старушка. Сыграйфевраль месяц. Старик. Не люблю я этих месяцев. Старушка. А других нет. Уж пожалуйста, доставь мне удовольствие, сделай милость. Старик. Ну так и быть — февраль месяц.
Чешет голову, как Стэн Лорел[14].
Старушка (смеясь и хлопая в ладоши). Точь-в-точь! Спасибо тебе, моя душечка. (Целует его.) О-о, какой у тебя талант, захоти ты только, быть бы тебе самое меньшее главным маршалом… Старик. Я маршал лестничных маршей — привратник. (Молчание.) Старушка. А расскажи-ка мне ту историю… знаешь, ту самую историю, мы еще тогда так смеялись… Старик. Опять?.. Не могу… мало ли что тогда смеялись? И опять, что ли, то же самое?.. Сколько можно?.. «Тогда сме… я…» Какая тоска… Семьдесят пять лет женаты, и из вечера в вечер я должен рассказывать тебе все ту же историю, изображать тех же людей, те же месяцы… давай поговорим о другом… Старушка. А мне, душенька, совсем не скучно. Это же твоя жизнь, для меня в ней все интересно. Старик. Ты же ее наизусть знаешь. Старушка. А я словно бы забываю все… Каждый вечер слушаю как в первый раз… Переварю все, приму слабительное, и опять готова слушать. Ну давай начинай, прошу тебя… Старик. Раз уж просишь. Старушка. Ну давай рассказывай свою историю… ведь это и моя история. Все твое — оно и мое. Значит, сме… Старик. Значит, лапочка, сме… Старушка. Значит, душенька, сме… Старик. С месяц шли и пришли к высокой ограде, промокшие, продрогшие, прозябшие насквозь, ведь стыли мы часами, днями, ночами, неделями… Старушка. Месяцами… Старик. Под дождем… Зубы стучат, животы бурчат, руки-ноги свело, восемьдесят лет с тех пор прошло… Но они нас так и не впустили… а могли бы хоть калиточку в сад приотворить. (Молчание.) Старушка. В саду трава мокрая. Старик. Вывела нас тропка к деревеньке, на маленькую площадь с церковкой… Где была эта деревня? Не помнишь? Старушка. Нет, душенька, не помню. Старик. Как мы туда попали? Какой дорогой? Кажется, называлось это место Париж… Старушка. Никакого Парижа никогда не было, детка. Старик. Был. Теперь нет, а раньше был. Очень светлый был город, но погас, потускнел четыре тысячи лет тому назад, одна песенка от него осталась. Старушка. Настоящая песенка? Ну и ну. А какая? Старик. Колыбельная, очень простая: «Париж всегда Париж». Старушка. Дорога идет туда садом? А далеко идти надо? Старик (мечтательно, рассеянно). Песня?.. Дождь?.. Старушка. До чего же ты талантливый! Тебе бы еще честолюбие, и был бы ты главным императором, главным редактором, главным доктором, главным маршалом… А так все впустую… Взял и зарыл в землю… Слышишь, в землю зарыл… (Молчание.) Старик. Значит, сме… Старушка. Да, да, продолжай… рассказывай… Старик (в то время как старушка начинает смеяться, сперва потихоньку, потом все громче; старик ей вторит). Значит, сме… с мешком змея-история, а территория… и смея… надрывали животики… змея на дрова… вползла… жив вот… в пол зла… на дрова… Старушка (смеясь). Смея… Надрыва… на дрова… Старик и (заливаясь, вместе). Сме… я… змея… на дворе дрова… в руке топор… над дровами пар… с топором паришь… Старушка. Вот он, твой Париж! Старик. Ну кто рассказал бы лучше? Старушка. Ты у меня такой… ну такой, знаешь, замечательный, душенька, что мог бы стоять и на высшей ступеньке, а не у самых дверей. Старик. Будем скромны… Удовольствуемся малым. Старушка. А вдруг ты загубил свое призвание? Старик (неожиданно плачет). Загубил? Закопал? Мама, мамочка! Где моя мамочка? Сирота (всхлипывает), сирота, сиротка… Старушка. Я с тобой, чего тебе бояться? Старик. Ты, Семирамидочка, не мамочка… кто защитит сиротку? Старушка. А я, душенька? Старик. Ты не мамочка!.. А я хочу к мамочке… Старушка (гладит его по голове). У меня сердце разрывается, не плачь, деточка. Старик. Ы-ы-ы, не трогай меня, — ы-ы-ы, мне больно, у меня перелом призвания. Старушка. Тшшш… Старик (ревет, широко открыв рот, как младенец). Я сирота… сиротка… Старушка (стараясь успокоить его, баюкает). Сиротка моя, моя душенька, как душа болит за сироточку… (Баюкает старика, вновь усевшегося к ней на колени.) Старик (рыдая). Ы-ы-ы! Мамочка! Где моя мамочка? Нет у меня мамочки. Старушка. Я тебе и жена, и мамочка. Старик (немного успокаиваясь). Неправда, я сирота, у-у-у. Старушка (продолжая его баюкать). Сиротка моя, детка маленькая… Старик (еще капризно, но уже не плача). Нет… не хочу… не хочу-у-у… Старушка (напевает). Сирота-та-та-та, сиротин-тин-тин-тин, сиротун-тун-тун-тун… Старик. Не-е-ет. Старушка. Тра-ля-ля, ля-ля, тру-лю-лю, лю-лю, тирлим-пам-пам, тирлим-пам-пам. Старик. Ы-ы-ы. (Шмыгает носом, мало-помалу успокаиваясь.) А где моя мама? Старушка. В райском саду… Слушает тебя, смотрит из райских кущ, не плачь, а то и она расплачется! Старик. Все ты выдумала, не слышит она меня, не видит. Я круглый сирота, ты не моя мама… Старушка (почти успокоившемуся старику). Тшшш, успокойся, не расстраивайся, не убивайся… вспомни, сколько у тебя талантов, вытри слезки, а то скоро придут гости, увидят тебя зареванным… Ничего не загублено, ничего не закопано, ты им все скажешь, все им объяснишь, у тебя же Весть… ты всегда говорил, что передашь ее… борись, живи ради своей Миссии… Старик. Я вестник, это правда, я борюсь, у меня Миссия, за душой у меня что-то есть, это моя Весть человечеству… человечеству… Старушка. Человечеству, душенька, от тебя Весть. Старик. Это правда, вот это правда. Старушка (вытирает старику нос и слезы). То-то… ты же мужчина, воин, маршал лестничных маршей… Старик (он уже слез с колен старушки и расхаживает мелкими шажками, он взволнован). Я не такой, как другие, у меня есть идеал. Может, я, как ты говоришь, способный, даже талантливый, но возможностей мне не хватает. Что ж, я достойно выполнял свой долг маршала лестничных маршей, был всегда на высоте, и, быть может, этого довольно… Старушка. Только не тебе, ты не такой, как другие, ты — гений, но хорошо бы и тебе научиться ладить с людьми, а то рассорился со всеми друзьями, директорами, маршалами, с родным братом. Старик. Не по моей вине, Семирамида, ты прекрасно знаешь, что он мне сказал. Старушка. А что он тебе сказал? Старик. Он сказал: «Друзья мои, у меня завелась блоха, и к вам я хожу с единственной целью от нее избавиться». Старушка. Ну и сказал, душенька. А ты бы не обратил внимания. А с Карелем из-за чего поссорился? Тоже он виноват? Старик. Ох, как я сейчас рассержусь, Семирамида, ох, как я сейчас рассержусь! Вот. Конечно, он виноват. Пришел как-то вечером и говорит: «Желаю вам счастья, узнал средство от всякой напасти, вам не дам, воспользуюсь сам». И заржал как жеребенок. Старушка. Не со зла же. В жизни надо проще быть. Старик. Терпеть не могу таких шуточек. Старушка. А мог бы стать главным матросом, главным столяром, королем вальсов.
Долгая пауза. Старики, выпрямившись, сидят каждый на своем стуле.
Старик (словно во сне). А за садом… там было, лапочка… было… Что там было, ты говоришь? Старушка. Город Париж. Старик. А дальше… за Парижем что было… было что? Старушка. Что же там было, детка, и кто? Старик. Чудное место, ходили без манто. Старушка. Такая жарища? Нет, что-то не так! Старик. Что же еще? В голове кавардак… Старушка. Не напрягайся, детка, а то… Старик. Все так далеко-далеко… я не могу… Где же было это? Старушка. Что? Старик. Да то, что… то, что… где же было это и кто? Старушка. Какая разница где, я с тобой всегда и везде. Старик. Мне так трудно найти слова… Но необходимо, чтобы я все высказал. Старушка. Это твой священный долг. Ты не вправе умолчать о Вести, ты должен сообщить о ней людям, они ждут… тебя ждет Вселенная. Старик. Я скажу, скажу. Старушка. Ты решился? Это необходимо. Старик. Чай остыл, Семирамида. Старушка. Ты мог бы стать лучшим оратором, будь у тебя больше настойчивости… я горда, я счастлива, что ты наконец решился заговорить со всеми народами, с Европой, с другими континентами! Старик. Ноу меня нет слов… нет возможности себя выразить… Старушка. Начни, и все окажется возможным, начнешь жить — и живешь, начнешь умирать — умрешь… Главное — решиться, и сразу мысль воплотится в слова, заработает голова, появятся устои, оплоты, и вот мы уже не сироты. Старик. У меня недостаток… нет красноречия… Оратор-профессионал скажет все, что я бы сказал. Старушка. Неужели и впрямь сегодня вечером? А ты всех пригласил? Именитых? Даровитых? Владельцев? Умельцев? Старик. Всех. Владельцев, умельцев. (Пауза.) Старушка. Охранников? Священников? Химиков? Жестянщиков? Президентов? Музыкантов? Делегатов? Спекулянтов? Хромоножек? Белоручек? Старик. Обещали быть все — службисты, кубисты, лингвисты, артисты, все, кто чем-то владеет или что-то умеет. Старушка. А капиталисты? Старик. Даже аквалангисты. Старушка. Пролетариат? Секретариат? Военщина? Деревенщина? Революционеры? Реакционеры? Интеллигенты? Монументы? Психиатры? Их клиенты? Старик. Все, все до единого, потому что каждый или что-то умеет, или чем-то владеет. Старушка. Ты, душенька, не сердись, я не просто тебе надоедаю, а боюсь, как бы ты не забыл кого, все гении рассеянны. А сегодняшнее собрание очень важное. На нем должны присутствовать все. Они придут? Они тебе обещали? Старик. Пила бы ты свой чай, Семирамида. (Пауза.) Старушка. А Папа Римский? А папки? А папиросы? Старик. Что за вопросы? Позвал всех. (Молчание.) Они узнают Весть. Всю жизнь я чувствовал, что задыхаюсь, наконец-то они узнают благодаря тебе, благодаря оратору — вы одни меня поняли. Старушка. Я так горжусь тобой… Старик. Скоро начнут собираться гости. Старушка. Неужели? Неужели все сегодня приедут к нам? И ты не будешь больше плакать? Гости станут тебе мамой и папой? (Помолчав.) Сборище может нас утомить, послушай, а нельзя его отменить?
Старик в волнении по-стариковски, а может быть, по-младенчески ковыляет вокруг жены. Он может сделать один-два шага к одной из дверей, затем вернуться и опять ходить по кругу.
Старик. Как устать? Чем утомить? Старушка. У тебя же насморк. Старик. А как же быть? Старушка. По телефону всем позвонить. Пригласим всех на другой день. Старик. Боже мой! Это невозможно. Слишком поздно, они уже выехали. Старушка. До чего же ты неосмотрителен.
Слышен плеск воды, приближается лодка.
Старик. Кажется, уже подъезжают.
Плеск воды слышнее.
…Так и есть, приехали!..
Старушка встает и, прихрамывая, суетливо ходит по сцене.
Старушка. Может, это оратор? Старик. Нет, он приедет попозже, это кто-то еще.
Звонок.
Ох! Старушка. Ах!
Взволнованные старики ковыляют к правой двери в нише. По дороге они разговаривают.
Старик. Идем же… Старушка. Погоди, я не причесалась… (Ковыляя, она приглаживает волосы, одергивает юбку, подтягивает толстые красные чулки.) Старик. Приготовилась бы заранее, знала ведь про наше собрание. Старушка. Надо же, не приоделась… Платье-то как помялось… Старик. Да-а, погладить бы малость… нет, времени не осталось. Не заставляй людей ждать.
Старик впереди, ворчащая старушка сзади скрываются в нише, некоторое время их не видно, слышно, как открывается дверь, кто-то входит, и дверь опять закрывается.
Голос старика. Добро пожаловать, сударыня. Милости просим. Рады вас видеть. Знакомьтесь, моя жена. Голос старушки. Здравствуйте, сударыня, очень рада познакомиться, осторожнее, не помните шляпку, вытащите булавку, будет куда удобнее. Нет, нет, никто не посмеет на нее сесть. Голос старика. Позвольте ваше манто, я его повешу. Нет, нет, здесь оно не запачкается. Голос старушки. Прелестный костюм!.. И блузка в полоску!.. К чаю у нас торт и печенье… Худеете? А у вас фигура на загляденье! Ставьте, пожалуйста, свой зонтик! Голос старика. Пожалуйста, проходите. Старик (спиной к публике). Я всего-навсего скромный служащий…
Старик и старушка одновременно поворачиваются и немного отстраняются, пропуская гостью-невидимку. Они идут к авансцене, беседуя с невидимой дамой, идущей между ними.
Старик (невидимой даме). Надеюсь, добрались благополучно? Старушка (даме). Вы не очень устали? Ну, конечно, немножко… Старик (даме). На воде… Старушка (даме). Вы так любезны… Старик (даме). Сейчас принесу вам стул. (Идет влево и исчезает за дверью № б.) Старушка (даме). Присядьте пока сюда. (Она указывает на один из двух стульев, сама садится на другой справа от невидимой дамы.) Жарко, не правда ли? (Улыбается даме.) Какой прелестный веер. Мой муж…
Старик возвращается, волоча стул, из двери № 7.
…подарил мне такой же… семьдесят три года назад… Он до сих пор цел.
Старик ставит стул слева от невидимой дамы.
Это был его подарок ко дню рождения!..
Старик усаживается на принесенный стул, дама сидит теперь между стариками. Старик, повернувшись к ней лицом, улыбается, потирает руки, покачивает головой, внимательно ее слушая. Так же заинтересованно слушает даму старушка.
Старик. Жизнь никогда не дешевела, сударыня. Старушка (даме). Да, да, так оно и есть, сударыня. (Выслушивает даму.) Да, да, вы правы. Но со временем это изменится… (Другим тоном.) Мой муж, возможно, сам этим займется… Он вам расскажет… Старик (старушке). Тссс, Семирамида, еще не время. (Даме.) Простите, сударыня, что разожгли ваше любопытство. (Выслушивая настояния дамы.) Нет, нет, и не просите, сударыня…
Старики улыбаются, даже смеются, видно, что им очень понравилась рассказанная дамой история. В разговоре пауза, лица стариков становятся бесстрастными.
Старик (даме). Вы совершенно правы… Старушка. Да, да, да… О, нет… Старик (даме). Да, да… вовсе нет… Старушка. Да? Старик. Нет?! Старушка. Подумать, только. Старик (смеясь). Не может быть… Старушка (смеясь). Ну, знаете… (Старику.) Она прелесть! Старик (старушке). Тебя покорила наша гостья? (Даме.) Браво, сударыня! Старушка (даме). Вы совсем не похожи на современную молодежь. Старик (кряхтя, наклоняется, чтобы поднять уроненную невидимой гостьей невидимую вещицу). Нет, нет, не утруждайтесь… я сейчас подниму… вы, однако, проворнее меня. (С трудом распрямляется.) Старушка (старику). Годы есть годы. Старик (даме). Да, старость не радость, оставайтесь всегда молоденькой. Старушка (даме). Он и вправду вам этого желает, у него такое доброе сердце. (Старику.) Душенька!
Длительная пауза. Старики вполоборота к залу, вежливо улыбаясь, смотрят на даму, потом поворачиваются к публике, потом опять смотрят на даму, отвечают улыбками на ее улыбку, затем отвечают на ее вопросы.
Старушка. Как мило, что вы нами интересуетесь. Старик. Мы живем так уединенно. Старушка. Мой муж любит одиночество, но он вовсе не мизантроп. Старик. Есть радио, сижу ужу рыбку, у нас такая прекрасная пристань. Старушка. По воскресеньям причаливают две лодки утром и одна вечером, не говоря уж о частных лодках. Старик (даме). В хорошую погоду видна луна. Старушка (даме). Он ведь по-прежнему несет свою маршальскую службу на лестницах… трудится… в его-то годы мог бы уже и отдохнуть. Старик (даме). В могиле наотдыхаюсь. Старушка (старику). Не говори таких слов, душенька… (Даме.) Еще лет десять тому назад нас навещали родственники, хоть и не много их уцелело, друзья мужа… Старик (даме). Зимой хорошая книга, теплая батарея, воспоминания о прожитой жизни… Старушка (даме). Скромной, но достойной… Два часа в день мой муж посвящает своей Миссии.
Звонок в дверь. За несколько секунд до этого был слышен плеск причаливающей лодки.
Старушка (старику). Еще гость. Открывай быстрее. Старик (даме). Простите, сударыня. На одну секундочку. (Старушке.) Неси поскорее стулья. Старушка (даме). Я ненадолго вас покину, дорогая.
В дверь звонят очень настойчиво.
Старик (он очень дряхл, едва ковыляет, торопясь к правой двери в нише, старушка, прихрамывая, спешит к левой двери в нише). Гость, должно быть, очень важный. (Старик торопится, открывает дверь № 2, появление невидимого полковника, в отдалении может заиграть труба, раздаться марш «Полковник, здравия желаем». Старик, открыв дверь и увидев полковника, застывает по стойке «смирно».) Ох, господин полковник! (Рука старика невольно тянется отдать честь, но так и застывает на полпути.) Добрый вечер, господин полковник! Какая честь для меня… я не ожидал… хотя… все же… словом, бесконечно горжусь, что в моей скромной обители вижу беспримерного героя… (Пожимает невидимую руку, которую протягивает ему невидимый полковник, склоняется в церемонном поклоне, потом выпрямляется.) Однако замечу без ложной скромности, что недостойным этой чести себя не чувствую. Горжусь— да, недостоин — нет!..
Из правой двери появляется старушка, волоча стул.
Старушка. О! Какой мундир! Ордена какие красивые! Кто это, душенька? Старик (старушке). Не видишь разве? Это же полковник. Старушка (старику). Да неужели? Старик (старушке). Пересчитай нашивки. (Полковнику.) Семирамида, моя супруга. (Старушке.) Подойди поближе, я хочу представить тебя господину полковнику.
Старушка подходит, волоча одной рукой стул, делает реверанс, не отпуская стула.
Старик (полковнику). Моя супруга. (Старушке.) Господин полковник. Старушка. Очень приятно, господин полковник. Милости просим. Вы ведь с мужем коллеги, он у меня маршал… Старик (недовольно). На лестнице, только на лестнице… Старушка (невидимый полковник целует руку старушке, это видно по тому, как поднимается ее рука, от волнения старушка роняет стул). Какой обходительный. Сразу видно, птица высокого полета!.. (Поднимает стул; полковнику.) Этот стул для вас. Старик (невидимому полковнику). Соблаговолите пройти…
Все направляются к авансцене, старушка волочит стул.
Старик (полковнику). Да, у нас уже сидит гостья. Сегодня у нас будет множество гостей.
Старушка ставит стул справа.
Старушка (полковнику). Садитесь, прошу вас.
Старик знакомит невидимых гостей.
Старик. Юная дама, друг нашего дома. Старушка. Очень близкий друг. Старик (с теми же жестами). Господин полковник, прославленный воин. Старушка (показывая на стул, который она только что принесла). Садитесь, пожалуйста, на этот стул. Старик (старушке). Да нет, ты же видишь, что господин полковник хочет сесть рядом с дамой!..
Невидимый полковник садится на третий стул слева; невидимая дама предположительно сидит на втором; неслышный разговор завязывается между невидимыми гостями, сидящими рядом; старики остаются стоять позади своих стульев по обеим сторонам от невидимых гостей: старик слева от дамы, старушка справа от полковника.
Старушка (слыша разговор двух гостей). О-о-о, ну это уж слишком! Старик. Пожалуй.
Старик и старушка обмениваются знаками над головами гостей на протяжении всего их разговора, принимающего оборот, который старикам очень не нравится.
Старик (резко). Да, полковник, их еще нет, но они вот-вот придут. Оратор будет говорить вместо меня, он объяснит смысл моей Миссии… Да послушайте же, полковник, эта дама нам друг и у нее есть супруг… Старушка (старику). Кто этот господин? Старик (старушке). Я тебе уже говорил — полковник.
Невидимо происходит что-то неподобающее.
Старушка (старику). Так я и знала! Старик. А зачем же спрашивала? Старушка. Для верности. Полковник, не бросайте окурки на пол! Старик (полковнику). Господин полковник, а господин полковник, что-то я запамятовал — последнюю войну вы выиграли или проиграли? Старушка (невидимой даме). Милочка моя, да не позволяйте ему этого! Старик. Поглядите-ка на меня, господин полковник, разве я не бравый солдат? Как-то раз в бою… Старушка. Он перешел все границы приличия. (Тянет полковника за невидимый рукав.) Слыханное ли дело! Не позволяйте ему так себя вести, милочка. Старик (торопливо рассказывает). Я один уложил их ровно двести девять, мы их звали мухами, потому что была их тьма-тьмущая и больно высоко подпрыгивали, когда улепетывали. Полковник, а полковник, я-то их… с моим-то пылом… Да умерьте ваш пыл, полковник, прошу вас, не надо… Старушка. Мой муж никогда не врет. Конечно, мы пожилые, но это не значит, что нас можно не уважать. Старик (полковнику, с яростью). Герой бывает и вежливым, если он полноценный герой! Старушка (полковнику). Я знаю вас столько лет. Кто бы мог подумать, что вы…
Громкий плеск воды, подплывают лодки.
Старушка (даме). Кто бы мог подумать, что он… В почтенном семействе, у людей с достоинством… Старик (дребезжащим голосом). Я хоть сейчас готов в сражение.
Звонок.
Простите, открою дверь. (Споткнувшись, опрокидывает стул вместе с невидимой дамой.) Ради Бога, простите!.. Старушка (бросаясь на помощь). Не ушиблись?
Старик и старушка помогают невидимой даме подняться. Немножко испачкались, у нас пыльно. Помогают даме отряхнуться. Звонок.
Старик. Извините меня, старика. (Старушке.) Принеси еще один стул. Старушка (невидимкам). Извините, мы сию минуту вернемся.
Старик направляется к двери № 3. Старушка скрывается за дверью № 5.
Старик. Ему хотелось меня рассердить, и я почти рассердился. (Открывает дверь.) Сударыня! Вы?! Глазам не верю! И все же… все же… в самом деле, не ждал, нет, не ждал, но мечтал, всю жизнь мечтал о той, кого все звали «прелестница»! А это ваш муж? Наслышан уж… Вы все та же! Нет, изменились — нос удлинился, расплылся, сразу-то не видно, а приглядишься — обидно: длинный-предлинный… Ну что поделать, вы же не нарочно. А как оно вышло? Понемножку… Бедная крошка! А вы, дружок? Вы ведь позволите мне называть вас другом? Мы знакомы с детства с вашей супругой, она была точь-в-точь такой же, только нос был другой… Поздравляю вас от души, сразу видно — вы очень любимы самим собою.
Из двери № 8 появляется старушка со стулом.
Семирамида, гостей у нас двое, нужен еще один стул.
Старушка ставит стул позади четырех первых, уходит в дверь № 8 и вернется со стулом из двери № 5 как раз тогда, когда старик с гостями подойдет к авансцене. Стул она поставит с принесенными ранее.
Идемте, идемте, я представлю вас нашим гостям. Мадам… нет слов, прелестна, прелестна, так вас и звали — юная прелестница… Сгорбилась? Да, конечно, и все же, сударь, еще хороша. Очки? Зато какие выразительные зрачки! Подумаешь, седина, я уверен, под ней чернота есть и синева… Проходите, садитесь… Что это, сударь, подарок моей жене? (Старушке, которая подходит, таща стул.) Семирамида, ты видишь, она прелестна, прелестна… (Полковнику и первой даме-невидимке.) Юная прелестница, простите, мадам прелестница, ничего смешного я не вижу, познакомьтесь с ее мужем… (Старушке.) Я тебе рассказывал о подруге своего детства, вот ее супруг, познакомься. (Снова полковнику и первой даме.) Ее супруг… Старушка (приседает). Как представителен. Высокого роста, статный. Очень приятно, сударыня. Сударь, очень приятно. (Указывает вновь прибывшим на двух прежних гостей.) Наши друзья… Старик (старушке). Наш друг преподносит тебе подарок.
Старушка берет подарок.
Старушка. Что это, сударь? Цветок? Корзина? Ворона? Перина? Старик (старушке). Да нет же, это картина. Старушка. И до чего красива! Спасибо, сударь… (Первой даме-невидимке.) Взгляните, дорогая. Старик (полковнику). Взгляните, дорогой. Старушка (мужу прелестницы). Ах, доктор, я больна, днем немеет спина, живот пучит, колики мучат, пальцы сводит, печень подводит, помогите мне, доктор. Старик (старушке). Он не доктор, он диктор. Старушка (первой гостье). Если насмотрелись, можете ее повесить. (Старику.) Пусть не доктор, а диктор, все равно он — прелесть. (Диктору.) Не сочтите за комплимент.
Старики стоят позади стульев, почти касаясь друг друга спинами, старик говорит с прелестницей, старушка с ее мужем, иногда они поворачивают голову и говорят с первой дамой и полковником.
Старик (прелестнице). Я так взволнован. И очарован! Вы нисколько не изменились, так сохранились, что вас не узнать… вы иная, вы мне родная… Я вас любил, я вас люблю… Старушка (диктору). О-о, сударь! Ах, сударь! Старик (полковнику). Тут я с вами совершенно согласен. Старушка (диктору). Право же, сударь, будет вам… право же… (Первой гостье.) Спасибо, что картину пристроили, простите, что побеспокоили.
Свет становится ярче по мере прибытия гостей-невидимок.
Старик (прелестнице, жалобно). Но где же прошлогодний снег?[15] Старушка (диктору). Ох, сударь, сударь, ах, сударь, сударь… Старик (прелестнице, показывая на первую гостью). Молоденькая наша приятельница… юная, юная… Старушка (диктору, указывая на полковника). Да, полковник-кавалерист, коллега мужа, но чином младше, мой муж, он — маршал. Старик (прелестнице). Нет, ваши ушки не были так остры!.. Вы ведь помните, моя прелесть? Старушка (диктору, преувеличенно жеманно; вся последующая сцена — гротеск: старушка задирает юбку, показывает дырявую нижнюю, показывает ноги в грубых красных чулках, приоткрывает иссохшую грудь, подбоченивается, откидывает голову, страстно со стонами вздыхает, выпячивает живот, расставляет ноги, хохочет, как старая шлюха; игра ее резко отличается от предыдущей и последующей, открывая в ней то, что обычно глубоко-глубоко запрятано, прекращается этот гротеск резко и неожиданно). Я уже вышла из этого возраста… Неужели вы думаете?.. Старик (прелестнице, приподнято романтически). Дальнее наше детство, свет лунный живой струится, нам бы тогда решиться, были б детьми навечно… Вам хочется вернуть прошлое? Можно ли это? Можно ли? Нет, наверное… Время прогрохотало поездом, морщин пролегли борозды… Неужели вы думали, что пластическая операция способна совершить чудо? (Полковнику.) Я — военный, вы тоже, а военные не стареют, маршалы бессмертны, как боги… (Прелестнице.) Так должно было быть, но — увы! — все потеряно, все утрачено, а могли бы и мы быть счастливы, да, счастливы, очень счастливы; а что, если и под снегом растут цветы? Старушка. Льстец! Противный плутишка! Ха-ха! Я кажусь вам моложе? Вы нахал, но ужасный душка! Старик (прелестнице). Будьте моей Изольдой, а я стану вашим Тристаном. Красоту сохраняет сердце. Правда? Мы могли быть счастливы с вами, прекрасны, бессмертны… бессмертны… Чего же нам недостало? Желания или дерзости? И остались ни с чем, ни с чем… Старушка. Ой, нет! От вас у меня мурашки! Что? И у вас мурашки? Так вы щекотливы или щекотун? Да нет, мне, право, стыдно. (Хихикает.) Нижнюю юбку водно. А вам она нравится? Или эта лучше? Старик. Жалкий марш лестничного маршала. Старушка (поворачивается к первой гостье). О-о, крошка! Готовить ее проще простого, возьмите молочка от бычка, камни в желудке у утки и ложечку фруктового перца. (Диктору.) Какие проворные пальцы… однако-о… Хо-хо-хо!.. Старик (прелестнице). Вернейшая из супруг, Семирамида, заменила мне мать. (Полковнику.) Я уже не раз вам говорил, полковник, истину берут там, где она плохо лежит. (Вновь поворачивается к прелестнице.) Старушка (диктору). И вы серьезно думаете, что детей можно завести в любом возрасте? А какого возраста детишки? Старик (прелестнице). Я спасал себя сам — самоанализ, самодисциплина, самообразование, самоусовершенствование… Старушка (диктору). Никогда еще я своему маршалу не изменяла… осторожней, я чуть не упала… Я всегда была ему мамочкой! (Плачет.) Прапра… (отталкивает диктора) прамамочкой. Ой-ой-ой! Это кричит во мне совесть! Яблочко давно сорвано. Ищите себе другой сад. Не хочу я больше срывать розы бытия…[16] Старик (прелестнице). Возвышенные занятия, моя Миссия…
Старик и старушка подводят диктора и прелестницу к двум другим гостям и усаживают с ними рядом.
Старик и старушка. Садитесь, садитесь.
Старики садятся, он слева, она справа, между ними четыре пустых стула. Следует долгая немая сцена с редкими «да, да» и «нет, нет», которые произносятся очень ритмично, сначала как речитатив, потом все быстрее и быстрее, с покачиванием в такт головой, так старики слушают своих гостей.
Старушка (диктору). Был у нас сынок… нет, он жив и здоров… он ушел из дома… банальная история… печальная история… бросил своих родителей… сердце-то у него золото… давно это было, давно… я его так любила… взял и хлопнул дверью… удерживала его силой… взрослый человек, семь лет… кричала вслед: «Сыночек, сынок!» Ушел, и нет… Старик. Жаль, но нет… детей у нас не было… Мне очень хотелось сына… И жене тоже. Чего мы только не делали. Бедная Семирамида, она была бы такой замечательной матерью… Но, может, оно и к лучшему. Сам я был дурным сыном. Теперь, конечно, раскаиваюсь, чувство вины, угрызения совести, только это нам и остается… Старушка. Что ни день плачет и хнычет: «Вы убиваете птичек! Зачем убиваете птичек?» А мы их видеть не видели, мы мухи живой не обидели. А он, весь в слезах, таял у нас на глазах, только к нему подойдешь, твердит нам: «Всё ложь! Всё ложь! Вы убиваете птичек, курочек и синичек!» И грозит кулачком — маленьким-премаленьким: «Лгали вы мне, — говорит, — обманывали, — говорит, — на улицах мертвые птенчики, младенчики в полотенчике. Слышен повсюду плач. Солнце казнил палач». — «Что ты, сынок, взгляни, прекрасные стоят дни». — «Врете вы все, — кричит, — я вас обожал, — кричит, — я думал, что вы очень добрые… На улицах мертвые птицы, пустые у них глазницы. Вы источаете зло! Мне с вами не повезло!» Я встала перед ним на колени. Отец обливался слезами. Но он убежал. До сих пор его крик в ушах: «В ответе за все вы!» А что это значит — в ответе? Старик. Свою мать я бросил, умерла она под забором, окликала меня с укором: «Сын, сыночек мой, не оставь меня в одиночестве, посиди со мною, сынок, я скоро… настал мой срок…» Но я не мог… Не мог и не подождал, потому что спешил на бал. Пообещал, что вернусь… и скоро… бросил ее у забора… А вернулся, она в могиле, люди добрые похоронили. Я землю царапал ногтями, выл, плакал, просился к маме. Дети всегда жестоки, родители одиноки, их, бедных, дети не любят и нелюбовью губят… За что их так карают? Страшно они умирают… Старушка. Он кричал: «Вас знать не хочу!» Старик. Неприютно жить палачу. Старушка. При муже о сыне ни слова, муж мой нрава другого, он был для родителей счастьем, скончались они в одночасье, когда он с ними прощался, отец за него молился: «Ты был примерный сынок, сынок, помоги тебе Бог!» Старик. Так и вижу, лежит под забором, в руках ландыши и кричит: «Не забудь меня, не забудь!» Плачет и зовет, как звала в детстве: «Зайчик! Не бросай меня здесь одну!» Старушка (диктору). Он нам совсем не пишет, только иногда кое-что стороной услышим, кто видел его там, кто здесь… он жив-здоров… у него уже свои дети есть. Старик (прелестнице). Когда я вернулся, ее уже давным-давно похоронили. (Первой гостье.) Да, да, сударыня, в нашем доме есть кинотеатр, ресторан, ванные… Старушка (полковнику). Конечно, полковник, все из-за того, что… Старик. По сути, так оно и есть.
Бессвязный вязкий разговор, все невпопад.
Старушка. А то… Старик. Так что не я… ему… И вот… Старушка. Словом… Старик. Его и нашим… Старушка. Тому… Старик. Им… Старушка. Или ей? Старик. Им… Старушка. Папильоткам… Ну и… Старик. Их нет… Старушка. Почему? Старик. Да. Старушка. Я… Старик. В общем… Старушка. Короче… Старик (первой гостье). Что вы сказали, сударыня?
Несколько минут старики неподвижно сидят. Звонок.
Старик (взволнованно, и волнение его будет возрастать). Гости! К нам опять гости! Старушка. То-то мне послышался плеск весел. Старик. Пойду открою. А ты принеси стулья. Извините, дамы и господа…
Старик направляется к двери № 7.
Старушка (гостям, сидящим на стульях). Поднимитесь, пожалуйста, на минутку. Скоро придет оратор. Нужно приготовить зал, будет лекция. (Старушка расставляет стулья спинками к залу.) Помогите мне. Да, да, благодарю. Старик (открывает дверь № 7). Добрый вечер, милые дамы, добрый вечер, господа, милости просим.
Несколько гостей очень высокого роста, старик, здороваясь, привстает на цыпочки. Старушка, расставив стулья, направляется к старику.
Старик (знакомит). Моя жена… сударь… моя жена… сударыня… сударыня… моя жена… Старушка. Что за люди, душенька? Старик (старушке). Пойди принеси еще стульев, милочка. Старушка. Не могу же я все разом делать.
Ворча, выходит в дверь № 6, появится из двери № 7, старик с гостями направится к авансцене.
Старик. Осторожнее, не уроните, ваша кинокамера… (Знакомит.) Полковник… Дама… Мадам прелестница… Диктор… Журналисты, они тоже хотят послушать оратора, он появится с минуты на минуту. Потерпите еще чуть-чуть… Побеседуйте пока…
Старушка появляется из двери № 7, таща два стула.
Поторопись со стульями, одного еще не хватает.
Старушка, ворча, отправляется за стулом, исчезает за дверью № 3 и появится из двери № 8.
Старушка. Ну и ладно… что могу, то делаю, не машина же я. Интересно, что за люди такие? (Выходит.) Старик. Садитесь, садитесь, дамы с дамами, господа с господами или как хотите — рядами… Мягче стульев у нас нет… Простите, но это бред… Впрочем, возьмите вот этот. Какие еще пакеты? Позвоните Монике, она у Майо… У Клода изумительное белье… Рацио нету. Выписал газету… зависит от внутренних качеств; помню, в одной передаче… главный — я, без помощников; экономия — главное в обществе, интервью не надо, прошу вас, не сейчас… потом посмотрим, настанет час… стул вам принесут… куда же она запропастилась?
Старушка появляется из двери № 8 со стулом.
Быстрее, Семирамида… Старушка. Делаю что могу. А кто еще к нам пришел? Старик. Я все потом тебе объясню. Старушка. А эта вот кто? Вот эта, душенька? Старик. Не волнуйся… (Полковнику.) Господин полковник, журналистика сродни военному делу… (Старушке.) Окажи внимание нашим дамам, дорогая… (Звонок. Старик торопится к двери № 8.) Подождите секундочку. (Старушке.) Стулья!.. Старушка. Дамы, господа, прошу меня извинить.
Старушка выходит в дверь № 3, старик идет открывать невидимую дверь № 9 в нише, он исчезает в тот миг, когда старушка вновь появляется из двери № 3.
Старик (его не видно). Прошу, прошу, прошу… (Появляется, ведя за собой толпу невидимых гостей и держа за руку маленького ребенка-невидимку.) Серьезная лекция, и вдруг детишки, как бы не соскучиться малышке. Не дай Бог, малютка написает дамам на юбки, раскричится — куда это годится? (Приводит всех на середину сцены, куда направляется старушка со стульями.) Познакомьтесь, моя жена. А это их дети, Семирамида. Старушка. Какие славные! Очень приятно, очень приятно. Старик. Это младший. Старушка. До чего же мил, мил, мил… Старик. Стульев не хватает. Старушка. Ох-ох-ох. (Уходит за стульями в дверь № 2 и появится из двери № 3.) Старик. Малыша посадите на колени… Близнецы на одном стуле уместятся. Осторожнее, стул качается, стулья — собственность домовладельца. Если сломаете, заставит платить штраф, такой злющий — просто страх!..
Старушка ковыляет из последних сил со стулом.
Вы всех не знаете, в первый раз видитесь, но наслышаны. (Старушке.) Семирамида, помоги мне их представить друг другу. Старушка. Кто же они такие? Позвольте вам представить, познакомьтесь… а кто они? Старик. Позвольте мне вам представить, познакомьтесь, позвольте представить, сударь… сударыня… сударь… сударыня… сударь… Старушка (старику). А ты надел подштанники? (Невидимкам.) Сударь… сударыня… сударь…
Звонок.
Старик. Гости!
Звонок.
Старушка. Гости!
Звонок, еще звонок и еще. Старушка со стариком волнуются, стулья повернуты спинками к залу, расположены рядами; старик, вытирая лоб и задыхаясь, бегает от двери к двери, размещая невидимок, старушка, ковыляя, торопливо снует между дверями, принося стулья. На сцене множество невидимок, старики стараются никого не толкнуть, осторожно пробираясь между стульями. Движение может строиться следующим образом: старик в дверь № 4, старушка из двери № 3, затем в дверь № 2, старик открывает дверь № 7, она входит в дверь № 8, выходит из № 6 со стульями, так они обходят всю сцену.
Простите, простите, ох, простите, простите… Старик. Господа, проходите… милые дамы, прошу… Позвольте… Старушка (со стульями). Ох, их слишком много… много… много-премного… ох-ох-ох…
Все громче плеск воды, все звуки слышатся из-за кулис, старики бегают бегом, он встречает гостей, она носит стулья. Звонки звонят не умолкая.
Старик. Этот стол мешает. (Двигает воображаемый стол, старушка ему помогает.) Тесновато, вы уж простите… Старушка (отпуская воображаемый стол). Ты подштанники надел?
Звонок.
Старик. Народу-то! Народу! Стулья! Гости! Проходите, дамы, господа! Семирамида! Быстрее! Тебе помогут!.. Старушка. Простите! Извините… Добрый вечер, сударыня… сударыня… сударь… сударь… стулья… да… стулья…
Звонки все громче и громче, слышно, как пристают лодки. Старик все чаще спотыкается о стулья, не поспевая к дверям.
Старик. Да, да, минуточку… А ты свои подштанники надела? Да, да, да… сию минуточку… терпение… да, да, терпение… Старушка. Чьи-чьи? Твои или мои? Простите, простите… Старик. Сюда, прошу, дамы-господа, прошу, я про… извине… щения… проходите… проходите… про… вожу… места… дорогая… не здесь, пожалуйста… осторожнее… вы, моя дорогая?
Довольно долгое время проходит в молчаливой суете, слышны только звонки, плеск воды. Пик напряженности, когда одновременно открываются и закрываются все двери, громко хлопая. Закрытой остается только главная дверь в глубине. Старики мечутся от одной двери к другой, словно на роликовых коньках. Старик встречает гостей; сопровождая их, делает с ними два-три шага, указывает место и бежит к дверям. Старушка носит стулья, старик со старушкой сталкиваются, но не останавливаются. Потом в глубине сцены старик будет лишь поворачиваться в разные стороны и указывать руками, кому куда идти. Руки двигаются очень быстро. Старуха со стулом в руке, она ставит его, берет, ставит, берет, словно собираясь тоже бегать от двери к двери, но только быстро-быстро вертит головой. Оба старика должны все время держать темп, производя впечатление быстрого движения, и при этом почти не двигаться с места: двигаются руки, корпус, голова, глаза, описывая, возможно, даже небольшие круги. Мало-помалу темп замедляется: звонки становятся тише, двери открываются медленнее, старики двигаются спокойнее. В тот миг, когда двери перестанут хлопать, звонки смолкнут, должно казаться, что сцена полна народу{4}.
Сейчас я найду вам место… потерпите… Семирамида, успокойся… Старушка (разводя руками). Стулья кончились, детка. (Тут же она начинает продавать невидимые программки в полном зале с закрытыми дверями.) Программки, программки, кому программки? Покупайте программки! Старик. Спокойствие, дамы-господа! Сейчас до вас дойдет очередь… Всему свое время, всех усадят. Старушка. Программки! Кому программки?! Минуточку, сударыня, не могу же я обслуживать всех разом, у меня не тридцать рук, я не корова. Сударь, будьте любезны, передайте программку вашей соседке… благодарю вас, получите сдачу… Старик. Я же сказал вам — всех разместят. Не волнуйтесь. Идите сюда, осторожнее… о, дорогой друг… дорогие друзья… Старушка. Программки… рамки… рамки… Старик. Да, мой дорогой, конечно, здесь — продает программки, дурной работы на свете нет… вон она, видите? Ваше место во втором ряду справа… нет, левее… вон там! Старушка. Рамки… рамки… программки!.. Старик. Что я могу еще для вас сделать? Я и так делаю все, что могу! (Другим невидимкам.) Потеснитесь, пожалуйста… вот и местечко, сударыня, оно ваше… подойдите. (Старик поднимается на эстраду, невольно задевая окружающих, проталкивается через толпу.) Дамы-господа, примите почтительнейшие извинения, но сидячих мест больше нет. Старушка (из противоположногоконца зала от двери № 3, что у окна). Покупайте программки! Кому программки? Шоколад, карамель, леденцы! (Теснимая толпой, старушка разбрасывает программки и конфеты над головами невидимок.) Берите, ловите… Старик (стоит на эстраде, он очень взволнован, его толкают, он спускается вниз, поднимается, спускается, толкая кого-то и от кого-то получая толчки). Простите, тысяча извинений… пожалуйста, будьте осторожнее… (Старика усиленно толкают, и он с трудом удерживает равновесие, цепляясь за чьи-то плечи.) Старушка. Кто это? Программки, пожалуйста, программки, шоколад, шоколад… Старик. Дамы и господа, минутку тишины, умоляю вас… одну минуточку… это важно… Кому не хватило стульев, не гудите, как в улье, отойдите в сторонку, не стойте у стенки… вот так… Освободите проходы!.. Старушка (старику, почти крича). Скажи, что за люди, о душенька! Зачем они сюда пришли? Старик. Дамы и господа, оставшиеся без стульев, для своего удобства и удобства окружающих встаньте, пожалуйста, по стенкам, справа и слева. Вы всё услышите, всё увидите, все места очень удобные!
Толкотня. Старик, увлекаемый толпой, огибает почти всю сцену, задерживается возле скамейки у правого окна, тот же путь, только в обратную сторону, проделывает и старушка и останавливается у скамейки возле левого окна.
Старик (в толпе). Не толкайтесь, не толкайтесь. Старушка (в толпе). Не толкайтесь, не толкайтесь. Старик (в толпе). Не толкайтесь, не толкайтесь. Старушка (в толпе). Не толкайтесь, господа, не толкайтесь. Старик (все еще в толпе). Поспокойнее… потише… спокойствие… ну что это такое?.. Старушка (все еще в толпе). Вы же не дикари.
Наконец старики застывают каждый у своего окна, старик слева, возле эстрады, старушка справа. До конца пьесы они останутся на этих местах.
Старушка (окликает старика). Душенька!.. Что это за господа? Зачем они явились сюда? Где ты? Я тебя не вижу… Старик. Семирамида! Ау! Старушка. Я тебя не вижу-у! Старик. Я здесь, возле окна! Слышишь? Старушка. Слышу! Слышу! Вокруг столько разговоров… Но я прекрасно различаю твой голос… Старик. А ты где? Где ты, крошка? Старушка. Я тоже возле окошка. Душенька, мне страшно, тут столько людей, а это опасно… как бы не потеряться… мы так далеко друг от друга… в наши-то годы… мало ли что, душенька… Старик. Вижу! Вижу! Наконец-то я тебя разглядел. Не беспокойся, скоро мы будем вместе, вокруг меня друзья. (Друзьям.) Очень рад пожать вам по-дружески руку. Да-да, я верю в прогресс, не беспрерывный, но беспредельный… Старушка. Понедельник… Погода ужасная. Солнце прекрасное. (В сторону.) И все же мне жутковато. Я-то здесь зачем? (Кричит.) Душенька!
Старики каждый со своего места переговариваются с гостями.
Старик. Чтобы избавить человека от эксплуатации, нужны ассигнации, ассигнации и еще раз ассигнации. Старушка. Душенька!.. (Ее осаждают друзья.) Мой муж? Да. Он все и устроил… в-о-о-о-н он… Боюсь, что вам это не удастся… как тут проберешься?., вон он стоит с друзьями… Старик. Нет, нет… я всегда это говорил… чистой логики нет… чистая логика — это фикция. Старушка. Знаете, есть и счастливчики. Завтракают в самолете, обедают в поезде, ужинают на пароходе, а ночью спят в грузовике и едут; едут, едут… Старик. Вы говорите о достоинстве человека? Постараемся, чтобы у него было хотя бы лицо, а достоинство — это позвоночник. Старушка. Не поскользнитесь в темноте. (Смеется, разговаривая.) Старик. Ваши соотечественники ждут этого от меня. Старушка. Конечно… расскажите мне все. Старик. Я пригласил вас… вам объяснят… индивидуальность, личность — это все та же персона. Старушка. Он так надут, он нас надул. Старик. Я не есть я. Я — нечто иное. Некто в ином — вот я. Старушка. Дети мои, остерегайтесь друг друга. Старик. Просыпаюсь порой, кругом стоит тишина, полная, словно круг или луна в полнолуние. Совершенная. Но нужна осторожность. Миг — и совершенство полноты потревожено. Вокруг дыры, куда оно утекает. Старушка. Призраки, привидения, разные пустяки… Обязанности моего мужа необыкновенно важны и возвышенны… Старик. Простите… я другого мнения… в свой час вы узнаете, что я думаю на этот счет… но не сейчас… Оратор, которого мы все ждем, сообщит вам о нем вместо меня… и о многом другом, что нас так волнует, о чем мы спорим… настанет минута, и… настанет она очень скоро. Старушка (своим друзьям). Чем раньше, тем лучше… Ну конечно. (В сторону.) Никак не оставят нас в покое. Поскорее ушли бы, что ли… Где-то там моя душенька?.. Я что-то не разгляжу… Старик. Да не волнуйтесь вы так. Вы услышите мою Весть. Уже скоро. Старушка (в сторону). Наконец-то я слышу его голос. (Друзьям.) Моего мужа никогда не понимали, но теперь настал его час. Старик. У меня богатейший опыт. В практических сферах жизни, в философии. Я не эгоист, пусть послужит на благо человечеству. Старушка. Ой, вы наступили мне на ногу, а ноги у меня отмороженные. Старик. У меня целая система. (В сторону.) Однако где же оратор? Пора бы ему прийти. (Громко.) Я так настрадался. Старушка. Очень мы настрадались. (В сторону.) Где же оратор? Пора бы ему быть на месте. Старик. Много страданий, много познаний. Старушка. Много страданий, много познаний. Старик. Вы увидите сами, система моя совершенна. Старушка (эхом). Увидите сами, система его совершенна. Старик. Если следовать моим советам… Старушка (эхом). Если следовать его советам… Старик. Мир будет спасен! Старушка (эхом). Спасем мир, и душа его спасется!.. Старик. Истина одна для всех! Старушка (эхом). Истина одна для всех. Старик. Повинуйтесь мне! Старушка (эхом). Повинуйтесь ему. Старик. Я уверен… Старушка (эхом). Он уверен… Старик. Никогда… Старушка (эхом). Никогда…
Из-за кулис слышатся гул и фанфары.
Что это?
Гул нарастает, парадная дверь широко с шумом распахивается, в проеме — пустота, и вдруг ослепительно яркий свет из проема заливает сцену, и столь же ослепительно вспыхивают окна.
Старик. Не смею… не верю… возможно ли? Да! Невероятно… и все же… Да!! Его величество! Император! Сам император!
Ослепительной яркости свет из открытой двери и окон, свет холодный, мертвенный. Гул внезапно смолкает.
Старушка. Душенька! Старик. Всем встать! Его величество государь император! Меня удостоил сам император! Меня! Семирамида! Ты слышишь? Старушка (недоуменно.) Император? Какой император, душенька? (Вдруг понимает.) Ах, государь император! Его императорское величество! (Волнуясь, она без конца приседает.) У нас в гостях… у нас в гостях. Старик (плача). Ваше величество, любимое наше ваше величество, миленькое величественное величество! Какая величественная милость… волшебный сон… Старушка (эхом). Волшебный сон… сон… Старик (невидимой толпе). Дамы, господа, встаньте! С нами наш возлюбленный государь, наш император! Ура! Ура! Ура!
Старик становится на скамейку, приподнимается на цыпочки, чтобы лучше разглядеть императора, старушка делает то же самое.
Старушка. Ура! Ура!
Топот.
Старик. Ваше величество! Вот он я! Вы слышите? Да скажите же его величеству, что я здесь! Ваше величество! Ваше величество! Ваш самый преданный и покорный слуга здесь! Старушка (эхом). Самый преданный и покорный слуга, ваше величество! Старик. Ваш слуга, ваш раб, пес — гав! гав! гав! — вашего величества! Старушка (очень громко). Ав! Ав! Ав! Старик (заламывая руки). Вы видите меня, сир? Взгляните! Я вас вижу, сир! Ваш августейший лик… божественный лоб… Опять не вижу, встали стеной придворные ко мне спиной.. Старушка. Ной… ной… Ау, ваше величество, мы тут! Старик. Ваше величество! Дамы-господа, да усадите же его вон туда! Видите, ваше величество, я один пекусь о вашем здоровье, я ваш преданнейший слуга!.. Старушка (эхом). Преданнейший слуга… Старик. Пропустите меня, господа и дамы. Не будьте упрямы, позвольте пройти… вас такое количество… вы заслонили его величество, я хочу ему поклониться, извольте посторониться… Старушка. Ницца… Ницца… Ницца… Старик. Потеснитесь, дозвольте пройти… (Безнадежно.) Неужели никак не подойти?.. Старушка (эхом). Уйти… уйти… Старик. Сердцем, всем своим существом я у его августейших ног, придворные окружили его, они хотят помешать мне… Они боятся… о!., я понимаю, я все понимаю. Придворные интриги… мне ли не знать их… Меня хотят оттеснить от нашего императорского величества. Старушка. Успокойся, душенька… Его величество видит тебя, оно на тебя смотрит… Его императорское величество подмигнуло мне, оно за нас, его величество… Старик. Посадите императора на лучшее место… возле эстрады… Он должен услышать из уст оратора Весть!.. Старушка (привстает на скамейке на цыпочки и тянет шею, стараясь все разглядеть). Ну наконец-то позаботились об императоре. Старик. Слава Богу! (Императору.) Сир, доверьтесь. Возле вас — друг, он — мой представитель. (Стоя на цыпочках на скамейке.) Дамы, господа, барышни, милые детки, умоляю… Старушка (эхом). Ляю, яю… Старик. Я хотел бы видеть… да раздвиньтесь же… видеть небесный взор, благородный лик, корону, ореол его величества… Сир, снизойдите повернуть ваше сияющее лицо в мою сторону, к вашему нижайшему слуге, нижайшему… Увидел! Увидел… Старушка (эхом). Дел… ел… Старик. Я наверху блаженства… Нет слов, чтобы выразить безмерность моей благодарности. Ваше императорское величество! Солнце!.. В доме, где я маршал… но на служебной лестнице, то есть я хотел сказать, на лестничной службе, то есть на лестничных маршах… я маршал… Старушка (эхом). Да, маршал… Старик. Я горд… горд и смиренен… всю жизнь провел на коленях… маршал вправе быть на марше, а придворный при дворе, свой двор я мел исправно… ваше величество… сир, я бы вас попросил… и у меня могло бы… но в жизни так много злобы… если б я знал, умел, посмел, не осиротел… если бы вы мне… Сир, вы меня простите… Старушка. К государю — в третьем лице! Старик (плаксиво). Ваше императорское величество должно меня извинить. Вы пришли… нас дома могло не быть… надеяться мы не могли… Господи! Сколько же я выстрадал!.. Старушка (эхом, со слезами). Рыдал… рыдал… рыдал… Старик. Я много перестрадал… я мог добиться многого, надейся на вашу подмогу я… но я был один как перст… и если б не вы, мне смерть, Сир, вы — последний оплот… Старушка (эхом). Плот… пилот… пирог… Старик. Друзья мне помогали и… погибали. Небо карало всех, кто верил в мой успех! Старушка (эхом). Смех… смех… смех… Старик. Ненавидеть меня было просто, полюбить — невозможно. Старушка. А вот это неправда, душенька. Я всегда любила тебя и люблю, я была всегда тебе мамочкой! Старик. Враги мои пировали, друзья меня предавали. Старушка (эхом). Давали… давили… язвили… Старик. Мне чинили зло, изгоняли, преследовали. Я взывал к справедливости, но оправдывали всегда моих врагов. Я пытался мстить, но не мог… мне становилось жаль всех… я не умел топтать людей ногами… я был слишком добр… Старушка (эхом). Добр… бобр… добр… бобр… Старик. Я сострадал… Старушка (эхом). Страдал… страдал… Старик. Но они не знали жалости, я колол иголкой, меня били дубинкой, всаживали нож, пулю, ломали кости… Старушка (эхом). Гости… гости… гости… Старик. Меня выселяли, гнали, обирали, убивали… о-о, жалкий коллекционер несчастий, громоотвод катастроф… Старушка (эхом). Дроф… дроф… дроф… Старик. Я хотел отвлечься, ваше величество, увлекся спортом… горным… мне подставили ножку, я сломал руку… хотел взобраться повыше, дали по шее… решил совершать круизы — не дали визы… хотел перейти на другой берег, разобрали мост… Старушка (эхом). Разобрали мост… Старик. Хотел перевалить через Пиренеи, а их развалили! Старушка (эхом). Где теперь Пиренеи? А разве не мог он быть, как все люди, — главным редактором, главным доктором, главным кондуктором, репродуктором, рупором, ритором?.. Старик. Меня никто не замечал. Ни разу в жизни мне не прислали пригласительного билета… я не видел балета… А я, вы послушайте меня, ваше величество… я могу спасти человечество, которое так искалечено. Поверьте, ваше величество, я покончил бы со всеми увечьями, что так мучают нас в последнюю четверть века, мне бы только осуществить мою Миссию, я еще не отчаялся всех спасти, пробил час, моя система… вся беда, что я говорю так нескладно… Старушка (над невидимыми головами). Вот придет оратор, он все скажет, не волнуйся, моя радость. Его императорское величество здесь, оно услышит твою Весть, фортуна на твоей стороне, все к лучшему, все пошло на лад… Старик. Ваше величество простит меня… у вас в приемной всегда толкотня. А я всех ниже в вашем Париже… Дамы и господа, раздвиньтесь капельку, хочу припасть к императорской туфельке, увидеть бриллианты, банты, корону… Государь осчастливил вас из-за моей персоны… Какая немыслимая награда! Ваше величество, я привстал на цыпочки не из гордости, а только чтоб лицезреть вас… припасть к ногам и лобзать прах… Старушка (со слезами). К ногам, к коленкам, кончикам пальчиков… Старик. Я перенес чесотку. Начальник требовал, чтобы я ублажал сынка-сосунка и кобылу-красотку. Меня выперли, дали под зад коленкой, но какое это имеет значение… если… сир… ваше императорское величество… взгляните… вот он я… Старушка (эхом). Я… я… я… Старик. Если ваше императорское величество здесь… Если ваше величество император услышит мое кредо… мой оратор, рупор, он, однако, заставляет ждать его императорское величество… Старушка. Пусть его величество простит его благосклонно, рупор придет с минуты на минуту, он уже звонил по телефону… Старик. Его императорское величество — сама доброта. Он не уйдет не выслушав, не услышав… Старушка (эхом). Слышал, слышал, слышал… Старик. Оратор провозгласит все вместо меня, сам я не умею говорить… нет таланта… у него все бумаги, все документы… Старушка. Наберитесь терпения, сир, умоляю… он сейчас придет. Старик (развлекая императора). Видите ли, государь, прозрение посетило меня давным-давно… Стукнуло сорок лет, и вот оно… я рассказываю и для вас, господа и дамы… Как-то вечером, поужинав с мамой, прежде чем отправиться в кровать, я пошел папочку поцеловать, забрался к нему на колени… был я усатей тюленя, гораздо, гораздо усатее, и грудь была волосатее, на висках у меня седина, а папина голова черна как смоль… были у нас тогда гости, сидели играли в кости, и вдруг как все засмеются… Старушка (эхом). Змеюки… змеюки… змеюки… Старик. Я спросил, что же тут смешного — мальчик-паинька обожает своего папеньку? Мне ответили: пай-мальчики в полночь не ложатся спать. А раз вы еще не бай-бай, значит, не мальчик-пай. Я бы им ни за что не поверил, но они мне «вы» говорили… Старушка (эхом). Вы… Старик. А не «ты». Старушка (зеком). Ты… Старик. Но я сказал: раз не женат, значит, мал. А они взяли меня женили, доказали, что я большой… К счастью, жена стала мне отцом, матерью и женой. Старушка. Оратор придет, ваше величество… Старик. Оратор сейчас придет. Старушка. Придет. Старик. Придет. Старушка. Придет. Старик. Придет. Старушка. Придет. Старик. Придет, придет. Старушка. Придет, придет. Старик. Он идет. Старушка. Он пришел. Старик. Пришел. Старушка. Пришел, он здесь. Старик. Он пришел, он здесь. Старушка. Он пришел, он здесь. Старушка со стариком. Здесь… Старушка. Вот он!
Тишина, ни малейшего движения. Застыв, оба старика смотрят на дверь № 5; неподвижная сцена длится довольно долго, примерно с полминуты; затем дверь начинает медленно, очень медленно приоткрываться; когда она бесшумно распахивается до конца, возникает оратор — реальный персонаж, похожий на художника или поэта XIX века: широкополая черная шляпа, лавальера, плащ, усы, бородка, выражение лица весьма самодовольное; если невидимки должны производить впечатление реального присутствия, то оратор должен казаться нереальным; он пройдет вдоль правой стены мягким шагом к закрытой главной двери, не повернув головы ни направо, ни налево, пройдет мимо старушки, даже не заметив ее, а она тронет его тихонечко за рукав, словно желая убедиться, что он существует, и туг старик скажет.
Старик. Вот он! Старушка (не отрывая взгляда от оратора). Да, это он, он есть на самом деле. Старик (тоже следя глазами за оратором). Да-да, он есть, он — это он, он не видение. Старушка. Не привидение, а провидение.
Старик скрещивает руки на груди, поднимает глаза к небу, на лице его безмолвное ликование. Оратор снимает шляпу, молча кланяется, потом приветствует мушкетерским поклоном, метя пол шляпой, императора, при этом действует он как заводная кукла.
Старик. Ваше величество… позвольте представить… мой оратор… Старушка. Ритор… ротор…
Оратор надевает шляпу, поднимается на эстраду, оглядывает сверху невидимую публику, стулья и застывает в торжественной позе.
Старик (невидимой публике). Можете попросить у него автограф.
Автоматически, молча, оратор раздает автографы. Старик в это время стоит закатив глаза и молитвенно сложив руки; восторженно.
Никому из смертных не дождаться большего. Старушка (эхом). Никому из смертных не дождаться большего. Старик (невидимой толпе). А теперь, с позволения его императорского величества, я обращаюсь к уважаемой публике: дамы и господа, барышни, дети, господин президент республики, дорогие собратья, соратники и соотечественники. Старушка. Милые ребятки-ки хи-хи… Старик. Обращаюсь ко всем без различия возраста, пола, гражданского состояния, общественного и имущественного положения и благодарю всех от всего сердца. Старушка. Благодарю… дарю… Старик. Благодарю и оратора… благодарю вас всех от всего сердца за то, что откликнулись и пришли… тише, господа… Старушка (эхом). Ш-ш-ш… Старик. Я благодарю всех, кто способствовал сегодняшнему мероприятию, организаторов… Старушка. Браво!
Все это время оратор с важным видом стоит, застыв, на эстраде; двигается только его рука, механически расписываясь.
Старик. Домовладельца, архитектора, каменщиков, которые соблаговолили возвести эти стены! Старушка (эхом). Стены… Старик. Всех, кто заложил основы… Потише, дамы и господа… Старушка (эхом). Мы и господа… Старик. Я не забыл и горячо благодарю столяров, которые сделали для нас стулья, искусных мастеров… Старушка (эхом). Дров… Старик. Которые изготовили кресло, так мягко покоящее императора, не расслабляя при этом ясной твердости ума… Благодарю техников, механиков, керамистов… Старушка (эхом). Богемистов… Старик. Бумажников, картонажников, издателей, бездельников, корректоров, редакторов, которым мы обязаны столь изящными программками, я приношу свою искреннюю благодарность солидарности всех людей. Спасибо отечеству, спасибо государству! (Старик поворачивается к императору.) Мудрому кормчему могучего корабля! Спасибо тебе, билетерша!.. Старушка (эхом). Билетерша… хорошая… Старик (указывает на старушку). Подательница шоколада и программок! Старушка (эхом). Граммов… граммов… Старик. Моя супруга, спутница… Семирамида! Старушка (эхом). Пурга… распутица… Аида. (В сторону.) Детка моя ненаглядная, всегда обо мне вспомнит. Старик. Спасибо всем, кто оказывал мне помощь, материальную или моральную, ценную и бесценную, своевременную и своекорыстную, способствуя успеху сегодняшнего празднества! Спасибо, возлюбленный наш государь император! Старушка (эхом). Сударь… пираты… Старик (в полнейшей тишине). Прошу тишины! Ваше величество! Старушка (эхом). Качество… ситчика… Старик. Государь, моей жене и мне — нечего желать, мы довольны вполне. Сегодняшний апофеоз — достойный венец нашей жизни. Мы благодарны судьбе за долгую череду мирных лет, ниспосланных нам небом. Жизнь прожита не зря, миссия осуществилась, человечество услышит Весть о спасении! (Старик указывает на оратора, который, не замечая этого, исполненным достоинства жестом отстраняет тянущихся к нему за автографом). Человечество, вернее, те частицы, которые уцелели. (Указывает на публику.) Вы, дамы и господа, вы, возлюбленные друзья, вы — драгоценные крупицы, благодаря которым может еще завариться недурная кашица! Оратор, дорогой Друг!
Оратор смотрит в другую сторону.
И если я столь долго жил в безвестности, и современники мои пренебрегали вестником, значит, был в этом свой известный смысл.
Старушка всхлипывает.
Но сегодня это уже не имеет значения, сегодня я предоставляю тебе, друг оратор,
Оратор отстраняет еще одного любителя автографов и холодно смотрит в зал.
озарить города и веси светом моей Вести!.. Передай Вселенной мою систему. Не обходи подробности, странности, выпуклости и вогнутости прожитой жизни, расскажи о моих слабостях, смешном пристрастии к сладостям… расскажи все… не забудь о моей Семирамиде.
Старушка всхлипывает.
…Расскажи, как чудесны ее бифштексы, тают во рту ее торты, радуют душу рагу и маринованные огурчики… расскажи о Берри, моей родине… Я надеюсь на тебя, красноречивый оратор… я же со своей верной подругой после долгих трудов во имя прогресса и человечества, которым служил верой и правдой, исчезну, принеся самую великую жертву — бессмысленную и исполненную высокого смысла. Старушка (рыдая). Да, принесем ее, увенчанные славой… Умрем и станем легендой… Именем улицы… Старик (старушке). Верная моя подруга! Ты верила в меня неизменно и преданно целый долгий век, мы никогда не разлучались с тобой, никогда, но сейчас, в час нашей славы, безжалостная толпа разлучила нас…
Он осыпает императора конфетти и серпантином. Звуки фанфар, яркая вспышка света, словно начался салют.
Старушка. Да здравствует император!
Оба разбрасывают конфетти и серпантин, сперва на императора, потом на оратора, потом на пустые стулья.
Старик (бросая). Да здравствует император! Старушка (бросая). Да здравствует император!
Старики с криком «Да здравствует император!» прыгают каждый в свое окно. Тишина. Два вскрика, два всплеска. Яркий свет, льющийся в окна и большую дверь, меркнет, тускнеет; слабо освещенная, как вначале, сцена, черные окна раскрыты, занавески полощутся на ветру. Оратор, неподвижно и бесстрастно наблюдавший двойное самоубийство, наконец-то собирается заговорить: обращаясь к пустым стульям, он дает понять, что он глухонемой, размахивает руками, тщетно стараясь быть понятым, затем начинает мычать: У-У-ГУ-НГЫ-МГЫ-НГЫ… Бессильно опускает руки, но вдруг лицо его светлеет, он поворачивается к доске, берет мел и пишет большими буквами: ДРР ЩЩЛЫМ… ПРДРБР. Поворачивается к публике и тычет в написанное.
Оратор. Мгнм… нмнм… гм… ыгм…
Рассердившись, резким движением он стирает с доски написанное и пишет заново: КРР ГРР НЫРГ. Поворачивается к залу, улыбается, словно не сомневается, что его поняли и он что-то сумел объяснить, указывает, обращаясь к пустым стульям, на надпись и, довольный собой, застывает в неподвижности, затем, не видя ожидаемой реакции, перестает улыбаться, мрачнеет, ждет, вдруг недовольно и резко кланяется, спускается с эстрады и направляется к главной двери в глубине, завершая свое призрачное появление: прежде чем выйти, он еще раз церемонно раскланивается перед стульями и императором. Сцена остается пустой со стульями, эстрадой, паркетом, засыпанными конфетти и серпантином. Дверь в глубине широко распахнута в черноту. Впервые слышатся человеческие голоса, гул невидимой толпы: смех, шепот, «тсс», ироническое покашливание, поначалу потихоньку, потом громче, потом опять стихая. Все это должно длиться довольно долго, чтобы реальная публика, расходясь, унесла с собой это впечатление [17].
Занавес опускается очень медленно.
Перевод М. Кожевниковой
ЖЕРТВЫ ДОЛГА
Псевдодрама{5}
Действующие лица: Шуберт Мадлена Полицейский Никола Фторо Дама Малло с двумя «эль»
Комната, обставленная в мещанском вкусе. Шуберт в кресле у стола читает газету. Мадлена, его жена, сидит на стуле за столом и чинит носки. Оба молчат.Мадлена (отрываясь от штопки). Ну, что пишут? Шуберт. Никаких происшествий, как всегда. Всякие кометы, звездный взрыв в космосе. Ничего особенного. Вот требуют оштрафовать соседей за то, что их собаки гадят на тротуар. Мадлена. И правильно. До чего противно, если нечаянно наступишь. Шуберт. Жильцам первых этажей тоже противно: открывают утром окна, видят эту гадость и целый день не могут в себя прийти. Мадлена. Ну, это уже чрезмерная чувствительность. Теперь все такие нервные. (Пауза.) Шуберт. Ага, вот любопытное сообщение… Мадлена. Какое? Шуберт. Власти решительно рекомендуют жителям больших городов пребывать в полном бездействии. Уверяют, будто это единственное, что поможет нам справиться с экономическим кризисом, идейным разбродом и насущными проблемами. Мадлена. Ну разумеется, раз все остальное уже перепробовали. И без всякого толку. Впрочем, возможно, никто в этом не виноват. Шуберт. Пока они просто дружески предлагают последовать их совету. Но мы-то знаем: сегодня предложения, а завтра распоряжения. Мадлена. Вечно ты торопишься с выводами. Шуберт. Но это всем известно: в один прекрасный день увещевания вдруг оборачиваются предписаниями, становятся суровыми законами. Мадлена. Что делать, друг мой, закон — это необходимость, необходимость — это порядок, порядок — это благо, а благо всегда приятно. Ведь и в самом деле, как приятно повиноваться закону, быть хорошим гражданином, исполнять свой долг, жить с чистой совестью… Шуберт. Ты, пожалуй, права, Мадлена. Закон — это благо… Мадлена. Ну конечно. Шуберт. Да-да. И в бездействии есть особый смысл, причем двоякий: политический и мистический. И двойная выгода. Мадлена. Выходит, можно убить двух зайцев разом. Шуберт. То-то и оно! Мадлена. Ну вот видишь! Шуберт. Впрочем, насколько я помню из школьного курса истории, система всеобщего бездействия уже применялась, и весьма успешно, лет триста назад, и еще раньше, лет пятьсот назад, и еще раньше — веков девятнадцать назад… и в прошлом году тоже… Мадлена. Ничто не ново под луной! Шуберт. …по отношению к населению больших городов, аграрных районов (встает) и даже к целым нациям, таким, например, как наша.
Шуберт садится.
Шуберт (сидя). Правда, при этом придется жертвовать кое-какими правами личности. А это довольно тяжело. Мадлена. Ну, не всегда. Бывают и легкие жертвы. Жертва жертве рознь. Даже если поначалу тяжеловато расстаться с тем, к чему привык, зато, когда дело сделано, о былом и не вспоминаешь. (Пауза.) Шуберт. Вот ты часто ходишь в кино, значит, любишь и театр. Мадлена. Театр все любят. Шуберт. Но ты больше, чем все. Мадлена. Может быть… Шуберт. А что ты думаешь о современном театре, куда, по-твоему, он идет? Мадлена. Опять ты со своим театром. Ты на нем просто помешался. Шуберт. Как по-твоему, можно ли радикально обновить театр? Мадлена. Я уже сказала: ничто не ново под луной. Даже когда луны нет. (Пауза.) Шуберт. Ты права. В самом деле. Все пьесы, с античности до наших дней, все как одна — детективы. Театр — это реализм плюс полицейское следствие. Любая пьеса не что иное, как успешно проведенное расследование. Начинается с загадки и кончается разгадкой в последней сцене. Иногда раньше. Если подумать, можно все разгадать самому. Причем с самого начала. Мадлена. Например, дорогой? Шуберт. Ну, взять хотя бы средневековый миракль о женщине, которую Богородица спасла от костра. Если отбросить сверхъестественное вмешательство, которое и в самом деле ни при чем, останется обыкновенный случай из полицейской хроники: теща нанимает двух бродяг, чтобы убить зятя из каких-то темных побуждений… Мадлена. Если не сказать: непристойных… Шуберт. …является полиция, производит следствие и уличает преступницу. Детектив и реализм, чистой воды. В духе Антуана[18]. Мадлена. Действительно. Шуберт. По сути дела, в театре нет и не может быть никакого прогресса. Мадлена. Какая жалость. Шуберт. Посуди сама: что ни пьеса, то загадка, а где загадка, там детектив. И так было всегда. Мадлена. Ну а классицизм? Шуберт. Детектив высокого класса. И реализм, граничащий с натурализмом… Мадлена. Какие у тебя оригинальные взгляды. И даже, может быть, справедливые. Но все же не мешало бы проконсультироваться с компетентными лицами. Шуберт. Это с кем же? Мадлена. Истинные знатоки встречаются среди любителей кино, преподавателей университета, деятелей сельскохозяйственной академии, норвежцев и ветеринаров… У ветеринаров должно быть особенно много идей. Шуберт. Идеи есть у всех. Чего-чего, а этого добра всегда предостаточно. Нужны дела. Мадлена. Конечно, дела, прежде всего дела. Но все-таки можно было бы спросить и у них. Шуберт. Что ж, спросим. Мадлена. Только надо дать им время подумать. Тебе ведь не к спеху?.. Шуберт. Меня это очень волнует.
Пауза. Мадлена штопает носки. Шуберт читает газету. Слышен стук в дверь. И хотя стучат не к ним, Шуберт поднимает голову.
Мадлена. Это рядом, стучат к консьержке. Вечно ее нет на месте.
Снова стух в дверь привратницкой, которая, по всей вероятности, расположена на той же лестничной площадке.
Голос полицейского. Эй, консьержка! Эй!
Пауза. Снова стук и тот же голос.
Эй! Мадлена. Никогда ее не дозовешься. Прислуга называется! Шуберт. Следовало бы держать консьержек на цепи. Верно, о ком-нибудь из жильцов справляются. Пойти взглянуть? (Встает и снова садится.) Мадлена (спокойно). Это не наше дело. Мы в консьержки не нанимались, друг мой. В обществе у каждого свой круг обязанностей.
Короткая пауза. Шуберт читает газету. Мадлена штопает носки. Раздается робкий стук в правую дверь.
Шуберт. Это уже к нам. Мадлена. Вот теперь можешь пойти и взглянуть, дорогой. Шуберт. Я открою.
Шуберт встает, идет к правой двери и открывает ее. На пороге стоит полицейский. Блондин со слащавой внешностью, очень молод и очень робок. Под мышкой держит папку, одет в светло-коричневый плащ, без шляпы.
Полицейский (стоя на пороге). Добрый вечер, мсье. (Мадлене, которая тоже встала и идет ему навстречу.) Добрый вечер, мадам. Шуберт. Добрый вечер, мсье. (Мадлене.) Это из полиции. Полицейский (делая один-единственный робкий шаг). Прошу извинить меня, господа, я хотел бы кое-что узнать у консьержки, но… ее нет… Мадлена. Естественно. Полицейский. …вы не знаете, где она и когда вернется? О, простите, простите, ради Бога, я… я бы ни за что не постучал к вам, если бы застал консьержку, не посмел бы вас беспокоить… Шуберт. Консьержка должна скоро быть, мсье. Надолго она отлучается только в субботу вечером, когда идет на бал. Она каждую субботу ходит по балам с тех пор, как выдала замуж дочь. Но сегодня-то вторник… Полицейский. Весьма вам благодарен, мсье. Я подожду ее на лестнице. Честь имею откланяться. Нижайшее почтение, мадам. Мадлена (Шуберту). Какой благовоспитанный молодой человек! И до чего учтив. Спроси, что ему надо, может быть, ты сможешь ему помочь. Шуберт (полицейскому). Что вы хотели, мсье, может, я смогу вам помочь? Полицейский. Поверьте, мне так неловко затруднять вас. Мадлена. Вы нас нисколько не затрудняете. Полицейский. Дело самое простое… Мадлена (Шуберту). Пригласи его войти. Шуберт (полицейскому). Заходите, прошу вас. Полицейский. О, право, я… Шуберт. Моя супруга просит вас зайти. Мадлена (полицейскому). Мы с мужем оба вас просим. Полицейский (поглядев на часы). Нет, право, не могу, я уже опаздываю! Мадлена (в сторону). Золотые часы! Шуберт (в сторону). Она заметила, что у него золотые часы! Полицейский. Ну, разве на минутку, если уж вы так настаиваете. На одну минутку, не больше… Раз вы так хотите, я зайду, но только не задерживайте меня… Мадлена. Не беспокойтесь, мы не собираемся держать вас силой… просто зайдите на минутку, передохните. Полицейский. Благодарю вас. Весьма обязан. Вы очень любезны. (Полицейский делает еще шаг вперед, останавливается, распахивает плащ.) Мадлена (Шуберту). Какой прекрасный коричневый костюм, прямо с иголочки! Шуберт (Мадлене). Какие роскошные туфли! Мадлена (Шуберту). Какие чудесные белокурые волосы!
Полицейский проводит рукой по волосам.
А глаза: такие красивые, такие кроткие. Правда? Шуберт (Мадлене). Он вообще очень мил и располагает к себе. В нем есть что-то детское. Мадлена. Что же вы стоите, мсье. Садитесь, пожалуйста. Шуберт. Садитесь, пожалуйста.
Полицейский делает еще шаг вперед. Но не садится.
Полицейский. Вы супруги Шуберт, не так ли? Мадлена. Да, мсье. Полицейский (Шуберту). Вы, кажется, увлекаетесь театром, мсье? Шуберт. Э-э, ну да, очень. Полицейский. Я вас так понимаю! Я тоже люблю театр. Но, к сожалению, редко бываю — недосуг. Шуберт. Да там сейчас и смотреть-то нечего. Полицейский (Мадлене). Господин Шуберт, я полагаю, сторонник политики решительного бездействия… Мадлена (без особого удивления). Да-да. Полицейский (Шуберту). Я имею честь быть вашим единомышленником. (Обоим.) Прошу простить, что злоупотребляю вашим временем. Я только хотел узнать, как правильно пишется фамилия жильцов, прежде занимавших вашу квартиру: Мало — с одним «эль» или Мал-ло — с двумя. Шуберт (не колеблясь). Малло, с двумя «эль». Полицейский (более официальным тоном). Я так и думал.
Уверенным шагом преходит на середину комнаты. Мадлена и Шуберт едва поспевают за ним. Он подходит к столу, берет один из двух стульев, садится. Супруги остаются стоять. Полицейский кладет на стол свою папку, раскрывает ее. Достает из кармана портсигар, берет из него сигарету, не предлагая хозяевам, и не спеша закуривает. Затем закидывает ногу на ногу и выпускает дым.
Значит, вы знали этих Малло? (Говоря это, он смотрит сначала на Мадлену, затем, более пристально, на Шуберта.) Шуберт (с легким интересом). Да нет. Не знал. Полицейский. В таком случае откуда вы знаете, что их фамилия пишется с двумя «эль»? Шуберт (весьма озадаченный). В самом деле… откуда?.. Откуда я знаю?.. Откуда знаю?.. Не знаю, откуда знаю! Мадлена (Шуберту), Ты невозможен! Ответь же. Когда мы вдвоем, ты за словом в карман не лезешь. Рта не закрываешь, говоришь, ворчишь, а то и покрикиваешь. (Полицейскому,) Вы его не знаете, а между прочим, в семейной жизни он вовсе не такой тихоня, как кажется. Полицейский. Приму к сведению. Мадлена (полицейскому). Но я его все-таки люблю. Как-никак он мне муж. (Шуберту.) Так что же, в конце концов, знали мы Малло или нет? Ну? Постарайся вспомнить… Шуберт (пытается вспомнить, но, к вящему неудовольствию Мадлены, безуспешно. Полицейский между тем сохраняет полное спокойствие). Не могу вспомнить! Знал я их или нет — не помню! Полицейский (Мадлене). Снимите с него галстук, мадам, он, верно, его стесняет. Так дело пойдет лучше. Шуберт (полицейскому). Благодарю за заботу, мсье. (Мадлене, которая снимает с него галстук.) Спасибо, Мадлена. Полицейский (Мадлене). Пояс и шнурки снимите тоже!
Мадлена снимает с Шуберта пояс и шнурки.
Шуберт (полицейскому). Действительно, все это меня только стесняло. Вы так любезны, мсье. Полицейский (Шуберту). Ну? Мадлена (Шуберту). Ну? Шуберт. Мне легче дышать. Свободнее думается. Но вспомнить все равно не могу. Полицейский (Шуберту). Послушайте, милейший, вы ведь не ребенок. Мадлена (Шуберту). Послушай, ты ведь не ребенок. Слышишь, что тебе говорят? Просто не знаю, что с тобой делать! Полицейский (Мадлене, раскачиваясь на стуле). Принесите-ка мне кофейку. Мадлена. С удовольствием, мсье. Сейчас приготовлю. Осторожнее, не раскачивайтесь так, упадете. Полицейский (продолжая раскачиваться). Не беспокойтесь, Мадлена. (Шуберту, с двусмысленной улыбкой.) Ведь ее зовут Мадленой? (Мадлене.) Не беспокойтесь, Мадлена, я знаю, что делаю. Кофе покрепче да послаще! Мадлена. Сахару три кусочка? Полицейский. Двенадцать! И большую рюмку кальвадоса. Мадлена. Сию минуточку, мсье.
Мадлена выходит через левую дверь. Вскоре за кулисами раздается треск кофейной мельницы, сначала очень сильный, почти заглушающий голоса полицейского и Шуберта, потом все слабее.
Шуберт. Так, значит, вы тоже убежденный сторонник принципа бездействия в политике и в мистике? Я счастлив, что и в искусстве наши взгляды совпадают: ведь вы поддерживаете театральную революцию! Полицейский. Сейчас не об этом речь. (Достает из кармана фотографию, протягивает ее Шуберту.) Взгляни на карточку, может, это освежит твои воспоминания. Это Малло? (Тон его становится все резче.) Малло или нет?
В это время прожектор должен высветить на левом конце авансцены большой портрет, которого до этого не было видно; на нем изображен мужчина, которого описывает Шуберт, рассматривая фотографию. Актеры, разумеется, не обращают внимания на освещенный портрет, для них он не существует. Портрет можно с успехом заменить актером подходящей внешности, неподвижно стоящим на левом краю авансцены. Можно и совместить одно с другим, так чтобы на одном конце был портрет, а на другом стоял человек.
Шуберт (после паузы, во время которой он разглядывал фотографию). Мужчина лет пятидесяти… так. Давно не бритый… На груди нашивка с номером… пятьдесят восемь тысяч шестьсот четырнадцать… пятьдесят восемь тысяч шестьсот четырнадцать…
Прожектор гаснет, портрет (или актер) исчезает с авансцены.
Полицейский. Ну что, Малло или нет? Я, кажется, тебя не торопил. Шуберт (после новой паузы). Видите ли, господин инспектор, я… Полицейский. Старший инспектор! Шуберт. Простите. Видите ли, господин старший инспектор, я не могу сказать точно. Он тут без галстука, с растерзанным воротником, лицо избитое, опухшее, трудно узнать… Мне все же кажется, да, мне кажется, что это, скорее всего, он… да… наверное, он… Полицейский. Когда ты с ним познакомился и что он тебе говорил? Шуберт (опускаясь в кресло). Извините, господин старший инспектор, я так устал!.. Полицейский. Я спрашиваю, когда ты с ним познакомился и что он тебе говорил? Шуберт. Когда я с ним познакомился? (Обхватывает голову руками.) Что он мне говорил? Что он мне говорил? Что же он мне говорил? Полицейский. Отвечай! Шуберт. Что он мне говорил?.. Что он мне… Но когда же я с ним познакомился?.. Когда я его видел в первый раз? И когда в последний? Полицейский. Это я должен у тебя спрашивать. Шуберт. Где это было? Где?.. Где?.. Дома, когда я был маленьким?.. В саду?.. В школе… В армии… У него на свадьбе?.. Или у меня на свадьбе?.. Может, я был его свидетелем? Или он был моим свидетелем?.. Нет. Полицейский. Так ты не хочешь вспомнить? Шуберт. Не могу… Впрочем, что-то, кажется, припоминаю… это было давно… где-то на морском берегу… темно, сыро… мрачные скалы… (Поворачивается в сторону двери, через которую вышла Мадлена.) Мадлена! Кофе для господина старшего инспектора! Мадлена (входя). Кофе может молоться и без меня. Шуберт. Но все же ты могла бы последить. Полицейский (ударяет кулаком по стулу). Ты очень любезен, но это тебя не касается. Не отвлекайся… Ты говорил: где-то на морском берегу…
Шуберт молчит.
Слышишь меня? Мадлена (со смешанным чувством страха и восхищения перед властным тоном и жестом полицейского). Господин старший инспектор спрашивает, слышишь ли ты его? Отвечай же! Шуберт. Да, мсье. Полицейский. Ну так давай дальше! Шуберт. Да, наверное, там я с ним и познакомился. Кажется, мы оба были очень молоды!..
Мадлена скидывает платье и оказывается в другом, с большим декольте. Еще прежде, когда она только вошла, было заметно, что ее походка и даже голос стали несколько иными, теперь же она изменилась до неузнаваемости, и, когда заговаривает, голос ее звучит мелодично и нежно.
Нет, нет, кажется, это было не там… Полицейский. Не там? Не там! Как вам это понравится! А где же? Верно, в какой-нибудь забегаловке? Пьянчуга! И это женатый человек! Шуберт. Подумав хорошенько, я прихожу к выводу, что Малло с двумя «эль» где-то в глубине… Полицейский. Ну так спускайся туда. Мадлена (мелодично). В глубине, в глубине, в глубине… Шуберт. Там, наверное, темно, ничего не видно. Полицейский. Я буду тебя направлять. А ты только выполняй мои указания. Это нетрудно, просто катись вниз, как с горки. Шуберт. Ну вот, я уже скатился. Полицейский (жестко). Не совсем! Мадлена. Не совсем, милый, не совсем! (Страстно, почти непристойно приникает к Шуберту, обнимает его. Затем опускается рядом с ним на колени и поочередно сгибает и разгибает его ноги.) Ну, шевели же ногами! Осторожно, не поскользнись! Ступеньки скользкие… (Встает.) Держись за перила… Ниже… ниже… если хочешь меня!
Шуберт опирается на руку Мадлены, как на перила, поднимает и опускает ноги, как будто спускается по лестнице. Мадлена убирает свою руку, но Шуберт, не замечая этого, продолжает опираться на воображаемые перила и идет вниз по ступенькам, к Мадлене. Лицо его пылает вожделением. Вдруг он останавливается, вытягивает руку, смотрит на пол, осматривается по сторонам.
Шуберт. Должно быть, здесь. Полицейский. Для начала неплохо. Шуберт. Мадлена! Мадлена (мелодичным голосом, отступая к дивану). Я здесь… я здесь… Спускайся… Еще шажок, еще ступенька… шаг, ступенька… шаг… ступенька… Ку-ку… ку-ку… (Ложится на диван.) Мой милый…
Шуберт идет к ней, нервно смеясь. Мадлена, соблазнительная, улыбающаяся, лежит, протянув руки к Шуберту, и напевает.
Ля-ля, ля-ля, ля-ля…
Шуберт подходит вплотную к дивану и некоторое время стоит, вытянув руки к Мадлене, как будто она еще далеко. Он все так же неестественно смеется, чуть покачивается. Приглушенным голосом зовет Мадлену, между тем как она то напевает, то дразняще посмеивается.
Шуберт. Мадлена! Мадлена! Я иду к тебе… Это я, Мадлена! Это я… иду… уже иду… Полицейский. Прекрасно. Первые ступеньки он одолел. Теперь надо заставить его спуститься еще глубже. Пока все идет хорошо.
Голос полицейского прервал эротическую сцену. Мадлена встает, некоторое время голос ее еще остается мелодичным, но чувственности в нем все меньше, и постепенно он становится таким же, как прежде, а по временам звучит зло и неприятно. Мадлена идет в глубину сцены, приближаясь к полицейскому. Шуберт бессильно роняет руки и с потухшим лицом, медленно, автоматическим шагом вдет к полицейскому.
Полицейский (Шуберту). Ты должен спуститься еще глубже. Мадлена (Шуберту). Еще глубже, дорогой, глубже, глубже. Шуберт. Здесь темно. Полицейский. Думай о Малло, раскрой глаза пошире. Ищи Малло. Шуберт. Я увязаю в грязи. Она прилипает к подошвам… ноги налились свинцом. Боюсь поскользнуться. Полицейский. Не бойся. Иди вниз… Поворачивай направо… теперь налево… Мадлена (Шуберту). Иди, иди, дорогой, иди вниз… Полицейский. Вниз, левой, правой, левой, правой.
Шуберт выполняет все команды полицейского и продолжает шагать с лунатическим видом. В это время Мадлена поворачивается спиной к зрителям, набрасывает на плечи шаль и ссутуливается. Сзади она похожа на старуху. Плечи ее вздрагивают от рыданий.
Опять вперед…
Шуберт поворачивается к Мадлене. Когда он говорит с ней, лицо его искажено болью, руки отчаянно сжаты.
Шуберт. Неужели это ты, Мадлена? Неужели это ты? О Боже! Как это случилось? Этого не может быть! Как же я раньше не замечал… Бедная моя постаревшая куколка, и все-таки это ты. Как ты изменилась! Но когда же это произошло? Как могло случиться?.. Еще утром мы шли по цветущей долине. Сияло солнце. Ты звонко смеялась. Мы были веселы, нарядны. Нас окружали друзья. Все были живы, и ты еще не знала слез. И вдруг пришла зима. Мы остались одни. Где наши близкие? В могилах, что тянутся цепочкой вдоль дороги. Нас разорили, нас ограбили, верните наше счастье! Увы, увы! Увидим ли мы вновь безоблачное небо? Ты состарилась, Мадлена, но я не виноват в этом, клянусь тебе, не виноват. Нет, я не хочу… не верю, любовь не стареет, любовь не умирает. Я не изменился. И ты тоже, ты только притворяешься. Но нет, себя не обмануть, ты постарела, о, как ты постарела! Кто виноват? Моя бедная, маленькая, дряхлая куколка. А как же наша молодость, цветущая долина… Мадлена, девочка моя, хочешь, я куплю тебе новое платье, чудесные украшения, подарю тебе весенние цветы? И морщины исчезнут с твоего лица, ты помолодеешь, правда? Пусть будет так, прошу тебя, ведь я тебя люблю, а любящие не стареют. Я люблю, люблю тебя, сбрось эту маску, стань снова молодой, посмотри на меня. Смейся, девочка моя, надо смеяться, чтобы разгладить морщины. Давай побежим и будем петь. Я молод. Мы оба молоды.
Повернувшись спиной к зрителям, он берет Мадлену за руку, и оба, делая вид, будто бегут, старческими, дрожащими, прерывающимися от рыданий голосами поют.
Шуберт (поет, Мадлена слабо ему подпевает). Весенние ручьи… Зеленые листочки… Волшебный сад утопает в ночи, утопает в грязи… Любовь в ночи, любовь в грязи, в ночи, в грязи… Погибла молодость, не иссякают слезы, струятся, словно воды родника, прозрачного, живого, вечного… В грязи не расцвести цветам… Полицейский. Не то, все не то. Ты теряешь время попусту, забыл о Малло, топчешься на одном месте, медлишь, отлыниваешь от дела, и вообще ты сбился с пути. Если среди всех этих листочков, цветочков и родников не видно Малло, не задерживайся, иди дальше. Время дорого. Малло разгуливает себе Бог знает где. А ты тут застрял и ноешь, оплакиваешь сам себя! Ныть нельзя, задерживаться нельзя!
Когда полицейский начал свою тираду, Мадлена и Шуберт еще пели, мало-помалу они замолкают. Мадлене, которая повернулась лицом к зрителям и выпрямилась. Как только он начинает ныть, так сразу застревает.
Шуберт. Я больше не буду, господин старший инспектор. Полицейский. Посмотрим. Иди вниз, налево, вниз, направо.
Шуберт снова шагает, Мадлена выглядит так же, как до начала предыдущей сцены.
Шуберт. Хватит, господин старший инспектор? Полицейский. Нет. Давай еще глубже. Мадлена. Смелее. Шуберт (с закрытыми глазами, вытянув перед собой руки). Я падаю и поднимаюсь, падаю и поднимаюсь. Полицейский. Подниматься не надо. Мадлена. Подниматься не надо, дорогой. Полицейский. Ищи Малло, Малло с двумя «эль». Ты видишь его? Видишь? До него еще далеко? Мадлена. Мал-ло… Мал-ло-о-о… Шуберт (с закрытыми глазами). Смотрю во все глаза, но ничего не вижу… Полицейский. Необязательно искать глазами. Мадлена. Глубже, дорогой, глубже. Полицейский. Надо его нащупать, схватить; расставь руки и ищи, ищи… Не бойся ничего… Шуберт. Я ищу… Полицейский. Он не опустился еще и на сотню метров ниже уровня моря. Мадлена. Спускайся, дорогой, смелее. Шуберт. Дальше хода нет — туннель засыпан. Полицейский. Не можешь идти — проваливайся на месте. Мадлена. Проваливайся на месте, дорогой. Полицейский. Ты еще можешь говорить? Шуберт. Грязь доходит мне до подбородка. Полицейский. Ничего. Грязь — это не страшно. Окунайся глубже. Малло еще далеко. Мадлена. Окунайся, дорогой, окунайся глубже. Полицейский. Опускай подбородок… так… теперь рот… Мадлена. Рот тоже, дорогой!
Шуберт издает нечленораздельные звуки.
Ну-ну… Окунайся… глубже… еще, еще глубже…
Слышно невнятное бормотание Шуберта.
Полицейский. Теперь нос… Мадлена. Теперь нос…
Шуберт жестами имитирует погружение в воду.
Полицейский. Теперь глаза… Мадлена. Он открыл один глаз под водой. Вон торчит ресница. (Шуберту.) Опусти голову поглубже, дорогой. Полицейский. Кричи громче, он не слышит… Мадлена (Шуберту, изо всех сил). Опусти голову поглубже, дорогой! Поглубже! (Полицейскому.) Он всегда был туговат на ухо. Полицейский. Вон еще торчит кончик уха. Мадлена (кричит Шуберту). Дорогой! Убери ухо! Полицейский (Мадлене). Волосы торчат. Мадлена (Шуберту). У тебя торчат волосы! Ныряй! Греби руками, плыви глубже, лови там в мутной водице Малло, поймай его во что бы то ни стало… Глубже… Глубже… Полицейский. Надо погрузиться в глубину — правильно говорит твоя жена. Там, в самой глубине, найдешь Малло.
Пауза. Шуберт погрузился на изрядную глубину. Он двигается с трудом, закрыв глаза, словно под водой.
Мадлена. Что-то его совсем не слышно. Полицейский. Он перешел звуковой барьер.
Гаснет свет. Какое-то время слышны лишь голоса, самих актеров не видно.
Мадлена. Бедняжечка мой, как я за него боюсь! А вдруг я больше не услышу его родного голоса! Полицейский (Мадлене, резко). Дойдет его голос, никуда не денется. А твои причитания только портят дело.
Зажигается свет. На сцене только Мадлена и полицейский.
Мадлена. Что-то его совсем не видно. Полицейский. Он перешел световой барьер. Мадлена. Что с ним будет?! Что с ним будет?! И зачем только я ввязалась в эту игру! Полицейский. Вернется твое сокровище, может, запоздает немножко, но вернется. Мы еще с ним намучаемся. А ему все нипочем. Мадлена (плача). Зачем я это сделала! Я поступила дурно. Каково-то ему теперь, бедному!.. Полицейский (Мадлене). Замолчи, Мадлена! Не бойся, я с тобой… Мы одни, вдвоем, моя прелесть… (Небрежно обнимает Мадлену и тут же отпускает.) Мадлена (плача). Что мы наделали! Но ведь так было надо? Ведь все это по закону? Полицейский. Ну конечно, конечно, не бойся. Я тоже его люблю. Он вернется. Можешь не беспокоиться. Мадлена. Правда? Полицейский. Вернется, вернется, может быть фигурально, но вернется… Он воскреснет, обретет новую жизнь в нас.
Из-за кулис доносятся стоны.
Слышишь?.. Это он дышит… Мадлена. Да, это он… мое сокровище…
Свет гаснет и туг же вспыхивает. Шуберт идет из одного конца сцены в другой. Мадлены и полицейского нет.
Шуберт. Я вижу… вижу…
Его слова переходят в стоны. Он снова скрывается за кулисами с правой стороны сцены, а с левой стороны появляются Мадлена и полицейский. Они преобразились. Превратились в новых персонажей, между которыми и разыгрывается следующая сцена.
Мадлена. Ты изверг! Ты унижал, мучил меня всю жизнь! Ты растоптал мне душу. Сделал меня старухой! Уничтожил! Я больше не могу так жить! Полицейский. Ну и что же ты собираешься делать? Мадлена. Покончу с собой, отравлюсь. Полицейский. Пожалуйста. Мешать не стану. Мадлена. Еще бы, будешь только рад от меня избавиться! Тебе только того и надо. Я знаю, знаю! Полицейский. Я вовсе не стремлюсь избавиться от тебя во что бы то ни стало. Но действительно, легко обойдусь без тебя. И без твоих истерик. Ты просто зануда. Ничего не смыслишь в жизни, надоедаешь всем своим нытьем. Мадлена (рыдая). Чудовище! Полицейский. Не реви. Ты и так не слишком хороша собой, а когда ревешь, и вовсе смотреть противно!
Снова появляется Шуберт, издали наблюдает разыгрывающуюся сцену, отчаянно ломая руки и бормоча: «Матушка! Отец! Матушка! Отец!»
Мадлена (вне себя). Это уж слишком. С меня хватит! (Достает из-за корсажа флакончик и подносит к губам.) Полицейский. Ты с ума сошла, не смей! Не смей! (Подскакивает к Мадлене, хватает ее за руку, чтобы помешать ей, но вдруг выражение его лица резко меняется, и он сам заставляет ее принять яд.)
Шуберт вскрикивает. Гаснет свет, а когда вспыхивает снова, Шуберт на сцене один.
Шуберт. Мне восемь лет. Мама ведет меня за руку по улице Бломе. Вечером, после бомбежки. Кругом разрушенные дома. Мне страшно. Мамина рука дрожит. Среди руин мелькают какие-то люди. В темноте блестят их глаза.
Бесшумно появляется Мадлена. Подходит к Шуберту. Сейчас она стала его матерью.
Полицейский (появляется на другом конце сцены и медленно, шаг за шагом, подходит к ним). Смотри хорошенько, нет ли среди этих мелькающих фигур Малло… Шуберт. Уже и глаз не видно. Все тонет в темноте, только где-то вдали светится чердачное окошко. Темень такая, что я не вижу даже матушку. Рука ее словно растаяла. Я только слышу ее голос. Полицейский. Наверное, она рассказывает тебе о Малло. Шуберт. Она говорит очень грустным голосом: «Я скоро покину тебя, мой птенчик, тебе придется пролить много слез…» Мадлена (голосом, полным нежности). Мой мальчик, мой птенчик… Шуберт. Я останусь один, во мраке, в грязи… Мадлена. Мой бедный малыш, один, во мраке, в грязи, мой бедный птенчик… Шуберт. Ничего больше нет, только ее дыхание и голос. Лишь он ведет меня. Она говорит… Мадлена. …Надо научиться прощать, это труднее всего… Шуберт. Труднее всего… Мадлена. Труднее всего. Шуберт. Она говорит… Мадлена. …Настанет пора слез, раскаяния, искупления, надо быть добрым, если ты не будешь добрым, не научишься прощать, тебе будет тяжело. Будь ему послушным сыном, поцелуй его, прости ему. (Тихо выходит.)
Шуберт оказывается перед полицейским, который сидит на столе, лицом к зрителям, не двигаясь, обхватив голову руками.
Шуберт. Умолкла. (Полицейскому.) Отец, мы никогда не понимали друг друга. Ты слышишь меня? Я буду тебе послушен, прости нас, как мы простили тебя. Посмотри на меня.
Полицейский неподвижен.
Ты был крут, но, может быть, не со зла. Может, ты был не виноват. Может, ты сам не хотел. Я ненавидел тебя за жестокость, за эгоизм. И не жалел тебя за твои слабости. Ты бил меня. Но я был с тобой еще более жесток, чем ты со мной. Я презирал тебя, а тебе это было больнее любых ударов. Мое презрение тебя и убило. Ведь верно? Понимаешь… Я должен был отомстить за мать… Должен был… Или не должен?.. Должен или не должен?.. Она простила, а я все жаждал отомстить. Но какой толк от мести? Больше всех страдает сам мститель. Ты слышишь меня? Открой лицо. Дай мне руку. Мы могли бы быть добрыми друзьями. Я больше виноват, чем ты. Что из того, что ты был жалким обывателем? Я не должен был презирать тебя. Ведь я и сам не лучше. Кто дал мне право карать тебя?
Полицейский неподвижен.
Заключим мир! Мир! Дай руку! Пойдем к друзьям, выпьем вина. Взгляни, взгляни на меня. Ведь я на тебя похож. Не хочешь… А то увидел бы. Я унаследовал все твои недостатки.
Пауза. Полицейский сидит в той же позе.
Кто сжалится надо мною, безжалостным! Даже если ты простишь меня, я никогда не прощу себя сам!
Полицейский все так же неподвижен, а с противоположного конца сцены начинает звучать его голос, записанный на пластинку. Все время, пока длится следующий монолог, Шуберт стоит, уронив руки, с застывшим лицом, и лишь время от времени жалобно сокрушается.
Голос полицейского. Понимаешь, сынок, я был коммивояжером, я исколесил всю землю. Но к сожалению, с октября по март я бывал только в северном полушарии, а с апреля по ноябрь — только в южном, так что всю жизнь видел одни зимы. Жалованье получал нищенское, вечно мерз, хворал. Неудивительно, что я озлобился. Враги мои процветали и богатели, а друзья разорялись и умирали от дурных болезней и несчастных случаев. На меня сыпались одни неприятности. Добро, которое я делал людям, оборачивалось злом для меня самого, а зло, которое делали мне они, никогда не оборачивалось добром. Потом я был на войне, и мне приказывали стрелять во вражеских солдат, мы убивали их тысячами, истребляли толпы женщин, детей и стариков. А мой родной город со всеми предместьями оказался разрушенным дотла. После войны снова началась нищета, и в конце концов я возненавидел людей. Я строил планы чудовищной мести. Земля и Солнце и все планеты Солнечной системы внушали мне отвращение. Я бы с радостью бежал в другую Вселенную. Но другой нет. Шуберт (не шевелясь). Он не хочет смотреть на меня… Он не хочет говорить со мною… Голос полицейского[19] (он сам по-прежнему сидит не шелохнувшись). Я уже готовился взорвать всю планету, когда родился ты. Твое рождение спасло Землю от гибели. Во всяком случае, благодаря тебе мир не рухнул в моем сердце. Ты примирил меня с человечеством, неразрывно связал меня с его историей, со всеми его бедами, преступлениями, надеждами и разочарованиями. Я трепетал за его судьбу… и за судьбу своего сына. Шуберт (ни он, ни полицейский не меняют положения). Значит, я никогда не узнаю… Голос полицейского. Да, когда ты родился, я почувствовал себя растерянным, беспомощным, счастливым и несчастным одновременно, мое каменное сердце размякло, у меня закружилась голова. Мне стыдно было вспомнить о том, что я не хотел иметь потомства и даже пытался помешать твоему появлению на свет. Подумать только: ты мог не родиться! А я — не стать отцом. При мысли об этом меня охватывал запоздалый ужас и пронзала острая жалость ко всем миллиардам детей, которые могли бы родиться, но не были рождены, к бесчисленным детским личикам, которых никто никогда не приласкает, к ручкам, никогда не узнающим тепла отцовских рук, губкам, которые никогда не залепечут. Мне хотелось заполнить пустоту жизнью. Я пытался представить себе всех этих малюток, которые были уже на пороге жизни, пытался воссоздать в своем воображен™, чтобы можно было хотя бы оплакать их, как настоящих усопших. Шуберт (все так же). Он так и не заговорит!.. Голос полицейского. Но в то же время меня переполняла бурная радость, потому что на свете был ты, мое любимое дитя, слабая звездочка в океане мрака, оазис жизни в мертвой пустыне, — ты существовал, и значит… небытие было побеждено. И я целовал твои глазки, плакал и вздыхал: «Боже мой, Боже!» Я был благодарен Богу, ибо, не будь сотворен мир, не будь череды веков, заполненных историей рода человеческого, не было бы и тебя, моего сына, последнего звена в этой цепочке. Да, тебя бы не было на свете, если бы не бесконечная цепь причин и следствий, в числе которых войны, революции, потопы, геологические, космические, социальные катаклизмы, ибо все сущее есть результат совокупного действия вселенских сил, всё — и ты, мое дитя, тоже. Я благодарил Бога за свою нищету и за все столетия человеческой нищеты, за все беды, радости, обиды, страхи, тревоги, за всю боль — за все то, что привело в итоге к твоему рождению. Оно оправдывало и искупало в моих глазах все людские страдания от начала веков. Из любви к тебе я простил весь мир. Я примирился со всем, коль скоро ничто уже не могло отменить необратимый факт твоего существования в этом огромном мирозданье. И даже когда тебя уже не будет, думалось мне, никто не сможет зачеркнуть твое уже состоявшееся бытие. Ты был, ты навсегда записан в анналы вечности, неизгладимо запечатлен во всеобъемлющей памяти Всевышнего. Шуберт (все так же). Никогда не скажет… никогда… никогда… никогда… Голос полицейского (тон его несколько изменился), А ты… Чем больше я тобой гордился, чем больше любил тебя, тем больше ты меня презирал, обвинял меня во всех грехах, какие я совершил и каких не совершал. Правда, была эта история с твоей несчастной матерью. Но кто может точно знать, что произошло между нами, и судить, кто из нас виноват: она или я… я или она… Шуберт (все так же). Он не станет говорить. Это я виноват, я, я!.. Голос полицейского. Но сколько бы ты ни отрекался от меня, ни краснел за меня, ни оскорблял мою память, неважно. Я не держу на тебя зла. Ненависть моя иссякла. И, вольно или невольно, я все равно прощаю тебя. Ты дал мне больше, чем я дал тебе. И я не хочу, чтобы ты страдал и считал себя виноватым передо мною. Пусть тебя не мучает совесть. Шуберт. Почему ты молчишь, отец, почему не хочешь ответить мне?.. Увы, больше никогда, никогда не услышать мне твоего голоса… Никогда-никогда… никогда-никогда… И никогда не узнать… Полицейский (Шуберту, резко, вставая). Похоже, здесь папеньки делаются такими же чувствительными, как маменьки. Ну, хватит ныть. Все твои проблемы не стоят выеденного яйца. Ищи-ка лучше Малло. Ищи его след. А все остальное выкинь из головы. Нам нужен только Малло. Все остальное — побоку, ясно? Шуберт. Но, господин старший инспектор, я все же хотел бы разобраться, понимаете, как-никак это мои родители… Полицейский. Э-э, известное дело: комплексы! Не морочь мне голову всей этой чепухой! Твоя мамочка, твой папочка, твои сыновьи чувства! Мне на все это плевать, мне платят не за это. Шагай дальше. Шуберт. Еще глубже, господин старший инспектор? (Неуверенно нащупывает ногой ступеньку.) Полицейский. Докладывай обо всем, что увидишь. Шуберт (осторожно, вслепую, переставляя ноги). Ступенька… еще шаг правой… шаг левой… левой… Полицейский (Мадлене, которая появилась справа). Осторожно, мадам, здесь ступеньки… Мадлена. Благодарю вас, друг мой. Я могла бы упасть…
Полицейский и Маддена превращаются в театральных зрителей.
Полицейский (поспешно подходя к Мадлене). Обопритесь на мою руку…
Пока полицейский и Мадлена усаживаются, Шуберт пересекает сцену все тем же неуверенным шагом и скрывается в ее затемненной глубине. Спустя несколько мгновений он появляется на небольшом возвышении на другом конце сцены.
Полицейский (Мадлене). Садитесь. Устраивайтесь поудобнее. Сейчас начнется. Он выступает каждый вечер. Мадлена. Как хорошо, что вы заказали билеты. Полицейский. Садитесь в это кресло. (Ставит рядом два стула.) Мадлена. Спасибо, дорогой. Это хорошие места? Самые лучшие, не правда ли? Отсюда хорошо видно? Хорошо слышно? У вас есть бинокль?
На возвышении появляется Шуберт. Идет как слепой.
Полицейский. Вот он… Мадлена. Он бесподобен! Какая игра! Он правда слепой? Полицейский. Кто его знает. Кажется, да. Мадлена. Бедняжка! Нужно было дать ему две белые палочки: одну поменьше, как у регулировщика, чтобы он сам останавливал машины, а другую побольше, чтобы нащупывать дорогу, как все слепые… (Полицейскому.) Мне снять шляпу? Нет, лучше не надо. Я никому не мешаю. Я ведь не такого высокого роста. Полицейский. Он что-то говорит, помолчите, а то не слышно… Мадлена (полицейскому). Может быть, он еще и глухонемой… Шуберт (на возвышении). Где я? Мадлена (полицейскому). Где он? Полицейский (Мадлене). Не спешите. Он сейчас сам все скажет. Это такая роль. Шуберт. …какие-то улицы… какие-то дороги… какие-то озера… какие-то люди… какие-то ночи… какое-то небо… какой-то мир… Мадлена (полицейскому). Что он говорит? Какое-то — что? Полицейский (Мадлене). Какое-то все не такое. Мадлена (Шуберту, громко). Погромче! Полицейский (Мадлене). Да тише вы! Кричать нельзя. Шуберт. Оживают тени… Мадлена (полицейскому). Как это нельзя? Мы что же, пришли только заплатить деньги и похлопать? (Шуберту, еще громче.) Погромче! Шуберт (все так же). Тоска, осколки сознанья… клочки мирозданья… Мадлена (полицейскому). Что-что? Полицейский (Мадлене). Он говорит: клочки мирозданья… Шуберт. Зияющая бездна… Полицейский (на ухо Мадлене). Зияющая бездна… Мадлена (полицейскому). Он ненормальный. Сумасшедший. Совсем от земли оторвался. Полицейский (Мадлене). Наоборот, провалился сквозь землю. Мадлена (полицейскому). Ах вот оно что! (Восхищенно.) Просто удивительно, как вы сразу во всем разобрались! Шуберт. Я повинуюсь… повинуюсь… Черный свет… Темные звезды… Я болен каким-то неведомым недугом… Мадлена (полицейскому). Как зовут этого актера? Полицейский. Шуберт. Мадлена (полицейскому). Надеюсь, не тот самый, не композитор? Полицейский (Мадлене). Нет, другой. Мадлена (Шуберту, кричит). Погромче! Шуберт. Лицо мое мокро от слез. Где красота? Добро? Любовь? Я все забыл… Мадлена. Очень не вовремя! Здесь нет суфлера! Шуберт (с отчаянием в голосе). Мои игрушки… они все сломаны… разбиты на кусочки… Мои детские игрушечки… Мадлена. Какой-то детский лепет! Полицейский (Мадлене). Вы попали в самую точку. Шуберт. Я стар… Очень стар… Мадлена. По виду не скажешь. Он преувеличивает. Хочет, чтоб его пожалели. Шуберт. Как давно это было… как давно… Мадлена. Про что это он? Полицейский (Мадлене). Вероятно, он вспоминает свое прошлое, дорогая. Мадлена. Что будет, если все начнут вслух вспоминать свое прошлое! У каждого, верно, найдется, что сказать. Но мы воздерживаемся. Из скромности, из стыдливости. Шуберт. Это было давно… Ветер… сильный ветер… (Громко стонет.) Мадлена. Он плачет… Полицейский (Мадлене). Это он изображает вой ветра… в лесу… Шуберт. Ветер гнет деревья, молния вспарывает черное грозовое небо, а на горизонте поднимается гигантский занавес тьмы. Мадлена. Что-что? Шуберт. И за ним, сияющий средь мглы и бури, прекрасный, как тихая греза, волшебный град… Мадлена (полицейскому). Волшебный… что? Полицейский. Град! Град! Мадлена. Я уже поняла. Шуберт. …или сказочный сад, прозрачный источник, каскады струй, огненные цветы на ночном небе… Мадлена. Он, верно, мнит себя поэтом! Какой-то пошлый парнасско-символистско-сюрреалистический бред! Шуберт. …дворец из застывшего пламени, сияющие изваянья, бушующие моря, чертоги света в ночи, в бескрайних снежных пустынях! Мадлена. Да он просто паяц! Бездарь! Что за чушь! Фальшь и чушь! Полицейский (кричит Шуберту, отчасти становясь собою, полицейским, отчасти оставаясь удивленным зрителем). А нет ли там, в чертогах света, его темной фигуры? Или наоборот: нет ли там, в чертогах тьмы, его светлой фигуры? Шуберт. Гаснут огни, тускнеет дворец, все исчезает… Полицейский (Шуберту). Скажи хоть, что ты чувствуешь? Твои впечатления… Ну? Мадлена (полицейскому). Дорогой, по-моему, будет лучше, если остаток вечера мы проведем в кабаре… Шуберт. Блаженство… тоска… боль… покой… Избыток сил… опустошенность… Безнадежная надежда… Я чувствую себя сильным… слабым… чувствую себя плохо… хорошо… но главное, я чувствую себя, себя, себя… Мадлена (полицейскому). Он противоречит сам себе. Полицейский (Шуберту). Дальше, дальше! (Мадлене.) Простите, дорогая, одну минутку… Шуберт (вскрикивает во весь голос). Неужели все исчезнет? Исчезло! Кругом тьма. Осталась лишь одна едва трепещущая искорка… Мадлена (полицейскому). О дорогой, это просто какое-то издевательство. Шуберт. Последняя искорка…
Занавес на малой сцене закрывается.
Мадлена (аплодируя). Примитив. Придумали бы что-нибудь более занимательное… или, по крайней мере, более познавательное, а так — ни то ни се… Полицейский (Шуберту, которого уже скрыл занавес). Нет, нет! Еще не всё! (Мадлене.) Он заблудился. Надо вернуть его на правильный путь. Мадлена. Вызовем его на бис.
Они аплодируют. На миг из-за занавеса высовывается голова Шуберта и снова скрывается.
Полицейский. Шуберт! Шуберт! Шуберт! Пойми же, надо найти Малло! Это вопрос жизни и смерти. Это твой долг. От тебя зависит судьба человечества. Это не так трудно, только вспомни, вспомни, и все опять прояснится. (Мадлене.) Он забрался слишком глубоко. Надо, чтобы он поднялся… немного… в наших глазах. Мадлена (робко, полицейскому). Кажется, он все-таки чувствовал себя неплохо. Полицейский (Шуберту). Ты здесь? Ты здесь?
Маленькая сцена убрана. Шуберт появляется с другой стороны.
Шуберт. Я роюсь в своих воспоминаниях. Полицейский. Перебирай их по порядку. Мадлена (Шуберту). Перебирай по порядку. Слушай, что тебе говорят. Шуберт. Вот я снова выбрался наверх. Полицейский. Отлично, дружище, отлично. Шуберт (Мадлене). Помнишь?.. Полицейский (Мадлене). Видишь, дело сразу пошло на лад. Шуберт. Онфлёр… Синее-синее море… Или нет… Это был Мон-Сен-Мишель… нет… Дьепп… нет, там я никогда не был… Канн… тоже нет… Полицейский. Трувиль, Довиль… Шуберт. Там я тоже никогда не был. Мадлена. Там он тоже никогда не был. Шуберт. Кольюр. Там еще есть такой храм, прямо в море, и кажется, будто его уносит волнами. Мадлена. Это тебя, кажется, куда-то уносит. Полицейский (Мадлене). Оставь при себе свои дурацкие каламбуры. Шуберт. Монбельяром и не пахнет. Полицейский. Точно: его прозвище — Монбельяр. А говоришь, не знаешь его! Мадлена (Шуберту). Вот видишь! Шуберт (удивленно). Надо же, в самом деле… ну и ну… Полицейский. Ищи в других местах. Какие там еще есть города?.. Шуберт. Париж, Палермо, Пиза, Берлин, Нью-Йорк… Полицейский. Равнины, горы… Мадлена. Только гор нам еще и не хватало… Полицейский. Эти… как их там?.. Анды! Ты там бывал? Мадлена (полицейскому). Что вы, мсье, никогда в жизни… Шуберт. Нет, но я достаточно знаком с географией, чтобы… Полицейский. Выдумывать ничего не надо. Надо найти Малло на самом деле. Ну же, дружище, еще чуть-чуть… Мадлена. Еще чуть-чуть. Шуберт (с видимым усилием), Малло с двумя «эль», Монбельяр с одним «эль», с одним «эль», с двумя «эль»…
На противоположном конце сцены возникает высвеченный прожектором портрет того же человека (или тот же актер, на усмотрение режиссера), что появлялся раньше, с номером на груди: в руках у него альпеншток и веревка или лыжи. Несколько секунд спустя он исчезает.
Шуберт. Переплываю океан с морским течением. Высаживаюсь на испанском берегу и направляюсь к французской границе. Таможенники отдают мне честь. Нарбонна, Марсель, целебноводный Экс, Арль, Авиньон со всеми своими святейшими папами, святыми отцами, папскими туфлями и дворцами. Вдали высится Монблан. Мадлена (все время исподтишка старается помешать полицейскому и воспрепятствовать новому путешествию Шуберта), Он окружен дремучим лесом. Полицейский. Ничего, вперед! Шуберт. Вступаю в лес. Как тут свежо! И как темно — разве уже вечер? Мадлена. Это лес такой густой. Полицейский. Не бойся! Шуберт. Я слышу плеск ручьев. Птицы задевают меня крыльями. Трава по пояс. И ни тропинки, ни дорожки. Мадлена, дай мне руку. Полицейский (Мадлене), Не давай ни в коем случае. Мадлена (Шуберту). Не дам, он не велит. Полицейский (Шуберту). Ты должен выбраться сам! Посмотри наверх! Шуберт. Вижу солнце над вершинами деревьев. И синее небо. Быстро иду вперед — и ветви передо мной расступаются. Где-то рядом стучат топорами и насвистывают дровосеки… Мадлена. А может, и не дровосеки… Полицейский (Мадлене). Молчи! Шуберт. Иду на свет. Вышел из лесу… к какой-то розовой деревушке. Мадлена. Мой любимый цвет… Шуберт. С низкими домиками. Полицейский. Кого-нибудь видишь? Шуберт. Еще слишком рано. Все ставни закрыты. На площади пусто. Только колодец и статуя. Я бегу, и мои сабо гулко стучат по камням… Мадлена (пожимая плечами). Ты что, в сабо?! Полицейский. Давай-давай. Ты почти у цели. Вперед! Мадлена. Давай-давай. Вперед-вперед. Шуберт. Вышел на равнину. Она плавно повышается. Иду вперед. И вот я у подножия горы. Полицейский. Дальше. Шуберт. Карабкаюсь вверх. Тропа очень крутая, приходится карабкаться на четвереньках. Лес позади. Деревушка внизу. Лезу выше. Справа озеро. Полицейский. Лезь еще выше. Мадлена. Лезь, говорят тебе, еще выше, если, конечно, можешь. Если можешь! Шуберт. Какая крутизна! Кругом одни камни да колючки. Миновал озеро. Показалось Средиземное море. Полицейский. Еще, еще выше! Лезь! Мадлена. Ну лезь, раз велят! Шуберт. Пробежала лисица, это последний зверь. Пролетела сова. И все, птиц больше нет. Ручьев тоже нет… Не видно никаких следов… Не слышно эха… Обозреваю горизонт. Полицейский. Ну, видишь, видишь его? Шуберт. Нет, никого не вижу. Полицейский. Выше! Лезь! Мадлена. Лезь, раз надо. Шуберт. Цепляюсь за камни, съезжаю вниз, хватаюсь за колючки, ползу на четвереньках… Ой, я не переношу высоты… И почему это я должен все время лезть да лезть… Почему я… почему именно я вечно должен делать что-то невозможное… Мадлена (полицейскому). Это невозможно… Он сам говорит. (Шуберту.) Как тебе не стыдно! Шуберт. Я хочу пить, мне жарко, я весь вспотел. Полицейский. Только не вытирай сейчас лоб рукой. Успеется. Лезь выше. Шуберт. Я так устал… Мадлена. Уже! (Полицейскому.) Поверьте, этого следовало ожидать, господин старший инспектор. Он ни на что не способен. Полицейский (Шуберту). Лентяй! Мадлена (полицейскому). Он всегда был лентяем. Никогда ничего не доводил до конца. Шуберт. Огромное солнце. И негде укрыться. Настоящее пекло. Я задыхаюсь. Я обугливаюсь. Полицейский. Вот видишь, уже горячо, значит, он совсем близко. Мадлена (так, чтобы ее не слышал полицейский). Я могла бы послать вместо тебя кого-нибудь другого… Шуберт. Передо мной еще одна гора. Уходит вверх неприступной стеной. Я выдохся. Полицейский. Выше, выше! Мадлена (очень быстро, то полицейскому, то Шуберту). Выше, выше! Он выдохся. Выше, выше! Не слишком ли он возвысится над нами? Лучше спускайся. Вверх! Вниз! Вверх! Полицейский. Выше! Выше! Мадлена. Вверх! Вниз! Шуберт. Я изодрал руки в кровь. Мадлена (Шуберту). Вверх! Вниз! Полицейский. Цепляйся и лезь. Держись. Шуберт (продолжая восхождение на месте). Как тяжело быть одному на свете! Ах, если бы у меня был сын! Мадлена. Лучше дочь. Мальчишки такие неблагодарные! Полицейский (топая ногой). Это вы обсудите в другой раз! (Шуберту.) Лезь и не теряй времени! Мадлена. Вверх! Вниз! Шуберт. В конце концов, я всего лишь человек. Полицейский. Вот и будь им до конца. Мадлена (Шуберту). Будь им до конца. Шуберт. Нет!.. Не-е-ет!.. У меня ноги подгибаются. Больше не могу! Полицейский. Ну, еще чуть-чуть. Мадлена. Еще чуть-чуть. Крепись. Расслабься. Крепись. Шуберт. Ура! Ура! Наконец-то! Я на вершине!.. Вижу всю землю и все небо, но Монбельяра нигде нет. Мадлена (полицейскому). Он улетит от нас, господин старший инспектор. Полицейский (Шуберту, не слушая Мадлену). Ищи, ищи. Мадлена (Шуберту). Ищи, не ищи, ищи, не ищи. (Полицейскому.) Он улетит. Шуберт. Ничего нет… Ничего больше нет… Ничего… Мадлена. Чего нет? Шуберт. Ничего. Ни города, ни леса, ни равнины, ни моря, ни неба. Я совсем один. Мадлена. Здесь внизу мы были бы вдвоем. Полицейский. Что он там мелет? Что все это значит? А как же Малло?! Монбельяр?! Шуберт. Я бегу, не касаясь земли. Мадлена. Сейчас улетит… Шуберт! Послушай… Шуберт. Я совсем один. Под ногами пустота. Голова перестала кружиться… Я уже не боюсь умереть. Полицейский. Какое мне до всего этого дело! Мадлена. Подумай о нас. Ты пропадешь один. Не бросай нас… Пожалей, пожалей нас! Христа ради! (Изображает нищенку). Мои дети сидят без хлеба. Четверо малюток! Муж в тюрьме. Я сама только что из больницы. Сжальтесь, добрый господин… (Полицейскому.) Чего только я от него не натерпелась!.. Теперь вы меня понимаете, господин старший инспектор? Полицейский (Шуберту.) Прислушайся к голосу страждущего человечества. (В сторону.) Пожалуй, я перестарался, чересчур разогнал его. Теперь он улетит. (Кричит.) Шуберт! Шуберт! Шуберт! Друг мой, дорогой мой друг, мы оба сбились с пути. Мадлена (полицейскому). Я же говорила. Полицейский (дает Мадлене пощечину). Тебя не спрашивают. Мадлена (полицейскому). Простите, господин старший инспектор. Полицейский (Шуберту). Ты должен искать Малло, это твой долг, ты не предашь своих друзей. Малло, Монбельяр, Малло, Монбельяр! Смотри же, смотри! Вот видишь, ты не смотришь. Что ты видишь? Смотри как следует. Слушай! Эй, да отвечай же, отвечай… Мадлена. Да отвечай же.
Чтобы заставить Шуберта вернуться на землю, Мадлена и полицейский сулят ему все мыслимые удовольствия и блага. Сцена становится все более гротескной и под конец доходит до клоунады.
Шуберт. Июньское утро. Воздух легче воздуха. Я сам легче воздуха. Солнце ярче солнца. Я невесом, бесплотен. Материя исчезла. Я лечу… Лечу… Струится дивный свет… Лечу… Мадлена. Он улетает!.. Вот, я же говорила, господин старший инспектор, я говорила… Не хочу, не хочу, чтоб он улетал. (Шуберту.) Тогда уж и меня возьми с собой. Полицейский (Шуберту). Я от тебя не ожидал такого… Эй! Эй! Ах ты скотина!.. Шуберт (обычным голосом, сам себе). Взлететь, что ли… вверх… Или прыгнуть… вниз… только оттолкнуться, раз — и все… Полицейский (в ритме военного марша). Раз-два. Раз-два… Это я научил тебя обращаться с оружием, ты был старшиной в моей роте… Ты же не глухой, ты же не дезертир… Ты не ослушаешься своего командира… Дисциплина прежде всего!.. (Трубит военный сигнал.) Родина-мать зовет! Мадлена (Шуберту). Я всегда была за тебя. Полицейский (Шуберту). Перед тобой вся жизнь, тебя ждет блестящая карьера! Ты будешь адмиралом, генералом, генерал-майором, генерал-актером, генерал-вахтером! Вот приказ о твоем назначении! (Протягивает Шуберту бумагу, но тот и не смотрит. Теперь настала очередь полицейского и Мадлены разыгрывать представление. Мадлене.) Пока он не взлетел, еще не все потеряно… Мадлена (Шуберту, застывшему на месте). Взгляни, вот золото, вот сочные фрукты… Полицейский. Тебе поднесут на блюде головы твоих врагов. Мадлена. Ты сможешь отомстить за все, ты будешь наслаждаться местью! Полицейский. Я сделаю тебя архиепископом… Мадлена. Папой! Полицейский. Ну, если захочешь… (Мадлене.) Вот это уже может и не выйти. (Шуберту.) Ты сможешь начать все сначала, показать, на что ты способен… Шуберт (не глядя на них и не слушая их). Я на самом краю. Сейчас взлечу!
Полицейский и Мадлена вцепляются в Шуберта.
Мадлена. Быстрее! Надо прибавить ему веса! Полицейский (Мадлене). Нечего мне указывать… Мадлена (полицейскому). Может быть, вы тоже отчасти виноваты, господин старший инспектор… Полицейский (Мадлене). Это ты виновата. Ты мне совсем не помогала. Делала все не так, как надо. Мне дали бестолковую помощницу, какую-то безмозглую тупицу… Мадлена (плачет). О господин старший инспектор! Полицейский (Мадлене). Да-да, тупицу! Тупицу, тупицу, тупицу!.. (Резко поворачивается к Шуберту.) Здесь, в долинах, чудная весна, мягкая зима, ясное лето… Мадлена (всхлипывая, полицейскому). Я старалась, господин старший инспектор. Старалась как могла. Полицейский. Идиотка! Тупица! Мадлена. Вы правы, господин старший инспектор. Полицейский (Шуберту, в отчаянии). А награда за поимку Малло! Ну, потеряешь честь, зато получишь деньги, чин и почести!.. Слышишь?.. Что еще надо! Шуберт. Взлечу… Полицейский и Мадлена (вцепившись в Шуберта). Нет! Нет! Нет! Не улетай! Шуберт. Я утопаю в свете. (Сцена погружается в полную темноту.) Я весь пронизан светом. Захватывает дух, захватывает дух… захватывает дух… Голос полицейского (с торжеством). Ну, на этот барьер у него не хватит духу! Голос Мадлены. Осторожней, Шуберт, как бы у тебя не закружилась голова. Голос Шуберта. Я свет! Я лечу! Голос Мадлены. Погасни, свет! Упади на землю! Голос полицейского. Браво, Мадлена! Голос Шуберта (растерянно). О… Я… Мне плохо… я падаю!..
Слышен стон Шуберта. Сцена освещается. Шуберт рухнул в большую корзину для бумаг и застрял в ней. По сторонам от него стоят Мадлена и полицейский. Слева, у стены, сидит на стуле новое лицо — дама.
Полицейский (Шуберту). Ну как, малыш? Шуберт. Где я? Полицейский. Оглянись, шалопай. Шуберт. Как, вы были здесь, господин старший инспектор? Как вам удалось проникнуть в мои воспоминания? Полицейский. Я шел за тобой по пятам… Ксчастью! Мадлена. О да, к счастью! Полицейский (Шуберту). Ну ладно, вылезай! (Тянет его за уши.) Если бы меня тут не было… Если бы я тебя не удержал… Ты очень неустойчивый, легковесный человек, у тебя дырявая память, ты не помнишь о своем долге, не помнишь сам себя, В этом вся беда. И вообще ты ни в чем не знаешь меры: то витаешь в облаках, то проваливаешься сквозь землю. Эта легковесность — для твоих близких тяжкий груз. Мадлена. Еще какой тяжкий! Полицейский (Мадлене). Не люблю, когда меня перебивают! (Шуберту.) Ну да ничего, я тебя вылечу. Это мой прямой долг. Шуберт. Но я ведь, кажется, поднялся на самую вершину. И даже выше. (Начинает вести себя как малое дитя.) Полицейский. Да, но тебя об этом не просили. Шуберт. Ну… я просто заблудился… Я замерз… У меня промокли ноги… Меня знобит. Дайте мне теплый свитер! Мадлена. Его, видите ли, знобит!.. Полицейский (Мадлене). Он просто упрямится. Шуберт (тоном оправдывающегося ребенка). Я не виноват… Я везде искал… Но его нигде не было. Я же не виноват. Вы сами видели. Я честно старался… Мадлена (полицейскому). Он просто слабоумный! И как только я могла выйти за него замуж! Впрочем, в молодости он производил лучшее впечатление. (Шуберту.) Ты только посмотри на себя! (Полицейскому.) Он хитрец, господин главный инспектор, я ведь вам говорила, хитрец и притворщик! Но, с другой стороны, он действительно слишком хилый. Его надо как следует кормить, чтобы он поправился… Полицейский (Шуберту). Ты слабоумный! И как только она могла выйти за тебя замуж! Впрочем, в молодости ты производил лучшее впечатление. Ты только посмотри на себя! Ты хитрец, я же говорил, хитрец и притворщик… Но, с другой стороны, ты действительно слишком хилый, надо, чтобы ты поправился… Шуберт (полицейскому). Мадлена только что сказала точно то же самое. Вы повторили за ней слово в слово, господин старший инспектор. Мадлена (Шуберту). Как ты смеешь так разговаривать с господином старшим инспектором? Полицейский (свирепо). Я тебя научу вежливости! Дурак несчастный! Ничтожество! Мадлена (полицейскому, который ее не слушает). Но я хорошо готовлю, мсье. И он всегда хорошо ел!.. Полицейский (Мадлене). Не вам меня учить, мадам, я врач и знаю свое ремесло. Ваш мальчик то валится с ног, то сбивается с дороги. У него совсем нет сил! Ему необходимо поправиться. Мадлена (Шуберту). Слышишь, что доктор говорит? Хорошо еще, что ты упал на попку! Полицейский (свирепеет все больше). Мы топчемся на месте. Не сдвинулись ни на шаг! Вверх-вниз, вверх-вниз, и так без конца, какой-то порочный круг! Мадлена (полицейскому). Да-да, он ужасно порочный. (Удрученно, недавно появившейся даме, которая сидит молча, сохраняя полную невозмутимость.) Не так ли, мадам? (Шуберту.) И у тебя хватит нахальства утверждать, что ты делаешь все это не из упрямства? Полицейский. Конечно, из упрямства. Ему говоришь «глубже», он упирается, говоришь «вылезай» — зарывается. Говоришь «вверх» — ползет как черепаха, говоришь «вниз» — взлетает как орел. Неуравновешенный тип, ведет себя как ненормальный. Мадлена (Шуберту). Ты ведешь себя как ненормальный, Шуберт. (Хнычет.) Его зовут еще Мариусом, Мареном, Лугастеком, Перпиньяном, Маршкрошем!.. Маршкрош — это его последнее имя. Полицейский. Вот видишь, ты, оказывается, все знаешь! Но нам нужен он сам, этот негодяй. Передохни, и продолжим поиски. Только надо идти прямо к цели, не сворачивая. (Даме.) Не так ли, мадам?
Дама не отвечает, впрочем, никто и не ждет ее ответа.
Ты у меня научишься не терять времени в пути — я сам этим займусь. Мадлена (Шуберту). Маршкрош-то уходит… Тебе за ним не угнаться — он-то времени не теряет, не то что ты, лентяй. Полицейский (Шуберту). Сейчас ты у меня окрепнешь. И научишься слушаться. Мадлена (Шуберту). Надо всегда слушаться.
Полицейский садится и начинает раскачиваться на стуле.
Мадлена (даме). Не так ли, мадам? Полицейский (кричит на Мадлену). Принесешь ты мне когда-нибудь кофе или нет?! Мадлена. Сию минуту, господин старший инспектор! (Направляется к двери.) Полицейский (Шуберту). Нам обоим!
Мадлена уходит на кухню, а через стеклянную дверь в глубине сцены входит Никола. Он высокого роста, у него большая черная борода, опухшие сонные глаза, встрепанные волосы, на нем помятый костюм. Вид у него такой, будто он спал одетым и только что проснулся.
Никола. Привет! Шуберт (тусклым голосом, не выражающим ни радости, ни удивления, ни надежды, ни страха). А, это ты, Никола! Закончил свою поэму?
Полицейский, напротив, явно недоволен появлением гостя, он вздрагивает, тревожно глядит на часы, приподнимается на стуле, затем бросает взгляд на дверь, как будто у него мелькает мысль сбежать.
Шуберт (полицейскому). Это Никола Фторо. Полицейский (ошарашенно). Русский царь? Шуберт (полицейскому). Нет, что вы, мсье. Фторо — это его фамилия. Эф, те, о, эр, о — Фторо. (Безмолвной даме.) Не так ли, мадам? Никола (бурно жестикулируя). Продолжайте, продолжайте! Не прерывайтесь из-за меня! Не стесняйтесь!
Садится поодаль на красный диванчик. Входит, ни на кого не глядя, Мадлена с чашкой кофе. Ставит чашку на буфет, выходит снова. И так раз за разом, все быстрее и быстрее, пока не уставляет чашками весь буфет [20]. Обрадованный поведением Никола, полицейский облегченно вздыхает, лицо его проясняется, и, пока Шуберт и Никола обмениваются следующими репликами, он спокойно играет своей папкой, открывая и закрывая ее.
Шуберт (Никола). Ну что, поэма получилась? Никола (Шуберту). Я спал. Это гораздо полезней для здоровья. (Безмолвной даме.) Не так ли, мадам?
Полицейский, снова впиваясь взглядом в Шуберта, достает из папки лист бумаги, мнет его и бросает на пол. Шуберт порывается поднять его.
Полицейский (холодно). Можешь не поднимать. Ему и там хорошо. (Придвигает лицо вплотную к лицу Шуберта.) Сейчас ты у меня подкрепишься. Значит, ты никак не найдешь Малло, у тебя дырявая память? Ну так мы сейчас заткнем эти дыры! Никола (покашливает). Простите, но… Полицейский (заговорщически подмигивает Никола и говорит сладким голосом). Ничего страшного. (Ему же, подобострастно.) Вы поэт, мсье? (Безмолвной даме.) Поэт! (Вытаскивает из папки огромную корку хлеба и протягивает Шуберту.) Ешь! Шуберт. Я недавно поужинал, господин старший инспектор. Я не голоден и вообще мало ем по вечерам… Полицейский. Ешь! Шуберт. Право же, я не хочу есть! Полицейский. Я приказываю тебе есть, это подкрепит твои силы и заткнет дыры в памяти! Шуберт (жалобно). Ну, если вы велите…
Медленно, охая и кривясь, подносит корку ко рту.
Полицейский. Побыстрее, побыстрее давай, мы и так уже потеряли немало времени. Шуберт (с усилием откусывает кусок черствой корки). Прямо кора, и не иначе как дубовая. (Безмолвной даме.) Не так ли, мадам? Никола (невозмутимо, полицейскому). Что вы думаете о системе всеобщего бездействия, господин старший инспектор? Полицейский (Никола). Одну минуту… Извините. (Шуберту.) Вот и хорошо, это очень полезно. (Никола.) Что касается меня, мое дело — применять эту систему на практике и не рассуждать. Шуберт. Очень жестко! Полицейский (Шуберту). Ну-ну, без разговоров и без гримас, жуй, и все! Никола (полицейскому). Но вы не просто исполнитель, вы еще и мыслящее существо!.. Как тростник…[21] Вы личность. Полицейский. Я только солдат, мсье. Никола (без малейшей иронии). Браво! Шуберт (со стоном). Жестко! Полицейский (Шуберту). Жуй! Шуберт (жалобно, как ребенок, Мадлене, которая все снует в кухню и обратно и таскает чашки на буфет)[22]. Мадлена! Мадле-е-ена!
Мадлена бегает как заведенная, не обращая на него внимания.
Полицейский (Шуберту). Оставь ее в покое. (Командует, по-дирижерски взмахивая рукой.) Работай челюстями! Раз-два! Раз-два! Шуберт (плача). Я больше не могу, господин старший инспектор! Пожалуйста, хватит! (Жует.) Полицейский. Слезами меня не проймешь. Шуберт (не переставая жевать). У меня сломался зуб, идет кровь! Никола. Я много размышлял о будущем театра. Можно ли сделать его иным? Как вы думаете, господин старший инспектор! Полицейский (Шуберту). Живей, живей! (Никола.) Я не совсем понял ваш вопрос. Шуберт. Ай! Полицейский (Шуберту). Жуй!
Мадлена бегает все быстрее.
Никола (полицейскому). Я мечтаю об иррациональном театре. Полицейский (Никола, не спуская глаз с Шуберта). Вы имеете в виду неаристотелевский театр? Никола. Именно. (Безмолвной даме.) Не так ли, мадам? Шуберт. Я исцарапал десны, исколол язык! Никола. Ведь современный театр все еще находится в плену устаревших форм, топчется на уровне психологизма какого-нибудь Поля Бурже[23]. Полицейский. Совершенно верно, на уровне какого-нибудь Поля Бурже! (Шуберту.) Глотай! Никола. Видите ли, друг мой, нынешний театр не соответствует культурному стилю эпохи, самому духу времени. Полицейский (Шуберту). Глотай! Жуй! Никола. Между тем он непременно должен сообразовываться с достижениями новейшей логики, новейшей психологии… психологии конфликтов… Полицейский (Никола). Новейшей психологии, а как же! Шуберт (с набитым ртом). Новейш… пси-хо-ло… Полицейский (Шуберту). Ты знай ешь! (Никола.) Продолжайте, я слушаю. Так вы что же, предлагаете сюрреалистический театр? Никола. Постольку, поскольку сюрреализм приближается к галлюцинации. Полицейский (Никола). К галлюцинации? (Шуберту.) Жуй, глотай! (Никола.) Руководствуясь… (Безмолвной даме.) Не так ли, мадам? (Снова Шуберту.) Руководствуясь нетрадиционной логикой и нетрадиционной психологией, я внесу противоречия в гармонию и гармонию в то, что здравый смысл считает противоречивым. Мы отвергаем стабильность персонажей, единство характеров и утверждаем их постоянную изменчивость, динамическую психологию. Мы все неидентичны сами себе. Личности как таковой не существует. Есть лишь совокупность неких противоречивых или непротиворечивых сил. Советую вам прочитать блестящую книгу Лупаско[24] «Логика и противоречия»… Шуберт (плача). Ой! Ай! (Никола, не переставая жевать и стонать.) Вы от-ри-цаете… даже… единство… Полицейский (Шуберту). Тебя это не касается. Ешь! Ешь! Никола. Характеры теряют форму, пребывают в состоянии аморфного становления. Каждый персонаж более тождествен другому, чем самому себе. (Безмолвной даме.) Не так ли, мадам? Полицейский (Никола). В таком случае он и является… (Шуберту.) Ешь!.. (Никола.)…более другим, чем самим собой? Никола. Разумеется. Я уж не говорю об интриге и о причинных связях. Их мы отрицаем начисто, по крайней мере в их прежней, грубой форме, когда они проявлялись слишком явно и, как все явное, были ложными. Отныне не будет драм или трагедий: трагедия превращается в комедию, комедия— в трагедию, и жизнь становится игрой… да, игрой… Полицейский (Шуберту). Жуй! Глотай! (Никола.) Я не во всем согласен с вами. Хотя и высоко ценю ваши гениальные идеи… (Шуберту.) Ешь! Жуй! Глотай! (Никола.) Лично я остаюсь верным аристотелевой логике и, согласно ей, верным самому себе, своему долгу, своему начальству. Я не верю в абсурд, все имеет свой смысл, все можно объяснить… (Шуберту.) Глотай! (Никола.) …с помощью современной философии и естественных наук. Никола (даме). А как по-вашему, мадам? Полицейский. И потому, мсье, я упорно шаг за шагом продвигаюсь к цели, отметая все помехи… Я хочу найти Малло с двумя «эль». (Шуберту.) Ну давай поживее, кусай еще, жуй, глотай!
Мадлена с чашками носится в бешеном темпе.
Никола. Что ж, вы вправе иметь свое мнение. Я не в претензии. Полицейский (Шуберту). Живо! Глотай! Никола. Однако, я вижу, вы весьма осведомлены в этих вещах, и это делает вам честь. Шуберт. Мадле-е-ена! Мадле-е-ена! (В полном отчаянии взывает с набитым до отказа ртом.) Полицейский (Никола). Да, это входит в круг моих личных интересов. Эти проблемы чрезвычайно увлекают меня… Но долго думать на такие темы я не могу — это слишком утомительно… Шуберт (откусывает еще один большой кусок корки). Ой! Полицейский. Глотай! Шуберт (с полным ртом). Я стараюсь… Изо всех… сил… Но… больше… не могу… Никола (полицейскому, упорно пытающемуся заставить Шуберта есть). А вы не думали о возможности реализовать эти идеи нового театра на практике? Полицейский (Шуберту). Нет, можешь! Просто не хочешь! Другие же могут! Захочешь, так сможешь! (Никола.) Простите, мсье, но в данный момент я не могу продолжить нашу беседу… не имею права, я нахожусь при исполнении служебных обязанностей! Шуберт. Можно я буду глотать понемножку? Полицейский. Можно, только поживее, поживее, поживее! (Никола.) Мы еще вернемся к этому разговору. Шуберт (с набитым ртом, ревет, словно превратился в двухлетнего младенца). Ма-ма-мадле-е-ена!!! Полицейский. Нечего, нечего! Замолчи! Глотай! (Никола, который погрузился в собственные мысли и не слушает его.) Он страдает отсутствием аппетита. (Шуберту.) Глотай! Шуберт (вытирает пот со лба, его мутит). Ма-а-дле-е-ена! Полицейский (пронзительно вопит). Эй, смотри, чтоб тебя не вырвало, это не поможет — все равно заставлю все снова проглотить! Шуберт (зажимая уши). Не так громко, а то я оглохну, господин инспектор… Полицейский (не понижая голоса). Старший! Шуберт (с набитым ртом, зажимая уши). Старший!!! Полицейский. Ну-ка убери руки и слушай меня внимательно! Не затыкай уши, не то я тебе их заткну оплеухами! (Силой опускает ему руки.) Никола (который начинает следить за происходящим со все возрастающим интересом). Но… но… что вы делаете? Что это вы такое делаете? Полицейский (Шуберту), Жуй! Глотай! Жуй! Глотай! Жуй! Глотай! Жуй! Глотай! Жуй! Глотай! Шуберт (с набитым ртом, бормочет что-то невнятное), Как ха-а-ы хы-хамов! И-эвы-лени! Полицейский (Шуберту), Что-что? Шуберт (выплюнул в руку все, что было у него во рту). Помните, как сказал поэт? Как хороши колонны храмов и девичьи колени! Никола (не вставая с места, полицейскому; тот занят своим делом и не слышит его). Да что вы делаете с бедным ребенком? Полицейский (Шуберту). Вместо того чтобы глотать, болтаешь глупости! Когда я ем, я глух и нем! Посмотрите на этого негодника! Как тебе не стыдно! Что за дети пошли! А ну глотай все сразу! Живо! Шуберт. Хорошо, господин старший инспектор. (Снова запихивает все в рот и, глядя в глаза полицейскому, с трудом выговаривает.) Все! Проглотил! Полицейский. Теперь еще. (Засовывает ему в рот еще кусок хлеба.) Жуй! Глотай! Шуберт (безуспешно пытаясь разжевать и проглотить). …эрэво!.. эзо! Полицейский. Что? Никола (полицейскому). Он говорит, что это дерево, железо. Это невозможно съесть. Разве вы сами не видите? (Безмолвной даме.) Не так ли, мадам? Полицейский (Шуберту). Это одно упрямство! Мадлена (приносит последнюю партию чашек, ставит их на стол. На чашки никто и не взглянет, никто к ним не притронется). Кофе подан! Пожалуйте чаю! Никола (полицейскому). Нет, бедный малыш старается! Но это дерево, это железо застряло у него в горле! Мадлена (Никола). Он не нуждается в защитниках. Если захочет, прекрасно может постоять за себя сам.
Шуберт пытается крикнуть, но не может, он задыхается.
Полицейский (Шуберту). Живо, живо, тебе говорят, глотай все сразу!
Потеряв терпение, полицейский подходит к Шуберту, открывает ему рот и, засучив предварительно рукав, собирается запихнуть кулак ему в горло. Вдруг Никола встает, подскакивает к полицейскому и становится перед ним молча, с угрожающим видом.
Мадлена. Что это он?
Полицейский выпускает голову Шуберта: тот, сидя на своем стуле, молча, не переставая жевать, наблюдает за происходящим. Полицейский, ошеломленный вмешательством Никола, говорит ему внезапно изменившимся, дрожащим голосом, чуть не плача.
Полицейский. Я исполняю свой долг, господин Никола Фторо! Не думайте, что я просто пристаю к нему! Я должен выяснить, где скрывается Малло с двумя «эль». И это единственный способ. У меня нет выбора. А что до вашего друга, который, надеюсь, станет когда-нибудь и моим другом… (Указывает на Шуберта; тот сидит, выпучив глаза, раздув щеки, и жует, жует.) Поверьте, я его чту и уважаю, да-да, искренне чту и уважаю! И вас тоже, дорогой господин Никола Фторо. Я столько слышал о ваших сочинениях, о вас самих… Мадлена (Никола). Господин старший инспектор чтит и уважает тебя, Никола. Никола (полицейскому). Вы лжете! Полицейский и Мадлена. О!!! Никола (полицейскому). Нет у меня никаких сочинений! Я только выдавал себя за поэта, а сам сроду ничего не писал! Полицейский (огорошенно). Э-э… как же так, мсье, как же… вы писали… вы пишете! (Не помня себя.) Надо писать! Никола. Вовсе не надо. На это есть Ионеско да Ионеско, и хватит с нас! Полицейский. Но… всегда найдется, о чем писать… (Дрожит от ужаса. Безмолвной даме.) Не так ли, мадам? Дама. Нет! Не так! Не мадам, а мадемуазель! Мадлена (Никола). Господин старший инспектор прав. Всегда найдется, о чем написать. Современная цивилизация рушится, вот и будь летописцем ее крушения! Никола (орет). А мне плевать!.. Полицейский (дрожа все сильнее). Что вы, что вы, мсье! Никола (презрительно смеется в лицо полицейскому). Мне плевать, уважаете вы меня или нет! (Хватает полицейского за лацканы.) Вы сумасшедший, ясно?
Шуберт с героическим упорством жует и глотает. Он тоже напуган происходящим. У него виноватый вид, набитый рот не дает ему вмешаться.
Мадлена. Ну, будет, будет… Полицейский (уязвленный, вне себя от возмущения, падает на стул, но тут же вскакивает, отбрасывая стул, так что он разлетается на кусочки). Я? Я?! Мадлена. Выпейте кофе! Шуберт (кричит). Ура! Я проглотил! Все в порядке!
Никола и полицейский продолжают спорить, не обращая внимания на Шуберта.
Никола (полицейскому). Да-да, вы, именно вы! Полицейский (заливается слезами). О! Это слишком! (Сквозь слезы, Мадлене, которая расставляет чашки на столе.) Спасибо за кофе, Мадлена! (Снова плачет.) Это жестоко, несправедливо! Шуберт. Ура! Я проглотил! Все в порядке! (Поднялся и радостно, вприпрыжку бегает по сцене.) Мадлена (Никола, который принимает все более и более зловещий вид). Не забывай о законах гостеприимства! Полицейский (Никола, оправдываясь). Я не навязывался вашему другу!.. Клянусь!.. Он сам силком заставил меня войти… Я не хотел, я спешил… Но они оба настаивали… Мадлена (Никола). Это правда! Шуберт (бегает и кричит). Ура! Я проглотил, все в порядке, теперь мне можно поиграть! Никола (холодно и неумолимо). Какая разница? Меня возмущает вовсе не это!
Это сказано таким тоном, что Шуберт прекращает прыгать. Он, Мадлена и полицейский замирают, устремив взор на Никола, как на судью, который должен вынести приговор.
Полицейский (еле ворочая языком). Но из-за чего же тогда, Боже мой, из-за чего? Я вам ничего не сделал! Шуберт. Никогда не думал, что ты можешь так рассвирепеть, Никола. Мадлена (полицейскому, с жалостью). Бедняжка. Как блестят твои глаза — весь ужас мира полыхает в них… Как побелело, как исказилось твое милое личико… Бедный, бедный мальчик!.. Полицейский (обезумев). Я поблагодарил вас за кофе, Мадлена? (Никола.) Я только слепое орудие, мсье, солдат, связанный присягой, служебным долгом, но я воспитанный, честный, порядочный человек, я порядочный, мсье!.. И мне только двадцать лет!.. Никола (безжалостно). А мне сорок пять, ну и что из этого? Шуберт (считает на пальцах). В два с лишним раза…
Никола вытаскивает здоровенный нож.
Мадлена. Никола, опомнись!.. Полицейский. Господи, Господи… (Стучит зубами.) Шуберт. Он дрожит, ему, наверное, холодно. Полицейский. Да, мне что-то холодно… Ай-ай!
Никола принимается ходить вокруг него кругами и размахивать ножом.
Мадлена. Странно, отопление прекрасно работает… Никола, не глупи!..
Полицейский, перепуганный насмерть, издает непристойные звуки.
Шуберт (громко). Фу! (Полицейскому.) Делать в штанишки некрасиво! Мадлена (Шуберту). Ты что, не понимаешь, в каком он состоянии? Поставь себя на его место! (Смотрит на Никола.) Боже, какой взгляд! Он вовсе не шутит!
Никола заносит нож.
Полицейский. Помогите! Мадлена (ни она, ни Шуберт не двигаются с места). Никола, ты стал весь красный, смотри, как бы тебя не хватил удар! Образумься, Никола, ты ему в отцы годишься!
Никола ударяет полицейского ножом, тот оседает, медленно вращаясь на месте.
Шуберт. Поздно, уже ничего не сделаешь… Полицейский (оседая). Да здравствует белая раса!
Никола, с перекошенным ртом, наносит второй удар.
Полицейский (так же медленно оседая). Я хотел бы… получить орден, посмертно… Мадлена (полицейскому). Получишь, дружок, обязательно. Я позвоню президенту…
Никола наносит третий удар.
Мадлена (вскакивает). Да прекрати наконец!.. Шуберт (укоризненно). Никола! Полицейский (в последний раз поворачивается вокруг своей оси, между тем как Никола застыл с ножом в руке). Я… жертва… долга!.. (Падает, истекая кровью.) Мадлена (бросается к полицейскому, удостоверяется, что он мертв). Бедняжка, прямо в сердце! (Шуберту и Никола.) Помогите же мне! (Никола бросает окровавленный нож, и они втроем, на виду у безмолвной дамы, переносят тело на диван.) Как ужасно, что это произошло в нашем доме! (Тело покоится на диване. Мадлена приподнимает голову полицейского и подкладывает под нее подушечку.) Вот так! Бедное дитя… (Никола.) Нам будет очень не хватать этого юноши. Зачем ты убил его?.. Ох уж эта твоя безумная ненависть к полиции… Что теперь делать? Кто нам поможет найти Малло? Кто? Ну кто? Никола. Кажется, я действительно поспешил… Мадлена. Ага, теперь ты признаешь, вот все вы такие… Шуберт. Да, все мы такие… Мадлена. Сделаете что-нибудь сгоряча, а потом жалеете!.. Мы должны найти Малло! Его жертва (показывает на полицейского) не должна оказаться напрасной! Несчастная жертва долга! Никола. Я найду вам Малло. Мадлена. Браво, Никола! Никола (телу полицейского). Нет. Твоя жертва будет не напрасной. (Шуберту.) А ты мне поможешь. Шуберт. Ну уж нет! Опять все сначала! Мадлена (Шуберту). Неужели у тебя совсем нет сердца? Надо же сделать для него хоть что-нибудь! (Показывает на полицейского.) Шуберт (хнычет и топает ногой, как капризный ребенок). Нет! Не хочу! Не хочу-у! Мадлена. Не люблю непослушных мужей! Как ты себя ведешь?! Бессовестный!
Шуберт продолжает плакать, но уже с покорным видом.
Никола (садится на место полицейского и протягивает Шуберту кусок хлеба). На, ешь, ешь, чтобы заткнуть дыры в памяти! Шуберт. Я не голоден. Мадлена. Ты опять? Слушайся Никола! Шуберт (берет хлеб, кусает). Бо-о-ольно! Никола (голосом полицейского). Без разговоров! Жуй! Глотай! Жуй! Глотай! Шуберт (с набитым ртом). Я тоже жертва долга! Никола. И я! Мадлена. Мы все жертвы долга! (Шуберту.) Жуй! Глотай! Никола. Жуй! Глотай! Мадлена (Шуберту и Никола). Жуйте! Глотайте! Жуйте! Шуберт (не переставая жевать, Мадлене и Никола). Глотайте! Жуйте! Глотайте! Никола (Шуберту и Мадлене). Жуйте! Глотайте! Жуйте! Дама (подходит к ним). Глотайте! Жуйте! Глотайте! Жуйте! Глотайте!
Под возгласы «Жуйт!», «Глотайт!» опускается занавес. [25]
Перевод Н. Мавлевич
ЭТЮД ДЛЯ ЧЕТВЕРЫХ
{6} Действующее лица: Дюпон, одет как Дюран Дюран, одет как Дюпон Мартен, одет точно так же Прекрасная дама — в момент появления на сцене она, по меньшей мере, в шляпе, в накидке или меховой шубе, в перчатках, туфлях, платье и т. д., с сумочкой в руках.Слева — дверь. Посередине сцены стоит стол. На столе — три горшка с цветами. Где-нибудь кресло или диванчик. Стол накрыт большой скатертью, простой или ковровой, ниспадающей до пола, чтобы легче было производить трюки.
Сцена первая и единственная: Занавес поднимается. Дюпон в сильнейшем возбуждении, заложив руки за спину, кружит вокруг стола. Дюран — движется ему навстречу. Столкнувшись, Дюпон и Дюран разворачиваются и продолжает свое вращение, но в обратном направлении.Дюпон. …Нет… Дюран. Да… Дюпон. Нет… Дюран. Да… Дюпон. Нет… Дюран. Да… Дюпон. А я вам говорю — нет… Осторожно, цветы. Дюран. А я вам говорю — да… Осторожно, цветы. Дюпон. И все-таки — нет… Дюран. И все-таки — да… Повторяю вам — да. Дюпон. Повторяйте на здоровье. Нет, нет и нет. Тридцать два раза — нет. Дюран. Дюпон, осторожно, — цветы. Дюпон. Дюран, осторожно, — цветы. Дюран. Ну вы и зануда… С ума сойти, какой зануда. Дюпон. Это не я. Это вы. Зануда, зануда, зануда… Дюран. Сами не знаете, что говорите. И почему это вы говорите, что я зануда. Осторожно, цветы. И вовсе я не зануда. Дюпон. Еще спрашивает, почему он зануда… Нет, вы меня просто поражаете! Дюран. Не знаю, поражаю я вас или не поражаю. Может, и поражаю. Но хотелось бы узнать, почему это я зануда. Во-первых, я не зануда… Дюпон. Не зануда? Не зануда — и это при том, что вы упорствуете, упираетесь, упрямитесь, нудите, — короче, вопреки всем моим доказательствам… Дюран. Ерунда это, а не доказательства. Они меня не убеждают. Это вы зануда. А я не зануда. Дюпон. Нет, зануда. Дюран. Нет. Дюпон. Да. Дюран. Нет. Дюпон. Да. Дюран. И все-таки — нет. Дюпон. И все-таки — да. Дюран. Говорю вам — нет. Дюпон. Повторяю вам — да. Дюран. Повторяйте на здоровье. Нет, нет и… НЕТ! Дюпон. Просто ужас, какой зануда! Сами посудите… Дюран. Не путайте, это я сказал. Сейчас уроните цветы… Не путайте. Будьте честным человеком, признайте, что зануда — именно вы. Дюпон. С чего это мне быть занудой? Раз я прав, я не зануда. А поскольку, как вы, должно быть, заметили, я прав, да, — я просто-напросто прав… Дюран. Почему это правы вы, когда прав я… Дюпон. Прошу прощения, но прав я… Дюран. Нет, я. Дюпон. Нет, я. Дюран. Нет, я. Дюпон. Нет, я. Дюран. Нет, я. Дюпон. Нет. Дюран. Нет. Дюпон. Нет. Дюран. Нет. Дюпон. Нет. Дюран. Нет. Дюпон. Нет. Дюран. Нет. Осторожно, цветы. Мартен (входя). Ну вот, наконец-то вы пришли к согласию. Дюпон. Вот уж нет… вовсе я с ним не согласен… (Указывает на Дюрана.) Дюран. Вовсе я с ним не согласен. (Указывает на Дюпона.) Дюпон. Он отрицает истину. Дюран. Он отрицает истину. Дюпон. Он, а не я. Дюран. Он, а не я. Дюпон. Осторожно, цветы. Мартен. Ну, знаете… не будьте такими идиотами… Осторожно, цветы. Совсем не всегда так уж необходимо, чтобы персонажи на сцене были еще глупее, чем в жизни. Дюран. Да уж какие есть. Дюпон (Мартену). К тому же меня раздражает ваша дурацкая сигара. Мартен. Вы, можно подумать, меня не раздражаете — носятся тут как заведенные, руки за спиной, хоть бы в чем друг другу уступили… У меня уже голова от вас кругом идет… и вообще, вы сейчас уроните цветы… Дюран. Да меня стошнит вот-вот от вашего поганого дыма… Тоже придумал — дымит весь день, как… паровоз. Мартен. Дымят не только паровозы. Дюпон (Мартену). Как закопченный паровоз. Мартен (Дюпону). Весьма банальное сравнение… Никакого воображения. Дюран (Мартену). У Дюпона, конечно, нет воображения. Но и у вас тоже нет. Дюпон (Дюрану). И у вас тоже, мой дорогой Дюран. Мартен (Дюпону). И у вас тоже, мой дорогой Дюпон. Дюпон (Мартену). И у вас тоже, мой дорогой Мартен. Дюран (Дюпону). И у вас тоже, мой дорогой Дюпон. И не называйте меня мой дорогой Дюран, потому что я не ваш дорогой Дюран. Дюпон (Дюрану). У вас тоже, мой дорогой Дюран, нет никакого воображения. И не называйте меня мой дорогой Дюпон. Мартен (Дюпону и Дорану). Не называйте меня мой дорогой Мартен, я не ваш дорогой Мартен. Дюпон (Мартену и Дюрану). Не называйте меня мой дорогой Дюпон, я не ваш дорогой Дюпон. Дюран (Мартену и Дюпону). Не называйте меня мой дорогой Дюран, я не ваш дорогой Дюран. Мартен. Во-первых, я не мешаю вам своей сигарой, потому что у меня нет сигары… Господа, позвольте мне сказать — вы уж слишком… Слишком. Я человек посторонний, поэтому могу судить объективно. Дюран. Давайте, судите. Дюпон. Судите-судите. Поторапливайтесь. Мартен. Позвольте мне сказать вам со всей откровенностью: таким методом вы ни к какому результату не придете. Сначала надо добиться соглашения хотя бы по одному вопросу и создать, таким образом, базу для дискуссии — только тогда будет возможен диалог. Дюран (Мартену). С мсье (указывает на Дюпона) на таких условиях никакой диалог не возможен. Условия, которые он предлагает, совершенно неприемлемы. Дюпон (Мартену). Я вовсе не собираюсь достигать чего бы то ни было какой угодно ценой. И поскольку условия, которые предлагает мне мсье (указывает на Дюрана), более чем бесчестны… Дюран. Какая наглость… Он смеет утверждать, что мои условия бесчестны… Мартен (Дюпону). Дайте ему высказаться. Дюпон (Дюрану). Высказывайтесь. Мартен. Осторожно, цветы. Дюпон. Сейчас выскажусь. Если меня действительно хотят выслушать. Если меня действительно хотят понять. Но, поймите меня правильно, чтобы понять кого-то, надо его слушать, чего никак не может понять мсье Дюран, чья непонятливость, впрочем, общеизвестна. Дюран (Дюпону). Вы смеете говорить, что моя непонятливость общеизвестна, хотя прекрасно знаете, что общеизвестна как раз ваша непонятливость. Это вы всегда отказываетесь меня понять. Дюпон (Дюрану). Ну вы даете. Ваше лицемерие не лезет ни в какие ворота. Тут бы и трехмесячный младенец понял. Честный младенец. (Мартену.) Нет, вы только послушайте… Дюран (Дюпону). Ну вы даете… Вы-то как раз и не желаете меня понимать! (Мартену.) Нет, вы слышите, что он городит? Мартен. Господа, друзья мои, мы теряем время. К делу. Вот вы тут все говорите, говорите, а ничего ведь и не сказали. Дюпон (Мартену). Что? Это я-то ничего не сказал? Дюран (Мартену). Что? Это я-то ничего не сказал? Мартен. Простите, я не то чтобы хотел сказать, что вы ничего не сказали, нет, это не вполне так. Дюпон (Мартену). Как же вам не стыдно говорить, что мы ничего не сказали, когда вы сами только что сказали, что мы говорим-говорим, а ничего и не сказали, хотя совершенно невозможно говорить и ничего не сказать, потому что всякий раз, когда кто-то что-то сказал, это значит, что он говорил, и, соответственно, когда кто-то говорил, это значит, что он что-то сказал. Мартен (Дюпону). Допустим, я действительно мог сказать, что вы говорите-говорите, а ничего и не сказали, но этим я вовсе не сказал, что вы всегда так говорите. Ведь можно все сказать, ничего не говоря и ничего не сказать, говоря слишком много. Зависит от ситуации и от человека. Но вы-то что сказали за это время? Ничего, ровным счетом. Спросите кого угодно. Дюран (перебивает Мартена). Это Дюпон говорил и ничего не сказал, а не я. Дюпон (Дюрану). Нет, вы. Дюран (Дюпону). Нет, вы. Мартен (Дюпону и Дюрану). Нет, вы. Дюран и Дюпон (Мартену). Нет, вы. Мартен. Нет. Дюпон. Да. Дюран (Дюпону и Мартену). Говорите-говорите, а ничего-то и не сказали. Дюпон. Я ничего не сказал? Мартен и Дюран (Дюпону). Именно вы. Дюпон и Дюран (Мартену). Вы тоже ничего не сказали. Мартен (Дюпону и Дюрану). Но вы ничего не сказали. Дюран (Дюпону и Мартену). Но вы ничего не сказали. Дюпон (Дюрану и Мартену). Но ничего не сказали. Мартен (Дюрану). Вы. Дюран (Мартену). Вы. Дюпон (Дюрану). Вы. Дюран (Дюпону). Вы. Дюпон (Мартену). Вы. Все трое (друг другу). Вы. Вы. Вы…
В эту минуту входит прекрасная дама.
Дама. Добрый день, господа… Осторожно, цветы… (Трое мужчин резко останавливаются и поворачиваются к ней.) И чего это вы ссоритесь… (Жеманно.) Дорогие мои… Дюпон. Дорогая моя, наконец-то вы пришли! Только вам подвластно изменить создавшееся положение. Дюран. Да, дорогая, вы увидите, что такое беспредельная лживость… Мартен (перебивает Дюрана). Да, дорогая, мы сейчас введем вас в курс дела… Дюпон (Мартену и Дюрану). Я сам введу ее в курс дела, ибо это очаровательное создание — моя невеста…
Прекрасная дама стоит неподвижно, с улыбкой на устах.
Дюран (Мартену и Дюпону). Это очаровательное создание — моя невеста. Дюпон (даме). Дорогая, скажите этим господам, что вы моя невеста. Мартен (Дюпону). Вы ошибаетесь, это моя невеста. Дюран (даме). Дорогая, скажите этим господам, что вы моя… Дюпон (перебивает его). Ошибаетесь, моя. Мартен (даме). Дорогая, будьте так любезны, скажите… Дюран (Мартену). Вы ошибаетесь, это моя невеста. Дюпон (даме). Дорогая… Мартен (Дюрану). Ошибаетесь, моя. Дюран (даме). Дорогая… Дюпон (Мартену). Ошибаетесь, моя. Мартен (даме). Дорогая, будьте так любезны, скажите… Дюран (Дюпону). Ошибаетесь, моя. Дюпон (даме, изо всех сил тянет ее за руку к себе). О, дорогая…
Дама теряет туфлю.
Дюран (даме, изо всех сил тянет ее к себе за другую руку). Позвольте я вас поцелую. (Дама теряет другую туфлю, а ее перчатка остается в руках у Дюпона.) Мартен (взяв горшок с цветами, разворачивает даму к себе). Примите от меня этот букет. (Вручает ей горшок.) Дама. О, благодарю… Дюпон (разворачивает даму к себе и вручает ей второй горшок). Примите эти божественные цветы. (Дама спотыкается и роняет шляпу.) Дама. Благодарю, благодарю. Дюран (повторяя за Мартеном). Эти цветы принадлежат вам, как принадлежит вам мое сердце… Дама. Ох, я вся горю… (Руки у нее заняты цветами, она роняет сумку.) Мартен (яростно привлекает ее к себе и вопит). Поцелуй меня, поцелуй меня… (С дамы падает шуба.) Дюран (так же). Поцелуй меня. Дюпон (так же). Поцелуй меня.
Эта игра продолжается некоторое время. Дама постепенно роняет горшки с цветами, юбка ее расстегивается, одежда разлетается в стороны. Дюпон, Дюран и Мартен вырывают даму друг у друга, она переходит из рук в руки, при этом они также вращаются вокруг стола. По-прежнему не прекращая движения, они отрывают у дамы руку, победно потрясают ею, потом другую руку, потом ногу, грудь…
Дама. Да пошли вы… Оставьте меня в покое. Дюпон (Мартену). Оставьте ее в покое. Мартен (Дюрану). Оставьте ее в покое. Дюран (Дюпону). Оставьте ее в покое. Каждый (двум другим). Это вас она просит оставить ее в покое. Дама (всем троим). Оставьте все меня в покое. Дюран, Дюпон, Мартен (изумленно). Я? Я? Я?
Они останавливаются. Дама, растрепанная, расхристанная, полураздетая, без рук, идет вперед, к публике, подпрыгивая на единственной ноге.
Дама. Дамы и господа, я совершенно с вами согласна. Это полная белиберда.
Занавес
Перевод М. Зониной
БРЕД ВДВОЕМ
{7} Действующие лица: Она Он Солдат СоседиНичем не примечательная комната. Стулья, кровать, туалетный столик, в глубине окно, дверь направо, дверь налево. Она сидит за туалетом, около двери на авансцене слева. Она раздражением, хотя и не слишком явным, расхаживает по комнате, заложив руки за спину, уставившись в потолок, как бы следя за полетом мух. С улицы слышен шум, истошные крики, выстрелы. Первые шестьдесят секунд никто не произносит ни слова — мужчина расхаживает по комнате, женщина занята своим туалетом. На мужчине довольно грязный халат. Халат женщины говорит о былом кокетстве. Мужчина небрит, и оба они немолоды.Она. Ты мне сулил роскошную жизнь! Так где же она? А я ради твоих прекрасных глаз рассталась с мужем! Боже, какая я была романтическая дура! Да ведь мой муж был в сто раз лучше тебя, обольститель! Он со мной по-глупому не спорил! Он. Ну я же не нарочно. Ты несешь чепуху, вот я и возражаю. Истина — это моя страсть. Она. При чем здесь истина? Говорю тебе: разницы нет. Вот и вся истина. Улитка и черепаха — это одно и то же. Он. Да нет же, это разные животные. Она. Сам ты животное. Дурак. Он. От дуры слышу. Она. Не оскорбляй меня, безумец, мерзавец, обольститель. Он. Да ты хоть выслушай меня. Она. Почему это я должна тебя слушать? Семнадцать лет тебя слушаю. Я уже семнадцать лет без мужа, без крыши над головой. Он. Это тут ни при чем. Она. А что при чем? Он. То, о чем мы спорим. Она. Да нет, тут не о чем спорить. Улитка и черепаха — это одно и то же. Он. Нет, не одно и то же. Она. Нет, одно. Он. Да тебе любой скажет. Она. Кто — любой? У черепахи есть панцирь? Отвечай. Он. Ну? Она. У улитки есть раковина? Он. Ну? Она. Разве улитка и черепаха не прячутся в свой домик? Он. Ну? Она. Разве черепаха, как и улитка, не медлительна? Разве она не покрыта слизью? Разве у нее не короткое туловище? Разве это не маленькая рептилия? Он. Ну? Она. Вот я и доказала. Разве не говорят «со скоростью черепахи» и «со скоростью улитки»? Разве улитка, то есть черепаха, не ползает? Он. Не совсем так. Она. Не совсем так — что? Ты хочешь сказать, что улитка не ползает? Он. Нет, нет. Она. Ну вот видишь, это то же самое, что черепаха. Он. Да нет. Она. Упрямец, улитка! Объясни почему. Он. Потому что. Она. Черепаха, то есть улитка, носит свой домик на спине. Этот домик сидит на ней как влитой, потому она и называется улитка. Он. Слизняк тоже нечто вроде улитки. Это улитка без домика. А черепаха с улиткой не имеет ничего общего. Как видишь, ты не права. Она. Ну, раз ты так силен в зоологии, объясни мне, почему я не права. Он. Ну потому что… Она. Объясни мне, в чем разница, если она вообще есть. Он. Потому что… разница… Есть и кое-что общее, не могу отрицать. Она. Почему же ты тогда отрицаешь? Он. Разница в том, что… В том, что… Нет, бесполезно, ты не хочешь ее замечать, мне уже надоело тебе доказывать, хватит. С меня достаточно. Она. Ты ничего не хочешь объяснять, потому что не прав. Тебе просто крыть нечем. Если бы ты спорил честно, ты бы так и сказал. Но ты не хочешь справедливого спора и никогда не хотел. Он. Боже, что за ерунда! Подожди, слизняк относится к классу… то есть улитка… А черепаха… Она. Нет, хватит. Лучше замолчи. Не могу слышать этот бред. Он. И я тебя слышать не могу. Ничего не хочу слышать.
Раздается сильный взрыв.
Она. Мы никогда не договоримся. Он. Где уж нам. (Пауза.) Слушай, а у черепахи есть рожки? Она. Я не смотрела. Он. У улитки есть. Она. Не всегда. Только когда она их показывает. А черепаха — это улитка, которая не показывает рожки. Чем питается черепаха? Салатом. И улитка тоже. Так что это одно животное. Скажи мне, что ты ешь, и я скажу, кто ты. И потом — и черепаху и улитку едят. Он. Но их же готовят по-разному. Она. А друг друга они не едят, волки тоже друг друга не едят. Потому что они одного вида. В самом крайнем случае это два подвида. Но все равно это один вид, один вид. Он. Вид у тебя идиотский. Она. Что ты говоришь? Он. Что мы с тобой принадлежим к разным вицам. Она. Заметил наконец. Он. Заметил-то я сразу, но слишком поздно. Надо было заметить раньше, пока мы не познакомились. Накануне заметить. С первого дня было ясно, что нам друг друга не понять. Она. Оставил бы меня с моим мужем, в моей семье, сказал бы, что так будет лучше, о долге бы мне напомнил. Мой долг… я выполняла его с радостью, это было чудесно. Он. Дернул тебя черт ко мне уходить! Она. Ты меня дернул! Обольстил! Семнадцать лет уже! Что я тогда понимала? От детей ушла. Правда, детей не было. Но могли быть.Сколько бы захотелось, столько бы и было. У меня были бы сыновья, я жила бы под их защитой. Семнадцать лет! Он. Будут другие семнадцать лет. Еще на семнадцать лет пороху хватит. Она. Ты же не хочешь признать очевидного. Во-первых, слизняк свой домик просто не показывает. Так что это улитка. А значит, черепаха. Он. Ага, вспомнил, улитка — это моллюск, брюхоногий моллюск. Она. Сам ты моллюск. Моллюск мягкий. Как черепаха. Как улитка. Никакой разницы. Если улитку напугать, она спрячется в свой домик, и черепаха тоже. Вот и выходит, что это одно животное. Он. Ладно, будь по-твоему, сколько лет ругаемся из-за черепахи и улитки… Она. Улитки и черепахи. Он. Как угодно, сил нет все это слушать. (Пауза.) Я тоже ушел от жены. Правда, мы тогда уже развелись. Будем утешаться тем, что до нас это случалось с тысячами людей. Разводиться не следует. Если бы я не женился, я бы не развелся. Не знаешь, как лучше. Она. Да, с тобой никогда не знаешь. Ты на все способен. Ты ни на что не способен. Он. Жизнь без будущего — это жизнь без будущего. Это не жизнь. Она. Некоторым везет. Везучим везет, а невезучим — не везет. Он. Мне жарко. Она. А мне холодно. Не вовремя тебе жарко. Он. Вот, опять непонимание. Вечное непонимание. Я открою окно. Она. Ты хочешь меня заморозить. Ты меня погубишь. Он. Зачем мне тебя губить, я вздохнуть хочу. Она. Но ведь ты же говорил, что нужно смириться с духотой. Он. Когда я это говорил? Не мог я такого сказать! Она. Нет, мог. В прошлом году. Мелешь Бог знает что. Сам себе противоречишь. Он. Я себе не противоречу. Просто тогда было другое время года. Она. Когда тебе холодно, ты мне не даешь окно открывать. Он. Вот твой главный недостаток: когда мне холодно, тебе жарко, когда мне жарко — тебе холодно. Если одному жарко, другому обязательно холодно. Она. Если одному холодно, другому обязательно жарко. Он. Нет, если одному жарко, другому обязательно холодно. Она. Это потому, что ты не такой, как все. Он. Я не такой, как все? Она. Да. К несчастью, ты не такой, как все. Он. Нет. К счастью, я не такой, как все.
Взрыв.
Она. К несчастью.
Взрыв.
Он. К счастью.
Взрыв.
Взрыв. Я не обычный человек, я не похож на всех этих болванов. На этих болванов, с которыми ты якшаешься.
Взрыв.
Она. Надо же, взрыв. Он. Я не человек без роду, без племени! Мне случалось быть гостем принцесс, у которых были декольте до пупа, прикрытые сверху корсажем, а то они были бы вовсе нагишом. Меня посещали гениальные мысли, и я бы их записал, если бы меня попросили. Я мог бы стать поэтом. Она. Не воображай, будто ты умнее других; я тоже в это поверила в минуту безумия. Нет, неправда. Я просто сделала вид, что поверила. Ты меня обольстил, вот и поверила. Но все равно ты кретин. Он. Кретинка! Она. Кретин! Обольститель! Он. Не оскорбляй меня. Не зови меня обольстителем. Бесстыдница. Она. Это не оскорбление. Я просто вывожу тебя на чистую воду. Он. Я тоже тебя выведу на чистую воду. Дай-ка я сотру твою штукатурку. (Наотмашь бьет ее по лицу.) Она. Мерзавец! Обольститель! Обольститель! Он. Осторожно… берегись! Она. Дон Жуан! (Дает ему пощечину.) Прекрасно! Он. Замолчи!.. Послушай!
Шум на улице становится сильнее, слышны крики, выстрелы, причем теперь они раздаются ближе, чем раньше, то есть прямо под окном. Мужчина, собиравшийся резко ответить на оскорбление, внезапно замирает, женщина тоже.
Она. Что там еще такое? Открой же окно. Посмотри. Он. Ты только что говорила, что не надо его открывать. Она. Сдаюсь. Смотри, какая я лапочка. Он. Да, лгунья, на сей раз ты не врешь. Впрочем, тебе не будет холодно. По-моему, потеплело. (Открывает окно и выглядывает на улицу.) Она. Что там? Он. Ничего. Трое убитых. Она. Кто именно? Он. По одному с каждой стороны. И еще один прохожий, сохранявший нейтралитет. Она. Не стой у окна. Они тебя пристрелят. Он. Сейчас закрою. (Закрывает окно.) Кстати, здесь уже не стреляют. Она. Значит, они ушли. Он. Дай посмотрю. Она. Не открывай окно.
Он открывает окно.
Почему они отошли? Как ты думаешь? Закрой окно. Мне холодно.
Он закрывает окно.
С ума сойдешь от жары. Он. Они все-таки следят друг за другом. Смотри, видишь две головы с той стороны и с этой? На улицу пока не пойдем. Выходить еще нельзя. Мы потом решим, как быть. Завтра. Она. Прекрасный повод опять ничего не решать. Он. Что поделаешь. Она. И ведь это так дальше и будет. То ураган, то забастовка на железной дороге, потом грипп, потом война. А когда нет войны, все равно война. Ах! Все так просто. А кто знает, что нас ждет? Догадаться нетрудно. Он. Что ты все то одну прическу делаешь, то другую? Ты и так красивая, красивее не будешь. Она. Ты же не любишь, когда я плохо причесана. Он. Сейчас не время кокетничать. Совершенно не ко времени. Она. Я опережаю свое время. Я наряжаюсь для прекрасного будущего.
Окно пробивает пуля.
Он и Она. Ах! Видел? Видела? Она. Тебя не ранило? Он. Тебя не ранило? Она. Я же тебе говорила: закрой ставни. Он. Я подам жалобу домовладельцу. Как он это допускает? Где он вообще? На улице, ясное дело, развлекаться пошел. Ох, люди, люди! Она. Ну закрой ставни.
Он закрывает ставни. Становится темно.
Послушай, зажги свет. Не сидеть же в темноте. Он. Ты же просила закрыть ставни. (В темноте направляется к выключателю и натыкается на какой-то предмет обстановки.) Ай! Больно! Она. Раззява. Он. Так, так, ругайся. Где эта чертова штука? В этом доме не сразу поймешь что к чему. Выключатели Бог знает где. Место меняют как живые.
Она встает в темноте к выключателю, натыкается на него.
Она. Мог бы и поосторожнее. Он. Ты тоже.
Ей удается зажечь свет.
Она. Ты мне на лбу шишку набил. Он. Ты мне на ногу наступила. Она. Это ты нарочно. Он. Это ты нарочно.
Оба садятся. Он на один стул. Она на другой. Пауза.
Если бы мы не встретились и не познакомились, что бы я делал? Наверное, стал бы художником. А может, занялся бы чем-нибудь другим. Может, объехал бы весь свет, может, сохранил бы молодость. Она. Ты умер бы в доме престарелых. А может быть, мы бы все равно встретились. Может быть, по-другому и быть не могло. Как теперь узнаешь? Он. Возможно, я не спрашивал бы себя, зачем живу. А возможно, и нашлись бы резоны для хандры. Она. Я бы смотрела, как растут мои дети. А может, снялась бы в кино. Жила бы в прекрасном замке, среди цветов. И занималась бы… Чем бы я занималась? Кем бы я была? Он. Я пошел. (Берет шляпу, направляется к двери, но тут раздается сильный шум. Он останавливается перед дверью.) Слышишь? Она. Не глухая. Что это? Он. Граната. Они пошли в атаку. Она. Даже если тебе хватит решимости, ты там все равно не пройдешь. Мы между двух огней. Зачем ты снял квартиру на границе двух кварталов? Он. Ты сама хотела здесь жить. Она. Вранье! Он. У тебя память отшибло или ты нарочно притворяешься? Ты хотела здесь жить, потому что из окна красивый вид. Ты говорила, что это возбудит во мне новые мысли. Она. Что это ты выдумал? Он. Нельзя было предвидеть… Ничто не предвещало… Она. Вот видишь, сам признался, что дом выбирал ты. Он. Как это я, когда у меня и в мыслях ничего подобного не было? Она. Мы это сделали просто так.
Шум за стенами квартиры усиливается. На лестнице крики и топот.
Поднимаются сюда. Закрой дверь получше. Он. Дверь закрыта. Она плохо закрывается. Она. Все-таки закрой получше. Он. Они на площадке. Она. На нашей?
Стук в дверь.
Он. Успокойся, это не за нами. Они стучатся в дверь напротив.
Оба прислушиваются, стук не стихает.
Она. Их уводят. Он. Поднимаются наверх. Она. Спускаются. Он. Нет, поднимаются. Она. Говорю тебе, спускаются. Он. Обязательно тебе надо настоять на своем. Я же сказал, поднимаются. Она. Спускаются. Ты даже не понимаешь, откуда шум. Это от страха. Он. Какая разница, спускаются или поднимаются? В следующий раз придут за нами. Она. Надо забаррикадироваться. Шкаф. Задвинь дверь шкафом. А говоришь, у тебя есть какие-то мысли. Он. Я не говорил, что у меня есть мысли. Впрочем… Она. Ну что ты стоишь, двигай шкаф.
Они берутся за шкаф, стоящий справа, и задвигают им левую дверь.
Так все же спокойнее. Хоть чуть-чуть. Он. Ничего себе покой. Скажешь тоже. Она. Да уж, какой с тобой покой. Он. Почему это со мной нет покоя? Она. Раздражаешь ты меня. Нет, не раздражаешь. Нет, все-таки раздражаешь. Он. Ничего не буду говорить, ничего не буду делать. Чего-то делать не буду тем более. Тебя все выводит из себя. Я же знаю, о чем ты думаешь. Она. О чем я думаю? Он. О чем думаешь, о том и думаешь. Она. Инсинуации, коварные намеки. Он. Почему коварные? Она. Все инсинуации коварные. Он. Это вовсе не инсинуации. Она. Нет, инсинуации. Он. Нет. Она. Да. Он. Нет. Она. Если это не инсинуации, то что это? Он. Чтобы утверждать, что это инсинуации, надо знать, что такое инсинуации. Дай мне определение инсинуации; я требую определения. Она. Смотри, они спустились вниз и увели с собой верхних соседей. Они уже не кричат. Что с ними сделали? Он. Наверное, горло перерезали. Она. Интересная мысль, хотя нет, совсем не интересная, а почему им горло перерезали? Он. Не пойду же я спрашивать. Не те обстоятельства. Она. А может, вовсе и не перерезали горло. Может, с ними как-нибудь иначе обошлись.
На улице крики, шум, стены содрогаются.
Он. Слышишь? Она. Видишь? Он. Видишь? Она. Слышишь? Он. Они все заминировали. Она. Скоро мы снова окажемся в подвале. Он. Или на улице. И ты простудишься. Она. Нет, уж лучше в подвале. Туда можно отопление провести. Он. Там спрятаться можно. Она. Туда они не придут. Он. Почему? Она. Подвал слишком глубокий. Они не подумают, что люди вроде нас или не совсем вроде нас могут жить в бездне, как звери. Он. Они все обыскивают. Она. Так ведь ты можешь скрыться. Я тебя не держу. Подыши воздухом, воспользуйся случаем изменить свое существование. Посмотри, существует ли иное существование. Он. Момент неподходящий. Холодно, и дождь идет. Она. Ты же говорил, что только мне холодно. Он. А теперь мне холодно. Холодный пот прошибает. Имею же я на это право. Она. Ну конечно, ты на все имеешь право. Это я ни на что права не имею. Даже сказать, что мне жарко. Посмотри, что за жизнь ты мне устроил. Взгляни хорошенько. Посмотри, каково мне туг, в твоем обществе. (Указывает на закрытые ставни, на дверь, задвинутую шкафом.) Он. Это какой-то бред, не будешь же ты утверждать, будто все эти ужасы происходят по моей вине. Она. Я только считаю, что ты должен был это предвидеть. Во всяком случае, сделать так, чтобы это случилось не при нас. Ты воплощение невезения. Он. Хорошо. Исчезаю. Дай мне шляпу. (Собирается идти за шляпой.)
В это время сквозь закрытые ставни влетает граната и падает на пол посреди комнаты. Они рассматривают гранату.
Она. Смотри, панцирь черепахи-улитки. Он. У улитки нет панциря. Она. А что у нее есть? Он. Раковина, наверное. Она. Это одно и то же. Он. Ой! Да ведь это граната! Она. Граната! Она сейчас взорвется, затопчи фитиль! Он. У нее нет фитиля. Смотри, не взрывается. Она. Прячься скорее! (Прячется в угол.)
Он направляется к гранате.
Тебя убьет. Осторожно, безумец. Он. Не оставлять же ее посреди комнаты. (Берет гранату, выбрасывает ее в окно.)
За окном раздается взрыв.
Она. Вот видишь, взорвалась. Наверное, в доме она бы не взорвалась, здесь кислорода мало. А на свежем воздухе взрывается. Вдруг ты кого-нибудь убил? Ты убийца! Он. Ну, там такое делается, что никто и не заметит. Во всяком случае, мы и на сей раз уцелели.
На улице сильный шум.
Она. Теперь наверняка начнутся сквозняки. Он. Закрыть ставни — мало. Надо еще окна матрасом заткнуть, давай сюда матрас. Она. Почему ты не продумал все заранее; ты всегда находишь выход, когда уже поздно. Он. Лучше поздно, чем никогда. Она. Философ, безумец, обольститель. Поворачивайся, давай матрас. Помоги мне.
Они снимают с кровати матрас и загораживают им окно.
Он. А спать на чем будем? Она. Это ты виноват, даже второго матраса в доме нет. У моего бывшего мужа их было полно. Уж чего-чего, а этого в доме хватало. Он. Так ведь он сам их делал, на продажу. Немудрено, что у вас их было навалом. Она. Как видишь, в подобной ситуации это мудрено. Он. А в других ситуациях немудрено. Веселенький у вас, наверное, был дом — всюду матрасы. Она. Он был не просто мастер. Он был матрасник-ас. Делал их из любви к искусству. А что ты делаешь из любви ко мне? Он. Из любви к тебе я с тоски дохну. Она. Не большой подвиг. Он. Это как посмотреть. Она. Во всяком случае, это не утомительно. Лентяй ты.
Снова шум, дверь справа падает. Через дверной проем в комнату проникает дым.
Он. Ну, это уж слишком. Не успеешь одну закрыть, другая тут же открывается. Она. Я из-за тебя заболею. Я уже больна. У меня с сердцем плохо. Он. Или падает. Она. Попробуй только скажи, что ты тут ни при чем. Он. Я за это не отвечаю. Она. Ты никогда ни за что не отвечаешь! Он. По логике вещей так и должно было случиться. Она. По какой логике? Он. По логике вещей, таков объективный порядок вещей. Она. Что с дверью будем делать? Почини ее. Он (выглядывая в дверной проем). Соседей нет дома. Наверное, отдыхать уехали. А дома взрывчатку забыли. Она. Есть хочется и пить. Посмотри, у них нет чего-нибудь? Он. Может, попробовать выйти? У них в квартире есть дверь, которая выходит в переулок, там потише. Она. Тебе лишь бы уйти. Подожди. Я шляпу надену.
Он выходит направо.
Ты где? Он (из кулисы). Здесь не пройдешь. Стена обвалилась, я так и думал. Всю площадку засыпало. Камней целая гора. (Входит.) Тут хода нет, подождем, пока на нашей улице затихнет. Тогда шкаф отодвинем и выйдем. Она. Пойду посмотрю. (Выходит.) Он. Надо было мне раньше уйти. Три года назад. Или год назад, или даже на прошлой неделе. Мы с женой были бы теперь далеко. Помирились бы. Правда, она замужем. Ну, значит, с другой. В горах. Я пленник несчастной любви. И любви запретной. Будем считать, что я получил по заслугам. Она (возвращаясь). Что ты там бормочешь? Опять упреки? Он. Я просто думаю вслух. Она. Я у них в буфете колбасу нашла. И пиво. Бутылка треснула. Где тут можно поесть? Он. Где хочешь. Давай сядем на пол. А вместо стола возьмем стул. Она. Боже мой, мир навыворот!
Они садятся на пол, поставив между собой стул. С улицы слышен шум. Раздаются крики и выстрелы.
Они наверху. На этот раз сомневаться не приходится. Он. Ты же говорила, что они спускаются. Она. Но я не сказала, что они не поднимутся опять. Он. Можно было догадаться. Она. Ну хорошо, что я, по-твоему, должна делать? Он. Я вообще не говорил, что ты должна что-нибудь делать. Она. Какое счастье, хоть что-то разрешил.
В потолке образуется дыра, через нее падает статуэтка, попадает на бутылку с пивом, разбивает бутылку и разбивается сама.
Мое платье! Самое лучшее. Единственное платье. На мне хотел жениться знаменитый модельер. Он (собирая осколки статуэтки). Это копия Венеры Милосской. Она. Надо будет подмести. И платье вычистить. Кто теперь его покрасит? Все вокруг воюют. Для них это отдых. (Глядя на осколки статуэтки.) Это не Венера Милосская, это статуя Свободы. Он. Ты же видишь, что у нее нет руки. Она. Рука сломалась при падении. Он. Ее и раньше не было. Она. Что это доказывает? Ничего не доказывает. Он. Говорю тебе, это Венера Милосская. Она. Нет. Он. Да посмотри же. Она. У тебя везде одни Венеры. Это статуя Свободы. Он. Это статуя Красоты. Красота — это моя любовь. Я мог бы быть скульптором. Она. Она прекрасна, твоя красота. Он. Красота всегда прекрасна. За редким исключением. Она. Исключение — это я. Ты это хотел сказать? Он. Не знаю, что я хотел сказать. Она. Вот видишь, опять оскорбления. Он. Я хотел тебе доказать, что… Она (прерывая его). Хватит с меня доказательств, оставь меня в покое. Он. Это ты меня оставь в покое. Я жажду покоя. Она. Я тоже жажду покоя. Да разве с тобой дождешься!
Сквозь стену в комнату влетает осколок бомбы и падает на пол.
Сам видишь, не дождешься. Он. Да, покоя здесь ждать не приходится; но это от нас не зависит. Это объективно невозможно. Она. Мне надоела твоя страсть к объективности. Займись лучше гранатой, она взорвется… как та… Он. Да ведь это же не граната. (Трогает осколок ногой.) Она. Тихо, мы из-за тебя погибнем, и всю комнату разнесет. Он. Это осколок бомбы. Она. А бомба должна взрываться. Он. Осколок — это уже результат взрыва. И больше нечему взрываться. Она. Перестань издеваться.
Влетает еще один осколок и разбивает зеркало на туалетном столике.
Он и мне зеркало разбили, разбили зеркало. Он. Тем хуже. Она. Как теперь причесываться? Ты, конечно, опять скажешь, что я кокетка. Он. Ешь лучше колбасу.
Наверху снова поднимается шум. С потолка сыплется. Он и она прячутся под кровать. Шум на улице становится громче. Слышны пулеметные очереди и крики «Ура!». Мужчина и женщина сидят под кроватью лицом к публике.
Она. Когда я была маленькая, я была ребенком. Дети моего возраста тоже были маленькие. Маленькие мальчики, маленькие девочки. Мы были разного роста. Были самые маленькие, самые большие, блондины, брюнеты и ни блондины, ни брюнеты. Мы учились читать, писать, считать. Учили вычитание, деление, умножение, сложение. Потому что мы ходили в школу. Некоторые учились дома. Невдалеке было озеро. Там плавали рыбы, рыбы живут в воде. Не то что мы. Мы не можем жить в воде, даже пока мы дети, хотя должны бы. Почему бы нет? Он. Если бы я изучал технику, я стал бы техником. Делал бы разные штуки. Сложные штуки. Очень сложные штуки, все сложнее и сложнее, это облегчило бы мне жизнь. Она. Ночью мы спали.
С этого момента потолок начинает осыпаться. В конце пьесы не останется ни потолка, ни стен. Вместо них взору зрителя предстанут лестницы, силуэты, возможно знамена.
Он. Радуга, две радуги, три радуги. Я их считал. Иногда бывало и больше. Я задавал себе вопрос. Надо было отвечать на вопрос. Какой вопрос я себе задавал? Не помню. Но чтобы получить ответ, должен же я был задавать себе вопрос… Вопрос. Как можно получить ответ, если не задан вопрос? Итак, я задавал вопрос, несмотря ни на что, я не знал, что это за вопрос, но все же задавал его. Это было безобиднейшее занятие. Тот, кто знает вопрос, хитрец… Спросим себя, ответ зависит от вопроса или вопрос зависит от ответа. Это другой вопрос. Нет, тот же самый. Радуга, две радуги, три радуги, четыре… Она. Жульничество все это!
Он прислушивается к шуму, наблюдая, как сверху сыплется штукатурка и как через всю комнату проносятся совершенно немыслимые метательные снаряды: осколки чашек, чубуки от трубок, головы кукол и т. д.
Он. Некоторые не хотят умирать сами. Они предпочитают, чтобы их убивали. Им не терпится. А может быть, им это нравится. Она. Может, тогда им кажется, что это еще не настоящая смерть. Он. Так, наверное, проще. Так веселее. Она. Это и называется обществом. Он. Они приканчивают друг друга. Она. Сначала приканчивают одни, потом другие. Одновременно это никак не получится. Он (снова погружаясь в воспоминания). Я стоял на пороге. Я смотрел. Она. У нас там был лес, а в нем деревья. Он. Какие деревья? Она. Которые росли. Росли быстрее нас. С листьями. Осенью листья опадают.
Невидимые снаряды пробивают стену, оставляя большие дыры. С потолка сыплется на кровать.
Он. Ай! Она. Что с тобой? Ты же не ранен! Он. Ты тоже не ранена. Она. Так что с тобой? Он. Меня могло ранить. Она. Очень на тебя похоже. Всегда ворчишь. Он. Это ты всегда ворчишь. Она. Не кивай на других, ты всегда боишься за свою шкуру. Вечно боишься, чтобы не сказать трусишь. Лучше приобрел бы профессию, было бы на что жить. Профессионал всем нужен. А во время войны он не подлежит призыву.
Сильный шум на лестнице.
Она. Возвращаются. Теперь уж это к нам. Он. Видишь, я не зря беспокоюсь. Она. Обычно зря. Он. Но не в этот раз. Она. Как всегда, хочешь доказать мне, что ты прав.
Снаряды больше не пролетают.
Он. Кончилось. Она. Наверное, передышка.
Они вылезают из-под кровати. Рассматривают пол, усыпанный снарядами, проломы в стене, которые все время увеличиваются.
Может быть, здесь можно пройти? (Показывает на пролом в стене.) Куда она выходит? Он. На лестницу. Она. На какую лестницу? Он. На лестницу, которая выходит во двор. Она. На лестницу, которая выходит в какой двор? Он. Выходит на лестницу, которая выходит во двор, который выходит на улицу. Она. Который выходит на какую улицу? Он. Который выходит на улицу, где идет бой. Она. Итак, мы в тупике. Он. Значит, лучше никуда не ходить. Не надевай шляпу. Шляпу надевать не стоит. Она. Ты всегда находишь неудачный выход. Почему ты собираешься выйти там, где выхода нет? Он. Я собирался выйти, если выйти возможно. Она. Тоща не надо рассматривать возможность выхода. Он. Я не утверждал, что рассматриваю возможность выхода. Я утверждал, что рассматривал бы ее только в том случае, если возможность была бы возможна. Она. Мне не нужны уроки логики. В логике я посильнее тебя. Всю жизнь тебе это доказываю. Он. Ты слабее. Она. Я сильнее. Он. Слабее. Она. Сильнее, гораздо сильнее. Он. Замолчи. Она. Ты мне рот не заткнешь. Он. Лучше замолчи и послушай.
Крики на лестницах и на улице.
Она. Что они делают? Он. Они поднимаются… поднимаются, их много. Она. Они посадят нас в тюрьму. Они меня убьют. Он. Мы ничего не сделали. Она. Мы ничего не сделали. Он. Потому и посадят. Она. Мы не вмешивались в их дела. Он. Вот потому и посадят, я же говорю. Она. А если бы мы вмешались, они бы нас убили. Он. Тогда мы были бы уже мертвы. Она. Это утешает. Он. Все же мы пережили бомбежку. Бомбежка кончилась. Она. Они поднимаются. Он. Поднимаются. Она. Они поют.
Сквозь проломы в стене видны силуэты поднимающихся людей, слышно пение.
Он. Бой закончился. Она. Это пение победителей. Он. Они победили. Она. Кого победили? Он. Не знаю. Но они выиграли битву. Она. Кто выиграл? Он. Тот, кто не проиграл. Она. А тот, кто проиграл? Он. Тот не выиграл. Она. Остроумно. Я и сама об этом догадывалась. Он. Все-таки в логике ты кое-что смыслишь. Не много, но кое-что. Она. А что делают те, кто не выиграл? Он. Либо погибли, либо рыдают. Она. Почему рыдают? Он. Их мучают угрызения совести. Они были не правы. Они это признают. Она. Почему не правы? Он. Не правы, потому что проиграли. Она. А те, что выиграли? Он. Они правы. Она. А если никто не выиграл и не проиграл? Он. Наступает непрочный мир. Она. И что тогда? Он. Приходят серые дни. И все ходят красные от гнева. Она. Во всяком случае, опасность миновала. По крайней мере пока. Он. Тебе больше нечего бояться. Она. Это тебе нечего бояться. Тебя била дрожь. Он. Не так, как тебя. Она. Я не так испугалась, как ты.
Матрас падает. В окно видны знамена. Иллюминация. Вспышки ракет.
Черт возьми! Все сначала. И именно когда матрас упал. Прячься под кровать. Он. Да нет же. Это просто праздник. Они празднуют победу. Они шествуют по улицам. И, наверное, получают от этого удовольствие. Может быть. Она. Они не заставят нас к ним присоединиться? Оставят нас в покое? В мирное время они никого не оставляют в покое. Он. Все-таки так спокойнее. Лучше. Несмотря ни на что. Она. Нет, не хорошо. Плохо. Он. Плохо — это еще не самое худшее. Она (презрительно). Опять твоя философия. Ты неисправим. Жизнь не сделала тебя мудрее. Ты просто стал больше философствовать. Ты, кажется, собирался выйти на улицу? Иди, пожалуйста. Он. Не при любом развитии событий. Если я там сейчас появлюсь, они станут мне докучать, так что пусть они сперва разойдутся по домам, а я уж здесь поскучаю. А ты иди, если хочешь, я тебе не мешаю. Она. Ясно, что тебе надо. Он. Что мне нужно? Она. Вышвырнуть меня на улицу. Он. Это ты хочешь вышвырнуть меня на улицу. Она (разглядывая искореженные стены). Ты меня уже выставил. Мы на улице. Он. Да, но не совсем. Она. Они веселятся, едят, пьют, шатаются по улицам, они ужасны, на все способны, могут на меня наброситься, на бедную женщину. Нет уж, все же не с кем попало. Я предпочла бы иметь дело с полным идиотом. Он хоть планов не строит. Он. Именно за это ты меня упрекала. Она. И сейчас упрекаю. Он. Что они еще там задумали? Молчат. Долго так продолжаться не может. Я хорошо их знаю, слишком хорошо. Когда они что-то задумали — это страшно, но когда идей нет, они изо всех сил начинают выдумывать, что бы такое совершить. И Бог знает что выдумают; от них всего можно ожидать. Бывает, что, ввязавшись в бой, они еще не знают, за что бьются. Доводы приходят потом. Они вечно в плену ходячих истин. А впрочем, не всегда. Так или иначе, события развиваются в определенном направлении. Не успеет кончиться одна заваруха, сразу начинается другая. Что они еще сделают? Что придумают? Она. Придумай за них. Ты просто не можешь. Ты не хочешь пошевелить мозгами, это не представляет для тебя интереса. Почему это не представляет для тебя интереса? Придумай за них мотивировки, раз тебе кажется, что им недостает мотивировок. Он. Мотивировок не существует. Она. Но это не мешает людям буйствовать, ни на что другое они не годятся. Он. Слышишь, как тихо? Они больше не поют. Что они задумали? Она. А нам-то что? Опасность, конечно, остается. Раз ты говоришь, что это не твое дело, живи в четырех стенах, твое место здесь. (Обводит дом округлым жестом.) Если бы ты захотел… но от тебя не дождешься никакого толку. У тебя нет воображения. Мой муж был гений. Я плохо сделала, что ушла к любовнику, тем хуже для меня. Он. По крайней мере, они ушли с миром. Она. Правильно. Грянул мир. Они объявили мир. А нам что делать? Что нам делать?
На улице небольшой шум.
Он. Все же раньше было лучше. Еще оставалось время. Она. Раньше чего? Он. Раньше, чем это началось… Раньше, чем это не началось. Она. Раньше, чем кто не начал что? Он. Раньше, чем ничего не было, раньше, чем что-то было. Она. Как починить дом? Он. И я себя об этом спрашиваю. Она. Выкручиваться — это твоя забота. Он. Мастера теперь не найдешь, они все на празднике. Они развлекаются, а у нас нет крыши над головой. То они не могли выполнять свои обязанности из-за войны, теперь из-за мира, а результат один. И в том и в другом случае их никогда нет там, где нужно. Она. Потому что они сразу везде.
Шум постепенно стихает.
Он. Непросто не быть нигде. Она. Стало тише. Ты слышишь, стало тише. Он. Когда ничего не происходит, все происходит очень быстро.
Шум полностью прекращается.
Она. Полная тишина. Он. Правда. Наверняка они сейчас устроят шум. Сомневаться не приходится. Она. Они не умеют себя вести. Зачем все это? Он. Чтобы прожить жизнь. Она. Мы тоже живем. Он. Их жизнь не такая бессмысленная. Мне кажется, они скучают по-другому. Есть много способов скучать. Она. Своим ты никогда не доволен. Всегда всем завидуешь. Надо бы отремонтировать дом. Нельзя же так жить. Как бы мой муж-матрасник был сейчас кстати.
Из пролома в стене высовывается голова солдата.
Солдат. Здесь нет Жанетты? Он. Какой Жанетты? Она. Здесь нет Жанетты. Здесь нет никакой Жанетты.
Справа из дверного проема появляются соседи.
Сосед. А вот и мы. Ну надо же! Вы все время были здесь? Соседка. Здесь, наверно, было интересно. Сосед. Мы отдыхали, ничего не знали. Но и там мы здорово развлеклись. Соседка. Нам угодить нетрудно. Развлечься можно везде, был бы конфликт. Она. Придется вам чинить свою дверь. Он (солдату). Здесь нет Жанетты, нет никакой Жанетты. Солдат. Что же случилось? Она сказала, что будет здесь. Он (солдату). Это не мое дело, занимайтесь своим делом. Солдат. Вот я и занимаюсь. Она (ему). Надо прибраться, помоги мне. Потом погуляешь. Он. Потом погуляешь. Он и она (вместе). Потом погуляем. Она (ему). Загороди окно матрасом. Как следует, пожалуйста. Он. Зачем? Опасность миновала. Она. Да, но сквозняки не миновали. И еще есть грипп, микробы, и вообще на всякий случай. Солдат. Вы не знаете, кто мог ее видеть?
Она загораживает дыру, из которой выглядывает солдат, кроватью, потом они закрывают дверь за соседями. Сверху слышен шум пилы.
Она. Слышишь, опять начинается. Я же сказала, что начнется. А ты не верил. И, как видишь, я оказалась права. Он. Ты не права. Она. И ты будешь утверждать, что ты мне не противоречишь? Ты же только что доказал обратное! Он. Там все тихо.
Сверху медленно спускаются обезглавленные тела, висящие на веревках, и кукольные головы без туловищ.
Она. Что это? (Убегает, так как ее головы коснулись ноги одного из тел.) Ай! (Трогает одну голову, рассматривает другие.) Просто красавчики! Скажи, что это значит? Отвечай! Ты же такой болтун. И вдруг онемел. Что это? Он. Ты не слепая. Это тела без головы и головы без тел. Она. Слепая я была, когда встретила тебя. Я тебя не разглядела. Когда я на тебя гляжу, мне ослепнуть хочется. Он. И мне, на тебя глядя, ослепнуть хочется. Она. Раз ты не слепой и не полный идиот, объясни… Ай! Они как сталактиты. Почему? Ты видишь, конфликт еще не исчерпан. Он. Исчерпан. Они творят справедливость в безмятежном покое. Там наверху гильотина. Посмотри, сразу видно, что наступил мир. Она. Что нам делать? Вот влипли! Он. Плевать!.. Лучше спрячемся. Она. Помоги мне. Лентяй! Обольститель!
Они затыкают окно матрасом, баррикадируют двери, причем сквозь разрушенные стены все время видны силуэты и слышны фанфары.
Он. Черепаха! Она. Улитка!
Обменявшись пощечинами, они снова принимаются за работу.
Занавес
Перевод Е. Дюшен
МАКБЕТ
{8} Действующие лица: Дункан Леди Дункан Макбет Леди Макбет Первая ведьма Вторая ведьма Придворная дама Гламис Кандор Банко Монах Епископ Макол Служанка Офицер Солдаты Гости во дворце Охотник за бабочками Женщины, мужчины Продавец напитков, старьевщик и др.Сцена первая
Поле битвы. Гламис входит слева. В этот же момент Кандор входит справа. Не здороваясь, становятся в центре сцены лицом к зрителям. Некоторое время стоят молча.Гламис (поворачиваясь к Кандору). Привет, барон Кандор. Кандор (поворачиваясь к Гламису). Привет, барон Гламис. Гламис. Послушайте, Кандор! Кандор. Послушайте, Гламис! Гламис. Так дальше не пойдет.
Они явно обозлены, их злость и сарказм нарастают, с каждой репликой они заводятся все больше.
Гламис (саркастически). Наш монарх… Кандор (так же). Дункан, эрцгерцог Дункан, любименький наш, ха-ха! Гламис. Это точно. Любименький. И даже слишком. Кандор. И даже слишком. Гламис. К чертям Дункана! Кандор. К чертям Дункана! Гламис. Во время охоты он топчет мои земли. Кандор. Дорогое удовольствие… Гламис. Государству все по карману. Кандор. Государство — это он.[26] Гламис. Я сдаю ему десять тысяч домашних птиц в год и яйца в придачу. Кандор. Я — то же самое. Гламис. Пусть другие согласны… Кандор. А я не согласен. Гламис. И я. Кандор. Если кто-то согласен, так это его личное дело. Гламис. Он требует от меня парней для армии. Кандор. Для национальной армии. Гламис. Но ведь это только ослабит мою армию. Кандор. Это нас обезоруживает. Гламис. У меня есть парни, у меня есть армия, а он, глядишь, двинет против меня моих же ребят. Кандор. И против меня. Гламис. Да, такого еще свет не видывал! Кандор. Никогда, с тех пор как мои предки… Гламис. И мои предки. Кандор. А его прихлебатели… Гламис. Мы трудимся в поте лица, а они жиреют… Кандор. Обжираясь нашей домашней птицей… Гламис. Нашими барашками. Кандор. Нашими свиньями. Гламис. Свинья эдакая! Кандор. Нашим хлебом. Гламис. Десять тысяч домашних птиц… Да что он со всем этим делает? Ему же всего не переварить! А остальное сгниет. Кандор. А тысяча девиц? Гламис. Ясное дело, как он их потребляет. Кандор. Чем мы ему обязаны? Это он всем обязан нам. Гламис. Если бы только это! Кандор. Не считая всего остального. Гламис. К чертям Дункана! Кандор. К чертям Дункана! Гламис. Грош ему цена в сравнении с нами. Кандор. По мне, так и того меньше. Гламис. Намного меньше. Кандор. Меньше не бывает. Гламис. Меня воротит при одной мысли о нем. Кандор. А я киплю от бешенства. Гламис. Моя честь! Кандор. Моя слава! Гламис. Наши права, унаследованные от отцов и дедов… Кандор. Мое состояние! Гламис. Мое родовое имение! Кандор. Мы имеем право на счастье! Гламис. По правде говоря, плевал он на это. Кандор. Разве не правда, что ему плевать на это? Гламис. Мы для него ничего не значим. Кандор. Ну, не скажи… Гламис. Кое-что мы все-таки значим. Кандор. Ну, разве что самую малость. Гламис. Мы не желаем ходить в дураках, в особенности у Дункана. Ах-ах! Возлюбленный наш монарх! Кандор. Ни в дураках, ни в мальчиках для битья. Гламис. Ни в мальчиках для битья, ни в дураках. Кандор. Он снится мне по ночам. Гламис. Он является мне как страшный сон. Кандор. Нужно избавиться от него. Гламис. Нужно изгнать его отовсюду. Кандор. Отовсюду! Гламис. Независимость! Кандор. Право самим приумножать наши богатства! Автономию! Гламис. Свободу! Кандор. Хочу быть полновластным хозяином на своей земле! Гламис. Мы завладеем его землями. Кандор. Мы завладеем его землями. Гламис. Предлагаю поделить их между собой. Кандор. Каждому по половине. Гламис. Каждому по половине. Кандор. Правитель он никудышный. Гламис. Он к нам несправедлив. Кандор. Добьемся справедливости! Гламис. Давайте править вместо него. Кандор. Пускай его место станет нашим.
Кандор и Гламис подходят друг к другу и смотрят направо, откуда входит Банко.
Кандор. Приветствую храброго генерала Банко! Гламис. Приветствую великого полководца Банко! Банко. Привет, Гламис! Привет, Кандор! (Кандору.) Ни слова ему об этом деле. Он приспешник Дункана. Кандор (к Банко). А мы вот гуляли на свежем воздухе. Гламис (к Банко). Хороша погодка для этого времени года. Кандор (к Банко). Присядьте, дорогой друг. Банко. Во время утреннего моциона я не сажусь. Гламис. Да, конечно, гулять — полезно для здоровья. Кандор. Мы восхищаемся вашей отвагой. Банко. Моя отвага всегда к услугам моего монарха. Гламис (к Банко). Превосходно! Кандор (к Банко). Мы полностью вас одобряем. Банко. Я приветствую вас, джентльмены. (Уходит налево.) Кандор. Привет, Банко. Гламис. Привет, Банко. (Кандору.) На него рассчитывать не приходится. Кандор (обнажая шпагу). Он повернулся к нам спиной, так что можно его прикончить. (Крадется на цыпочках следом за Банко.) Гламис. Погодите, еще не время. Наша армия пока не готова. Наберемся терпения.
Кандор снова вкладывает шпагу в ножны. В тот момент, когда Банко уходит налево, Макбет входит справа.
Кандор (Гламису). А вот еще один приспешник эрцгерцога. Гламис. Привет, Макбет. Кандор. Привет, Макбет. Приветствую вас, верного и добродетельного джентльмена. Макбет. Привет, барон Кандор. Привет, барон Гламис. Гламис. Привет, Макбет, великий генерал. (Кандору.) Пусть он и не догадывается о нашем замысле. Притворимся, что ничего не происходит. Кандор (Макбету). Мы с Гламисом восхищены вашей верноподданностью, вашей преданностью нашему возлюбленному монарху, эрцгерцогу Дункану. Макбет. Разве я не обязан быть верноподданным и преданным? Не принес ли я ему в этом присягу? Гламис. Полноте, у нас и в мыслях не было сказать что-либо подобное. И вы совершенно правы. С чем вас и поздравляем. Кандор. Несомненно, его благодарность вас удовлетворяет. Макбет (расплываясь в улыбке). Доброта нашего монарха Дункана уже вошла в легенду. Он желает народу добра. Гламис (косясь на Кандора). Мы это знаем. Кандор. Мы уверены в этом. Макбет. Дункан — воплощение щедрости. Все, что имеет, он отдает другим. Гламис (Макбету). Вы наверняка сумели этим воспользоваться. Макбет. Вдобавок ко всему он храбр. Кандор. О чем свидетельствуют его деяния. Гламис. Это общеизвестно. Макбет. И я знаю про это не понаслышке. Наш монарх — добрый и порядочный человек. Его супруга — наша государыня эрцгерцогиня так же добра, как и красива. Она занимается благотворительностью. Помогает сирым, врачует хворых. Кандор. Ну как же не восхищаться таким человеком? Замечательный человек, отличный монарх. Гламис. Ну как не ответить порядочностью на его порядочность, щедростью на его щедрость? Макбет. Я готов пронзить шпагой любого, кто станет утверждать обратное. Кандор. Мы убеждены, совершенно убеждены, что Дункан превосходит в добродетели всех монархов до единого. Гламис. Он — сама добродетель. Макбет. Я стараюсь следовать этому образцу. Я пытаюсь быть столь же храбрым, доблестным, порядочным и добрым, как он. Гламис. Должно быть, это нелегко дается. Кандор. В самом деле, он человек добрейшей души. Гламис. А леди Дункан очень хороша собой. Макбет. Я стараюсь походить на него. Приветствую вас, джентльмены. (Уходит налево.) Гламис. Чего доброго, он нас убедит. Кандор. Наивный фанатик. Гламис. С ним не сговоришься. Кандор. Опасный тип. Он и Банко — командующие войсками Дункана. Гламис. Надеюсь, вы не пойдете на попятный. Кандор. И не подумаю. Гламис (делая вид, что вытаскивает шпагу). Смотрите же, не вздумайте. Кандор. Ни Боже мой. У меня и в мыслях этого нету, уверяю вас. Да-да, да-да, можете на меня рассчитывать. Да-да, да-да, да-да. Гламис. Тогда поспешим. Вычистим ружья, соберем людей, подготовим армии. Атака на заре. Завтра вечером Дункан будет низложен, и мы поделим трон между собой. Кандор. Вы и вправду считаете Дункана тираном? Гламис. Он тиран, узурпатор, деспот, диктатор, нечестивец, чудище, осел, гусь, хуже не бывает. Доказательство тому — он царствует. Не будь я в этом уверен, неужто я стремился бы свергнуть его? Я действую из лучших побуждений. Кандор. О да, в самом деле. Гламис (Кандору). Поклянемся полностью доверять друг другу.
Кандор и Гламис выхватывают шпаги из ножен, скрепляя клятву.
Я доверяю вам и клянусь, что действую из лучших побуждений.
Вкладывают шпаги обратно в ножны. Быстро расходятся, Гламис — налево, Кандор — направо. Несколько минут сцена пуста. Следует играть на освещении, идущем из глубины, и на звуках, которые только к концу складываются в конкретную музыку. Выстрелы, зигзаги молний, вспышки пламени. В глубине сцены на небе — зарево, алые всполохи. Также слышны раскаты грома. По мере того как горизонт проясняется, все небо окрашивается в красный цвет, выстрелы затихают извучат все реже. Но слышны крики, хрипы и стоны раненых. Тучи рассеиваются, и открываются просторы безлюдной равнины. Крик раненого обрывается, но после двух-трех минут тишины слышится пронзительный стон женщины. Нужно, чтобы световые и звуковые эффекты возникали еще до появления актеров на сцене. При этом они не должны, особенно в конце сцены, казаться слишком правдоподобными. Здесь очень важна работа декоратора, а также осветителя и звукооформителя. Наконец появляется солдат. Он пересекает сцену справа налево со шпагой в руке, выполняя все пассы поединка — мулине, защита, наскоки, увертки, гарде и другие — один за другим, стремительно, без пританцовывания. Наступает тишина. Передышка. Затем все возобновляется. Слева направо сцену перебегает женщина, ее волосы растрепаны. Справа входит продавец напитков.
Продавец напитков. Напитки, прохладительные напитки! Напитки, излечивающие от ран, напитки, прогоняющие страх, напитки для военных, напитки для гражданских! Франк за бутылку, три франка за четыре! Залечивает ссадины, царапины, содранную кожу!
Слева появляются два солдата. Один несет на спине второго.
Продавец напитков (первому солдату). Он ранен? Первый солдат. Нет, он умер. Продавец напитков. От удара шпагой? Его пырнули копьем? Первый солдат. Нет. Продавец напитков. От пули? Первый солдат. Нет. От инфаркта.
Солдаты удаляются налево. Два других солдата появляются справа. Это могут быть те же самые, но теперь они поменялись ролями.
Продавец напитков (указывает на солдата, которого несут). Инфаркт? Несущий солдат. Нет. Удар шпаги.
Солдаты удаляются налево.
Продавец напитков. Прохладительные напитки! Напитки для военных! Напитки от страха, напитки от сердца!
Еще один солдат входит справа.
Прохладительные напитки! Солдат. Чем торгуешь? Продавец напитков. Сладким лимонадом, он излечивает от ран. Солдат. Я не ранен. Продавец напитков. Он помогает от страха. Солдат. Я не ведаю страха. Продавец напитков. Франк за бутылку. Помогает и от сердца. Солдат (ударяя по доспехам). У меня под латами их семь штук. Продавец напитков. Возьмите от царапин. Солдат. Царапины у меня имеются. Мы славно сражались. Вот этим (показывает на палицу). А еще — этим и особенно этим (показывает на шпагу). А больше всего — этим (показывает на кинжал). Вонзить его в живот… в кишки… Вот что я просто обожаю. Гляди-ка, на нем еще кровь не высохла! Я разрезаю им сыр и хлеб прямо так, не обтерев. Продавец напитков. Вижу, господин солдат. Прекрасно вижу даже на расстоянии. Солдат. Трусишь? Продавец напитков (испуганно). Напитки! Напитки! Помогают при ревматизме, простуде, насморке, краснухе, оспе… Солдат. Скольких же я сумел им уложить! Они вопили, кровь била фонтаном… Вот это праздник! Такие красивые праздники случаются нечасто. Дай-ка промочить горло. Продавец напитков. Для вас бесплатно, мой генерал. Солдат. Я не генерал. Продавец напитков. Мой командир. Солдат. Я не командир. Продавец напитков (подает солдату чашу). Вы наверняка им станете. Солдат (сделав несколько глотков). Ну и гадость. Мерзкая водица. И тебе не совестно? Мошенник! Продавец напитков. Могу вернуть вам деньги. Солдат. Дрожишь? Боишься? Значит, этот твой лимонад не лечит тебя от страха? (Вытаскивает кинжал.) Продавец напитков. Не-нет, не надо, господин солдат!
Слышны звуки горна.
Солдат (уходит налево, вкладывая свой кинжал в ножны). Тебе повезло, что у меня времени в обрез. Но я тебя отыщу. Продавец напитков (дрожа от страха). Ну и перепугал же он меня. (Вслед солдату.) Хоть бы другие выиграли сражение и разорвали тебя на куски. На малюсенькие кусочки — рубленое мясо с картофельным пюре. Пошел вон, мерзавец! Негодяй, свинья эдакая! (Меняя тон.) Прохладительные напитки! Три франка за четыре бутылки.
Продавец напитков бредет направо, потом прибавляет шаг, увидев, что слева опять появляется солдат со своими кинжалом и шпагой. Солдат догоняет продавца напитков у самых кулис. Слышно, как тот кричит, избиваемый солдатом. Потом солдат тоже исчезает из виду. Снова, но не так громко, по-видимому, уже дальше, слышатся выстрелы и крики. Небо опять алеет и т. д. Из глубины сцены выходит Макбет. Утомленный, садится на придорожный камень. В руке у него обнаженная шпага. Смотрит на нее.
Макбет. Лезвие моей шпаги окровавлено. Я собственноручно косил их дюжинами. Двенадцать дюжин офицеров и солдат, которые не причинили мне ни малейшего зла. Я отдал приказ специальной команде расстрелять еще многие сотни. Тысячи других погибли, заживо сгорев в лесах, подожженных по моему приказу. Десятки тысяч мужчин, женщин и детей погибли от удушья в подвалах, под обломками своих домов, взорванных по моему приказу. Сотни тысяч утонули в водах Ла-Манша, который они надеялись переплыть, гонимые страхом. Миллионы скончались от страха или покончили с собой. Еще десятки миллионов умерли от возмущения, апоплексического удара или с горя. Не хватает места, чтобы предать все эти трупы земле. Утопленники впитали всю влагу озер, куда они бросались, и вода там иссякла. Хищные птицы не в состоянии склевать все трупы и избавить нас от падали. Представьте себе, еще не все покинули поле боя. Пора заканчивать сражение. Когда отсекаешь голову саблей, кровь из горла хлещет фонтаном. В ее потоках тонут и мои солдаты. Отсеченные головы наших врагов плюют в нас, изрыгают проклятия. Отсеченные руки продолжают потрясать шпагами или стрелять из пистолетов. Вырванные ноги пинают нас в зад. Разумеется, все они предатели. Враги нашей страны. И нашего возлюбленного монарха Дункана, да хранит его Господь. Они хотели свергнуть его. С помощью иностранных солдат. Думаю, я поступил правильно. Конечно, в пылу боя часто рубишь направо и налево без разбору. Но я надеюсь, что по ошибке не убил кого-нибудь из друзей. Мы сражались сомкнутыми рядами, и хорошо, если не отдавили им ноги. Да, наш бой был правый. Передохну-ка я на этом камне. А то меня подташнивает. Я оставил Банко одного командовать армией. Посижу — и пойду сменить его. Странное дело: такое напряжение сил, а я не особенно проголодался. (Достав из кармана большой носовой платок, вытирает пот с лица.) Я рубил наотмашь, так что рука чуть не отвалилась. Хорошо еще, что не вывихнул. Как славно передохнуть. (Ординарцу, который находится за кулисами справа.) Эй, отмой-ка в реке мою шпагу и принеси попить.
Ординарец входит справа, берет шпагу, уходит обратно, но тут же возвращается, даже не успев покинуть сцену.
Ординарец. Вот ваша вымытая шпага, а вот кувшин с вином. Макбет (берет шпагу). Прямо как новенькая.
Макбет вкладывает шпагу в ножны, пьет вино из кувшина, в то время как ординарец уходит налево.
Нет, угрызений совести я не испытываю — ведь все они были предателями. Я только выполнял приказ своего монарха. Услуга по заказу. (Отставляя кувшин.) Славное винцо. Усталости как не бывало. Пошли! (Смотрит в глубь сцены.) А вот и Банко. Эй! Как дела? Голос Банко (или сам Банко, или его голова, то исчезая, то появляясь). Они на грани разгрома. Продолжайте без меня. Я передохну и присоединюсь к вам опять. Макбет. Гламис не должен от нас ускользнуть. Его следует окружить. Надо спешить. (Уходит в глубь сцены.)
Справа входит Банко. Устало садится на придорожный камень. В руке у него обнаженная шпага. Смотрит на нее.
Банко. Лезвие моей шпаги окровавлено. Я собственноручно косил их дюжинами. Двенадцать дюжин офицеров и солдат, которые не причинили мне ни малейшего зла. Я отдал приказ специальной команде расстрелять еще многие сотни. Тысячи других погибли, заживо сгорев в лесах, подожженных по моему приказу. Десятки тысяч мужчин, женщин и детей погибли от удушья в подвалах, под обломками своих домов, взорванных по моему приказу. Сотни тысяч утонули в водах Ла-Манша, который они надеялись переплыть, гонимые страхом. Миллионы скончались от страха или покончили с собой. Еще десятки миллионов умерли от возмущения, апоплексического удара или с горя. Не хватает места, чтобы предать все эти трупы земле. Утопленники впитали всю влагу озер, куда они бросались, и вода там иссякла. Хищные птицы не в состоянии склевать все трупы и избавить нас от падали. Представьте себе, еще не все покинули поле боя. Пора заканчивать сражение. Когда отсекаешь голову саблей, кровь из горла хлещет фонтаном. В ее потоках тонут и мои солдаты. Отсеченные головы наших врагов плюют в нас, изрыгают проклятия. Отсеченные руки продолжают потрясать шпагами или стрелять из пистолетов. Вырванные ноги пинают нас в зад. Разумеется, все они предатели. Враги нашей страны. И нашего возлюбленного монарха Дункана, да хранит его Господь! Они хотели свергнуть его. С помощью иностранных солдат. Думаю, я поступил правильно. Конечно, в пылу боя часто рубишь направо и налево, без разбору. Надеюсь, что по ошибке я не убил кого-нибудь из друзей. Мы сражались сомкнутыми рядами, и хорошо, если не отдавили им ноги. Да, бой был правый. Передохну-ка я на этом камне. А то меня подташнивает. Я оставил Макбета одного командовать армией. Посижу — и пойду сменить его. Странное дело: такое напряжение сил, а я не особенно проголодался. (Достав из кармана большой носовой платок, вытирает им пот с лица.) Я рубил наотмашь, так что чуть рука не отвалилась. Хорошо еще, что не вывихнул. Как славно передохнуть. (Ординарцу, который находится за кулисами справа.) Эй, отмой-ка в реке мою шпагу и принеси попить!
Ординарец входит справа, берет шпагу, уходит обратно, но тут же возвращается, даже не успев покинуть сцену.
Ординарец. Вот ваша вымытая шпага, а вот кувшин с вином. Банко (берет итогу). Прямо как новенькая.
Банко вкладывает шпагу в ножны, пьет вино из кувшина, в то время как ординарец уходит налево.
Нет, угрызений совести я не испытываю — ведь все они были предателями. Я только выполнял приказ своего монарха. Услуга по заказу. (Отставляя кувшин.) Славное винцо. Усталости как не бывало. Пошли. (Смотрит в глубь сцены.) А вот и Макбет! Эй! Как дела? Голос Макбета (или сам Макбет, или его голова, исчезая и появляясь). Они на грани разгрома. Присоединяйтесь ко мне! Пора заканчивать! Банко. Гламис не должен от нас ускользнуть. Его следует окружить. Надо спешить. (Уходит в глубь сцены.)
Шум сражения усиливается. Зарево на небе разгорается все ярче. Музыка очень ритмичная и жесткая. Слева направо сцену спокойно пересекает женщина с продуктовой корзинкой в руке. Шумы снова затихают, теперь они лишь звуковой фон. Несколько мгновений сцена пуста. Потом просто оглушительно трубят фанфары. Слева быстрым шагом входит офицер, который вносит нечто вроде кресла или переносного трона и ставит его в центре сцены.
Офицер. Эрцгерцог Дункан — наш монарх и эрцгерцогиня!
Слева входит Дункан, за ним следует леди Дункан. Она в парадном облачении — корона на голове, длинное платье зеленого цвета в цветочках. За ней следует придворная дама — красивая молодая особа. Она остается стоять у выхода. Дункан усаживается на трон, тогда как обе женщины продолжают стоять.
Офицер. Входите, входите, ваше высочество. Сражение протекает уже на большом расстоянии отсюда. Обстрел вам здесь не угрожает. Ни одной шальной пули. Не бойтесь. Здесь даже гуляют прохожие. Дункан. Кандор побежден? А если он побежден, то казнили ли его? Убили ли Гламиса, как я приказал? Офицер. Будем надеяться. Вам следовало бы пойти и взглянуть самому. Горизонт так и пылает. Похоже, сражение продолжается, но уже в отдалении. Так что, ваше высочество, подождите, пока оно закончится. Наберитесь терпения. Дункан. А что, если Кандор и Гламис одержали победу? Леди Дункан. Тогда вы, взяв оружие, пойдете сражаться сами. Дункан. Если они победили, то где мне искать убежища? Король Мальты — мой враг. Император Кубы — тоже. Принц Болеарских островов — тоже. Короли Франции и Ирландии — тоже. У меня много врагов при английском дворе. Куда пойти? Где укрыться? Офицер. Ваше высочество, доверьтесь Макбету и Банко. Они хорошие генералы, храбрые, энергичные. Превосходные стратеги. Они уже не раз доказывали это на деле. Дункан. Мне не остается ничего иного, как надеяться на них. И все же я приму свои меры предосторожности. Велите оседлать моего лучшего скакуна, того, что не брыкается, и подготовьте лучший корабль, самый устойчивый на волнах, со спасательными шлюпками. Жаль, что я не могу приказать луне, чтобы она была полной, и небу, чтобы в нем светило много звезд, так как я поплыву ночью. Так будет благоразумнее. А благоразумие — мать мудрости. Шкатулку с золотыми монетами я понесу сам. Но куда мы возьмем курс? Офицер. Повремените. Не нужно падать духом.
Появляется раненый солдат, он вдет нетвердой походкой.
Дункан. Что туг еще за пьяница? Офицер. Нет, это не пьяница. Скорее он похож на раненого солдата. Дункан. Если ты идешь с поля брани, расскажи мне, какие там новости. Кто победил? Раненый солдат. Да какая разница… Офицер. Тебя спрашивают, кто победил, есть ли победители? Отвечай, перед тобой твой монарх, он задал тебе вопрос. Дункан. Я твой монарх — эрцгерцог Дункан. Раненый солдат. Ну, тогда другое дело. Извините, я ранен. Мне досталось копьем, и в меня стреляли из пистолета. (Шатается.) Дункан. Не вздумай притворяться, что теряешь сознание. Так будешь ты говорить или нет? Кто победил? Они или мы? Раненый солдат. Извините, но в точности я не знаю. Я сыт всем по горло. Сказать по правде, я сбежал намного раньше. Задолго до исхода боя. Дункан. Ты обязан был оставаться до конца сражения. Офицер. Тогда он не смог бы быть тут, милорд, чтобы отвечать на ваши вопросы. Дункан. Он покидает поле сражения в самый разгар событий, словно это спектакль, который ему не по вкусу. Раненый солдат. Ведь я же сказал вам, что упал. Я потерял сознание. Потом пришел в себя. Поднялся как мог и через силу дотащился сюда. Дункан. Но ты и вправду сражался на нашей стороне? Раненый солдат. А какая сторона — наша? Офицер. Да эрцгерцога и эрцгерцогини, которых ты видишь перед собой. Раненый солдат. Я что-то не приметил его высочества на поле брани. Дункан. А как звали твоих генералов? Раненый солдат. Не знаю. Я как раз выходил из таверны, когда сержант меня заарканил. Так меня и завербовали. Парням, которые пили вместе со мной в таверне, удалось удрать. Им повезло. А я было попытался сопротивляться, но меня избили, связали и увели. Дали мне саблю. Ах, у меня ее уже нет. И пистолет. (Прикладывает дуло пистолета к виску, нажимает на курок.) Ну вот, все пули вышли. Выходит дело, я стрелял. Потом нас собралось много, и тут, на равнине, нас заставили кричать «Да здравствует Гламис!» и «Да здравствует Кандор!». Дункан. Ах, предатель! Значит, ты был на стороне наших врагов! Офицер (Дункану). Не отсекайте ему головы, ваше высочество, если хотите от него что-либо узнать. Раненый солдат. Потом они стреляли в нас. А мы стреляли в них. Дункан. В кого это «в них»? Раненый солдат. А потом мы попали в плен. А потом мне сказали: «Если хочешь сохранить голову на плечах, а не смотреть, как она катится под ноги, давай шагай с нами». Нам велели кричать: «Долой Кандора, долой Гламиса!» А потом мы стреляли в них, а потом они стреляли в нас. И в меня попали пули. А потом мне саданули по бедру— вот сюда, а что было дальше, я уже не знаю. Я упал, а когда очнулся, сражение продолжалось вдалеке. А потом не было ничего, кроме того, что кругом умирали люди. И я побрел куда глаза глядят, как я вам уже и сказал. У меня болит правая нога и левая рука, из бока льется кровь. Так я и дотащился сюда… Вот и все, что я могу вам рассказать… Я истекаю кровью. Кровь течет и течет. Дункан. С этим болваном мы так ничего толком не узнаем. Раненый солдат (мучительно приподнимаясь и спотыкаясь). Это все, что я могу рассказать. Я ничего больше не знаю. Дункан (к леди Дункан, показывая на солдата). Он дезертир.
Леди Дункан достает кинжал и поднимает руку, намереваясь заколоть солдата.
Раненый солдат. О миледи, я могу издохнуть и без вашей помощи… (Указывая направо.) Я могу подохнуть и сам по себе, под деревом. Так что не затрудняйтесь, не надо утомлять себя по пустякам. (Пошатываясь, уходит налево.) Леди Дункан. По крайней мере, он вежлив. Такой солдат — просто редкость.
Справа доносится звук, напоминающий падение тела.
Дункан (офицеру). Оставайтесь тут, чтобы защищать меня при необходимости. (К леди Дункан.) Берите коня и скачите на поле боя. Да возвращайтесь поскорее рассказать мне, что же там все-таки происходит… Разумеется, не слишком приближайтесь… А я постараюсь следить за вами в подзорную трубу.
Леди Дункан уходит направо, сопровождаемая придворной дамой. Когда Дункан смотрит в подзорную трубу, в глубине сцены еще видна леди Дункан верхом на коне. Потом Дункан отставляет подзорную трубу в сторону. В это же время офицер выхватывает шпагу из ножен и свирепо глядит по сторонам. Затем Дункан уходит направо, сопровождаемый офицером, который уносит трон.
Сцена вторая
Вблизи поля брани. Из-за кулис со всех сторон слышны выкрики: «Победа, победа, победа!..» До конца следующей сцены многократно слышится это слово — модулированное, оркестрованное. Из-за кулисы справа слышится приближающийся галоп коня. Слева торопливо входит ординарец.Ординарец (прикладывает руку ко лбу козырьком). Что это за конь, который скачет галопом? Похоже, он приближается. Скачет к нам во весь опор. Ну да, он скачет во весь опор! Банко (входит слева и прикладывает руку козырьком). Что надо этому всаднику, который так быстро приближается к нам на этом великолепном скакуне? Должно быть, это гонец. Ординарец. Это не всадник, а всадница!
Ржание лошади. Галоп прекращается. Появляется леди Дункан с хлыстом в руке.
Банко. Да это же ее высочество эрцгерцогиня. Эрцгерцогиня! Нижайшее почтение, ваше высочество.
Банко отвешивает глубокий поклон, затем коленопреклоненно целует руку, протянутую ему леди Дункан.
Что делает ваше высочество столь близко от поля брани? Мы счастливы и горды тем, что ваше высочество проявляет такой интерес к нашим схваткам с врагами. Но мы, не знающие страха, опасаемся за жизнь вашего высочества. Леди Дункан. Дункан послал меня за новостями. Он желает знать, как обстоят дела и выиграли ли вы войну. Банко. Мне вполне понятно такое нетерпение. Мы выиграли. Леди Дункан. Браво. Поднимитесь, мой дорогой Макбет. Банко. Я не Макбет, я Банко. Леди Дункан. Извините. Встаньте, мой дорогой Банко. Банко (вставая). Благодарю вас, миледи. (Ординарцу.) Что ты здесь стоишь и пялишься на нас? Немедленно убирайся, проклятый! Дерьмо, кретин!
Ординарец исчезает.
Банко. Простите меня, ваше высочество, за то, что выражаюсь в вашем присутствии как солдафон. Леди Дункан. Я полностью извиняю вас, Банко. Это совершенно естественно во время войны. Главное — победить. И если ругательства помогут вам в этом, тем лучше. Взяли ли вы барона Кандора в плен? Банко. Ну а как же. Леди Дункан. А барона Гламиса? Голос Макбета (доносится слева). Банко! Банко! Где ты? С кем это ты разговариваешь? Банко. С ее высочеством леди Дункан, которую послал сюда сам эрцгерцог. Он желает знать, что тут происходит. (К леди Дункан.) Макбет самолично расскажет вам о судьбе Гламиса. Голос Макбета. Я спешу к вам. Банко (к леди Дункан). Миледи, я оставляю вас на Макбета. Он вам расскажет о судьбе взятых в плен и сообщит необходимые подробности. Голос Макбета (совсем близко). Иду-иду. Банко. Простите, ваше высочество, я должен накормить своих подчиненных. Хороший генерал — родной отец солдатам. (Уходит налево.) Голос Макбета (звучит еще ближе). Вот и я! Вот и я!
Макбет входит слева.
Макбет (приветствует леди Дункан). Миледи, мы славно послужили нашему возлюбленному монарху. Кандор в наших руках. Гламиса преследуют на горе. Он окружен. Ему от нас не ускользнуть. Леди Дункан. Так это и есть генерал Макбет? Макбет (с глубоким поклоном). Ваш покорный слуга, ваше высочество. Леди Дункан. У меня сохранился в памяти совсем другой образ. Вы не очень-то похожи на самого себя. Макбет. Когда я утомлен, черты моего лица и в самом деле меняются и я становлюсь не похож на самого себя. Меня принимают за моего двойника, а иногда — за двойника Банко. Леди Дункан. Должно быть, вы частенько и сильно переутомляетесь. Макбет. Война — занятие не из легких. На войне как на войне. Профессиональный риск…
Леди Дункан протягивает Макбету руку. Тот целует ее, преклонив колено. Затем вскакивает.
Надо бежать. Леди Дункан. Я спешу к эрцгерцогу с доброй вестью. Голос Банко (из-за кулис). Всякая опасность миновала.
Леди Дункан идет к правому входу. Усиленно машет рукой и возвращается на середину сцены. Слышны фанфары.
Леди Дункан. Он сейчас явится. Макбет. Его высочество эрцгерцог! Офицер (появляясь). Его высочество эрцгерцог! Голос Банко. Эрцгерцог! Леди Дункан. Вот и эрцгерцог! Голова Банко (то появляется, то исчезает). Эрцгерцог! Офицер. Эрцгерцог! Макбет. Эрцгерцог! Леди Дункан. А вот и эрцгерцог! Голос Банко. Эрцгерцог! Офицер. Эрцгерцог! Макбет. Эрцгерцог! Леди Дункан. А вот и эрцгерцог собственной персоной! Голова Банко. Эрцгерцог! Офицер. Эрцгерцог! Макбет. Эрцгерцог! Леди Дункан. А вот и наш эрцгерцог!
Громко звучат фанфары. Слышны аплодисменты. Справа входит Дункан. Фанфары смолкают.
Леди Дункан. Сражение закончилось. Макбет. Приветствую вас, ваше высочество. Голова Банко. Мы приветствуем вас, ваше высочество! Офицер. Мы приветствуем ваше высочество! Макбет. Нижайший привет, ваше высочество. Дункан. Победа за нами? Макбет. Всякая опасность миновала. Дункан. У меня на сердце камень. Кандор казнен? (Громче.) Кандор казнен? Макбет. Нет, мой добрый монарх. Но он у нас в плену. Дункан. Что же вы ждете, чтобы его прикончить? Макбет. Вашего приказа, мой добрый монарх. Дункан. Я отдаю его. Отрубите ему голову, и все дела. А как поступили вы с Гламисом? Вы повыдергали у него руки и ноги? Макбет. Нет-нет, мой добрый монарх. Но он окружен. Его незамедлительно задержат. Бояться абсолютно нечего, ваша милость. Дункан. Ну, раз так, поздравляю и благодарю.
Слышатся выкрики солдат: «Ура!» Толпа вторит им и тоже кричит «Ура!». Солдат не видно, разве что на экране.
Макбет. Мы счастливы и горды тем, что послужили вам, мой добрый государь.
Снова звучат фанфары, постепенно затихая настолько, что становятся лишь звуковым фоном.
Дункан. Спасибо, мои дорогие генералы. И прежде всего спасибо моим доблестным солдатам, честным людям из народа, спасителям отечества и моего трона. Многие из вас пожертвовали жизнью. Еще раз спасибо вам, мертвым и живым, всем, кто встал на защиту моего трона… который является также и вашим. Возвратившись домой, будь это скромная деревня, бедный семейный очаг или простые, но доблестные могилы, вы станете примером для нынешних и будущих поколений. Более того, для поколений минувших, с которыми вы станете вести беседу, век за веком, вслух или безгласно, навеки оставаясь примером, безымянным или нет, перед лицом истории, вечной и скоротечной. Ваше присутствие — ибо само ваше отсутствие станет присутствием для всех, кто посмотрит на ваш лубочный портрет, реальный или воссозданный по памяти, — ваше присутствие вернет на путь истинный всех тех, кто впредь мог бы испытывать соблазн с него сойти. Так продолжайте же, как и доселе, зарабатывать на хлеб насущный в поте лица, при жгучем солнце и непогоде, под надзором своих господ и начальников, которые любят вас, несмотря на ваши недостатки, сильнее, чем вы можете себе это вообразить. Ступайте.
Во время этой тирады Дункана справа входит придворная дама. Несколько мгновений чуть громче звучат фанфары и крики «ура». Макбет. Браво! Офицер. Браво! Дункан. Я все разложил по полочкам. Леди Дункан. Браво, Дункан! (Аплодирует.) На сей раз вы прекрасно говорили. (Выговаривая придворной даме.) Вы опоздали, моя дорогая. Придворная дама. Я шла пешком, миледи.
Макбет и офицер аплодируют речи Дункана.
Голос Банко. Браво! Дункан. Эти люди вполне того заслужили. Отныне мои генералы и друзья разделят со мной мою славу. Приведите пленного Кандора. Но где же Банко? Макбет. Он состоит при пленном. Дункан. Он будет его палачом. Макбет (в сторону). Эта честь должна была выпасть на мою долю. Дункан (офицеру). Пусть он явится вместе с мятежником. Ступай за ним.
Офицер уходит налево, в этот же момент справа входят Кандор и Банко. Последний надевает на голову капюшон с отверстиями для глаз и красную вязаную фуфайку. В руке он должен держать секиру. У Кандора на руках наручники.
Дункан (Кандору). Ты заплатишь мне за свой мятеж. Кандор. Он мне дорого обойдется! Я не строю иллюзий. Увы, не я победил в войне. Победителей не судят. (Макбету.) Сражаясь на моей стороне, ты был бы вознагражден сторицей, Макбет. Я произвел бы тебя в герцоги. И тебя, Банко, тебя я тоже сделал бы герцогом. Вы бы объелись богатствами и почестями. Дункан (Кандору). Не беспокойся за Макбета — он станет Кандорским таном, он унаследует все твои земли и, если пожелает, возьмет твоих жену и дочь. Макбет (Дункану). Я ваш верный слуга, милорд. Я сама верность. Я родился быть верным вашей персоне, как лошадь или собака рождаются для верности своему хозяину. Дункан (к Банко). А ты не беспокойся и не завидуй. Как только Гламиса схватят, как только ему отсекут голову, ты станешь Гламисским таном, наследником всего его состояния. Макбет (Дункану). Благодарю вас, милорд. Банко (Дункану). Благодарю вас, милорд. Макбет. Мы сохранили бы свою верность вам… Банко. Мы сохранили бы свою верность вам… Макбет. …даже и без вознаграждения. Банко. …даже и без вознаграждения. Макбет. Служить вам — уже одно это нас вознаграждает. Банко. Служить вам — уже одно это нас вознаграждает. Макбет. Однако ваша щедрость компенсирует всякую алчность. Банко. Благодарим вас от всей души… Макбет и Банко (одновременно, один обнажает шпагу, другой потрясает кинжалом). От всей души, которую мы готовы отдать за ваше милостивое высочество.
Справа налево сцену пересекает старьевщик.
Старьевщик. Покупаю старую одежду, тряпье! Покупаю старую одежду, тряпье! Дункан (Кандору). Видишь, как эти люди мне преданы? Макбет и Банко (Дункану). Это потому, что вы добрый монарх, справедливый и щедрый. Старьевщик. Покупаю старую одежду, тряпье! (Уходит налево.)
Эпизод со старьевщиком можно сохранить или опустить по желанию постановщика. Пока старьевщик покидает сцену, входит слуга с креслами для Дункана, леди Дункан. Во время следующего действия он (ему помогает придворная дама) принесет полотенце, миску и мыло или же просто туалетную воду для леди Дункан, которая будет мыть руки так тщательно, словно отмывая налипшую грязь. Но она должна делать это машинально, с рассеянным видом. Затем тот же слуга принесет стол и чайный сервиз и, разумеется, подаст чай всем присутствующим. Тем временем высвечивается гильотина, затем целый ряд гильотин.
Дункан (Кандору). Хочешь ли ты напоследок что-нибудь сказать? Мы слушаем тебя.
Все усаживаются поудобнее, чтобы слушать и смотреть.
Слуга (к леди Дункан). Чай подан, миледи. Кандор. Если бы я одержал победу, я был бы вашим коронованным монархом. Оказавшись побежденным, я всего лишь подлец и предатель. Почему я не выиграл это сражение? Потому что этого не пожелала История. Объективно История права. Я не более чем ее отбросы. Пусть моя судьба по крайней мере послужит уроком для всех, кто сейчас находится тут, и для потомства. Следуйте всегда за сильнейшим. Но как узнать до сражения, кто сильнейший? Дело в том, что большинство в сражении не участвует. А остальные следуют только за одерживающими победу. Единственный аргумент — логика Истории. Нет ничего резоннее исторической логики. Ее не может предугадать никакая сверхчувствительность. Я виновен. И тем не менее наш мятеж был необходим, чтобы доказать, что я преступник. Я счастлив умереть. Моя жизнь не в счет. Пусть мой труп и трупы тех, кто пошел за мной, послужат удобрению полей, на которых вырастут хлеба будущего урожая. Моя судьба — наглядный пример того, чего не следует делать. Дункан (к леди Дункан, приглушенным голосам). Слишком длинная речь. Вы не соскучились, миледи? Вы, несомненно, с нетерпением ждете продолжения. Нет-нет, пыток не будет — только казнь. Вы разочарованы? Я приготовил вам сюрприз, дорогая. Программа будет насыщеннее, чем вы думаете. (Ко всем.) Справедливости ради солдаты, сражавшиеся под началом Кандора, будут казнены после него. Их не слишком много: каких-нибудь сто тридцать тысяч. Поторопимся, пора с этим покончить до наступления ночи.
В глубине сцены видно, как садится большое красное солнце.
(Хлопает в ладоши.) Давайте! Приступайте к казни! Кандор. Да здравствует эрцгерцог!
Банко уже положил голову Кандора под нож гильотины. В глубине сцены быстро, один за другим (это одни и те же актеры) проходят чередой солдаты Кандора, которым отсекают головы гильотины. Эшафот и гильотины могли возникнуть на сцене сразу после того, как Дункан отдал приказ.
Банко. Давайте же быстрей, быстрей, быстрей!
После каждого «Быстрей!» ножи опускаются и головы летят в корзины.
Дункан (Макбету). Присядьте, пожалуйста, дорогой друг, рядом с моей благородной супругой.
Макбет садится радом с леди Дункан. Надо, однако, чтобы оба они сидели на виду и зрители могли следить за происходящим на сцене. Например, леди Дункан, как и другие герои, может сидеть лицом к зрителям, а гильотина находится за ее спиной. Она могла бы сделать вид, что следит за казнью, — например, считать головы казненных. Во время всей этой игры слуга вторично потчует всех чаем, угощает печеньем и т. д. Ему неизменно помогает придворная дама.
Макбет. Меня бросает в дрожь от близости к вам, миледи. Леди Дункан (не переставая считать). Четыре, пять, шесть, семь, семнадцать, двадцать три, тридцать три, двадцать три, тридцать три, тридцать три! Ах! Кажется, я одного пропустила.
Продолжая считать, она при этом заигрывает с Макбетом: наступает ему на ногу, подталкивает локтем, сначала сдержанно, потом переходя границы приличия. Макбет вначале слегка отодвигается, сконфуженный и смущенный, затем уступает, позволяет ей все это со смесью удовольствия и робости, становится соучастником этой игры.
Дункан (Макбету). Поговорим о деле. Я назначу вас Кандорским таном, а вашего союзника Банко — таном Гламисским, как только Гламис будет казнен. Леди Дункан (продолжая свою игру). Сто семнадцать, сто восемнадцать… До чего же волнующее зрелище! Макбет. Благодарю, ваше высочество. Леди Дункан. Триста. Головокружительное зрелище. Девять тысяч. Дункан (Макбету). Но давайте четко договоримся.
Макбет чуть отстраняется от леди Дункан, которая прижимается к нему все сильнее и кладет руку ему на колено.
Макбет. Я весь внимание, милорд. Дункан. Половину земель Кандора, как и половину земель Гламиса, я присоединяю к владениям короны. Леди Дункан. Двадцать тысяч. Банко (продолжая свое дело палача). Благодарю, ваше высочество. Дункан (Макбету). За вами обоими останутся еще некоторые обязательства, услуги, налоги, которые вы нам заплатите.
Справа вбегает офицер и останавливается посредине сцены.
Офицер. Гламис сбежал! Дункан. Мы уточним все это позже. Офицер. Милорд, Гламис сбежал! Дункан (офицеру). Что ты такое говоришь? Офицер. Гламис сбежал! Части его армии удалось к нему присоединиться.
Банко, приостановив работу палача, приближается. Другие повскакали с мест.
Банко. Как же он сумел убежать? Ведь он был окружен? Он попал в плен. Не иначе как у него нашлись союзники. Макбет. Черт возьми! Дункан (к Банко). Ваша это вина или вина ваших подчиненных, но вам не бывать ни Гламисским таном, ни владельцем половины его земель, пока не приведете ко мне Гламиса живым или мертвым, со связанными руками и ногами. (Поворачиваясь к офицеру.) Тебе отсекут голову за объявление нам столь бедственной вести. Офицер. Я тут ни при чем.
Появляется солдат, который тащит другого солдата в глубину сцены, к гильотине. Дункан под музыку уходит. Леди Дункан продолжает строить глазки Макбету и толкать его ногой. Придворная дама тоже уходит. Снова появляется Дункан, музыка затихает. Леди Дункан удаляется, пятясь назад и посылая Макбету воздушные поцелуи.
Дункан. Не мешкайте, миледи. Леди Дункан. Мне хочется досмотреть. Дункан (к Банко). Доставьте мне Гламиса. И не позднее завтрашнего дня. (Уходит.)
Музыка.
Банко (направляясь к Макбету). Все сначала. Ну и дела… Какая неприятность. Макбет. Ну и дела… Какая неприятность! Банко. Ну и дела… Какая неприятность! Макбет. Ну и дела… Какая неприятность!
Сцена третья
Шум ветра. Сцена в полутьме. Сделать так, чтобы можно было различить только лицо Макбета и лишь позднее — лица первой ведьмы, а затем и второй. Входят Банко и Макбет.Макбет. Какой ураган, Банко! Просто ужас. Похоже, ветер может с корнем вырвать деревья из земли. Лишь бы они не повалились нам на голову. Банко. До ближайшей таверны километров десять, а у нас нет лошадей. Макбет. Любовь к прогулкам завела нас слишком далеко. Банко. И вот нас настиг ураган. Макбет. Однако мы здесь не для разговоров о дожде и плохой погоде. Банко. Пойду-ка взгляну, не проезжает ли кто по дороге. Нас могли бы подвезти. Макбет. Я подожду вас здесь.
Банко уходит. Появляются ведьмы.
Первая ведьма. Привет тебе, Макбет, Кандорский тан. Макбет. Вы меня напугали. Я и не подозревал, что тут кто-нибудь есть. Ах, это всего лишь старуха. Похоже, она ведьма. Откуда тебе известно, что я Кандорский тан? Людская молва уже достигла лесов, раскачиваемых ветром? Неужто ветер и ураган донесли эту весть? Вторая ведьма (Макбету). Привет тебе, Макбет, Гламисский тан. Макбет. Гламисский тан? Но Гламис не умер. И Дункан пообещал отдать его титул и земли Банко. (Замечает, что с ним говорила другая ведьма.) Смотри-ка, а их тут две… Первая ведьма. Гламиса уже нет в живых. Он только что утонул в реке вместе со своим конем, и его унесло в море. Макбет. Ах вы старые ведьмы — старые сестры-двойняшки! Первая ведьма. Рыцарь Макбет, Дункан гневается на Банко, который позволил Гламису удрать. Макбет. Откуда вам это известно? Вторая ведьма. Он хочет воспользоваться этим промахом. Он даст тебе титул, обещанный Банко, а все его земли отойдут престолу. Макбет. Дункан — человек слова. Он держит свои обещания. Первая ведьма. Ты станешь эрцгерцогом, повелителем этой страны. Макбет. Лжешь! Я вовсе не рвусь к власти. У меня совсем другая мечта — служить своему монарху. Первая ведьма. Ты станешь им. Так предначертано судьбой. Я вижу звезду на твоем челе. Макбет. Начнем с того, что это невозможно. У Дункана есть сын, Макол, он учится в Карфагене. Вот он и есть законный наследник престола. Вторая ведьма. У него их даже два. Второй закончил обучение в Рагузе — постиг науку экономики и навигации. Его зовут Дональбайн. Макбет. Никогда и не слышал о Дональбайне. Первая ведьма. Не старайся запоминать это имя, Макбет, не стоит труда. В дальнейшем речи о нем не будет. (Второй ведьме.) Он изучал не навигацию, а коммерцию. Макбет. Хватит болтать! (Обнажает шпагу.) Сгиньте вы, ведьмы! (Угрожающе размахивает шпагой направо и налево.)
Слышен демонический хохот.
Исчадия ада!
Ведьмы исчезают.
Полноте, да видел ли я их, слышал ли? Они превратились в дождь и ураганный ветер… Стали корнями деревьев… Голос первой ведьмы (на сей раз это мелодичный женский голос). Я не ветер, и я не приснилась тебе, Макбет, прекрасный рыцарь. Скоро мы увидимся снова. И ты узнаешь власть моих чар. Макбет. Ну и ну… Ну и ну. (Проделывает еще два-три выпада шпагой.) Чей это голос? Он кажется мне знакомым. О, голос! Есть ли у тебя обличье — лицо и тело? Голос первой ведьмы. Я рядом, и я далеко. Но ты меня еще увидишь. До скорой встречи. Макбет. Я весь дрожу. От холода? Или от дождя? А может быть, это страх? Или ужас? Какую непонятную тоску рождает во мне этот голос? Что этот голос мне напоминает? Неужто я уже подпал под власть чьих-то чар? (Меняя тон.) Банко! Банко! Куда же он подевался? Банко! Банко! Да где же он? Нашел ли он повозку? Где ты? Банко! Банко! (Уходит направо.)
Несколько мгновений сцена пуста. Ураган продолжается. Появляются ведьмы.
Первая ведьма. А вот и Банко. Вторая ведьма. Когда Макбет и Банко не вместе, они либо гоняются друг за другом, либо ищут один другого.
Первая ведьма прячется на сцене справа. Вторая — слева. Из глубины сцены появляется Банко.
Банко. Макбет! Макбет! (Ищет Макбета.) Макбет! Я нашел повозку. (Самому себе.) Я промок до нитки. Счастье еще, что дождь утихает. Голос (издалека). Банко! Банко. Мне показалось, что он меня позвал. Он должен был ждать меня тут. Наверно, потерял терпенье. Голос (слева). Банко! Банко! Банко. Я здесь, Макбет! Где ты? Голос (ближе, справа). Банко! Банко! Банко. Иду. Но где же ты? Голос (другой, доносится слева). Где ты? Подай мне голос! Голос первой ведьмы. Банко! Банко. Разве это меня зовет Макбет? Голос второй ведьмы. Банко! Банко. Что-то непохоже на голос Макбета.
Обе ведьмы появляются на сцене одновременно и вплотную подходят к Банко — справа и слева.
Банко. Как понять этот розыгрыш? Первая ведьма. Приветствую тебя, рыцарь Банко, союзник Макбета. Вторая ведьма. Привет тебе, генерал Банко! Банко. Кто вы такие? Мерзкие созданья… Что вам от меня надо? Не будь вы жалким подобием женщин, вы бы уже разглядывали свои головы у себя под ногами за насмешки надо мной. Первая ведьма. Не сердитесь, генерал Банко. Банко. Откуда вам известно мое имя? Вторая ведьма. Привет тебе, Банко, которому не бывать Гламисским таном. Банко. Откуда вам известно, что я должен был им стать? Откуда вам известно, что я им не стану? Людская молва уже дошла до лесов, раскачиваемых ветром? Ветер и буря донесли эхо слов Дункана? Почему вы уверены в том, что знаете его намерения? Ведь он ни с кем ими не делится. Наконец, я не могу стать Гламисским таном, поскольку Гламис еще жив. Первая ведьма. Гламис только что утонул в реке вместе со своим конем, и его унесло в море. Банко. Что за скверная шутка? Я велю отрезать язык вам обеим. Ах вы, старые ведьмы, старые сестры-двойняшки! Вторая ведьма. Рыцарь Банко, Дункан гневается на тебя за то, что ты позволил Гламису удрать. Банко. Откуда вам это известно? Первая ведьма. Он хочет воспользоваться твоей ошибкой, чтобы разбогатеть еще больше. Он отдает Макбету титул Гламисского тана, но все земли отойдут престолу. Банко. Я удовлетворился бы и одним титулом. Зачем бы Дункану меня его лишать? Нет, Дункан — человек слова. Он сдержит обещание. Зачем отдавать титул Макбету? Зачем ему меня так наказывать? С какой стати Макбету отдадут все милости и все привилегии? Вторая ведьма. Макбет — твой соперник, твой счастливый соперник. Банко. Он мой союзник. Мой друг. Мой брат. Он порядочный человек. Обе ведьмы (прыгая). Он говорит, что Макбет — порядочный человек! Он говорит, что Макбет — порядочный человек! (Хохочут.) Банко (обнажая шпагу). Я понял, кто вы, исчадья ада! Старые поганые ведьмы! Вы шпионки, подосланные врагами Дункана, нашего дорогого и справедливого монарха!
Банко мечется по сцене, пытаясь обрушить на их головы шпагу, но они увертываются от ударов и спасаются бегством: первая — налево, вторая — направо.
Первая ведьма. Это Макбет станет монархом! Он займет место Дункана! (Исчезает.) Вторая ведьма. Он сядет на его трон! (Исчезает.) Банко. Где вы, проклятые нищенки? Дьявольские отродья! (Остановившись посередине сцены, вкладывает шпагу в ножны.) А правда ли, что я их слышал? Они стали дождем и грозой. Они превратились в корни деревьев. Быть может, они мне просто привиделись? Макбет! Макбет! Голос второй ведьмы. Послушай меня, Банко, послушай. (Голос становится чистым и мелодичным.) Слушай меня и вникай: ты не будущий король, но вознесешься превыше Макбета. Превыше Макбета. Ты родишь королей, что будут править нашейстраной сто веков. Ты вознесешься превыше Макбета, отец, дед и пращур королей. Банко. Вот это да… Вот это да. (Делает еще два-три выпада шпагой и останавливается.) Чей это голос? Он кажется мне знакомым. О голос, есть ли у тебя обличье, лицо и тело? Где ты? Голос. Я рядом, и я далеко. Но ты меня еще увидишь, Банко. Ты еще узнаешь мою власть и мои чары. До скорой встречи, Банко. Банко. Я весь дрожу. От холода? Или от дождя? А может быть, это страх? Или ужас? Какую непонятную тоску рождает во мне этот голос? Что этот голос мне напоминает? Неужто я уже подпал под власть чьих-то чар? (Меняя тон.) Но ведь это были всего лишь две мерзкие ведьмы, какие-то шпионки, вруньи и интриганки. Отец короля — это я-то? При том, что у нашего возлюбленного государя есть сыновья? Макол, который учится в Карфагене, родной сын и законный наследник трона? А также До-нальбайн, недавно получивший диплом об окончании высшей коммерческой школы в Рагузе? Все это сущий вздор. Надо выбросить это из головы… Слева доносится голос Макбета: «Банко! Банко!» Банко. Голос Макбета! Макбет, ах, вот и Макбет! Голос Макбета. Банко! Банко. Макбет!
Устремляется налево, откуда доносится голос Макбета. Некоторое время сцена пуста. Постепенно ее заливает свет. В глубине сцены сияет яркая луна, окруженная звездами. Хорошо было бы также показать Млечный Путь в виде грозди винограда. Декорация уточнится и обогатится по мере действия. Лишь постепенно можно будет различить в глубине сцены башню замка с освещенным окном посредине. Важно, чтобы декорации «играли» и в отсутствие персонажей. (Последующее можно сохранить или отбросить.) Дункан молча пересекает сцену справа налево. Едва Дункан исчезает, как появляется леди Дункан, пересекает сцену в том же направлении и тоже исчезает. Макбет молча проходит сцену в противоположном направлении. Офицер идет справа налево. Так же справа налево пересекает сцену Банко. Женщина безмолвно, медленно проходит в противоположном направлении. (По моему мнению, надо сохранить по крайней мере женщину.) Некоторое время сцена пуста. Из глубины выходит Банко.
Банко. Все это неспроста. Ведьма сказала правду. Откуда она узнала эту новость? Кто мог ей сообщить о происходящем при дворе? И узнала так быстро? А может быть, у нее сверхъестественные способности? Во всяком случае, необычные? Может быть, она нашла способ улавливать вибрации волн? А может, изобрела зеркала, приближающие далекие образы и лица, словно они находятся совсем близко, просто рядом, в двух шагах от нас? Есть ли у нее очки, способные рассмотреть происходящее за сотни и тысячи километров и приблизить их изображения к нашим глазам? Есть ли у нее инструменты, усиливающие слух до невероятной остроты? Офицер эрцгерцога только что принес мне весть о смерти Гламиса и вторую — о лишении меня владений. Неужто Макбет добился этого титула с помощью интриг? Мой порядочный друг, мой боевой соратник оказался всего лишь коварным плутом? Неужто Дункан окажется столь неблагодарным, что не признает моих усилий и риска, на какой я шел, опасностей, каким подвергался, чтобы защищать его и спасти? Выходит, никому нельзя доверять и надо остерегаться собственного брата? Самой верной собаки и вина, какое я пью? Воздуха, каким я дышу? Нет, нет. Я слишком хорошо знаю Макбета, чтобы не сомневаться в его порядочности и добродетели. Решение Дункана наверняка исходит от него самого. Ему никто ничего не нашептывал. Вот оно, его подлинное лицо. Но Макбету это еще не известно. (Идет налево, потом возвращается на середину сцены.) Они способны видеть сквозь пространство, эти чудовища, дьявольские отродья. Способны ли они увидеть будущее? Они предсказали мне, что я стану прародителем целого клана королей. Странно и невероятно! Лучше бы колдуньи рассказали мне об этом побольше, если и вправду ведают будущее. Вот бы увидеть их снова… Что-то их больше не видать. Но ведь они были тут! (Уходит налево.) Голос Макбета: «Банко! Банко!» Голос приближается, зовет еще раз-другой: «Банко!» Макбет (входит справа). Куда он мог запропаститься, скотина? А ведь мне говорили, что он где-то в этих местах. Хотелось бы мне с ним поговорить. Посланец эрцгерцога призвал меня ко двору. Государь сообщил мне, что Гламис умер и я наследую его титул. Но не земли. Предсказания ведьм сбываются. Я пытался сказать Дункану, что не хотел бы обездолить Банко. Пытался объяснить, что мы были слишком добрыми друзьями, что Банко не совершил недостойного поступка, а служил своему монарху верой и правдой. Он ничего не желал слушать. Приняв титул, я рискую потерять дружбу моего дорогого боевого товарища Банко. Отказавшись от него, не угожу эрцгерцогу. Вправе ли я ослушаться? Ведь я подчиняюсь ему, когда он шлет меня на войну, и не могу ослушаться, когда он меня вознаграждает. Я мог бы унизить его моим отказом. Я должен объяснить это Банко… В сущности, Гламисский тан — всего лишь титул, а не состояние, поскольку Дункан присоединяет земли Гламиса к престолу. По правде говоря, я хочу поскорее увидеть Банко и в то же время медлю. Я в трудном положении. Откуда ведьмы могли все разузнать? И сбудутся ли другие их предсказания? Мне кажется, что это невозможно. Хотелось бы мне постичь логику их предсказаний. Как они объясняют причины и следствия, которые приведут меня к трону? Хотелось бы мне знать, что они об этом говорят, лишь для того, чтобы над ними поиздеваться. (Уходит налево.)
Несколько мгновений сцена пуста. Слева входит охотник за бабочками с сачком в руке, в светлом костюме и соломенной шляпе-канотье. У него черные усики, на носу пенсне, он гонится за одной-двумя бабочками и исчезает в погоне за третьей. Справа входит Банко.
Банко. Где они, эти ведьмы? Они предсказали мне смерть Гламиса — и это случилось. Они предсказали, что меня лишат титула Гламисского тана, который причитается мне по праву. Они предсказали, что я стану предком целого рода принцев и королей. Откуда ведьмы могли это разузнать? И сбудутся ли их предсказания о судьбе моего рода, как и все остальные? Хотелось бы мне постичь логику их предсказаний. Как они объясняют связь причин и следствий, которые приведут моих потомков к трону? Хотелось бы мне знать, что они об этом говорят, лишь для того, чтобы над ними поиздеваться. (Уходит направо.)
Несколько мгновений сцена пуста. Слева входит Макбет. Справа незаметно появляется первая ведьма.
Первая ведьма (хриплым голосом, Макбету). Ты хотел меня видеть, Макбет?
Прожектор высвечивает первую ведьму. Она одета, как и положено ведьме, сгорбленная, с хриплым голосом. Опирается на деревянную клюку. У нее седые, грязные, нечесаные волосы.
Приветствую тебя, Макбет. Макбет (вздрагивает и инстинктивно кладет руку на эфес шпаги). Ты была тут, проклятая? Первая ведьма. Я явилась на твой призыв. Макбет. Мне неведом страх на поле боя. Мне не страшен ни один рыцарь. Ядра разрывались у меня под ногами. Я проходил сквозь горящие леса. Бросался в море с тонущего корабля и плыл среди акул, вспарывая им брюхо и не испытывая при этом страха. Но стоит мне заметить тень этой женщины или услышать ее слова, обращенные ко мне, как у меня волосы становятся дыбом. Словно вокруг распространяется запах серы. И я вынимаю из ножен шпагу, потому что шпага более чем оружие — это крест. (Первой ведьме.) Ты угадала, я хотел тебя видеть.
Вторая ведьма, пока он произносит этот монолог, идет следом за первой, на небольшом расстоянии от нее. Тем не менее нужно, чтобы между появлением одной и другой был интервал. Таким образом, вторая ведьма должна медленно двигаться слева направо, чтобы оказаться позади первой. Вторая, прежде чем сделать несколько шагов и оказаться рядом с другими персонажами, показывается зрителям так: сначала голова, затем плечи, туловище и клюка. Ее тень, увеличенная с помощью прожектора, ложится на задник сцены.
Первая ведьма (Макбету), Я тебя услышала. Я читаю твои мысли. Знаю, о чем ты думаешь сейчас, о чем думал перед этим. Ты хотел всего лишь позабавиться. А на самом деле ты меня боишься. Черт побери, мужайся, великий полководец! Что ты хочешь от меня узнать? Макбет. Судя по твоим словам, тебе это должно быть известно лучше, чем мне. Первая ведьма. Я кое-что знаю, но наше знание небеспредельно. Однако в твоей душе я ясно читаю тщеславное желание, родившееся безотчетно и вопреки всем объяснениям, какие находишь ты сам, — они фальшивы, они лишь маскировка. Макбет. Я желаю лишь одного — послужить своему монарху. Первая ведьма. Все это фарс, который ты разыгрываешь перед самим собой! Макбет. Ты хочешь заставить меня поверить, что я — совсем не я, а кто-то другой. Бесполезно! Первая ведьма. Не будь ты Дункану так нужен, он желал бы твоей смерти. Макбет. Он господин и волен распоряжаться моей жизнью. Первая ведьма. Ты для него — лишь орудие, и не более того. Ты прекрасно знаешь, как он заставил тебя воевать и победить Кандора и Гламиса. Макбет. Он был прав — они мятежники. Первая ведьма. Он присвоил себе все земли Гламиса и половину земель Кандора. Макбет. Все принадлежит монарху. А монарх и его владения принадлежат нам. Он правит за нас всех. Первая ведьма. Он заставляет своих служителей вести двойную игру. Вторая ведьма. Хи-хи-хи-хи! Макбет (замечая вторую ведьму). А эта еще откуда взялась? Первая ведьма. Он не умеет держать в руке топор, не умеет пользоваться косой. Макбет. Что ты обо всем этом знаешь? Первая ведьма. Он посылает вас в бой, но сам не способен сражаться. Вторая ведьма. Он бы умер со страху. Первая ведьма. Он только умеет пользоваться чужими женами. Вторая ведьма. Может, и они— часть общего достояния, то есть принадлежат монарху? Первая ведьма. Сам он служить не умеет, но умеет добиться, чтобы служили ему. Макбет. Я здесь не для того, чтобы выслушивать ваши наветы и клевету. Первая ведьма. Если мы не умеем ничего другого, зачем же ты пришел на эту встречу? Макбет. Откуда я знаю? Это моя ошибка. Первая ведьма. Так уходи же, Макбет… Вторая ведьма. Если тебе неинтересно… Первая ведьма. Ты, как видно, колеблешься. Ты остаешься. Вторая ведьма. Если тебя это больше устраивает… Первая ведьма. Если тебе от этого станет легче… Вторая ведьма. Мы сами можем исчезнуть. Макбет. Побудьте, дщери Сатаны, я хочу узнать от вас кое-что. Первая ведьма. Тогда владей собой. Вторая ведьма. Использовав оружие, Дункан отправляет его на свалку. Он хорошо попользовался тобой. Первая ведьма. Своих приверженцев он не ставит ни в грош. Вторая ведьма. Он считает их трусами. Первая ведьма. Или же принимает за дураков. Вторая ведьма. Он уважает лишь тех, кто оказывает ему сопротивление. Макбет. И он их побеждает. Он победил мятежников Гламиса и Кандора. Первая ведьма. Их победил не он, а Макбет. Вторая ведьма. До тебя Гламис и Кандор были его верными слугами и генералами. Первая ведьма. Их независимость была ему ненавистна. Вторая ведьма. Он отнял у них то, что даровал им сам. Первая ведьма. Прекрасный пример Дункановой щедрости! Вторая ведьма. Гламис и Кандор были гордыми. Первая ведьма. И благородными. Дункану это было невыносимо. Вторая ведьма. И смелыми. Макбет. Вторым Гламисом я не стану. Как и вторым Кандором. Другого Макбета, чтобы победить их, не найдется. Первая ведьма. Видно, ты уже начинаешь соображать, что к чему. Вторая ведьма. Он станет ждать, пока ты проявишь неосторожность. А потом найдет себе другого Макбета. Макбет. Я недостоин такой чести. А ведь как я повиновался своему монарху! Таков закон, ниспосланный нам свыше. Вторая ведьма. Ты удостоился чести воевать с пэрами. Первая ведьма. Но смерть мятежников тебе не зачтется. Вторая ведьма. Он воспользуется ею тебе во вред. Первая ведьма. Между тобой и троном преграды больше нет. Вторая ведьма. Признайся, ты желал бы сесть на трон. Макбет. Нет! Первая ведьма. Откройся, не таись. Ты достоин того, чтобы править. Вторая ведьма. Ты создан для этого, так говорят звезды. Макбет. Вы искушаете меня. Кто вы? Какую преследуете цель? Как бы мне не угодить в вашу ловушку. Я должен овладеть собой. Прочь отсюда!
Обе ведьмы отходят в сторону.
Первая ведьма. Мы здесь, чтобы открыть тебе глаза. Вторая ведьма. Только чтобы помочь тебе. Первая ведьма. Мы желаем тебе только добра. Вторая ведьма. И пусть торжествует справедливость. Первая ведьма. Пусть торжествует справедливость. Макбет. Мне это кажется все более и более странным. Вторая ведьма. Хи-хи-хи-хи! Макбет. Вы и в самом деле желаете мне добра? Так ли уж дорога вам справедливость? Вы, старые уродки, страшные, как все пороки мира, вместе взятые, циничные старухи, — выходит, что вы могли бы пожертвовать своей жизнью ради моего счастья? Неужто это правда? Ха-ха-ха! Вторая ведьма. Ну да! Хи-хи-хи! Ну да! Первая ведьма (голос начинает изменяться). Это потому, что мы любим тебя, Макбет. Вторая ведьма. Это потому, что она любит тебя. (Голос меняется.) Так же как нашу родину, как справедливость, как благоденствие ее граждан. Первая ведьма (мелодичным голосом). Надо помочь бедным. Восстановить мир в этой многострадальной стране. Макбет. Этот голос мне кажется знакомым. Первая ведьма. Ты знаешь нас, Макбет. Макбет (обнажая шпагу). Последний раз приказываю вам сказать, кто вы такие! Или я перережу вам глотку! Вторая ведьма. Не стоит труда. Первая ведьма. Ты еще узнаешь, Макбет. Вторая ведьма. Хватит повторяться!
Макбет молчит.
А теперь, Макбет, смотри хорошенько, смотри хорошенько! Открой пошире глаза и напряги слух.
Вторая ведьма кружит вокруг первой, словно совершая магический обряд. Она делает два-три круга, ее скачки и прыжки становятся все более грациозными, по мере того как обе ведьмы меняют свой облик. Под конец обе исполняют медленный танец.
Вторая ведьма. Кто? Что? Где? Каким способом? Почему? Как? Когда?[27] Счастлив тот, кто может постичь суть власти[28]. Да будет свет отныне и вовек! И да свершится воля Твоя.[29] К победе через преодоление трудностей[30] (повторяется дважды). (Берет клюку первой ведьмы и швыряет ее в сторону.) Второе «я» проявляется (повторяет дважды).
Первая ведьма, которая до этого была сутулой, распрямляет спину. В этой сцене преображения первая ведьма стоит посередине сцены, ярко освещенная прожектором. Вторая ведьма, кружась вокруг нее, проходит через освещенную зону, когда оказывается впереди первой ведьмы, и через затемненную, когда оказывается позади нее. Макбет стоит в стороне — в тени или в полутьме. Его трясет все сильнее и сильнее, по мере того как разворачивается эта сцена колдовства. Вторая ведьма орудует своей клюкой так, будто это волшебная палочка. Каждый раз, когда она касается первой ведьмы, та преображается еще больше. Разумеется, вся эта сцена должна разыгрываться под музыку. Тут подойдет — по крайней мере, вначале — музыка прерывистая.
Вторая ведьма. Анте, апуд, ад, адверсус…
Вторая ведьма касается клюкой первой ведьмы, и та сбрасывает с себя старую хламиду. Но под нею, оказывается, есть другая.
Циркум, цирка, цитра, цис…
Вторая ведьма снова касается клюкой первой ведьмы, которая сбрасывает вторую хламиду. Теперь на ней старая шаль, завязанная на шее и спускающаяся до пят.
Контра, эрга, экстра, инфра…
Вторая в свою очередь выпрямляет спину.
Интер, интра, юкста, об…
Кружась, она проходит мимо первой ведьмы и срывает с нее очки.
Пенес, поне, пост эт прэтер…
Вторая ведьма срывает с первой ведьмы старую шаль. Под нею обнаруживается очень красивое платье, отделанное золотым шитьем и сверкающими каменьями.
Пропе, проптер, пэр, секундум…
Музыка становится более связной и мелодичной. Вторая ведьма срывает с первой ведьмы фальшивый острый подбородок.
Супра, версус, ультра, транс…[31]
Первая ведьма начинает издавать какие-то звуки и трели. Света достаточно, чтобы видеть ее лицо и губы. Она умолкает. Вторая ведьма, воспользовавшись тем, что она проходит в темной зоне позади первой, отбрасывает клюку.
Вторая ведьма. Доброе вижу, влекусь к иному. Макбет (впадая в транс, начинает двигаться как завороженный). Доброе вижу, влекусь к иному.[32]
Вторая ведьма кружится вокруг первой.
Первая ведьма и Макбет (вместе). Доброе вижу, влекусь к иному. Первая и вторая ведьмы. Доброе вижу, влекусь к иному. Первая ведьма, вторая ведьма и Макбет. Доброе вижу, влекусь к иному. (Повторяют трижды.)
Вторая ведьма срывает с первой острый нос, парик. Продолжая кружить вокруг первой ведьмы, она вкладывает ей в руку скипетр, возлагает на голову корону. При свете прожекторов создается впечатление, что над ее головой светящийся ореол. Теперь первая ведьма предстает перед зрителями во всей своей красе. Оказывается, это леди Дункан. Вторая ведьма обернулась придворной дамой, также красивой молодой женщиной.
Макбет. О-о, ваше высочество! (Падает ниц перед леди Дункан.)
Если вторая ведьма, а теперь придворная дама, не может поставить скамеечку позади леди Дункан — это предпочтительней, — чтобы та поднялась на нее, то леди Дункан может сделать несколько шагов вправо, где стоит эта скамеечка, на которую она, отступив назад, поднимается медленно и со всей величественностью. Придворная дама будет нести шлейф леди Дункан. Леди Дункан все время окружена своего рода аурой. Макбет, встав было на ноги, снова припадает к ногам леди Дункан.
Макбет. Чудесное видение! О-о, миледи!
Придворная дама одним взмахом руки срывает с леди Дункан пышный наряд, и та является зрителям в бикини с блестками под чернокрасной длинной накидкой. Придворная дама вручает ей скипетр и кинжал.
Придворная дама (указывая на леди Дункан). В своей естественной красе. Макбет. Как я хотел бы стать вашим рабом. Леди Дункан (Макбету, протягивая ему кинжал). Лишь от тебя зависит, стану ли я твоей рабыней. Желаешь ли ты этого? Вот орудие твоего властолюбия и нашего возвышения. (Чарующим голосом сирены.) Возьми его, если желаешь, — если желаешь меня! Но действуй решительно. Помоги себе, и ад тебе поможет. Загляни в свою душу и увидишь, как в ней растет жажда власти, как воспламеняется таящееся в тебе властолюбие и жжет тебя огнем. Этим кинжалом ты убьешь Дункана. Ты займешь его место рядом со мной. Я стану твоей любовью. Ты будешь моим господином. На этом лезвии навсегда останется кровавое пятно, напоминая тебе о твоем успехе. И да придаст оно тебе мужество свершить еще более славные подвиги, идя на них со мною вместе к нашей общей славе. Макбет. Миледи… Ваше высочество… Или, точнее сказать, моя сирена… Леди Дункан. Ты все еще колеблешься, Макбет? Придворная дама (к леди Дункан). Внушите ему решимость. (Макбету.) Решайтесь! Макбет. Миледи, право, я не знаю… Угрызения совести… Не могли бы мы… Леди Дункан (Макбету). Я знаю, страх тебе неведом. Но и у людей бесстрашных бывают минуты слабости и трусости. Особенно когда они испытывают чувство вины — чувство губительное. Избавься от него. Ведь ты никогда не страшился убивать по приказу другого. Теперь страх может подавить твою волю. Я помогу тебе отбросить страх. Я знаю слова, которые внушат тебе мужество: поверь, тебя не победит ни один человек, женщиной рожденный, твоя армия неуязвима — разве что лес обратится в полк солдат и двинется на тебя в атаку. Придворная дама. В сущности, такое невозможно. (Макбету.) Скажите Дункану, что мы хотим спасти страну, совместными усилиями вы построите нам лучшее общество, мир новый и счастливый.
Макбет припадает к ногам леди Дункан. Сцена постепенно погружается в темноту.
Голос придворной дамы. Любовь всесильна[33].
Сцена четвертая
Дворцовая зала. Офицер и Банко.Офицер. Его высочество утомлены. Его высочество не может вас принять. Банко. Известно ли его светлости о цели моего прихода? Офицер. Я все ему объяснил. Он сказал, что дело сделано. Он пожаловал титул Гламисского тана Макбету и уже не может изменить этого распоряжения. Его слово неизменно. Банко. И все же… Офицер. Так обстоят дела. Банко. Известно ли ему о смерти Гламиса? О том, что Гламис утонул? Офицер. Я передал ваше сообщение. Впрочем, он был уже в курсе. Леди Дункан узнала эту новость от своей Придворной дамы. Банко. Выходит, не давать мне обещанного вознаграждения причины нет. Либо титул, либо земли, если только не то и другое. Офицер. Что я, по-вашему, могу поделать? Я тут не властен. Банко (возмущен и переходит на крик). Но как же это он подобным образом поступает со мной, со мной!
Справа входит Дункан.
Дункан (к Банко). Что тут за шум? Банко. Ваше высочество… Дункан. Я не люблю, когда меня беспокоят. Что вам еще? Банко. Разве не вы обещали мне вознаграждение, когда схватят Гламиса живым или мертвым? Дункан. Но где же он, Гламис, живой или мертвый? Я что-то его не вижу. Банко. Вы прекрасно знаете, что он утонул. Дункан. У меня нет доказательств. Все это слухи. Покажите мне его труп. Банко. Его вздувшийся труп, труп утопленника, унесло в море. Дункан. Ступайте его искать. Плывите на корабле. Банко. Его сожрали акулы. Дункан. Возьмите большой нож и поищите в брюхе у акулы. Банко. Его сожрала не одна акула. Дункан. Ищите в брюхе у нескольких. Банко. Я рисковал жизнью, защищая вас от мятежников. Дункан. Но вы же не потеряли ее. Банко. Я истребил всех ваших врагов. Дункан. Вы получили от этого удовольствие. Банко. Я мог бы без него обойтись. Дункан. Однако вы этого не сделали. Банко. Но, ваша светлость, смотрите… Дункан. Я ничего не вижу и видеть не желаю. Я не вижу Гламиса. Предъявите мне вещественные доказательства. Банко. Смерть Гламиса — истина общеизвестная. Но вы отдали его титул Макбету. Дункан. Вы требуете от меня отчета? Банко. Нет — справедливости. Дункан. Я сам себе судия. И у нас еще найдутся другие бароны-мятежники, которых придется лишить владений. Для вас всегда найдется что-либо в будущем. Банко. Как я могу вам верить, ваше высочество? Дункан. Да как вы смеете меня оскорблять? Банко. Ах, что вы, что вы! Ну и ну… Дункан (офицеру). Покажи джентльмену, где выход. Офицер (с притворной свирепостью налетая на Банко). А ну, прочь отсюда! Дункан (офицеру). Без грубости! Банко в числе наших друзей. Сегодня у него шалят нервы, но это пройдет. Ему еще повезет. Банко (выходит со словами). Ну и ну! Ну и ну! Это уж слишком. Ну и ну… Дункан (офицеру). Не знаю, какая муха меня укусила. Я должен был дать ему баронский титул. Но он захотел еще и богатства. А они по праву принадлежат престолу. Ну, словом, так уж случилось. Однако он становится опасным. Надо быть начеку. И даже очень. Офицер (кладет руку на эфес шпаги). Понял, ваше высочество. Дункан (офицеру). Нет-нет, спешить не надо! Не сейчас. Потом. Если он станет явно опасным… А ты хотел бы половину его владений и его титул? Офицер (энергично). Да, ваше высочество. Я в вашем распоряжении, ваше высочество. Дункан. А ведь ты тоже маленький честолюбец, не правда ли? Ты хотел бы, конечно, чтобы я отнял титулы и богатства у Макбета и отдал часть их тебе. Офицер (та же игра). Да, ваше высочество. Я в вашем распоряжении, ваше высочество. Дункан. Макбет тоже становится опасным, очень опасным. Может, он хочет сесть на мой трон вместо меня? С такими людьми приходится быть начеку. Чистые гангстеры, говорю вам, гангстеры все до единого. В мыслях у них только деньги, власть, любовные утехи. А Макбет… Меня не удивит, если он начнет заглядываться и на мою жену. Не говоря уже о придворных дамах. (Офицеру.) А ты? Ты хотел бы, чтобы я одолжил тебе свою жену? Офицер (энергично, в ужасе). О-о, что вы, ваше высочество… Дункан. Она тебе совсем не нравится? Офицер. Она очень красивая, ваше высочество. Но моя честь… и ваша честь для меня превыше всего. Дункан. Ты славный малый. Спасибо тебе. Я вознагражу тебя. Офицер. Яв вашем распоряжении. Дункан. Меня окружают алчные враги, опасные враги. Людей бескорыстных днем с огнем не сыщешь. А ведь им следовало бы довольствоваться процветанием страны и благополучием моей персоны. Какое там! Они начисто лишены идеала. (Офицеру.) Мы сумеем себя защитить.
Сцена пятая
Звучат фанфары и музыка, старинные мелодии. Зала во дворце эрцгерцога. Достаточно всего нескольких элементов декорации и меняющегося задника. Справа входит возбужденный Дункан, за ним леди Дункан, которая с трудом за ним поспевает. Дункан резко останавливается на середине сцены. Поворачивается к леди Дункан.Дункан. Нет, миледи, я этого не разрешу. Леди Дункан. Ну что ж, тем хуже для вас. Дункан. Ведь я же сказал вам, что этого не разрешу. Леди Дункан. Но почему, почему? Дункан. Позвольте мне говорить прямо, со всей присущей мне прямотой. Леди Дункан. Прямо ли, криво ли, а в результате — одно и то же. Дункан. Разве это не мое дело? Леди Дункан. Говоря одно, не подразумевайте совсем другое. Дункан. Уж это как мне заблагорассудится. Все возможно. Леди Дункан. А как же я? Что скажу я? Дункан. То, что вам придет на ум. Леди Дункан. Я говорю не то, что мне приходит на ум. Дункан. Откуда же вы берете то, что говорите, если вам ничего не приходит на ум? Леди Дункан. Вы сказали одно, говорите другое, а назавтра скажете третье. Дункан. Я ценю то, что пожелаю. Леди Дункан. И я ценю то, что пожелаю. Дункан. Правда слагается не из противоположных мнений. Леди Дункан. Все завтра да завтра! Дункан. Пеняйте сами на себя. Леди Дункан. Где еще вы найдете подобную неразбериху? Дункан. Миледи, миледи, миледи!.. Леди Дункан. Каким же вы порой бываете упрямым! Все мужчины — эгоисты. Дункан. Вернемся к теме нашего разговора. Леди Дункан. Напрасно вы сердитесь, да и я сама сержусь. Но самое срочное дело уже сделано. Будь вы объективнее. Но это не так. Значит, выхода больше нет. По вашей вине. Дункан. Миледи, оставим громкие слова. И тихие тоже. Смеется тот, кто смеется последним. Леди Дункан. О-ля-ля, ваши навязчивые идеи… Дункан. Давайте прервемся на этом. Леди Дункан. Дункан, уж не хотите ли вы все-таки… Дункан. Вы еще в этом раскаетесь. Леди Дункан. В омлете все яйца сбивают в одно. Дункан. Вы еще увидите, во что вам это обойдется. Леди Дункан. Вы мне угрожаете? Дункан. От кончиков пальцев до макушки головы. Леди Дункан. Он все еще мне угрожает. Дункан. Вы заболеете, и неизлечимо. Леди Дункан. Он продолжает мне угрожать.
Дункан уходит, леди Дункан следует за ним.
Леди Дункан. Я опережу вас, Дункан, но, когда вы это заметите, уже будет слишком поздно.
Дункан уходит налево, он по-прежнему в большом возбуждении, а леди Дункан произносит свою последнюю реплику, догоняя его почти бегом. Эта сцена между Дунканом и леди Дункан должна быть разыграна в стиле бурной ссоры. Справа входят Макбет и Банко. У Макбета озабоченный вид.
Макбет. Нет, говорю вам это откровенно. Я считал леди Дункан женщиной фривольного нрава. Но я ошибся. Она способна на глубокую страсть. Она деятельна, энергична. На самом деле она настоящий философ. У нее широкие взгляды на будущее человечества, лишенные всякого утопизма. Банко. Возможно. Я вам верю. Люди раскрываются не сразу. Но стоит им открыть вам душу… (Указывает на пояс Макбета.) Какой красивый кинжал. Макбет. Подарок леди Дункан. Так или иначе, я рад, что наконец мы с вами поговорили, ведь столько времени мы бегаем друг за другом, как собака за своим хвостом или дьявол за своей тенью. Банко. Хорошо сказано. Макбет. Она далеко не счастлива в браке. Дункан груб, он третирует ее. Ей тяжело это переносить. Она такая хрупкая натура. К тому же он угрюм, ворчлив. А леди Дункан ребячлива — она любит поиграть, развлечься, порезвиться. Не подумайте, однако, что я собираюсь вмешиваться не в свои дела. Банко. Ну, разумеется. Макбет. Я далек от того, чтобы клеветать на эрцгерцога или злословить по его поводу. Банко. Я слежу за вашей мыслью. Макбет. Эрцгерцог очень добр, порядочен и… щедр. Вы знаете, как я предан ему. Банко. А я сам? Макбет. Короче, монарх — совершенство. Банко. Почти что совершенство. Макбет. Конечно, в той мере, в какой совершенство в этом мире возможно. Это совершенство, не исключающее некоторых несовершенств. Банко. Несовершенное совершенство — все же совершенство. Макбет. Лично мне не в чем его упрекнуть. Но речь сейчас не обо мне. Речь о нашей дорогой родине. О-о, он добрый монарх. Однако ему следовало бы прислушаться к бескорыстным советникам, таким, например, как вы. Банко. Или вы. Макбет. Как вы и я. Банко. Конечно. Макбет. Он немножечко абсолютист. Банко. И даже очень. Макбет. Он неограниченный монарх. В наше время абсолютизм — далеко не всегда лучшая система правления. Кстати, так думает и леди Дункан. Она ребячлива, но своенравна — обычно эти черты сочетаются с трудом, но в ней они уживаются. Банко. Такой случай необычен. Макбет. Она могла бы давать советы, интересные советы монарху. Внушить ему некоторые… некоторые принципы правления. Она дала бы нам их бескорыстно. Да мы и сами бескорыстны. Банко. Но ведь жить-то надо и зарабатывать на хлеб — тоже. Макбет. Дункан это прекрасно понимает. Банко. Да, он относится к вам с большим пониманием, дорогой мой. Он вас облагодетельствовал. Макбет. Я у него ничего не просил. Он заплатил, хорошо заплатил. Он более или менее хорошо заплатил. Он неплохо оплатил услуги, которые я ему оказал, которые я должен был ему оказать, поскольку он — наш монарх. Банко. А вот мне… мне он ничего не заплатил, как вам известно. Он взял земли барона Гламиса себе, а вам отдал его титул. Макбет. Не знаю, на что вы намекаете. Такое решение Дункана меня удивляет. Удивляет, хотя и не слишком. Он бывает невнимательным. Во всяком случае, я тут ни при чем, уверяю вас. Банко. Это правда. Допускаю, что это не по вашей вине. Макбет. Я тут совершенно ни при чем. Послушайте, возможно, мы могли бы что-нибудь для вас придумать… Могли бы… Леди Дункан и я, например, могли бы ему посоветовать назначить вас советником. Банко. Леди Дункан в курсе? Макбет. Она много думает о вас. Она сожалеет об оплошности эрцгерцога. Она хотела бы как-то ее загладить и вознаградить вас. Забыл еще сказать, что она уже замолвила за вас словечко его высочеству. По моей подсказке. Впрочем, она и сама собиралась это сделать. Мы с ней оба заступились за вас. Банко. Если ваши старания помочь мне тщетны, зачем возобновлять попытки? Макбет. Мы найдем другие аргументы. Более обоснованные. Возможно, он поймет. А если нет… попытаемся снова. С еще более вескими аргументами. Банко. Дункан упрям. Макбет. Очень упрям. Упрям — не то слово… (Смотрит сначала направо, потом налево.) Упрям как осел. Но всякое упрямство при желании можно сломить силой. Банко. Да, силой. Макбет. Он даровал мне земли, это правда. Но при этом оставил за собой право охоты в этих владениях. Якобы, как говорится, за государственный счет. Банко. «Говорится»… Он залезает в государственный карман. Макбет. Государство — это он. Банко. С моих владений, которые он так и не расширил, он ежегодно взимает дань — десять тысяч домашних птиц. И яйца, которые они несут, в придачу. Макбет. Это недопустимо. Банко. Я воевал за него, как вам известно, во главе моей личной армии. Теперь он хочет присоединить ее к своей. Чего доброго, он двинет против меня моих же людей. Макбет. И против меня. Банко. Это неслыханно. Макбет. Такого не бывало со времен моих предков… Банко. И моих. Макбет. А сколько у него приживал. Банко. И все жиреют от пота на нашем челе. Макбет. От жира нашей домашней птицы. Банко. Наших барашков. Макбет. Наших свиней. Банко. Свинья эдакая! Макбет. От наших хлебов. Банко. На крови, которую мы пролили за него. Макбет. А на какие опасности он нас толкал… Банко. Десять тысяч домашних птиц, десять тысяч лошадей, десять тысяч молодых парней… Зачем ему такая прорва? Не может он все это переварить. А остаток гниет. Макбет. И тысяча девиц. Банко. Мы прекрасно знаем, как он их потребляет. Макбет. Он нам обязан всем. Банко. И даже сверх того. Макбет. Не считая всего остального. Банко. Моя честь… Макбет. Моя слава… Банко. Мои наследственные права… Макбет. Мое имущество… Банко. Право приумножать свои богатства. Макбет. Мой суверенитет. Банко. Право бесконтрольного хозяйствования на своей земле. Макбет. Надо его оттуда изгнать. Нужно изгнать его из наших владений. Банко. Нужно изгнать его отовсюду. Долой Дункана! Макбет. Долой Дункана! Банко. Пора с ним кончать! Макбет. Знаете, что я вам предложу… Поделим княжество между собой. Каждый из нас получит свою долю. Я воссяду на трон. Я стану вашим монархом. А вы станете моим советником. Банко. Первой фигурой после вас. Макбет. Третьей. Поскольку выполнить такой план будет нелегко. Нам потребуется помощь. В заговоре будет третий участник. Леди Дункан. Банко. Вот это да… Вот это да… Согласен! Как удачно все складывается. Макбет. Без нее нам просто не обойтись.
Из глубины сцены выходит леди Дункан.
Банко. Миледи! Какая приятная неожиданность! Макбет (к Банке). Это моя невеста. Банко. Будущая леди Макбет? Вот это да… (Кодному и к другому.) Примите мои поздравления. Леди Дункан. На жизнь и на смерть!
Все трое вытаскивают кинжалы и скрещивают их, подняв руки над головой.
Вместе. Клянемся убить тирана! Макбет. Узурпатора! Банко. Долой диктатора! Леди Дункан. Деспот! Макбет. Одно слово — безбожник! Банко. Живодер! Леди Дункан. Осел! Макбет. Дурень! Банко. Вошь! Леди Дункан. Поклянемся его уничтожить!
Звучат фанфары. Трое заговорщиков быстро исчезают в левой кулисе. Дункан появляется справа. В этой сцене, по крайней мере в первой ее части, Дункан поистине величествен. Из глубины сцены выходит офицер.
Офицер. Ваше высочество, сегодня первое число, и каждый месяц в этот день сюда приходят страждущие, больные золотухой, флегмоной, удушьем, истерией, в надежде, что вы излечите их с помощью вашего дара — милости Господней.
Справа входит монах.
Монах. Нижайше кланяюсь, ваше высочество. Дункан. Прими мой поклон, монах. Монах. Бог в помощь. Дункан. Бог в помощь. Монах. Да хранит вас Бог.
Благословляет Дункана, который опускается на колени. Офицер направляется к нему с пурпурной мантией, короной и скипетром — атрибутами власти Дункана. Монах благословляет корону, принимает ее из рук офицера и вдет к Дункану, который стоит на коленях, пока монах водружает корону ему на голову.
Монах. Именем нашего всемогущего Господа Бога я конфирмую тебя в твоей монаршей власти. Дункан. И да поможет мне Господь быть достойным ее.
Монах принимает у офицера пурпурную мантию и возлагает ее на плечи Дункана.
Монах. Да хранит тебя Господь и да пребудет жизнь твоя в неприкосновенности, пока ты облачен в эту мантию.
Слева входит слуга с дароносицей для причащения. Передает ее монаху, а тот протягивает просфору Дункану.
Дункан. Недостойный сын твой, Господи. Монах. Тело Христово. Дункан. Аминь.
Монах возвращает дароносицу слуге, который с ней уходит. Офицер вручает монаху скипетр, и тот сжимает его в руках.
Монах. Возобновляю дар исцеления, которым наш Господь Бог награждает тебя при посредстве своего недостойного слуги. Да излечит Господь наши души, как излечивает Он нашу израненную плоть. Да исцелит Он нас от нездоровых чувств, от ревности, гордыни, сластолюбия, властолюбия. И да прозреют наши очи, видя тщету мирских соблазнов. Дункан. Услышь нас, Господи. Офицер (преклоняя колена). Услышь нас, Господи. Монах. Услышь нас, Господи, и да рассеются ненависть и гнев, как дым на ветру. И да возобладает божеский порядок над порядком, где свирепствуют страдания и дух разрушения. И да будут любовь и мир вызволены из цепей, в которые заковали их злые чары. И пусть засияет радость, и пусть небесный свет зальет нас, и мы станем купаться в нем. Да будет так. Дункан и офицер. Да будет так. Монах (Дункану). Вот твой скипетр, который я благословляю, чтобы ты касался им страждущих.
Дункан поднимается с колен, за ним офицер, тогда как монах преклоняет калена перед Дунканом, который идет по ступеням к трону и усаживается на нем. Офицер стоит по левую руку Дункана. Эта сцена должна быть преисполнена серьезности.
Дункан. Впустите страждущих.
Монах поднимается с колен и встает по правую руку Дункана. Из глубины слева выходит первый больной. Он сгорблен, двигается с трудом, опираясь на палку. На нем плащ с капюшоном. Видно его лицо — маска обезображенного проказой.
Дункан. Подойди ко мне. Подойди ближе, не бойся.
Больной подходит и становится на колени на одной из первых ступеней, ведущих к трону, спиной к зрителям.
Первый больной. Помилуйте, ваша светлость. Я прибыл издалека, из страны за океанами. Мне пришлось пересечь континент, потом еще семь стран, потом снова море, потом горы. Я живу в темной и сырой долине. Сырость источила мои кости, мое тело покрыто золотухой, и опухолями, и прыщами, которые гноятся по всему телу. Все мое тело — сплошная открытая рана. Дети, жена меня прогоняют. Спасите меня, господин. Исцелите меня. Дункан. Я исцелю тебя. Верь мне. Надейся. (Касается скипетрам головы больного.) Милостью нашего общего Господа Бога, даром и силой, которыми я наделен, отпускаю тебе грех совершенного преступления, запятнавшего твою душу и твое тело. Да будет душа твоя чиста, как родниковая вода, как небо в первый день творенья.
Больной выпрямляется, поворачивается к зрителям, и становится во весь рост. Отбросив палку, он вздымает руки к небу. Его свежее лицо расцветает в улыбке. Он издает крик радости и убегает налево. Справа входит второй больной и направляется к трону.
Дункан. На что жалуешься ты? Второй больной. Ваша милость, я не могу жить и не могу умереть. Я не могу сидеть и не могу лежать, не могу стоять без движения и не могу бегать. У меня ожоги и чесотка от головы до пяток. Я не выношу ни своего дома, ни улицы. Вселенная для меня — тюрьма или каторга. Мне дурно, когда я смотрю кругом. Я не переношу света и страдаю от темноты. Мне ненавистны люди, и я боюсь одиночества. Я отвожу глаза от деревьев и от баранов, собак или травы, звезд или камней. Мне неведомо счастье. Я хотел бы научиться плакать и познать радость. (Приближается к трону и поднимается по его ступеням.) Дункан. Забудь, что ты существуешь. Помни, что ты есть.
Пауза. Больной, которого видно со спины, поводит плечами, но чувствуется, что он не в состоянии следовать полученному совету.
Дункан. Приказываю тебе. Повинуйся.
Движения спины и плеч больного создают впечатление, что он расслабляется и успокаивается. Он медленно встает, вытягивает руки в стороны, поворачивается к зрителям, и они могут видеть, как его сморщенное лицо вдруг разглаживается и, утратив напряженность, озаряется светом. Затем видно, как он весело, танцующей походкой уходит налево.
Офицер. Следующий!
Третий больной приближается к Дункану, который его излечивает почти таким же манером. Это происходит во все убыстряющемся темпе: четвертый, пятый, шестой… десятый, одиннадцатый больной входят справа и после прикосновения скипетра Дункана выходят налево; входят из глубины слева, уходят в глубину направо; входят из глубины справа, уходят влево и т. д. Проходу каждого больного предшествует объявление: «Следующий!», которое делает офицер. Некоторые больные могут появляться либо на костылях, либо в инвалидных колясках, в сопровождении и без. Все вышеуказанное должно быть четко рассчитано и идти под аккомпанемент все более убыстряющейся музыки. В это время монах медленно, постепенно оседает на землю, а не стоит на коленях, как бы свертываясь в комок. После одиннадцатого больного действие замедляется, а музыка удаляется. Двое последних больных входят один слева, второй справа. Оба в длинных плащах с капюшонами, скрывающими их лица. Офицер, повторивший «Следующий!», не видит больного, который появляется за его спиной. Музыкаобрывается. В этот момент монах сбрасывает капюшон (или маску), и зрителям видна голова Банко, который вытаскивает длинный кинжал.
Дункан (к Банко). Ты?
В этот же момент больной, сбросив капюшон, — это леди Дункан — пронзает офицера ударом кинжала в спину. Тот падает.
(К леди Дункан.) Вы, миледи?
Последний больной — он же Макбет — тоже выхватывает кинжал.
Убийцы! Банко (Дункану). Убийца! Макбет (Дункану). Убийца! Леди Дункан (Дункану). Убийца!
Дункан ускользает от Банко, но на своем пути встречает Макбета. Бросается к выходу налево, но туг леди Дункан преграждает ему дорогу, вытянув руки. В одной из них она сжимает кинжал.
Леди Дункан (Дункану). Убийца! Дункан (к леди Дункан). Убийца!
Дункан бежит влево, но наталкивается на Макбета.
Макбет. Убийца! Дункан. Убийца!
Дункан бежит вправо, но путь ему преграждает Банко.
Банко (Дункану). Убийца! Дункан (к Банко). Убийца!
Дункан пятится к трону, трое его окружают, медленно наступая и сужая круг.
(Всем троим.) Убийцы! Все трое (Дункану). Убийца!
Когда Дункан подходит к первой ступеньке, ведущей к трону, леди Дункан срывает с него мантию. Преследуемый другими, Дункан успевает подняться лишь на несколько ступеней, его скипетр кренится в одну сторону, корона — в другую. Макбет срывает ее и бросает на пол.
Дункан. Убийцы!
Дункан катается по земле. Банко наносит ему первый удар кинжалом.
Банко (кричит). Убийца! Макбет (нанося второй удар). Убийца! Леди Дункан (нанося третий удар). Убийца!
Все трое выпрямляются, окружая Дункана.
Дункан. Убийцы! (Не так громко.) Убийцы. (Слабеющим голосом.) Убийцы…
Все трое расступаются. Леди Дункан, стоя возле убитого мужа, всматривается в его лицо.
Леди Дункан. Как-никак он был моим мужем. Мертвый, он похож на моего отца. Я никогда не любила своего отца.
Сцена погружается в темноту.
Сцена шестая
Дворцовая зала. Вдалеке слышны крики толпы: «Да здравствует Макбет! Да здравствует невеста! Да здравствует Макбет! Да здравствует невеста!» Появляются с одной стороны первый слуга, с другой — второй слуга. Они сходятся посередине авансцены. Их могут играть двое мужчин, или женщина и мужчина, или две женщины.Двое слуг (глядя друг на друга). Вот и они!
Они прячутся в глубине сцены, тогда как слева появляется леди Дункан, которая теперь станет леди Макбет. За нею следует Макбет. У них еще нет атрибутов монаршей власти. Слышны более громкие крики толпы: «Ура!» и «Да здравствует Макбет и его дама!» Макбет и леди Дункан идут до левой кулисы.
Макбет. Миледи… Леди Дункан. Благодарю вас за то, что проводили меня до моих апартаментов. Теперь я пойду отдыхать. После стольких трудов и такого напряжения. Макбет. Отдыхайте, миледи, вы вполне заслужили отдых. Я зайду за вами завтра в десять для церемонии бракосочетания. Возведение в монарший сан состоится в полдень. А в пять часов пополудни начнется настоящий свадебный пир. Наша свадьба. Леди Дункан (протягивая Макбету руку для поцелуя). Итак, до завтра, Макбет. (Уходит.)
Макбет пересекает сиену, чтобы выйти справа. Снова слышны крики «Ура!». Двое спрятавшихся слуг снова появляются на авансцене.
Первый слуга. Для свадьбы и пира все готово. Второй слуга. Будут угощать итальянским и самосским вином. Первый слуга. Не счесть бутылок пива. Второй слуга. И джина. Первый слуга. А сколько закололи быков! Второй слуга. И оленей — целое стадо. Первый слуга. И косуль — их будут насаживать на вертела. Второй слуга. За ними охотились во Франции, в Арденнском лесу. Первый слуга. Рыбаки с риском для жизни ловили акул, чтобы приготовить суп из плавников. Второй слуга. Для салатов и холодных закусок пойдет китовый жир — китиху удалось кокнуть во время морского прилива. Первый слуга. Из Марселя привезут пастис. Второй слуга. С Урала — водку. Первый слуга. Гигантский омлет приготовят из ста тридцати тысяч яиц. Второй слуга. Утки поступят из Пекина. Первый слуга. А из Африки привезли испанские дыни. Второй слуга. Пир горой — такого еще не видывал мир. Первый слуга. Венские булочки и другая сдоба. Второй слуга. Вино потечет рекой. Первый слуга. И все это под музыку десятков цыганских оркестров. Второй слуга. Будет получше, чем на Рождество. Первый слуга. Лучше в тысячу раз. Второй слуга. На каждого гостя придется по двести сорок семь кровяных колбас. Первый слуга. И тонна горчицы. Второй слуга. И гамбургские сосиски. Первый слуга. И кислая капуста. Второй слуга. И еще больше пива. Первый слуга. И еще больше вина. Второй слуга. И еще больше джина. Первый слуга. Я пьян уже при одной мысли об этом. Второй слуга. При одной мысли об этом у меня уже лопается пузо. Первый слуга. А моя печень увеличивается.
Обнявшись, они выходят нетвердой походкой пьяных, кричат: «Да здравствует Макбет и его дама!» Справа входит Банко. Он идет до середины сцены и останавливается лицом к зрителям. Несколько мгновений он, похоже, размышляет. Из глубины сцены, чуть правее, появляется Макбет.
Макбет. Скажите! Банко явился! Зачем он сюда пожаловал, совсем один? Надо спрятаться и подслушать, что он скажет. (Взмахом руки как бы задергивает невидимую занавеску.) Банко. Итак, Макбет станет королем. Кандорский тан, Гламисский тан, а с завтрашнего дня — монарх. Предсказания ведьм сбылись одно за другим, в объявленном порядке. Правда, они не предсказывали убийства Дункана, к которому приложил руку и я. Но как иначе смог бы Макбет стать главой этого государства, не умри Дункан или не отрекись он от престола в пользу Макбета, а это исключается конституцией. Троном завладевают силой. Не было сказано и то, что леди Дункан станет леди Макбет. У Макбета теперь есть все. А у меня ничего. Что за сногсшибательная карьера: богатство, слава, власть, жена! Какие щедрые подарки судьбы! От обиды я нанес Дункану удар кинжалом. А что это дало мне самому? Чего я добился лично для себя? Макбет был щедр на посулы. Пообещал мне пост советника. Но сдержит ли он свое обещание? Сомнительно. Разве не он обещал Дункану свою верность? А сам убил его. Обо мне скажут, что и я хорош. Не стану отрицать. Не могу забыть Дункана. Какие муки совести! У меня нет ни успеха, ни славы Макбета, чтобы их смягчить. Мне не быть ни эрцгерцогом, ни королем, как сулили эти ворожеи. Зато они нагадали, что от меня пойдет род принцев, королей, президентов, диктаторов. Единственное утешение. Они это предсказали. Да, они это предсказали… Они уже доказали свой дар провидения. И зачем только я встретил этих колдуний? Ведь у меня не было иного желания, иного стремления, кроме как служить моему господину верой и правдой. Теперь же я изнываю от зависти и от ревности. Они открыли ящик Пандоры. И вот меня ведет, уносит какая-то мне неподвластная сила. Я страдаю от неутолимой жажды мщения. Я стану отцом десятка правителей? Превосходно. Но у меня еще нет ни дочерей, ни сыновей. Я даже не женат. Кого бы взять мне в жены? Придворная дама леди Макбет, пожалуй, мне по вкусу. Пойду и сделаю ей предложение, не откладывая. Она немножечко колдунья, но это делу не повредит. Она сумеет предрекать грядущие катастрофы, чтобы их избегать. А женившись, став отцом и советником, я не дам Макбету править так, как ему заблагорассудится. Я стану его серым кардиналом. И кто знает, может, колдуньи еще и пересмотрят свое пророчество. Может быть, я все же сподоблюсь еще при жизни стать самодержавным правителем этой страны. (Уходит направо.) Макбет (выходя на авансцену). Я все слышал, предатель. Значит, вот как ты задумал отблагодарить меня за обещание сделать тебя своей правой рукой. Выходит, моя жена и ее Придворная дама предсказали ему, что он станет прародителем рода королей? Я этого не знал. Странно, что мне они ничего об этом не сказали… У меня тревожно на душе от того, что они посмели это скрыть. Над кем они вздумали посмеяться? Над Банко или надо мной? С какой целью? Банко — родоначальник королей! Выходит, я убил Дункана, своего монарха, ради славы чужого рода? Меня втянули в какую-то зловещую махинацию. Ах! Так это не пройдет! Еще увидим, смогут ли моя свобода и моя инициатива обойти ловушки судьбы, поставленные дьяволом. Уничтожим в зародыше потомство Банко. Иначе говоря, самого Банко. (Идет направо. Зовет.) Банко! Банко! Голос Банко (из-за кулис). Иду, Макбет! (Появляется.) А вот и я! Зачем ты звал меня, Макбет? Макбет. Так вот как ты задумал отблагодарить меня за те благодеяния, которыми я собирался одарить тебя, подлец?! (Пронзает Банко кинжалом в самое сердце.) Банко (оседает). О, Боже мой! Прости меня! Макбет. Так где же все эти короли? Они сгниют с тобой и в тебе! Я уничтожил их в зародыше. Завтра возведут на престол меня! (Уходит.)
Сцена седьмая
На сцене темно. Слышны крики: «Да здравствует Макбет! Да здравствует леди Макбет! Да здравствует наш возлюбленный монарх! Да здравствует новобрачная!» Слева величественным шагом входят Макбет и леди Дункан, ставшая леди Макбет. Оба в коронах и пурпурных мантиях. В руке у Макбета скипетр. Он останавливается посреди сцены и, пока слышатся все те же восторженные крики толпы и красивый, веселый перезвон колоколов, вместе с леди Макбет, спиной к зрителям, приветствует воображаемую толпу. Слышны возгласы в толпе: «Ур-ра! Да здравствует эрцгерцог! Да здравствует эрцгерцогиня!» Макбет и леди Макбет поворачиваются к зрительному залу и приветствуют публику взмахами рук и воздушными поцелуями, потом поворачиваются друг к другу.Макбет. Мы еще поговорим об этой истории, миледи. Леди Макбет (совершенно спокойно). Я все объясню тебе, милый. Макбет. Ваше предсказание не сбудется. Я предотвратил его исполнение. Не вы самая сильная. Мне стало все известно, и я принял меры. Леди Макбет. Я не собираюсь от тебя что-либо скрывать, любимый. Ведь я сказала, что все объясню. Как только мы останемся одни. Макбет. Мы еще вернемся к этому разговору.
Макбет снова берет леди Макбет за руку, и, улыбаясь воображаемой толпе, они уходят направо под приветственные возгласы. Некоторое время сцена пуста. Снова входит леди Макбет в том же свадебном облачении в сопровождении придворной дамы.
Придворная дама. Вы были так красивы в свадебном наряде. Толпа исступленно хлопала в ладоши! Какая грация! Какая величественность! И Макбет тоже был очень красив. Он так помолодел. Прекрасная чета. Леди Макбет. Он изрядно выпил. Сейчас он спит. А вечером нам предстоит еще свадебный банкет. Поторопись. Придворная дама. Сейчас. (Достав справа из-за кулис чемодан, выносит его на сцену.) Леди Макбет. К чертям собачьим эту корону, освященную и благословленную. (Отшвыривает корону. Снимает с шеи цепочку с крестом.) Он меня обжег, этот крест! Настоящий ожог на груди. Хорошо еще, что я произнесла над ним заклятье…
Придворная дама открывает чемодан, извлекает из него тряпье — одежду ведьм. Обе начинают переодеваться.
В этом кресте — борьба двух начал, божеского и дьявольского. Какое из них возобладает? Это настоящее поле боя! Пусть в миниатюре, но здесь сконцентрирована борьба всех против всех! Помоги мне. Расстегни мое белое платье — смехотворный символ девственности. Снимай быстрее, оно меня тоже жжет. И я выплевываю облатку, благо она застряла у меня в глотке. Как будто у нее ядовитые шипы. Подай-ка мне дорожную флягу с водкой, которую я заговорила. Этот девяностоградусный напиток для меня все равно что родниковая вода. Дважды я чуть было не упала в обморок перед иконами, которые мне подносили. Но я держалась молодцом. Одну даже поцеловала. Фу! До чего же это было противно!
Во время этой тирады придворная дама ее раздевает.
Я слышу шум, поторопись. Придворная дама. Сейчас, моя дорогая, сейчас. Леди Макбет, или первая ведьма. Давай, давай, давай. Давай же скорее старые шмотки. (Она одевается в грязное рубище.) Где мое вонючее платье? А мой передник с жирными пятнами? А мои замызганные башмаки? Живо! Сними с меня этот парик! Верни мне седые грязные лохмы и мой подбородок! Сделай мой нос таким же острым, каким он был, и подай мне мою клюку с отравленным железным наконечником.
Придворная дама — вторая ведьма берет палку одного из паломников, валяющуюся на сцене. По мере того как первая ведьма дает указания, вторая ведьма выполняет их. Она надевает на первую старое платье, передник с жирными пятнами, поправляет ей седые лохмы, вставляет челюсть и насаживает на нос острый кончик.
Первая ведьма. Поторопись! Быстрее! Вторая ведьма. Сейчас-сейчас, моя дорогая. Первая ведьма. Нас уже ждут в другом месте.
Вторая ведьма достает из чемодана длинную старую шаль, набрасывает ее на себя и напяливает седой грязный парик. У обеих ведьм сгорбленные спины, на лицах зловещая ухмылка.
Первая ведьма. В этой одежде я чувствую себя гораздо лучше. Вторая ведьма. Хи-хи, хи-хи!
Вторая ведьма закрывает чемодан. Обе садятся на него верхом.
Первая ведьма. Нам больше тут нечего делать. Вторая ведьма. Мы счастливо отделались. Первая ведьма. Мы заварили тут порядочную кашу. Вторая ведьма. Хи-хи, хи-хи! Макбету из нее не выбраться. Первая ведьма. Патрон останется доволен. Вторая ведьма. Расскажем ему все подробно. Первая ведьма. Он ждет нас для следующего поручения. Вторая ведьма. Пора нам срочно убираться! Чемодан, лети! Первая ведьма. Чемодан, лети! Чемодан, лети!
Первая ведьма, сидящая впереди, делает вид, что крутит руль, — гудит мотор. Вторая ведьма, вытянув руки, имитирует взмахи крыльев. На сцене темно. Видно, как чемодан, освещенный прожектором, пролетает над сценой.
Сцена восьмая
Большая дворцовая зала. В глубине трон. Прямо и чуть левее стол с табуретами. За ним уже сидят четверо гостей. В роли гостей также четыре-пять больших кукол. В глубине, за троном, справа и слева, видны другие столы с гостями. (В отражении на заднике или в зеркале.) Справа входит Макбет.Макбет. Сидите, сидите, мои добрые друзья. Первый гость. Да здравствует эрцгерцог! Второй гость. Да здравствует наш монарх! Третий гость. Да здравствует Макбет! Четвертый гость. Да здравствует наш рулевой! Да здравствует наш великий кормчий! Наш Макбет! Макбет. Благодарю вас, друзья. Первый гость. Слава, честь и здравие нашей горячо любимой правительнице — леди Макбет! Четвертый гость. Красота и обаяние делают ее супругой, достойной вас. Желаем вам жить и здравствовать, и да процветает страна под вашим мудрым руководством. Макбет. Благодарю от себя и от имени леди Макбет. Кстати, пора бы ей уже быть тут. Второй гость. О-о, ее высочество так пунктуальны. Макбет. Мы только что расстались. Она должна явиться в сопровождении придворной дамы. Третий гость. А может быть, ее высочество внезапно занемогла? Я врач. Макбет. Она вернулась к себе в спальню подкрасить губы, попудриться и поменять ожерелье. А вы тем временем продолжайте угощаться. Я выпью с вами за компанию.
Появляется слуга.
Вино на исходе. Принесите-ка нам вина! Слуга. Иду за вином, ваша милость. (Уходит.) Макбет. За здравие моих друзей! Какая радость оказаться среди вас и чувствовать всю теплоту вашей привязанности. Знали бы вы, как необходима мне ваша дружба. Так же необходима, как влага растениям или вино мужчинам. Среди вас я чувствую себя спокойней, уверенней, боль утихает. Ах, знали бы вы… Но не будем расслабляться. Отложим признания до следующего раза. Задумал одно, а делаешь другое. Делаешь то, чего и в мыслях не держал. История — штука коварная. Все прямо-таки ускользает из рук. И вот ты уже не властен над механизмом, который сам же запустил. Многое оборачивается против тебя самого. Все, что происходит, прямо противоположно тому, чего ожидаешь. Править, править… Но оказывается, события правят человеком, а вовсе не человек — событиями. Я был счастлив в те времена, когда верой и правдой служил Дункану, не ведая забот.
Входит слуга с вином.
(Слуге.) Давайте-ка побыстрей, мы просто умираем от жажды! (Глядя на портрет мужчины — это может быть и просто пустая рама.) Кому это взбрело в голову повесить портрет Дункана вместо моего? (Указывает пальцем.) Кому взбрело в голову сыграть такой зловещий фарс? Слуга. Не знаю, ваша милость. Я ничего не вижу, ваша милость. Макбет. Какая наглость!
Макбет вскакивает, хватает слугу за горло. Слуга вырывается и убегает направо. Макбет срывает со стены портрет.
Первый гость. Но это же ваш портрет, ваша светлость! Второй гость. Вовсе не портрет Дункана повесили на место вашего, а ваш повесили на место Дункана! Макбет. Какое сходство, однако. Третий гость. У вас что-то со зрением, ваша светлость. Четвертый гость (первому). Приход к власти порождает близорукость? Первый гость. Частенько так оно и случается. Макбет. Возможно, я ошибаюсь. (К гостям, которые вскочили одновременно с ним.) Сядем, друзья. Немного вина прояснит мое зрение. Похож он на Дункана или же на меня самого, все равно — давайте уничтожим эту картину. И сядем выпить вина. (Садится и пьет.) Да что вы уставились на меня? Садитесь, говорю вам, и давайте выпьем. (Встает и ударяет кулаком по столу.) Садитесь же!
Гости садятся. Потом садится и Макбет.
Выпьем, джентльмены! Пейте! Дункан не был монархом лучшим, чем я. Третий гость. Мы такого же мнения, ваша милость. Макбет. Наша страна нуждалась в правителе более молодом, более энергичном и более мужественном. Так что вы ничего не потеряли от перемены. Четвертый гость. И мы так думаем, ваша милость. Макбет. А что вы думали о Дункане во времена Дункана? Вы говорили ему, что вы о нем думаете? Или вы говорили ему, что он самый мужественный? Самый энергичный из рулевых? Может быть, вы говорили ему, что его место должен занять Макбет? Что трон подойдет мне больше, чем ему? Первый гость. Но, ваша милость… Макбет. Я и сам думал, что он был на месте. А вы? Или вы думали совсем иначе? Отвечайте! Второй гость. Ваша милость… Макбет. Милость, милость, милость, милость… Ну а дальше что? Я хочу знать продолжение. Вы утратили дар речи? Пусть тот, кто осмеливается думать, что я не лучший из монархов, прошлых, настоящих и будущих, встанет и прямо заявит мне об этом. Не осмеливаетесь? (Пауза.) Не осмеливаетесь? Разве же я самый справедливый, самый великий? Ах вы, жалкие трусы, вот вы кто! Пейте же, пока не опьянеете.
Сцена погружается во тьму. Больше не видно ни столов на заднике, ни отражений в зеркалах. Внезапно появляется Банко. Он начинает говорить, стоя в дверном проеме справа. Потом выходит вперед.
Банко. Я, Банко, осмеливаюсь говорить. Макбет. Банко?! Банко. Да. Я осмелюсь тебе сказать, что ты — предатель, обманщик и убийца. Макбет (отступая перед Банко). Так, значит, ты не умер!
Четыре гостя встали. Макбет продолжает пятиться назад.
Банко! (Хватаясь за кинжал.) Банко! Первый гость (Макбету.) Да это же не Банко, ваша милость. Макбет. Это он, клянусь! Второй гость. Он, но не собственной персоной. Это всего лишь его призрак. Макбет. Его призрак? (Смеется.) В самом деле, это всего лишь призрак. Моя рука проходит сквозь него. Мне видно все, что за его спиной. Я не могу тебя убить вторично. Твое место не здесь. Третий гость. Он явился из ада. Макбет. Ты явился из ада. И должен туда вернуться. У тебя есть приказ? Покажи-ка разрешение сатаны на то, чтобы отлучиться из ада. Ты свободен до полуночи? Тогда займи почетное место за этим столом. Ах, горемыка! Ты ведь не можешь ни есть, ни пить. Садись между моими славными гостями.
Гости испуганно сторонятся призрака.
Чего вы боитесь? Что он может вам сделать? Наоборот, садитесь теснее вокруг него. Пусть ему кажется, что он существует. Тем больше будет его отчаяние, когда он возвратится в свою мрачную обитель, чересчур жаркую или чересчур сырую. Банко. Каналья! Увы, мне уже не дано ничего иного, как проклинать тебя. Макбет. Тебе не разбудить во мне раскаянья. Не убей я тебя, ты бы убил меня, как убил Дункана. Не ты ли первый вонзил кинжал ему в сердце? Я хотел назначить тебя первым советником, а ты позарился на мое место. Банко. Как же ты мог позариться на место Дункана, который дважды произвел тебя в бароны? Макбет (гостям). Да не дрожите вы так! Что с вами творится? Выходит, я выбрал себе генералов среди трусов! Банко. Я доверял тебе, я следовал за тобой по пятам, пока ты и твои ведьмы не околдовали меня. Макбет. Ты хотел подменить мое потомство своим. Ты забежал вперед. Все твои сыновья, внуки и правнуки умерли в твоем семени, еще не родившись. Почему ты называешь меня канальей? Я просто опередил тебя. Я оказался проворнее. Банко. Тебя ждут сюрпризы, Макбет. Ты и не подозреваешь, какие. Ты дорого заплатишь за все. Макбет. Он меня рассмешил. Я говорю «он», хотя в действительности здесь только останки, отбросы прежней особы… осадки, муть.
Банко исчезает. В тот же момент возле трона появляется Дункан и усаживается на него.
Четвертый гость. Эрцгерцог! Глядите, глядите — эрцгерцог! Второй гость. Эрцгерцог! Макбет. Здесь эрцгерцог я один. Вы обращаетесь ко мне, но ваши взоры направлены на кого-то другого. Третий гость. Эрцгерцог! (Указывает пальцем.) Макбет (оборачивается). Похоже, все они назначили здесь свидание.
Гости с осторожностью приближаются к Дункану и останавливаются на некотором расстоянии от трона. Первый и второй гости преклоняют колена справа и слева от трона. Третий и четвертый располагаются по обе стороны от Макбета спиной к зрителям, двое первых — в профиль. Дункан сидит на троне лицом к публике.
Первый и третий гости (Дункану). Ваша милость… Макбет. Вы поверили, что Банко предстал перед нами живым. Уж не верите ли вы, что и Дункан живой сидит на этом троне? Не потому ли, что он был вашим государем, вы привыкли падать перед ним ниц, его страшиться? Говорю вам — это всего лишь призрак. (Дункану.) Так вот, я занял твой трон. Я взял себе в жены твою жену. Я служил тебе верой и правдой. Ты же питал ко мне недоверие. (Гостям.) Вернитесь на свои места. (Выхватывает кинжал.) Быстрее, вернитесь на свои места, здесь нет у вас другого монарха, кроме меня. Отныне вы должны падать ниц передо мной… и зовите меня «ваша милость». Ну!..
Гости в страхе пятятся назад.
Первый и второй гости (вместе, согнувшись в низком поклоне). Ваша милость, мы — само послушание. Третий и четвертый гости (вместе, согнувшись в низком поклоне). В том, чтобы подчиняться вам, заключено все наше счастье. Макбет. Я вижу, что до вас дошло. (Дункану.) Не возвращайся больше, Дункан! До тех пор пока не получишь прощения тех тысяч воинов, которых я убил твоим именем, пока их самих не простят тысячи изнасилованных ими женщин, тысячи детей и славных пахарей, лишенных ими жизни. Дункан. Я убил и приказал убивать десятки тысяч мужчин и женщин, военных и гражданских. Я приказал сжечь бесчисленное множество домашних очагов. Все это правда. Но среди всей правды, о которой ты говоришь, есть одна неправда: ты не взял себе мою жену. Макбет. Ты рехнулся? (Гостям.) Видно, смерть лишила его рассудка. Не так ли, джентльмены? Гости (один за другим). Да, ваша милость! Да, ваша милость! Да, ваша милость! Да, ваша милость! Макбет (Дункану). Убирайся, сгинь, дурацкий призрак, исчадье ада!
Дункан встает и исчезает за троном. Появляется служанка.
Служанка. Ваша милость, ваша милость! Ее милость исчезла! Макбет. Какая милость? Служанка. Ваша августейшая супруга, ее милость леди Макбет. Макбет. Что-что? Служанка. Я вошла в ее спальню. Там никого не оказалось. Ее личные вещи исчезли. Придворная дама тоже исчезла. Макбет. Ступай ее искать и приведи ко мне. У нее была мигрень. Должно быть, она пошла подышать свежим воздухом, прежде чем присоединиться к нашему пиршеству. Служанка. Мы искали ее. Звали. И ничего, кроме эха в ответ. Макбет (гостям). Обойдите леса! Обойдите поля! Приведите ее ко мне! (Служанке.) А ты ступай искать на дворцовых чердаках, в тюремных застенках, в подвалах. Может быть, ее заперли? Ступай скорее, не тяни время.
Служанка уходит.
(Гостям.) А вы? Не тяните время, берите своих овчарок. Заходите в каждую хижину, отдайте приказ закрыть границу. Пусть все патрульные суда избороздят наши моря и даже плывут за наши границы. Свяжитесь с соседними странами, пусть ее вышлют, если обнаружат там, и вернут нам. Если какая-нибудь страна сошлется на право убежища или ответит, что не подписала с нами договор об экстрадикции, объявить ей войну. Каждые четверть часа посылайте ко мне курьера и держите меня в курсе своих поисков. Арестуйте всех женщин, похожих на ведьм, обыщите все пещеры.
Из глубины сцены входит служанка. Гости, которые дрожащими руками снимали со стен висящие на крюках пояса со шпагами, путая свой и чужой, внезапно останавливаются и поворачиваются в сторону служанки.
Служанка. Идет леди Макбет! Я только что видела, как она поднималась сюда. (Уходит.)
Появляется леди Макбет, или, скорее, это леди Дункан, хотя она и несколько отличается от той, которую мы видели раньше: на ней нет короны, ее платье слегка помято.
Первый и второй гости (вместе). Леди Макбет! Третий и четвертый гости (вместе). Леди Макбет! Макбет. Миледи! Вы опоздали. Я поднял на ноги всю страну, чтобы вас отыскать. Где вы были все это время? Вы мне все объясните чуть позже. (Гостям.) Садитесь, джентльмены. Свадебное пиршество начинается. Приступим к трапезе. (Кледи Макбет.) Я забыл про недоразумение, которое могло быть между нами; простите меня, как я прощаю вас. Будем праздновать и веселиться с нашими дорогими друзьями. Они любят вас, как меня, они ждали вашего появления.
Снова в глубине сцены, на задниках или игрой зеркал, появляются столы и гости, которых мы видели раньше.
Первый и второй гости (вместе). Да здравствует леди Макбет! Третий и четвертый гости (вместе). Да здравствует леди Макбет! Макбет (к леди Макбет). Займите почетное место. Четвертый гость. Да здравствует леди Макбет, наша горячо любимая государыня! Леди Макбет, или леди Дункан. Горячо любимая или нет, я ваша государыня. Но я не леди Макбет. Я леди Дункан, несчастная, но верная вдова нашего законного монарха, эрцгерцога Дункана. Макбет (к леди Дункан). Вы сошли с ума?
Гости говорят нараспев.
Первый гость. Она сошла с ума. Второй гость. Уж не сошла ль она с ума? Третий гость. У бедняжки помутился рассудок. Четвертый гость. Она сама не знает, что говорит.
Последние слова гости тоже говорят нараспев.
Первый гость. Мы присутствовали при ее бракосочетании. Макбет (к леди Дункан). Вы моя супруга. Неужто вы забыли? Они присутствовали на нашей свадьбе. Леди Дункан. Вы присутствовали не на моей свадьбе. Вы присутствовали на свадьбе Макбета с ведьмой, которая подделала черты моего лица, формы моего тела и звук моего голоса. Она бросила меня в темницу этого дворца и заковала в цепи. Сегодня цепи распались, а засовы открылись сами, как по волшебству. Я не имею к тебе никакого отношения, Макбет. Я не твоя сообщница. Ты убийца своего господина и своих друзей, узурпатор и самозванец. Макбет. Но как же вы оказались в курсе всего, что произошло? Первый гость (поет). В самом деле, как же ей все это стало известно?.. Второй гость (поет). Она не могла всего этого знать, находясь взаперти… Третий гость (поет). Она не могла все это знать… Леди Дункан. Я узнала обо всем по перестуку арестантов. Мои соседи по камере стучали по стене. Такова тюремная переписка. Так я все и узнала. Ступай искать свою новобрачную красавицу, старую ведьму. Макбет (поет). Увы, увы, увы! На этот раз моим глазам предстал не призрак… То не призрак, то не призрак предстал моим глазам… (Пение окончилось.) Как хотел бы я отыскать эту старуху колдунью. Она приняла ваш облик, повторила линии вашей фигуры, сделав их еще красивее. Она подделала свой голос под ваш, заставив звучать его еще прекраснее. И все это, чтоб обмануть меня. Где же мне отыскать ее? Должно быть, она испарилась. У нас нет ни летающих машин, чтобы ее догнать, ни специальных приспособлений, чтобы обнаружить, где она в пространстве. Четверо гостей (поют все вместе). Да здравствует Макбет, долой Макбета! Да здравствует Макбет, долой Макбета! Да здравствует леди Дункан, долой леди Дункан! Леди Дункан (Макбету). Она больше не желает тебе помогать, твоя ведьма! Она предоставила тебя твоей несчастной доле. Макбет. Разве же это несчастье — быть монархом нашей страны? Мне не нужна ничья помощь, чтобы править ею. (Гостям.) Убирайтесь, жалкие рабы!
Гости уходят.
Леди Дункан. Тебе не выпутаться из беды, в какую ты попал. Ты не будешь править этой страной. Макол, сын Дункана, только что приплыл из Карфагена и высадился на наш берег. Он поднял против тебя мощную и многочисленную армию. Вся страна настроена против тебя. Друзья тебя покинули, Макбет.
Слышатся крики: «Долой Макбета! Да здравствует Макол!» Леди Дункан исчезает.
Макбет (со шпагой наголо, обращается к невидимой толпе, исступленно кричит направо). Я ни в ком не нуждаюсь! (Кричит налево.) Я никого не боюсь! (В зрительный зал.) Я никого не боюсь! Никого!
Звучат фанфары. Из глубины сцены выходит Макол.
Макол (Макбету, который оборачивается). Наконец-то я тебя нашел! Последний из людей, презренное, подлое, мерзкое отродье! Чудовищный подлец! Ошметки человечества! Алчный убийца! Моральное ничтожество! Змея подколодная! Скотина! Мерзкая жаба! Рогач! Макбет. Твои слова меня ничуть не задевают, ты юный болван, кретин, возомнивший себя воином-мстителем! Психический урод! Смешной дебил! Никчемный герой! Самонадеянное ничтожество! Неотесанный мужлан! Тупица безнадежная! Макол. Я убью тебя, падаль! А потом выброшу свою оскверненную шпагу! Макбет. Жалкий подонок! Ступай своей дорогой. Я убил твоего отца-кретина, но хотел избежать твоей смерти. Ты против меня бессилен. Сказано, что ни один человек, вышедший из женской утробы, не сможет меня одолеть. Макол. Тебя обвели вокруг пальца! (Произносит речитативом на вагнеровский манер.) Я не кровный сын Дункана, а лишь его приемный сын. Я сын Банко и газели, которую ведьма превратила в женщину. Банко не знал, что она зачала от него. Она снова обратилась в газель, прежде чем произвела меня на свет. До моего рождения леди Дункан тайком покинула двор, и никто не знал, что она не была беременна. Она вернулась ко двору уже с младенцем. Меня считали ее сыном и сыном Дункана, мечтавшего о наследнике. (Говорит.) Я верну себе имя Банко и положу начало новой династии, которая будет править веками. Династия Банко! Я буду Банко II. А вот и мои потомки: Банко III…
Одна за другой появляются головы.
Банко IV, Банко V, Банко VI…
Появляется голова автора этой пьесы, который смеется во весь рот. За ними последуют еще десятки.
Макбет. Никогда со времен царя Эдипа судьба так не насмехалась над человеком. О безумный мир, в котором даже лучшие еще хуже худших! Макол. Я мщу за двух отцов: и за приемного и за родного. (Вытаскивая шпагу, Макбету.) Сведем скорее счеты между нами. Пусть же твое дыхание не отравляет мир ни одной лишней секунды. Макбет. Ты умрешь, глупец, раз тебе этого так хочется. Пока лес не превратится в полк и не пойдет на меня в атаку, я непобедим.
Мужчины и женщины движутся к середине сцены, где находятся Макбет и Макол. Каждый несет либо щит с изображением дерева, либо просто ветку. Эти два решения предусмотрены для того случая, когда технические возможности театра ограничены. Если же нет, декоративный лес должен грозно окружать Макбета.
Макол. Обернись и взгляни — лес сдвинулся с места! Макбет (оглядывается). Беда!
Макол убивает Макбета ударом шпаги в спину. Макбет падает.
Макол. Уберите отсюда эту падаль!
Крики невидимой толпы: «Да здравствует Макол! Да здравствует Макол! Тиран мертв! Да здравствует Макол, наш горячо любимый монарх! Да здравствует Макол!»
Макол. И пусть внесут трон!
Два гостя уносят труп Макбета. В этот же момент вносят трон.
Один из гостей. Садитесь, ваша милость!
Приходят другие гости. Один из них укрепляет щит, на котором написано: «Макол всегда прав!»
Гости. Да здравствует Макол! Да здравствует династия Банко! Да здравствует его милость!
Слышен перезвон колоколов. Макол возле трона. Справа входит епископ.
Макол (епископу). Это для освящения? Епископ. Да, ваше высочество!
Сцена заполняется народом.
Первая женщина. Да будет ваше правление счастливым! Вторая женщина. Будьте добрее к простому народу! Первый мужчина. Да сгинет несправедливость! Второй мужчина. И ненависть, которая разрушила наши жилища, отравила нам души! Третий мужчина. Пусть ваше правление станет временем мира, гармонии и согласия! Первая женщина. Пусть ваше правление не нарушит святые законы Церкви! Вторая женщина. Пусть ваше правление будет триумфом радости. Первый мужчина. Пусть будет оно царствием любви. Второй мужчина. Обнимемся, братья мои! Епископ. Обнимитесь, и я благословлю вас. Макол (стоя почти перед самым троном). Тихо! Первая женщина. Он хочет с нами говорить! Первый мужчина. Его милость обращается к нам с речью. Вторая женщина. Послушаем, что он скажет. Второй мужчина. Мы слушаем вас, ваша милость. Первый мужчина. И да хранит вас Бог! Макол. Сказано вам, тихо! Не галдите все разом! Мне надо сделать заявление. Пусть никто не шелохнется. Пусть никто не дышит. И зарубите себе на носу следующее.[34] Наша родина ослаблена гнетом. Каждый новый день новый удар бередит ее раны. Да-да, я отсек голову тирана и насадил ее на пику. Третий мужчина (вносит голову Макбета, насаженную на пику). Ты это вполне заслужил. Второй мужчина. Он это вполне заслужил. Четвертый мужчина. Пусть ему не простят небеса. Первая женщина. Будь он проклят отныне и вовек! Первый мужчина. Пусть он поджаривается на адском огне! Второй мужчина. Пусть его пытают в преисподней. Третий мужчина. Не давая ни секунды передышки. Четвертый мужчина. Пусть он раскается, горя в адском пламени. Господь не примет его раскаяния. Первая женщина. Пусть вырвут у него язык, а он вырастет снова — и так по двадцать раз на дню. Второй мужчина. Пусть насадят его на вертел! Посадят на кол. И пусть он станет свидетелем нашей радости. Пусть взрывы нашего смеха его оглушат. Вторая женщина. Вот мои вязальные спицы, чтобы выколоть ему глаза. Макол. Если вы сейчас же не заткнетесь, я спущу на вас своих солдат и собак.
Множество гильотин в глубине сцены, как это уже было в первой картине.
Итак, теперь, когда с тираном покончено и он клянет свою мать за то, что она родила его на свет, скажу вам следующее. Отныне моя страждущая родина увидит больше пороков, чем когда бы то ни было. При моем правлении она будет страдать все больше и больше — так, как еще никогда не страдала.
По мере того как Макол произносит эти слова, слышится ропот неодобрения, отчаяния, оцепенения. К концу этой тирады возле Макола не остается ни души.
Я чувствую, что пороки так хорошо мне привиты, что стоит им расцвести пышным цветом, и черный Макбет покажется вам белее снега, а наша бедная страна будет считать его агнцем Божьим в сравнении со мной и моими бесчисленными злодеяниями. Макбет был кровавым, сластолюбивым, скупым, лживым, коварным, резким, хитрым. Его пороков не счесть. Но моему распутству не будет границ. Вашим женам, дочерям, матерям семейств, девственницам не насытить моих желаний. Мои страсти преодолеют все преграды моей воли. Макбет был бы монархом намного лучшим, чем я. В моем характере самые низменные инстинкты сочетаются с такой неутолимой жадностью, что за время своего правления я отрублю головы всем дворянам, чтобы завладеть их землями. Мне потребуются драгоценности одного, дом другого, и каждое новое приобретение будет для меня лишь приправой, разжигающей аппетит. Я затею несправедливые тяжбы с лучшими и самыми порядочными, чтобы завладеть их добром. Я напрочь лишен добродетелей, которые пристало иметь монархам. Справедливость, искренность, умеренность, уравновешенность, щедрость, упорство, жалость, человечность, набожность, терпение, мужество, твердость — мне неведом даже их привкус. Зато у меня в избытке различных преступных наклонностей, которые я удовлетворю любыми средствами.
Епископ, единственный человек, оставшийся еще возле Макола, с подавленным видом уходит направо.
Теперь, придя к власти, я вылью к чертям сладкое молоко согласия. Я приведу в полное расстройство всеобщий мир, уничтожу на земле всякое единство. Начнем с того, что превратим это герцогство в королевство — и я его король. В империю — и я император. Я — супервеличество, император над всеми императорами. (Исчезает в тумане.)
Туман рассеивается. Через сцену пробегает охотник за бабочками.
Конец
Перевод Л. Завьяловой

Проза

СКАЗКИ ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ЕЩЕ НЕТ ТРЕХ ЛЕТ
{9}Сказка № 1
Жозетта уже совсем взрослая, ей целых тридцать три месяца. Утром, как это бывает всегда поутру, она подкрадывается на цыпочках к дверям родительской спальни. Толкает дверь, пробует открыть ее — точь-в-точь маленький щенок. Она выходит из себя, она зовет родителей, родители просыпаются, но делают вид, будто ничего не слышат. Папа и мама очень устали. Накануне вечером они были в театре, потом в ресторане, а после ресторана сходили в кукольный театр. И теперь они совсем без сил… Не очень-то прилично для приличных родителей! Их прислуга тоже выходит из себя: распахивает дверь родительской спальни, говорит: «Доброе утро, мадам, доброе утро, месье, вот ваша газета, вот ваша почта, вот ваш кофе с молоком и сахаром, вот ваш фруктовый сок, вот ваши булочки, вот сухари, вот ваше масло, апельсиновый джем, вот ваше клубничное варенье, вот ваша яичница, ваша ветчина, а вот ваша дочка». Родителей от всего этого просто замутило — я забыл сказать, что после кукольного театра они опять зашли в ресторан. Родители видеть не могут кофе с молоком, сухарей, булочек, они видеть не могут ветчины, апельсинового джема, они видеть не могут фруктового сока, а особенно — клубничного варенья (тем более что оно оказалось не клубничным, а апельсиновым). — Дайте все это Жозетте, — говорит прислуге папа. — Пусть она позавтракает, а потом приведите ее к нам.Прислуга подхватывает девочку. Жозетта вопит. Однако она сластена и утешается на кухне: она съедает мамин джем, папино варенье и обе родительские булочки; потом выпивает фруктовый сок. — Ну ты и обжора! — восклицает прислуга. — Глаза завидущи, а брюхо и того пуще!..
И чтобы девочка не заболела, прислуга сама выпивает родительский кофе, съедает яичницу, ветчину, а также рисовую кашу с молоком, которая осталась со вчерашнего дня. Тем временем папа и мама крепко засыпают. Но ненадолго. Прислуга уже вводит Жозетту в родительскую спальню. — Папа! — говорит Жозетта. — Жаклин (так зовут прислугу) съела твою ветчину. — Ничего страшного, — говорит папа. — Папа! — говорит Жозетта. — Расскажи мне что-нибудь. И пока мама спит, потому что она очень устала от вчерашнего празднества, папа рассказывает Жозетте такую историю.
— Жила-была маленькая девочка по имени Жаклин. — Как наша Жаклин? — спрашивает Жозетта. — Да, — отвечает папа, — но это была не Жаклин. Это была Жаклин, которая была маленькой девочкой. Ее маму звали госпожа Жаклин. Папу маленькой Жаклин звали господин Жаклин. У маленькой Жаклин было две сестренки, и ту и другую звали Жаклин, и два маленьких двоюродных брата, которых звали Жаклинами, и две двоюродные сестры по имени Жаклин, а также тетя и дядя, тоже Жаклины. У дяди и тети по имени Жаклин были друзья, их звали господин и госпожа Жаклин, и у них была маленькая дочка по имени Жаклин и маленький мальчик по имени Жаклин, а у девочки были куклы, три куклы, которых звали Жаклин, Жаклин и Жаклин. А у мальчика был приятель по имени Жаклин, и деревянные лошадки Жаклины, и оловянные солдатики, которые звались Жаклинами. Однажды маленькая Жаклин с папой Жаклином, с братиком Жаклином и с мамой Жаклин отправились в Булонский лес. Там они встретили своих друзей Жаклинов с их дочкой Жаклин и сыномЖаклином, с оловянными солдатиками Жаклинами и куклами по имени Жаклин, Жаклин и Жаклин… Пока папа рассказывает свою историю маленькой Жозетте, появляется прислуга. — Сударь, вы сведете вашу малышку с ума! — говорит она.
Тогда Жозетта говорит прислуге: — Сведи меня на рынок, Жаклин (я ведь уже сказал, что прислугу звали Жаклин). И вместе с прислугой Жозетта отправляется за покупками.
Папа и мама снова засыпают, потому что они очень устали, ведь они были накануне в театре, в ресторане, в кукольном театре и опять в ресторане. В одной из лавок, куда Жозетта зашла вместе с прислугой, она встречает маленькую девочку, которая зашла туда со своими родителями. — Поиграем? — спрашивает Жозетта. — Как тебя зовут? — Жаклин, — отвечает девочка. — Знаю, — говорит ей Жозетта, — твоего папу зовут Жаклином и твоего младшего брата зовут Жаклином, и твою куклу зовут Жаклин, и твоего дедушку зовут Жаклином, и твой дом зовут Жаклином, и твой ночной горшок зовут Жаклином… Бакалейщик, бакалейщица, мама девочки, а также все покупатели, которые находились в это время в лавке, поворачиваются к Жозетте и смотрят на нее во все глаза. — Не обращайте внимания, — спокойно говорит прислуга, — и не удивляйтесь: такие дурацкие истории рассказывает ей отец.
Сказка № 2
Этим утром папа Жозетты проснулся ни свет ни заря. Он хорошо выспался, потому что накануне вечером не ходил в ресторан и не ел кислой капусты. К тому же он не заглядывал на рынок, где угощают луковым супом. Более того, он даже дома не притрагивался к кислой капусте. Ему запретил доктор. У папы диета. И поскольку вечером он был очень голоден, то лег пораньше, — как говорится, «кто спит, тот сыт». Жозетта постучалась к родителям. Мамы не было. Ее не было в постели — может, она была под кроватью, а может быть, в шкафу, но шкаф был заперт на ключ. Поэтому Жозетта не могла увидеть маму. Жаклин, прислуга, сказала Жозетте, что уже добрый час, как ее мама ушла, потому что вчера легла спать пораньше: она не ходила в ресторан, не ходила в кукольный театр, не ходила просто в театр и не ела кислую капусту.Жаклин, прислуга, сказала Жозетте, что ее мама вышла из дому с розовым зонтиком, в розовых перчатках, в розовых туфлях, в розовой шляпке с цветами, с розовой дамской сумочкой, в которой лежало зеркальце, она была в красивом платье в цветочек, и в плаще в цветочек, и в чулках в цветочек, и с букетом цветов в руке, потому что она большая кокетка, у нее даже глаза как два цветка. И рот как цветок. И маленький розовый носик как цветок. И волосы как цветы. И цветы в волосах.
Тогда Жозетта отправляется в папин кабинет. Папа звонит по телефону, курит и разговаривает в трубку. Он говорит: «Алло, сударь, алло, это вы?.. Я ведь вам уже говорил, чтобы вы мне больше никогда не звонили. Сударь, вы меня утомляете. Сударь, у меня нет ни секунды времени». Жозетта спрашивает у папы: — Ты говоришь по телефону? Папа кладет трубку. — Это не телефон, — говорит папа. — А вот и телефон, — отвечает Жозетта. — Мама сказала, что это телефон. И Жаклин сказала, что это телефон. — Твоя мама и Жаклин ошибаются, — отвечает папа. — Твоя мама и Жаклин вовсе не знают, как это называется. Это называется сыром. — Это называется сыром? — переспрашивает Жозетта. — Что ж, пускай это будет сыр. — Ну да, — говорит папа, — потому что сыр не называется сыром, он называется музыкальной шкатулкой. А музыкальная шкатулка называется ковром. А ковер называется лампой. А потолок называется паркетом. А паркет называется потолком. А стена называется дверью. И папа объясняет Жозетте правильные значения слов. Стул — это окно. Окно — это ручка с пером. Подушка — это хлеб. Хлеб — это коврик перед кроватью. Ноги — это уши. Руки — это ноги. Голова — это зад. Зад — это голова. Глаза — это пальцы. Пальцы — это глаза. И вот Жозетта говорит, как ее научил папа. — Я смотрю в стул и откусываю подушку, — рассказывает она. — Открываю стену и иду на ушах. У меня десять глаз, чтобы ходить, и два пальца, чтобы смотреть. Я сажусь головой на пол. А задом на потолок. Когда я ела музыкальную шкатулку, я намазывала варенье на коврик перед кроватью, и было очень вкусно. Папочка, возьми окно и нарисуй мне картинки.
Жозетта сомневается: — А как называются эти картинки? — Картинки? — переспрашивает папа. — Какие картинки?.. Нельзя говорить «картинки», нужно говорить «картинки». Входит Жаклин. Жозетта бросается к ней и кричит: — Жаклин, ты слышала? Картинки это не картинки, картинки это картинки! — Ох, очередные глупости ее папаши! — сокрушается Жаклин. И добавляет: — Нет, моя девочка, картинки не называются картинками, они называются картинками. — Жозетта и говорит вам это, — возражает папа. — Нет, — отвечает Жаклин папе, — она говорит наоборот. — Нет, — говорит папа Жаклин, — это вы говорите наоборот. — Нет, вы. — Вы оба говорите одно и то же, — говорит Жозетта. Тут появляется мама — вся как цветочек, с цветами в руке и в платье в цветочек, и с дамской сумочкой в цветочек, и в шляпке с цветами, и с глазами как цветы, и с губами как розы… — Где это ты пропадала? — спрашивает папа. — Собирала цветы, — отвечает мама. — Мама, у тебя вся стена настежь! — говорит Жозетта.
Сказка № 3
Утром маленькая Жозетта — как это было накануне и случается что ни день — стучится в дверь спальни и будит родителей. Мама уже проснулась; она уже встала; она принимала ванну. Она легла пораньше и хорошо выспалась. А папа еще спал, потому что вчера вечером, один, без мамы, ходил в ресторан, а потом в кино, а потом опять в ресторан, а потом еще в кукольный театр, а потом еще опять в ресторан. И теперь он хотел поспать, потому что сегодня воскресенье, а по воскресеньям не работают, и потому что не надо идти за машиной, чтобы ехать за город, потому что сейчас зима и потому что на дорогах гололед. О гололеде на дорогах сообщило радио. Но в Париже гололеда не было. В Париже была почти идеальная погода: всего лишь несколько облаков над крышами, зато над всей улицей — голубое небо. Жозетта подкрадывается к папе, щекочет ему нос, папа морщится, она его обнимает, а он думает, что это маленький щенок. Это не маленький щенок, это его маленькая дочка. — Расскажи что-нибудь, — просит Жозетта. И папа начинает рассказывать… — Про тебя и про меня! — требует Жозетта. И папа начинает рассказывать историю про Жозетту и про папу.Папа. Сегодня мы отправляемся полетать на самолете. Я надеваю на тебя штанишки, юбочку, фланелевую рубашку и маленький розовый свитер… Жозетта. Нет, не розовый. Папа. Может, белый? Жозетта. Хорошо, белый. Папа. Я надеваю на тебя белый свитер. Потом надеваю на тебя плащ, перчатки… А! Я забыл про ботиночки!.. И наконец надеваю на тебя маленькую шляпку. Теперь я встаю, одеваюсь, беру тебя за руку — пойдем-ка, постучимся в дверь ванной комнаты. Мама спросит: «Куда отправились мои детишки?» Жозетта. Я иду с папой полетать на самолете. Мама скажет: «Счастливо прогуляться, детишки! Будьте послушными и благоразумными. Следите, чтобы Жозетта не высовывалась в окно самолета, это опасно. Она может упасть в Сену или на крышу соседей. Она может удариться попкой или набить на лбу шишку». Папа. До свидания, мама. Жозетта. До свидания, мама. Папа. Теперь пойдем по коридору до самого конца, потом свернем налево. Там светло, в коридоре. Там свет, который падает слева, из гостиной. Мы приходим на кухню. Жаклин уже готовит обед. Мы говорим ей: «До свидания, Жаклин!» Жозетта. До свидания, Жаклин! Папа. Жаклин спросит: «Куда это вы направляетесь, сударь?.. Куда это ты собралась, моя маленькая Жозетта?» Жозетта. Мы направляемся гулять. Мы направляемся летать на самолете. Мы собираемся на небо. Папа. Жаклин скажет: «Сударь, когда будете наверху, следите за Жозеттой. Пусть она не высовывается, это опасно. Она может вывалиться. Она может набить шишку на лбу, если упадет на крышу соседей. А то, чего доброго, зацепится штанишками за дерево. Придется брать стремянку и снимать ее с ветвей». Жозетта. Да, да, я буду очень внимательной. Папа. Тогда я беру ключ, открываю ключом дверь… Жозетта. Там, в двери, такая дырочка… Папа. Открываю дверь, а потом ее закрываю. Я не хлопаю дверью, я ее тихо прикрываю, вхожу с тобой в лифт и нажимаю на кнопку первого этажа… Жозетта. Нет, это я нажимаю на кнопку. Возьми-ка меня на ручки, а то мне не достать… Папа. Пожалуйста. Ты нажимаешь на кнопку. Лифт опускается. И мы опускаемся — чтобы вскоре подняться еще выше. Мы прибываем на первый этаж. Выходим из лифта и встречаем консьержку, которая подметает лестницу у своих дверей. Жозетта. Здравствуйте, мадам. Папа. «Здравствуйте, сударь, — говорит консьержка, — здравствуй, малышка. Как же мы сегодня красивы в этом чудесном маленьком плаще, в этих красивых ботиночках, с такими очаровательными перчаточками!.. Ах, какие маленькие ручки!..» Жозетта. А моя шляпка? Папа. Консьержка спрашивает: «Куда это вы собрались? На прогулку?» Жозетта. На самолет. Папа. Тогда консьержка нам говорит: «Будьте внимательны. Нельзя, чтобы ваша девочка, сударь, высовывалась в окно самолета, она может упасть!» Жозетта. И больно удариться попкой о соседскую крышу или набить шишку на лбу. Папа. Или на носу… Тогда консьержка нам говорит: «Счастливо прогуляться!..» И мы выходим на улицу. Встречаем маму нашего соседа Мишу. Обгоняем мясника с телячьими головами. Жозетта. (Прикрывает глаза ладошками.) Злой мясник! Не хочу его видеть! Папа. Да, да. Если мясник убьет еще одного теленка, я убью его самого… Итак, мы заворачиваем за угол. Пересекаем улицу… Внимание: бибики! Переходим другую улицу. Идем к автобусной остановке. Вот и автобус. Садимся. Жозетта. Он едет; он останавливается; едет; останавливается. Папа. И вот мы на аэродроме. Садимся в самолет. Он взлетает — видишь, как моя рука: ввррр… Жозетта Он взлетает: врр… Взлетает: вррр… врр… вр… Папа. Смотрим в окно самолета. Жозетта. Не высовываться! Папа. Не бойся, я тебя держу. Ты смотришь вниз. Вон улицы, вон наш дом. А вот соседский дом. Жозетта. Я не хочу падать на его крышу! Папа. Итак, смотрим вниз — улицы, машины, все такое маленькое; люди на улице — тоже совсем крохотные. Ворота Сен-Клу. Венсенский лес. Зоопарк и все-все животные… Жозетта. Привет, всевсеживотные! Папа. Видишь льва? Слышишь, как он рычит: у-у-у! У-у-у! (Папа показывает, как лев выпускает когти, папа строит ужасную рожу.) У-у-у! У-у-у!.. Жозетта. Не надо! Не надо!.. Ты ведь не лев, правда?.. Ты папа, а не лев! Папа. Конечно, я не лев, я папа. Это я показал льва, чтобы ты знала, какой он на самом деле. Жозетта. Хватит, не показывай больше! Папа. А вот мы видим папашу Робера… А вон луг… А вон маленькая дочка папаши Робера! Жозетта. Она противная, она испачкала мне платье своими грязными ботинками. Папа. А вон замок господина мэра. А за ним — церковь и колокольня… Жозетта. Дин-дон, дин-дон… Папа. А вот на самом верху колокольни господин кюре… Жозетта. Осторожно! Он сейчас упадет! Папа. Нет, он крепко-накрепко привязался веревкой. Он забрался наверх, чтобы помахать нам платком… Ты видишь, там, на колокольне, еще господин мэр и жена господина кюре… Жозетта. Ага! Папа. А вот и не ага! Нет там никакой жены господина кюре… Но наш самолет все поднимается и поднимается… Жозетта. Поднимается, поднимается и поднимается… Папа. Теперь мы видим деревню. Жозетта. Мельницу. Папа. Да-да, мельницу в Ла Шапель-Антенез, а вон Мари на птичьем дворе. Жозетта. Утки. Папа. Река. Жозетта. В воде плавают рыбы. Нельзя есть рыб! Папа. Конечно. Нельзя есть добрых рыб. Только злых. Злюки едят добрых рыб. А нужно злых. Жозетта. А не добрых! Папа. А не добрых. Только злых… А мы все поднимаемся и поднимаемся. Вот мы уже в облаках. Вот мы уже над облаками. Небо все голубее, голубее, кругом сплошная голубизна… Смотри-ка, а вон внизу вся Земля, маленькая, как шарик… И вот мы прилетаем на Луну. Мы гуляем по Луне. Кажется, мы проголодались. Не попробовать ли кусочек Луны? Жозетта. Сейчас попробую… Ох, как вкусно! (Жозетта дает папе откусить немного Луны.) Мы вдвоем съедим всю Луну! Папа. До чего вкусно! Похоже на дыню. Жозетта. Хочешь сахару? Папа. Возьми себе, мне не надо, у меня диабет. Не ешь все, нужно и другим оставить… Ну, ничего, она снова вырастет… Однако пора садиться в самолет и лететь дальше. Все выше и выше… Жозетта. Все выше и выше… Папа. Прибываем на Солнце! Гуляем по Солнцу… Уф! Ну и жара!.. На Солнце всегда лето. Жозетта. Уф! Ну и жарища! Папа. Возьми платок и вытри лоб… Ладно, пошли-ка в самолет, пора спускаться… Стой! Где самолет?.. Он расплавился!.. Ну, ничего. Спустимся пешком… Давай побыстрей — знаешь, как далеко до дома? Нужно успеть к завтраку, а то мама будет ворчать. Здесь, конечно, жарко — на Солнце всегда жара, но если мы опоздаем, завтрак будет холодным…
Тут входит мама и говорит: «Ну-ка, марш из постели и одеваться!» И добавляет, обращаясь к папе: «Вечно ты со своими глупостями!»
Сказка № 4
Утром, как обычно, Жозетта стучится в дверь родительской спальни. У папы была бессонница. Мама на несколько дней уехала в деревню. А папа решил воспользоваться ее отсутствием и как следует полакомиться тем, что мама запрещает ему есть, потому что это вредно для его здоровья, — он как следует полакомился пивом, как следует полакомился свиным паштетом и множеством других столь же вкусных вещей. И у него заболела печень. Кроме того, у него заболел живот, заболела голова, и теперь он не хотел просыпаться. Но Жозетта стучит и стучит в дверь. И папа кричит: пусть входит. Она входит и идет к папе. И не находит маму. — А моя мама? — спрашивает Жозетта. — А твоя мама, — отвечает папа, — поехала к своей маме в деревню, отдохнуть. — К бабуле? — спрашивает Жозетта. — Да, к бабуле, — отвечает папа. — Напиши маме, — говорит Жозетта. — Позвони маме, — говорит Жозетта. — Звонить не надо, — говорит папа. И добавляет, будто беседует сам с собой: «Потому что, может быть, она и не там…» — Ладно, — говорит папа, — надо идти на работу. Пора вставать и одеваться. И папа встает. Он надевает поверх пижамы красный домашний халат, а на ноги — свои «тапули». Он идет в ванную. Он закрывает дверь. Жозетта идет следом. Она стучится в дверь крохотными кулачками и плачет. — Открой! — просит Жозетта. — Не могу, — отвечает папа. — Я совершенно голый. Я моюсь и бреюсь. — А еще писаешь и какаешь? — спрашивает Жозетта. — Я моюсь, — отвечает папа. — Ты моешься, — повторяет Жозетта, — моешь плечи, моешь руки, моешь спину, моешь попку, моешь ноги… — И брею бороду, — говорит папа. — Ты бреешь бороду с мылом? — спрашивает Жозетта. — Я хочу войти и посмотреть. — Ты меня не увидишь, — говорит папа, — потому что меня нет в ванной комнате. — А где ты? — спрашивает Жозетта из-за двери. — Не знаю, — отвечает папа. — Надо посмотреть. Может, я в столовой? Поищи меня! Жозетта бежит в столовую, а папа наконец приступает к своему туалету. Жозетта бежит со всех ног, она уже в столовой. Она оставляет папу в покое, но ненадолго. Она уже снова стоит под дверью в ванную комнату. — Я тебя везде искала, — кричит она во весь голос. — В столовой тебя нет! — Плохо искала! — говорит папа. — Посмотри под столом. Жозетта возвращается в столовую. И бежит назад к ванной. — Под столом тебя нет! — кричит она. — Тогда надо посмотреть в гостиной, — говорит папа. — Посмотри хорошенько, может быть, я в кресле или на диване, или на полке за книгами, или на окне. Жозетта уходит. Она оставляет папу в покое, но ненадолго. — Нет, — кричит она, возвращаясь, — тебя нет в кресле, тебя нет на окне, тебя нет на диване, тебя нет на полке за книгами, тебя нет в телевизоре, тебя нет нигде в гостиной! — Тогда, — говорит папа, — посмотри, нет ли меня на кухне. — Хорошо, — говорит Жозетта, — пойду поищу тебя на кухне. И Жозетта бежит на кухню. Она оставляет папу в покое, но ненадолго. — На кухне тебя нет, — вернувшись, сообщает она. — Посмотри хорошенько под обеденным столом, — советует папа. — Посмотри хорошенько, может быть, я в буфете или в кастрюлях, а может быть, в духовке вместе с цыпленком. Жозетта ходит взад-вперед по кухне. Папы нет ни в духовке, ни в кастрюлях, ни в буфете, ни под половиком, ни в кармане его брюк. В кармане его брюк — только платок. Жозетта возвращается к дверям ванной. — Я всюду искала, — говорит она. — Тебя нигде нет. Ты где? — Я здесь, — говорит папа. У него хватило времени побриться, одеться, и теперь он открывает дверь. — Я здесь, — говорит папа. Он берет Жозетту за руку — и тут в конце коридора открывается входная дверь и появляется мама. Жозетта вырывается из папиных рук, бросается к маме, обнимает ее и говорит: — Мама, я искала папу под столом, в шкафу, под ковром, за зеркалом, на кухне, в мусорном бачке, и нигде его не нашла. — Я очень рад, что ты уже вернулась, — говорит папа маме. — В деревне хорошая погода? А как себя чувствует твоя мама? — А как себя чувствует бабуля? — перебивает его Жозетта. — Поехали к ней в гости!Перевод М. Яснова
ОДИНОКИЙ
Когда вам тридцать пять, пора прекращать гонку. Если до сих пор была гонка. У меня на работе этого хватало выше головы. А время летит, сорок лет не за горами. Я бы умер от тоски и печали, если бы не это неожиданное наследство. Но не перевелись еще американские дядюшки, разве что мой оказался последним. Во всяком случае, ни у кого в нашей небольшой конторе не было ни отца, ни двоюродного брата, ни дяди в Америке. Сослуживцы не скрывали зависти: только подумайте, он бросает работу! Прощание вышло коротким. Распили божоле в кафе на углу, а Жюльетту я даже не позвал. Она все еще злилась. В свое время мы бросились друг другу навстречу, потом бросились в разные стороны. Патрон злился еще больше подружки, он объявил, что «так и ждал от меня чего-нибудь такого»; странно, сам-то я ничего не ждал. Я был обязан предупредить за три месяца, такое правило, утверждал он. «Мне очень трудно будет найти человека, способного вас заменить». Сколько раз он меня попрекал, что я плохой работник, все грозился взять на мое место другого, и я трясся от страха. Потому что где еще найдешь такую же работу, как эта, к которой я хотя бы привык? После каждой угрозы я пугался увольнения и на меня накатывала новая волна деловой активности, дня на два, на три. А потом я опять распускался. Еще недели две — и новые угрозы. Получалось, что я работал старательно дней шесть-семь в месяц. Я уже был сыт по горло. Не уступить патрону ни одного лишнего дня — в этом состояла моя месть. С удовольствием предложил заплатить неустойку за месяц. В итоге он отказался, хотел поиграть в великодушие. Я не злодей. Не стал лишать его этого удовольствия. Пришлось все-таки сходить к Жанине, кассирше. — Значит, покидаете нас. Разбогатели… А почему вы хотите отсюда перебраться? Одинокий, нескладный, ну куда вы поедете?.. Хотя да, теперь вы в состоянии нанять прислугу. Она чуть не плакала. Некоторое время она занимала у меня в сердце место Жюльетгы. Но это было и прошло. От вечного сидения в кассе она стала неповоротливой. Толстеет. Она убеждена, что я не такой, как все, что я неблагодарный. А я на самом деле такой, как все, как все в наше время, изверившийся, разочарованный, быстро устаю, перемогаю усталость, живу без цели, работаю как можно меньше (и только потому, что нельзя вообще не работать), люблю себя побаловать: пропустить рюмку-другую, хорошо пообедать время от времени, лишь бы как-то избыть эту вечную горечь и вечную усталость. Патрон все-таки пришел в кафе попрощаться. Люсьенна тоже пришла. Это была третья сотрудница конторы, более ценная, «кадровая». Она явилась вместе с Пьером Рамбулем. Люсьенна — мое третье и последнее увлечение. Нам всем было, в общем, некогда встречаться, ухаживать: работа, да и жили почти все в пригороде, так что выбор обычно падал на кого-то из своих. Брали то, что под рукой. Люсьенну я больше всего любил, если это слово здесь годится, а ничего другого мне в голову не приходит. Она предпочла мне этого юнца Пьера Рамбуля, новичка в конторе. Из всех трех Люсьенна была самая молодая и стройная. Она не устояла перед Пьером, молодым человеком, полным энтузиазма и с прекрасными перспективами, — к нам он пришел просто на короткую стажировку. Он ждал только капитала, чтобы пуститься в большой бизнес. Он дал Люсьенне понять, что приобщит ее к своей жизни и своим делам. Патрон нанял Пьера Рамбуля ровно пять лет и один месяц тому назад, и ровно пять лет назад Люсьенна бросила меня ради Пьера. Они до сих пор работают на старом месте. — Можете заодно отпраздновать пятилетие совместной жизни, — сказал я Люсьенне, вошедшей вместе с ним в кафе. Люсьенна покраснела, она все еще смущалась, когда меня видела, и каждый день я наблюдал, как она краснеет. Ей было немного совестно, что она меня бросила, и обидно, как это она ошиблась в Пьере, оказавшемся не лучше меня. Но он был помоложе и не такой некрасивый. Правду сказать, я тоже не такой уж некрасивый, просто у меня лицо невыразительное и бесцветное, от самого рождения пожухшее, с тусклыми голубыми глазами.Шутка, которую сыграла со мной Люсьенна, причинила мне много горя. Где найдешь другую такую же хорошенькую, чтобы она мною заинтересовалась, да с такими же красивыми ногами, да такую статную, да с такой обаятельной улыбкой? Когда она меня бросила, я стал сомневаться в себе, как-то растерялся. Я понял, что Люсьенна занимала в моей жизни определенное место; пока она была при мне, я этого не замечал. У меня даже началась депрессия, я взял месяц отпуска по болезни и весь месяц держался подальше от конторы. В сущности, у нас с ней было одиночество на двоих. Но это я теперь так думаю. А во времена уныния я воображал, что потерял рай земной. Мне казалось, впереди у меня только спячка да неприкаянность. И неужели ей лучше с другим? Пьер больше не упоминает о грядущих свершениях, а, напротив, отрастил брюшко. Он тоже стесняется при встречах со мной, не слишком, но все-таки… Что остается спустя пять лет от заурядной и мелкой драмы? Может, они и не стесняются при виде меня, ни тот, ни другая. Я все это вообразил. Так или иначе, уже пять лет у меня нет женщин. Я привык жить один. Слишком недоверчивый, чтобы попытаться жить, как говорится, своей жизнью, или выстроить свою жизнь, или изменить ее. Да и жил ли я вообще? С Люсьенной что-то у меня тогда вроде бы началось… И с Жюльеттой, пожалуй, тоже мелькнул среди туч кусочек синего неба.
Выпили по первому бокалу божоле, по второму бокалу божоле, по третьему бокалу божоле. Не дожидаясь, пока я закажу по четвертому, патрон ушел. Пожелал мне удачи; правда, перед тем успел сообщить, что расширяет контору, затевает интересные дела, что от клиентов отбою нет, не успевает отвечать на запросы, придется нанимать дополнительный персонал. Я содрогнулся при мысли о том, сколько свалилось бы на меня работы, если бы я остался… Спасибо американскому дядюшке… Патрон собирался утроить, учетверить оборот. Мне пришлось бы трудиться вчетверо больше. Но в конечном итоге я не поверил ни единому слову; контора будет, конечно, и дальше работать ни шатко ни валко, как раньше. Я избежал другой опасности: он не стал меня уговаривать вложить деньги в его предприятие. Я понял, что он этого не хотел. Его контора была задумана маленькой. Он слишком боялся рисковать. И конечно, был прав: ради чего лезть из кожи вон? Я бы на его месте вел себя точно так же. После пятого бокала Пьер и Люсьенна ушли, остальные тоже. Все немного окосели. Конечно, я обещал время от времени заходить в гости, пятнадцать лет на одном и том же месте — это кое-что да значит, не так ли? Большинство поступило в контору на моих глазах. Другие при мне увольнялись. Я помнил отца патрона, уже потом ему на смену пришел сын — я тогда как раз устраивался на работу. Люсьенна, уходя, улыбнулась мне, и в ее улыбке мне померещилось сожаление и, пожалуй, даже раскаяние; смотри-ка, у нее седой волосок, да и морщинка, как странно, мне и в голову никогда не приходило, что не вечно она будет юной. Похоже, на глазах у нее блеснули слезы; она чмокнула меня краешком теплых губ. У нас не было никаких оснований злиться друг на друга. Может, она простодушно надеялась, что между нами не все кончено. Может, считала, что теперь, если я захочу, можно все начать сначала. Ведь в свое время наш порыв — так она, возможно, думала — разбился о безденежье, о безрадостную работу, но любовь горами двигает, любовь разрывает цепи, разбивает препятствия, перед ней ничто не устоит, это всем известно. Собственная заурядность заставляет нас упускать свое, отрекаться от счастья. А Великая Любовь не знает, что значит самоотречение, она понятия не имеет об этой проблеме, никогда не смиряется, смирение, так же как поражение, — удел заурядных людей. Бедная Люсьенна, она воображала, что в других условиях из этого могло что-то выйти. Объективных условий не бывает. Чувствовал ли я хоть когда-нибудь, что под пеплом еще тлеет жаркое пламя? Эх… Сколько бы я ни копался у себя в душе, сколько бы ее ни исследовал, не могу выявить ни малейшего трепетания. В сумрачных пространствах моего внутреннего мира— только развалины, погребенные под другими развалинами, которые погребены под другими развалинами. Но если есть развалины, значит, когда-то, наверно, стоял храм, белели колонны, пылал огонь в алтаре? Это всего лишь предположение. На самом деле, может, ничего и не было, кроме хаоса.
Последним остался Жак Дюпон. Тринадцать лет мы сидели за одним столом, лицом к лицу, и работали: списки, списки, списки. Неделю-другую, пока не найдут мне замену, ему придется работать вдвое больше; хотя разве патрон еще не нашел мне замену? А потом Дюпону надо будет привыкать к другому человеку, привычки этого другого будут его раздражать и бесить, а потом он неизбежно к ним приспособится, перестанет обращать внимание. Вот кого огорчит, что я уволился. Надо будет к нему иногда заходить. Дождусь его как-нибудь у дверей, после работы. Выпьем вместе аперитив, как в прежнее время, которое ему уже представляется старым и добрым. И я, конечно, дам ему свой адрес, а как же, пускай приходит в гости. — Непременно, — говорю я ему, — непременно. — Хотя вы теперь разбогатели, так что чего уж… — Да нет же, нет, я вас не забуду, что вы! Я ничего не забываю, ни плохого, ни хорошего, а тем более не забуду такого человека, как вы… Короче, кончилось тем, что он остался со мной пообедать в бистро. Мы поставили хозяину выпивку. Потом он нам поставил. — Приходите повидаться, мсье, нельзя же вот так покидать друзей. Пятнадцать лет вы у меня обедали. Я вас хорошо кормил. Повсюду есть рестораны, повсюду бистро, понимаю, но нигде о вас так хорошо не позаботятся. Что вам принести? Мы с Жаком сидели за столиком у окна. Было пасмурно. Мы заказали паштет, сардины, говядину по-бургундски, кофе, две бутылки божоле. Взяли еще кофе, несколько чашечек кофе, несколько рюмочек коньяку к кофе, он ушел, я ушел.
Мне не терпелось сменить квартиру. Долгие годы я жил в маленькой комнате в недорогих номерах. Зимой там было более или менее тепло. Летом слишком тепло. У меня была кровать с красным одеялом, шкаф, стул, умывальник, туалет в коридоре. На том же этаже было несколько комнат с жильцами, так что приходилось часто стоять в очереди. То и дело вспыхивали ссоры. Приходилось вставать очень рано, чтобы успеть первым, а потом я еще три четверти часа досыпал, потому что на работу мне было только к половине девятого. Без четверти девять уносили листок, в котором отмечались присутствующие; не успел расписаться — плати штраф. Моя комната была на седьмом, последнем этаже. Потолок слегка скошен. Квадратный балкончик с железными перилами. Сама комната светлая. В углу десятка два книг. Хотелось больше, но не было ни книжного шкафа, ни полок. Прочитав книгу, я ее выбрасывал. Сохранил «Бесов» Достоевского, «Отверженных» Виктора Гюго, «Трех мушкетеров», «Графа Монте-Кристо», рассказы и романы Кафки, Арсена Люпена и Рультабиля[35]. По воскресеньям я ходил в кино, ходил один. Подружки у меня больше не было, а я был слишком робок, чтобы заговорить с девушкой прямо на улице, как Жак Дюпон, полагавший, что улица — лучший салон знакомств; может, он и хвастал. После кино я немного гулял по улицам. Равнодушно глазел на витрины, с большей заинтересованностью оглядывался на женщин, иногда шел посмотреть второй фильм, обычно детективный, или садился на террасе какого-нибудь кафе и пил пиво кружка за кружкой. Все же я немного томился. Все мы знаем, что ничего нет печальнее воскресных послеобеденных часов. Глядя на молодые пары, — беременная мамочка толкает вперед коляску с младенцем, а юный папаша впереди ведет за руку еще одного карапуза, — я испытывал желание убить их и покончить с собой. Но после третьей или четвертой кружки пива все делалось забавным и даже веселым. С наступлением сумерек гуляющие семейства сменялись менее унылыми лицами и силуэтами. Еще две кружки — и я достигал некоторой безмятежности. Во всем теле разливалась легкость. Губы растягивались в блаженной улыбке. Я возвращался в свои меблирашки и, пошатываясь, отпирал дверь комнаты. Раздеваться было очень трудно, я, как умел, складывал одежку на стул и падал на кровать. Из предосторожности я заводил будильник, ставил его на ночной столик, но всегда или почти всегда просыпался за несколько секунд до звонка. Пожалуй, звук будильника только пугал мое подсознание, которое и без того будило меня до звонка. Я нажимал кнопку и еще несколько минут лежал в постели, уже проснувшись или в полудреме. Я ради того и напивался в воскресенье, чтобы забыть, что утром в понедельник, хочешь не хочешь, начнется новая неделя. Утро понедельника, головная боль, разбухший язык — это было отчаяние. Умывание и одевание еще в большей степени, чем в другие дни, превращались в муку, казавшуюся нечеловеческой. Ежедневная каторга, такая же тягостная, как воскресная, но совсем по-другому. Жил я недалеко от конторы. Выходил на улицу, там все спешили, все так же, как и я, заново выстраивали свой ад поденной работы. На минуту-другую я задерживался в кафе на углу, глотал чашечку густейшего кофе или рюмку спиртного. После этого я чувствовал себя лучше или равнодушнее. Именно в понедельник я обычно опаздывал и уже не заставал списка присутствующих, в котором надо было расписаться: его успевали унести. — Как прошло воскресенье? — спрашивал Жак. — Повеселились? — Смеялся до колик. Жак был женат. Ему было скучно ходить с женой в кино. Ему хотелось сходить одному или с другой женщиной. А мне было скучно ходить в кино одному. Но, усевшись перед экраном, я об этом забывал. Мне было бы трудно пересказать содержание фильма или фильмов, которые я посмотрел. Я сидел в зале, смотрел на движущиеся картинки, видел людей, которые гоняются друг за другом, потом дерутся, потом с шумом и грохотом убивают друг друга из револьверов. А Жак выбирал, на что пойти. Он не смотрел что попало. Это был культурный человек. Он подолгу рассказывал мне о фильмах, которые видел. Но я знал, что ему было скучно не меньше моего. Просто он себе в этом не признавался. Понедельник — самый тягостный день недели, самый невыносимый. На мои плечи наваливалась вся начинающаяся неделя, как весь мир — на плечи Атласа. В понедельник вечером я освобождался от одной шестой груза. И с каждым днем становилось все легче и легче. В пятницу вечером я был, так сказать, счастлив. Предстояло еще утро субботы, но после обеда мы уже были свободны. Я устраивал себе радостный или роскошный обед, после обеда валялся в постели, а с субботнего вечера начиналась скука, потому что теперь только воскресенье отделяло меня от мучительного понедельника. Понедельник был самый тяжкий и гнетущий день, воскресенье — самый пустой.
Я, конечно, сам виноват. Надо было учиться. Отец умер, когда мне было пять лет. Я жил на иждивении у матери. Не знаю, почему она была в ссоре с родными. Из-за отца, наверно: они не хотели, чтобы она выходила за него замуж. Отец давным-давно умер, но она так и не помирилась с семьей. Она много работала, бедняжка, тоже ходила в контору, но на жизнь все равно не хватало. Вечерами после работы она надписывала адреса на конвертах. Я немного помогал, потом она отправляла меня делать уроки. Я засыпал над книжками и тетрадками. Мать очень расстраивалась, что я лодырь. «Трудись, — говорила она, — если не будешь трудиться, после пожалеешь, но ты же будешь, правда, мой хороший? Станешь учителем, инженером или врачом. Будешь большим начальником. У тебя будут свои подчиненные». Я бы и не прочь был трудиться, чтобы ее порадовать, ее так огорчало, что я плохо учусь. Она поддерживала меня, как могла, жалела меня, а не себя: «Ты бы мог носить красивый мундир посла, академика, генерала, мундир с орденами. Этого добиваются трудом, многие добились. А ты не глупей других. Ну, давай же, старайся…» Я приносил из школы только плохие отметки. Она надрывалась ради меня. Я отслужил в армии. Потом она сразу нашла мне это место благодаря патрону, которому она надписывала адреса, а тот дружил с другим патроном, к которому я и попал. «У тебя еще есть время, — сказала мне она, — у тебя еще есть время сдать экзамены на бакалавра. Ты можешь учиться вечерами». Я проработал в конторе всего несколько недель, когда она внезапно умерла от воспаления мозга. Исполнила свой долг, вырастила меня, передала из рук в руки патрону, как-то пристроила. Я разрывался от угрызений совести и от бессилия. Угрызения совести терзали меня потому, что она дважды потерпела в жизни крах: первый раз из-за отца, второй — из-за того, что я обманул ее надежды и не помог, не сумел ей помочь вновь наладить погибшую жизнь. Я больше не в состоянии был жить в темной двухкомнатной квартирке с кухней, где она надрывалась у меня на глазах. Потому я и перебрался в дешевые номера, тоже не слишком-то веселые. И очутился нос к носу с Жаком Дюпоном, часы напролет пересказывавшим мне одни и те же шутки. Но вечерами, после работы, пока я бродил из бистро в бистро, Жак занимался самообразованием. Читал романы и умные книги. Он состоял в революционной партии. Вечерами подвергал себя идеологической обработке, за ночь все это переваривал, а с утра яростно нападал на общество. А поскольку я был его единственным собеседником, он испепелял меня взглядом, грозил мне пальцем и возбуждал во мне угрызения совести, так что я ощущал свою ответственность за все зло, порожденное «системой». Я был и плохое общество, и плохая система, и козел отпущения. Правда, это продолжалось недолго, от силы час, потому что хозяин или секретарь слышали из соседнего кабинета обрывки разговора, выходили, приближались к нашему столу, требовали, чтобы мы работали. Наступало умиротворение, а в полдень мы с Жаком по-дружески шли вместе в обычное наше бистро пропустить по аперитиву. После обеда он уже слишком уставал, чтобы продолжать свои гневные проповеди, а главное, нам приходилось много работать, чтобы наверстать время, потерянное из-за его разглагольствований. Осенью, уходя с работы, мы с Жаком отмечали, что дни становятся короче. Начиная с января то он, то я отмечали, что по сравнению со вчерашним день стал на минуту длиннее. Я не бунтовал. Но и не смирился, потому что не знал, с чем мне смиряться и в каком обществе мне могло бы быть хорошо. Мне было не грустно и не весело, и весь я, с ног до головы, был включен в космогонию, которая могла быть только такой, как была, и никакое общество не могло в этом что бы то ни было изменить. Вселенная была задана раз и навсегда, с днями и ночами, звездами и солнцем, землей и водой, и любые перемены в том, что было задано, превосходили возможности нашего воображения. Небо было вверху, земля — у меня под ногами, был закон всемирного тяготения и другие законы, им был подчинен весь космический распорядок, а мы были его частью. И все-таки два-три раза я бунтовал. Иногда в контору после делового обеда приходили с инспекцией вкладчики и члены административного совета. Нас предупреждали об этом за двадцать четыре часа. Мы подметали, наводили порядок, чисто брились, надевали свежие, хорошо отутюженные рабочие халаты и ждали этих господ. Они переступали порог конторы, ведомые нашим патроном. Мы вставали им навстречу. Они не здоровались, не отвечали на наши приветствия, они нас даже не видели. Осматривали архивы, папки с делами, выслушивали пояснения патрона. Иные даже шляп не снимали. Но у всех шестерых или семерых лица были багровые после отменного обеда, который они только что закончили. И все были при красной ленточке или розетке. Как только за ними затворялась дверь, Жак Дюпон взрывался: — А ведь это мы их кормим. Они жиреют на нашем поте и нашей крови. Утверждение Жака Дюпона казалось мне преувеличенным по форме, потому что ни он, ни я не потели во время работы, а сидели в удобных позах, и моя ярость быстро проходила: они такие краснорожие, говорил я себе, что скоро умрут от апоплексии. И что такое Жак Дюпон и я, две жалкие букашки, рядом с тремя миллиардами других людей! Вкладчиков было шестеро или семеро, опять-таки среди трех миллиардов представителей рода человеческого. Чем и кем их заменить? Изменится общество или не изменится, я принадлежал к тем, кого поведут за собой остальные.
И все равно я чувствовал себя неуютно в своей шкуре. Не знал, как шевельнуться, чтобы ее не чувствовать или чувствовать как можно меньше. Время от времени, особенно когда я был подростком, меня волновала тайна вселенной. Бесконечная вселенная неподвластна нашему пониманию. А в школе и везде мне повторяли, что вселенная бесконечна. А еще говорили, что вселенная и конечна, и бесконечна, это казалось мне еще более непостижимым, если можно так выразиться: что же будет «после» вселенной? Возможно, вселенная не конечна и не бесконечна, а слова «конечная» и «бесконечная» — ничего не выражающие термины. Если мы не можем представить себе ни конечного, ни бесконечного, ни неконечного-не-бесконечного, — а ведь это всё такие простые, элементарные вещи, буквально созданные для того, чтобы мы их понимали, — не лучше ли вообще не думать обо всем этом? В£сь наш разум расползается в какой-то хаос. Что мы можем знать о справедливости, о физическом устройстве земли, об истории, о законах природы и мира, если от нас скрыты самые основы нашего возможного понимания? Главное, не будем думать. Ни о чем не будем думать. Ни о чем не будем судить. Иначе я сойду с ума. Но что такое сойти с ума? Еще вопрос, который не следует себе задавать. Так я и жил год за годом, жил настоящей минутой, минутой без объяснений, какой-то неопределенной минутой. А ведь у этой минуты была своя история, потому что были же и Люсьенна, и Жюльетта, и Жанина. Потому что было же время, были концы недели и начала недели. И был организм — я начинал ощущать его как что-то тяжкое, неприятное, что в одно и то же время и я, и не я. Отвращение к жизни и скука — не считаясь ни со мной, ни с моей простой и примитивной философией — скука и отвращение к жизни завладели мной, пронизали все мое существо вопреки моей воле, вопреки щиту не-думания. Ежедневные хождения на работу из привычки превращались в насилие. Я себе этого не объяснял. Ничего нельзя объяснить. Но я терпел. А главное, не видеть больше Жака Дюпона, Пьера Рамбуля, патрона — это было почти счастье. Уйти, стать свободным. Так что среди полной непонятности были все же крохи чего-то понятного. Пускай мы не можем постичь вселенную или узнать великие законы, которые ею правят, мы все же можем маневрировать в маленькой вселенной внутри огромной бесконечности или внутри неконечности-небесконечности.
Было самое начало октября. Еще стояла ясная теплая погода. Я пустился на поиски квартиры. Сперва я думал, что поселюсь на широком проспекте, где растет много деревьев. Или еще лучше, напротив большого парка, на Шомонских холмах, к примеру. А потом мне пришло в голову, что лучше всего жить в Версале, рядом с парком. Но там были или учреждения, или слишком дорогие дома. На самом деле мне следовало держать ухо востро. Хотелось подольше пожить на ренту. Но жизнь все время дорожает, надолго ли хватит моего капитала? Надо было его во что-то вложить. Мне советовали купить акции и облигации, я ничего в них не понимал и не очень-то всему этому верил. А вдруг я вложу деньги в конкурентов моего бывшего патрона? Управляющий номерами, где я жил, хотел их обновить; он не хотел, чтобы они оставались меблирашками для низкооплачиваемых служащих, которые платили мало, как и я сам до сих пор, — к счастью, я-то из этой категории выбыл. Я не мог купить ферму, не умел обрабатывать землю, я и сорока восьми часов не провел в деревне. На некоторое время меня соблазнило предложение управляющего номерами. В сущности, он хотел превратить свои номера в дом свиданий. А потом я себе сказал, что у меня будет слишком много хлопот с полицией и с преступной средой. Управляющий уверял меня, что у него друзья и тут и там. Это меня не слишком обнадежило. Лучше держаться от дельцов подальше. Днем я искал подходящую квартиру, а по ночам ворочался в кровати и не мог заснуть, размышляя об этих деньгах, которые свалились на меня с неба и которыми я хотел надежно распорядиться. Однажды утром, на заре, в мозгу у меня всплыла фраза, услышанная в каком-то разговоре, давно уже, задолго до наследства: «Я вложу деньги в камень». Ну разумеется, надо покупать дома и сдавать их внаем. Кому сдавать? Людям, которые не будут платить или будут платить мало, или все запачкают, или со временем завоюют себе права, запрещающие мне поднимать квартплату в соответствии с ростом цен на продукты? И все равно я посвистывал, уходя из комнаты, бегом сбегал по лестнице, выходил на улицу, — часов в десять, в одиннадцать, когда хотел. Мне было весело, я чувствовал себя счастливым, но позже я сообразил, что не так уж это весело и что я не вполне счастлив. Свободен ли я от гнета? От гнета жизни? На самом деле, с самого рождения я нес на себе бремя. Вселенная представлялась мне чем-то вроде большой клетки или, вернее,большой тюрьмы, небо и горизонт казались мне стенами, за которыми, наверно, есть что-то другое, но что? Я жил в огромном, но замкнутом пространстве. Или, вернее, оно представлялось мне огромным кораблем, внутри которого я сижу, и палуба этого корабля похожа на большую крышку. Нас, заключенных, великое множество. Мне казалось, огромное большинство заключенных не понимает, что они в тюрьме. Что делается там, по ту сторону стен? Наконец все-таки со мной случилось что-то хорошее: ежедневная каторга, маленькая тюрьма внутри большой, распахнула передо мной свои двери. Теперь я мог гулять по широким аллеям, по просторным проспектам большой тюрьмы. Этот мир можно было сравнить с зоологическим садом, в котором звери содержатся в полусвободном состоянии: для них насыпаны фальшивые горы, насажены искусственные леса, вырыты подобия озер, но в конце все равно решетки. И все-таки надо было продолжать поиски квартиры. Я стал искать в строившихся домах, но при виде растущих стен мне делалось худо. Пока возводят стены, они похожи скорее на стены тюрьмы, чем на старые стены старых домов. Стены старых домов постепенно словно изнашиваются, и сквозь них со временем становится видно то, что снаружи. Даже если это снаружи — просто еще одно более просторное внутри. Что касается дел, мне в итоге удалось кое-что устроить. Я разделил капитал на три части и доверил трем нотариусам, которые обязались выплачивать мне от этого капитала по семь процентов. Они ссужали моими деньгами разных людей, которые строили себе дома. Когда должники выплачивали все, что положено, нотариусы находили других нуждающихся в займе. Для меня это был наилучший вариант, потому что нотариусы подтвердили то, что я и сам думал: сейчас, в момент всеобщего финансового и экономического кризиса, неразумно покупать ценные бумаги и акции. В конце концов я нашел себе жилье. Жилье, нисколько не напоминавшее ни ту унылую и сырую квартирку, в которой я жил с матерью, ни, разумеется, мою каморку в номерах. Это была квартира в недальнем парижском пригороде. На четвертом этаже многоквартирного дома, не старого и не нового, основательного дома постройки тысяча восемьсот шестьдесят пятого года. В коридоре было темно. Как войдешь, слева клозет. Сразу за ним дверь в кухню. Стены довольно грязные, но слой краски поможет делу. Направо — застекленная дверь, ведущая в большую комнату с тремя окнами. Это была очень светлая и просторная комната. Я решил, здесь у меня будет гостиная-столовая. От входной двери коридор, загибаясь, уходил влево и вел в ванную и две другие комнаты. Обе выходили на двор. Я решил, в одной из них будет моя спальня. А на что мне другая? Сделаю из нее чулан, сложу чемоданы, одежду, там будет моя гардеробная. Большая комната была угловой. Два окна выходили на проспект, третье — в улочку, застроенную небольшими особняками, каждый со своим двориком или садиком. По проспекту проезжали тяжелые грузовики и автобусы, от которых дом слегка дрожал. Шум не мешал мне. Автобус останавливался прямо напротив моих двух окон, на другой стороне. Вокруг было все необходимое. В двух шагах от дома — бар-ресторан, где можно обедать. Через два дома — автоматическая прачечная. Рядом с остановкой — газетный и табачный киоск, за ним сразу — магазин радио и бытовой техники. Но из другого окна была видна маленькая улица. Вы словно переносились далеко-далеко, в какой-то провинциальный городок. Я сразу оценил, какими преимуществами богата эта двойственность. В трех метрах от большого города чувствуешь себя как в деревне. Я решил переезжать как можно скорей. Квартиру мне продавала старуха, у которой недавно умер муж. Она строила планы на будущее. Переедет жить к незамужней племяннице, кассирше. У той две комнатки. На двоих достаточно. Племянница хочет уйти на покой. Ее маленькой пенсии и тех денег, которые принесет с собой старая дама, им обеим хватит надолго, так, чтобы жить хоть и скромно, но в достатке. Лет на десять, а то и на пятнадцать, если не очень-то себе позволять. Больше пятнадцати ей не прожить. А племянница продаст свою квартирку на Лазурном берегу американцам и на эти деньги устроится в хороший дом престарелых. В нескольких сотнях метров от моего дома был мебельный магазин. К счастью, не антикварный, и мебель, которая там продавалась, была новенькая и блестящая. В магазинчике, разумеется, нашлось не все, но остальное хозяин готов был заказать по моему желанию из Центральных галерей. Это был добротный товар, сработанный умелыми и честными ремесленниками. В первой комнате, у стены справа, я поставил большой ярко-желтый буфет непонятно в каком стиле. Вещь тысяча девятьсот двадцать пятого года, сказал торговец мебелью, выполнена на основе прежней модели. Сработал один из наших, художник из Центральных галерей. Посреди комнаты я распорядился поставить круглый стол на шесть персон, — его можно было нарастить вставными досками, и тогда вокруг рассядутся человек десять. Я никогда не собирался приглашать столько народу, но в конце концов, кто его знает, может, я восстановлю отношения с двоюродными братьями и сестрами, с мамиными племянниками и племянницами. Может быть, познакомлюсь с соседями. Может быть, заживу открытым домом. Я заказал десять стульев, тоже желтых и прочных. Шесть из них расставил вокруг стола. Еще четыре придвинул к стенам: два между окнами, выходившими на проспект, еще два возле двери; от ковра я отказался — только красно-розовый круглый коврик под столом. Но я любил и комфорт. Я заказал и поставил в той части комнаты, которая служила гостиной, два кресла. Напротив одного из окон, выходивших на проспект, того, что в глубине комнаты, я поставил синее кресло. У другого, выходившего на маленькую улочку, — кушетку, тоже синюю. На этой кушетке можно прилечь с газетой. Под потолком я распорядился повесить люстру. Рядом с кушеткой поставил торшер с оранжевым абажуром. На окна повесил шторы, красные двойные шторы с узором из зеленых листьев, тяжелые, навевающие ощущение комфорта и богатства. Рядом с большим буфетом — часы. Паркет велел натереть: люблю хорошо натертый паркет. Хотел было устроить неоновое освещение, но мне отсоветовали. Это годится только для кухни. Красивая получилась комната, обставленная новенькой мебелью. Кухню оборудовали по-современному. В спальню я поставил большую кровать, на которую могли улечься два-три человека. Люблю, чтобы в кровати было просторно: ночью я много ворочаюсь. Купил платяной шкаф и стоячую вешалку. К окну придвинул небольшое кресло в цветочек, а занавески и накидка на кровати были из такой же материи, что обивка на кресле, зеленое с розовым. Купил на базаре столовые приборы, тарелки и к ним чашки с узором из роз. Купил сервиз для завтрака на две персоны. Ложечки серебряные, чашки с золотым ободком. Расставил сервиз на китайском подносе и водрузил на буфет. Буду им пользоваться только по воскресеньям, думал я. Купил простыни, наволочки, купил себе новый костюм для торжественных случаев, — прекрасный серый костюм в клеточку. Грязную одежду оставил в номерах, взял только коричневую куртку и черные вельветовые брюки. Из книг захватил «Отверженных» Виктора Гюго, «Трех мушкетеров» Александра Дюма и добавил к ним «Двадцать лет спустя» и «Виконта де Бражелона».
Я пока не выезжал из номеров: сперва надо было нанять прислугу, чтобы вела дом. Я не в состоянии был управиться с веником, тем более с пылесосом. Последние дни на старом месте были исполнены радости пополам с меланхолией. Все прошлое — Жанина, Жюльетга и Люсьенна, коротенькая ежедневная дорога на работу, бистро, — все безвозвратно ушло. Вот такая жизнь: возня в пыльной, захламленной бумагами конторе, гостиничная кровать, которая по вине персонала, то есть горбатой старухи-горничной, надрывавшейся из последних сил, частенько так и стояла неубранная до моего прихода с работы вечером. Будильник по утрам, бешеная гонка до конторы в надежде успеть, пока не унесли список присутствующих, радость, когда не опоздал и успел расписаться, ярость, когда прибежал через тридцать секунд после того, как список унесли, — за всем этим словно таилось какое-то счастье, открывшееся мне только теперь, красота пыли, запруженной машинами улицы, людей, торопившихся, так же как я, на работу, сотен и сотен тусклых физиономий — в сущности, не лиц, а просто облаков, и наверняка за этими облаками пряталось солнце, которое все мы, сами того не зная, носим в себе. Прошлое всегда прекрасно и ласково, но об этом догадываешься и начинаешь жалеть слишком поздно. Людям нужна некоторая перспектива, и неважно, кто вы — министр или канцелярская крыса, миллиардер или бездомный. Да, да, мир, залитый солнцем, — внутри нас, радость могла бы загораться в нас постоянно, в любую минуту, если бы мы знали, то есть я имею в виду — знали вовремя. Как прекрасно уродство, как радостна печаль, а скука ведь объяснима только нашим невежеством! Самый ледяной холод не устоит перед сердечным теплом. Надо только знать, на какую кнопку нажать, чтобы оно включилось. В сущности, мы сожалеем обо всем, и это доказывает, что все было прекрасно. На самом деле эти эйфорические мысли лезли мне в голову у стойки бистро после нескольких рюмок спиртного. Пора было остановиться. Не перебирать — иначе мысли пойдут в другую сторону. И тогда всё окутают белесый туман и безнадежность, и начнешь жалеть о том, что понапрасну прожил в этом убогом мире. Благодать, которую дарует алкоголь, непрочна. Благодать или просветление. Когда я пробуждаюсь для истины? Когда вижу лишь убожество и зловоние или когда думаю, что всякая жизнь и все, что бы мы ни делали, — это цветущий и светозарный май? Но мы ничего не знаем. У нас нет ни права, ни возможностей судить, надо просто доверять. Но кому?
Я понял, что слишком много думаю, а ведь принял уже решение вообще не думать, и это было бы куда благоразумнее, потому что, сколько ни думай, все равно ничего не поймешь. Я чересчур много философствую. Вот в чем ошибка. Не будь я таким философом, я бы жил счастливее. Если ты не великий философ, нечего философствовать. И даже великие философы, если они великие, — всегда пессимисты или приходят к таким выводам, которые невозможно понять. Или предлагают, чтобы мы дали полную волю всем нашим желаниям, — а к чему это приведет? У доброй половины людей желания либо обострены до невозможности, либо запрятаны глубоко внутри. Если они дадут своим желаниям волю, перестанут их подавлять, они же все поубивают друг друга или сами себя, хотя нет, не могут они поубивать друг друга, не могут дать волю желаниям, это невозможно: полиция не позволит. Если полицейские сами не захотят дать волю своим желаниям, то такое решение невозможно — разве только в революционные периоды, когда все всех убивают, твердя, что делают это только во имя жизни, причем лучшей жизни. Революция внедряет тиранию, внедряет быстро, и самые неистовые желания оказываются на цепи. Но огромная часть людей не желает давать волю своим желаниям, потому что эти люди сами не признаются себе в своих желаниях, или потому что желания недостаточно сильные, или потому что у людей вообще нет желаний. Вот и у меня нет желаний, или есть, но немного, или были, но прошли. И даже если есть, не стоят они того, чтобы отпускать их на волю или дополнительно подхлестывать. Пожалуй, у меня все-таки есть желания. Но они спят. Я не стремлюсь их разбудить. Какие мои желания? Чтобы от меня отстали. Чтобы желания других людей оставили меня в покое и не тащили вслед за собой. А главное, я желаю обходиться без желаний. Между тем, как я замечаю, желания у меня все-таки есть. Ладно, желание женской ласки угасло. Надеюсь, навсегда. Да я и желал-то несильно. Это и спасло меня от женщин. Но бывает, что мне хочется вина. Вино чуть-чуть бодрит и самую малость поддерживает во мне желание жить. Иначе бы все уже погасло, я бы уже умер. Я часто думал, что источник моего несчастья — в газетах. По всей планете сплошь массовые бойни, восстания, убийства на почве ревности, землетрясения, пожары, анархия и тирания. В итоге получается, что я чуть не все время хожу угрюмый. Может, я читал слишком много газет? Больше не буду. Нам повезло: мы живем на последнем клочке земли, который еще не объят пламенем. Будем этим пользоваться. «И не стыдно вам жить впустую?» — спросил меня как-то Пьер Рамбуль или Жак, не помню, кто именно. Пристально в себя вглядываясь, замечаю, что мне не стыдно: что лучше — призывать других людей к массовым убийствам или оставить их в покое, пусть живут и умирают как могут? Не испытываю потребности отвечать на этот вопрос.
У горничной в номерах была сестра, тоже горбунья, сказала горничная, но помоложе, и работы не боится, потому что, не считая горба, здоровье у нее вполне приличное. Горничная сказала мне точный адрес, у Шатильонских ворот, недалеко от моего нового дома. Я взял последний чемодан. Попрощался с хозяином. Вызвал такси. Я смотрел на улицу, на людей, выходивших из конторы, — время было обеденное. Многие мои бывшие коллеги в полдень ели в столовой, которую устроил наш патрон совместно с другими маленькими конторами. Несколько раз я туда наведывался, там был прекрасный картофельный салат с селедкой. Начало накрапывать. Я сел в такси. Довольно долго ехали по Парижу: ну и давка! Пробки не меньше чем на час, а ведь в это время большинству людей полагалось бы сидеть за обедом! От района Северного вокзала до проспекта Шатильон было далеко. Улицы перетекали в улицы, все они были одинаковые, и люди тоже были все одинаковые. Десятки тысяч, все на одно лицо, все бежали, неслись куда-то вперед, словно к какой-то точной, хорошо известной цели. Казалось, улицы заполнены собаками. Только собаки так бегут — с таким видом, словно знают куда. На мосту Сен-Мишель дождя уже не было. На улице Эколь тучи разошлись и проглянуло солнце. Но повсюду, повсюду те же люди, все на одно лицо. Будто бесконечно размножились один или два человека. В тринадцать часов десять минут я добрался до дому. Внес чемодан, поздоровался с консьержами. Это были пенсионеры, муж и жена, он высокий, пузатый, краснолицый, она поменьше, седая и на вид, естественно, недоверчивая и сварливая. К своей должности относится серьезно. Я ее уже видел, когда приходил покупать квартиру. Она так играла роль консьержки, что можно было подумать — она именно консьержка, а не женщина, к примеру сказать. — Ваша прислуга уже здесь, — сообщила она, — я дала ей ключи, она наверху, в вашей квартире. — Да, я попросил ее идти прямо наверх. Подняться наверх с чемоданом не составляло труда. Чемодан был не тяжелый. — Муж вам поможет… — Ни в коем случае, ни в коем случае. — Вы в самом деле не хотите, чтобы я помог вам донести чемодан? — переспросил консьерж. Моя квартира была на четвертом этаже по левую руку от лестницы. Я позвонил. Жанна, прислуга, отворила мне. После темной прихожей, направо, была гостиная. Там было очень светло, тучи вообще растаяли, и над крышами домов в улочке, притворявшейся уголком провинции, сияло синее небо. У крылечка беседовали две старухи. Дальше, справа, перед домом, о чем-то толковали двое мужчин, по виду пенсионеры. В другом окне, выходившем на проспект Шатильон, были толпа, шум, автобус. Я вновь отметил разницу между тишиной провинциальной улочки и шумом на проспекте.
— Я тут совсем захлопоталась, знаете ли, — сказала Жанна. — Да, — ответил я, — паркет хорошо натерт. Надо смотреть под ноги, чтобы не поскользнуться. Но я люблю, когда хорошо натерто. А буфет какой чистый и как сверкает! Благодарю вас, Жанна. Она помогла мне снять пальто и повесила на вешалку в коридоре. — Надо будет ее перевесить, мсье. Вешалка у вас висит слишком близко от кухни. Пальто пропахнет стряпней. Я купила у мясника телятину, эскалоп. Приготовить сразу? — Нет, — сказал я, — нет. Это будет на завтра. Положите мясо в холодильник. Вы ведь придете завтра? Постелить постель, прибрать хорошенько. Я, знаете, люблю чистые простыни и не переношу грязной посуды. — Да, конечно, — отозвалась она, — в тех номерах, где вы жили, было небось не очень-то чисто. — Вот потому я и хочу все изменить. Не возитесь с чемоданом, разберем его завтра. Мне не терпелось поскорее познакомиться с ресторанчиком на углу. Я спустился с четвертого этажа, скользя рукой по перилам и разглядывая потертый ковер под ногами. Трудно было понять, какого он был когда-то цвета. Консьержка была на своем месте на первом этаже, я улыбнулся ей, она ответила загадочной усмешкой и, кажется, скрипнула зубами, что ли. Я еще не вошел к ней в милость — на то, чтобы человека признали своим, требуется время. Я отворил застекленную дверь, пересек вестибюль, входная дверь была открыта, я вышел, свернул налево по тихой улочке, потом еще раз налево и через несколько шагов окунулся в шум. На остановке люди ждали автобуса, почти все они, наверное, ездили домой пообедать и теперь возвращаются автобусом на работу. На несколько мгновений их скрыл от меня огромный грузовик. Потом они опять показались, подошел автобус, они рванулись к нему. Рядом со мной, в нескольких сотнях метров, была какая-то контора, какие-то канцелярии. Я поздравил себя с тем, что мне не надо садиться в автобус, не надо торопиться с обедом, чтобы не опоздать на работу. У меня больше нет работы. Я отворил дверь маленького ресторана. Почти все столики были заняты рабочими, мелкими служащими, которые подкреплялись спокойнее, чем их коллеги, потому что им не надо было ехать на работу и с работы в автобусе, так что они выигрывали время. Какой-то человек встал и вышел из-за стола, это был столик на одного, максимум на двоих, в углу у окна. Там я и сел. Устроился спиной к залу, не очень-то люблю смотреть, как люди жуют. Мне больше нравится лицом к окну. Официантка унесла тарелку и прибор того господина, который только что ушел. Унесла, потом сразу вернулась и заменила бумажную скатерть, заляпанную красным вином, поставила чистую тарелку, положила чистые вилку, нож, ложку. Я заказал обед: филе сельди с яблоками под растительным маслом, говядина по-бургундски, камамбер, полбутылки божоле. — Хотя нет, принесите лучше целую. Если не допью, прибережете мне остаток на завтра: я собираюсь здесь обедать каждый день. На улице царило непрерывное движение. Желтые, черные, красные машины, изредка такси, угрюмые пешеходы, девушки-служащие в коротеньких платьях, очень ярких, причем веселенькие расцветки спорили с выражением лиц, скорее печальным или озабоченным, потому что девушкам, разумеется, надо было возвращаться на работу; а может, у них были и другие заботы. Небо хмурилось. Но дождя не было.
Пожалуй, в первый раз я по-настоящему смотрел ежедневный спектакль, разыгрывавшийся на этой улице. Мне было очень интересно. Даже увлекательно. Столько народу в этом мире, столько разных лиц и столько, по-видимому, одинаковых мыслей. Или почти одинаковых. Друг, подружка, где провести отпуск, а отпуск уже на носу, беременность, а ребенок сейчас не ко времени, уже родившиеся дети, которых приходится отдавать в ясли, потому что обоим родителям надо работать. Старые люди, которые все еще ходят на работу. Старик-пенсионер, с маленькой пенсией, с мыслями о том, что смерть не за горами, вот она, уже тянет к нему руки. Как любопытно. И так оно ведется веками. А школьники, а учительницы, а учителя. В других местах, на других улицах, в других кварталах — богатые люди. Но я ведь тоже богатый, напомнил я себе с радостью. Богатый человек в бедных кварталах. Я мог бы, наверно, поселиться в другом месте, например, в шестнадцатом округе, в одном из домов с нарядными лестницами и любезными консьержками. Меня одолевала какая-то меланхолия, печаль, да и усталость, да и отвращение, с одной стороны, а с другой — удивление при виде людей, которые куда-то мчатся на машинах или пешком, и все торопятся, копошатся. Вот так мы и копошимся, до чего странно! Принесли филе сельди с яблоками под растительным маслом, и это вывело меня из задумчивости. Принесли божоле, я налил его в бокал. Едва пригубил — и тут же в туче показался просвет, и белую скатерть на моем столе, и тарелку, и сельдь, и бутылку залило солнце. Я залпом выпил вино, и солнце словно вошло в меня самого. Когда остаешься в стороне и просто смотришь, от этого можно получать радость. Я еще молод, у меня впереди еще много солнечных дней. Я обернулся и посмотрел на людей за столиками. При другом освещении они стали другими. Я снова уткнул нос в тарелку. Обедать я пошел просто потому, что так полагается, по привычке, без аппетита, но теперь, из-за солнца, как-то сразу проголодался. С наслаждением съел говядину по-бургундски, сыр, выпил все вино, что было в бутылке, заказал кофе, и зря, потому что кофе не люблю. Поэтому после кофе заказал шоколадное пирожное со взбитыми сливками. Еще немного посидел, разглядывая людей на улице, словно никогда раньше их не видел. Мне было хорошо. Мне было очень хорошо. Жаль, что надо уходить, но делать нечего: я был в этом ресторане последним. Я нехотя встал, кивнул на ходу хозяевам и очутился на улице. Меня развеселила мысль, что я могу продолжать смотреть и у себя дома, из окна, сидя или растянувшись на кушетке, которая стоит рядом с окном. Я завернул за угол, мне вновь предстали окруженные садиками особняки, вновь почудилось, что я за один миг перенесся далеко-далеко, и я вошел в дом. Консьержка приоткрыла занавеску, увидела меня и опустила занавеску. Я поднялся по лестнице, на третьем этаже заметил даму с собачкой, выходившую из квартиры, и собачка тут же меня облаяла. — Филуш, перестань, — сказала дама и обратилась ко мне: — Простите, мсье, она лает на незнакомых, а потом-то она привыкнет. — Не беда, мадам, не беда. Я поднялся еще на один этаж, позвонил в дверь — никакого ответа. Значит, Жанна ушла. Я вынул из правого кармана ключ, отпер, вошел. Из гостиной пробивалось немного света. Я вошел в залитую солнцем комнату. Жанна и впрямь потрудилась на славу, все сверкало чистотой — паркет, стол, большой буфет. Внезапно я вспомнил, что не купил вечернюю газету. Проделал обратный путь, запер дверь на ключ, спустился с четвертого этажа. Консьержка посмотрела на меня из-за занавески. Дошел до угла, повернул налево, еще раз налево, табачный и газетный киоск был через дорогу. Секунду подождал, потом, когда автомобили и два мотоцикла остановились на красный свет, перешел улицу, купил газету, потом, повернувшись, переждал, когда остановились машины с другой стороны. Затем перешел дорогу, повернул направо, через несколько шагов еще раз направо. Прошел немного. Вошел в дом. Консьержка опять приоткрыла занавеску, посмотрела на меня. Я обернулся. Заметив, что я вижу, как она на меня смотрит, консьержка опустила занавеску. Я поднялся до второго этажа, мне захотелось выпить у себя на кушетке чего-нибудь крепкого. Забыл сказать Жанне, чтобы купила спиртное. Спуститься еще раз? Я помялся в нерешительности. Потом решил повернуть назад. Спустился на первый этаж, глянул в сторону консьержки, надеясь, что она меня не видит. Она снова приоткрыла занавеску и задернула ее гораздо поспешнее, занавеска чуть-чуть качнулась. Я пересек вестибюль, свернул налево, потом, через несколько шагов, еще налево; подошел к ресторану, прошел мимо; винный магазин был на углу. К счастью, он был открыт. Я купил бутылку коньяку, потом повернул обратно, опять прошел мимо ресторана, взял направо, потом, дойдя до угла, обогнул его и вошел в дом, напустив на себя по возможности достойный вид и пытаясь спрятать бутылку. Консьержка только зыркнула глазом из-за занавески. Я опять поднялся на второй этаж, остановился перевести дух, поднялся на третий, остановился на площадке третьего этажа, чтобы еще раз отдышаться, подольше. Потом, не отрывая руки от перил, стал подниматься на четвертый. Добравшись до своей площадки, я подошел к двери в собственную квартиру, налево от лестницы, поискал в правом кармане ключ, ключа не было. На миг я совершенно растерялся. Поискал в левом. Ключ был в левом. Я вспомнил, как его туда клал. Поставил бутылку с коньяком на коврик, открыл дверь, потом запер ее за собой на ключ. На лестнице я никого не встретил, люди, наверно, были на работе. Я вошел в гостиную. Около кушетки поставил бутылку, положил газету, сходил еще раз в переднюю, снял пальто и шляпу. Вернулся в комнату, достал бокал из буфета, прикрыл дверцу буфета, потом, обогнув стол, направился к кушетке. Растянулся на кушетке у окна. Привстал, снял башмаки, потом опять растянулся на синей кушетке. Немного привстал, чтобы налить себе коньяку в бокал, который принес из буфета, закупорил бутылку, в два глотка выпил бокал, взял газету и снова растянулся на кушетке. Спинка у кушетки была слегка приподнята, мне были видны собственные зеленые носки. На первой странице сообщалось об авиакатастрофе. Где-то посреди Тихого океана исчез самолет со ста двадцатью пятью пассажирами на борту и семью членами экипажа. Я смотрел на фотографии двух стюардесс. Фотографии были скверные. По этим фотографиям было не понять, хорошенькие они или нет. Наверно, хорошенькие, судя по тому немногому, что о них сообщали. Одна была ростом метр шестьдесят семь, а другая — метр семьдесят два. Обе блондинки. Катастрофа была серьезная. Давно уже не было таких крупных катастроф. Я представил себе стюардессу, ту, что ростом метр шестьдесят семь. Метр семьдесят два — это, пожалуй, для женщины слишком много. Может быть, она была похожа на Люсьенну. Наверно, у нее были красивые ноги и темно-синяя форма, и круглая темно-синяя шапочка была ей, наверное, очень к лицу. А какие у нее были глаза — синие, черные? Синие, вероятно, ведь она была англичанка, а не американка. Я только дважды летал самолетом: один раз в Марсель, откуда вернулся поездом, потому что в самолете мне было как-то не по себе. Второй раз — в Ниццу — повидать умирающую тетку. На этот раз я чувствовал себя спокойнее, и мне понравилось больше. Путешествие было прекрасное, мы летели в небесной синеве, над облаками. Но и на этот раз я тоже не стал возвращаться самолетом. Вернулся машиной с тремя друзьями: четой супругов, которым было уже за пятьдесят, и их двадцатипятилетним сыном, студентом-медиком, заканчивавшим курс. Пожалуй, можно и даже нужно было путешествовать гораздо больше. Займусь этим теперь, когда разбогател: съезжу в Японию, в Южную Америку. Съезжу, подумал я, вот отдохну немного, несколько месяцев, скажем, или год, а потом, пожалуй, начну новую жизнь, полную приключений и развлечений, только не сразу. Я еще был не в состоянии совершать сложные действия, звонить в агентство, ездить в агентство, выполнять формальности, с которыми связано получение паспорта. Покупать одежду, уместную в путешествии. Красивые костюмы. Нет, успеется. С кушетки я видел синее небо, оно приглашало меня к полетам, но я бы не сказал, что мне плохо на этой кушетке. Я вновь взялся за газету: еще один похищенный ребенок и чуть не всюду война. Какой я эгоист, подумалось мне. Какое счастье, что мне не нужно воевать. А еще какая удача, что у меня нет детей, за которых нужно дрожать; но главное, главное, какое счастье, что не надо ходить в контору. Никто меня не заставит. Я выпил второй бокал коньяку, посмотрел на небо, приподнялся, чтобы посмотреть на людей, спешащих по проспекту, потом подошел к другому окну и вновь глянул на тихий переулок с маленькими домиками. Выпил третий бокал коньяку, заткнул бутылку, поставил ее в буфет. Побродил немного, несколько раз обошел вокруг стола. Свет, коньяк, свобода — все это наполнило меня ликованием. Не сходить ли куда-нибудь? Может быть, к конторе, дождаться бывших сослуживцев? Да нет, и так хорошо. Еще успею. Я вновь растянулся на кушетке. Полежал минутку. То с открытыми, то с закрытыми глазами — это была дрема наяву. Я забылся. Потом я встал. Вышел из гостиной, прошел по длинному коридору, который загибался под прямым углом, осмотрел спальню. Она была оклеена красивыми обоями в цветочек — розы по белому полю. Я очень люблю цветы. Ну, тут скорее обойщик любил цветы. Но я ничего не имею против цветов на постели, на кресле, на стенах. Весело просыпаться утром и везде видеть цветы. Это напоминает мне не деревню, а один сад моего детства, в этом саду друг отца, садовод-любитель, посадил кучу цветов разных сортов. Но я увижу это завтра утром, когда проснусь. Я опять нырнул в темный коридор, все-таки он был очень длинный. Направо от двери в спальню была ванная. Я вошел в ванную, побыл там секунду-другую. Это моя ванная, — сказал я себе, — больше не нужно каждое утро торчать в очереди, как в номерах, где весь этаж кидался к одному и тому же клозету. И этот темный коридор, такой таинственный, мне тоже нравился, по нему можно было прогуляться. Дойти до конца, вернуться, это было как подземелье или потайной ход, по которому куртизанка крадется в спальню вельможи. Вернувшись в гостиную, я выглянул на проспект, потом выглянул в переулок. На меня напала нерешительность. Если потороплюсь, еще успею встретить у выхода кого-нибудь из моих бывших товарищей по конторе. Я ненадолго задумался, а потом решил, что еще не все видел по соседству, в окрестностях дома. Я еще не ходил никакой другой дорогой, кроме провинциальной улочки и проспекта. Ни разу не обошел весь квартал целиком. Осень только началась, было еще светло. «Нет, нет, не пойду к конторе». Я вернулся в большую комнату. Небо уже не было таким синим. Солнце уже не озаряло его так ярко, как недавно. Синева померкла, и я вдруг осознал, что небо — крыша. Земля — шар внутри другого шара, а тот шар, по-видимому, находится внутри другого шара, а тот, в свой черед, — внутри другого шара, а тот… Я попытался представить себе некий шар конечного размера внутри другого шара, тоже конечного, а тот — внутри следующего, тоже конечного, и таких шаров — бесконечное множество; — это вызвало у меня тошноту, головную боль. Головокружение. Бессилие постичь вселенную, невозможность понять, каково то, что есть, — вот что неприемлемо. Не говоря о том, что, как мы знаем, форма вещей — это только наше о них представление… С двенадцати лет этот вопрос обуревал меня то и дело и внушал мне такое же чувство чудовищного бессилия, такую же тошноту. А как все эти люди, что прогуливаются по улицам и бегут за автобусом? Если бы все принялись об этом думать или, вернее, воображать себе невообразимое, никто бы вообще не сдвинулся с места. Я уже говорил себе: не будем думать, поскольку думать мы не можем. Люди пренебрегают немыслимым или забывают о нем; отталкиваясь от немыслимого, они мыслят дальше, они основывают свои мысли на этом немыслимом, и это для меня тоже немыслимо. А ведь они изобрели арифметику, геометрию и алгебру… Но алгебра тоже ведет вас к бездне… Но они построили машины, организовали общество, они преспокойно плюют на этот абстрактный вопрос, на вопрос, не имеющий ответа. Может быть, если хочешь мыслить о том, о чем мыслить не годится, то это глупая гордыня. Но при чем тут гордыня, что такое вообще гордыня? Как бы то ни было, мне не от чего оттолкнуться. Вот он я — за стеной мира и забыл, что там, по ту сторону стены. Я не решаюсь оттолкнуться от нее. Может быть, это болезнь. Я один остался у подножия этой стены. Совсем один, как дурак. А они проделали некий путь, они даже организуют всякие общества, с переменным, честно говоря, успехом, и у них есть всякие необыкновенные приборы, а я только смотрю на стену, повернувшись к миру спиной. Я уже собирался, да, собирался не думать больше, поскольку думать все равно невозможно. Любопытно, они считают, что и мир, и вселенная, и мироздание — все это вполне естественно, нормально, что это данность — так они считают. И они-то и есть ученые, а я — лодырь и невежда. Мы в тюрьме, конечно, мы в тюрьме. Я ничего не знаю именно оттого, что хочу знать все. Может быть, им удастся дать ответ? Через десятки, сотни поколений они постигнут непостижимое, сумеют вообразить невообразимое. Если они, не останавливаясь, работают, садятся в автобусы, пишут книги, считают, покоряют далекие звезды, если открывают с помощью микроскопа все то, что бесконечно мало, значит, у них, наверное, само собой возникает бессознательное ощущение, что они своего добьются. Правда, мне кажется, что они опираются на пустоту, но и это опять-таки слово и ничего больше. Мы даем имена, которые ничего не говорят, вещам, о которых ничего нельзя сказать, ничему, о котором ничего нельзя сказать. Бесконечно малое… Если бы я, одержимый бесконечно большим, был бы вдобавок одержим бесконечно малым… Эти глупые вопросы помешали мне идти вперед, помешали обрести вкус к жизни и ее проявлениям. Ах, но это как раз неправда! В жизни есть вещи, которые хотя бы меня радуют. Но я не мог больше выносить этой скуки. Я не мог больше выносить того, что называл тошнотой конечности и тошнотой бесконечности. Все через это прошли, лет в тринадцать, в четырнадцать, в восемнадцать. А потом они не то чтобы переступили через это — в том-то и дело, что через это невозможно переступить, — а просто перестали с этим считаться: не то забыли, не то им стало все равно. Кто-то вообще никогда над этим не задумывался. Например, политики. Эти всегда или в таком-то месте, или в другом, или уж у себя дома. Им с лихвой хватает пространства конечного размера. Я не хочу сказать, что я лучше. Или что они лучше меня. Это вообще ничего не значит. Да, для меня это вообще ничего не значит. Абсолютных ценностей не бывает. На этом шаре, который заключен в другой шар, который заключен в другой шар, который заключен в другой шар. Опять это кошмарное головокружение. Я подошел к буфету. Открыл дверцу, достал бутылку коньяку. Выпил один за другим пять бокалов. Господи, как стало хорошо. Все вопросы как-то выдохлись, я согрелся и почувствовал себя счастливым, или, вернее, не столько счастливым, сколько свободным от всех этих вопросов. Теперь я был в плену не только у шара, но и у теплой обволакивающей пелены алкоголя. Но тошнота прошла. Я больше не думаю о немыслимом. Или все это отодвинулось. Что за проклятие — видеть все время только стену. Но теперь проклятие развеялось. Как мне хотелось остаться таким — таким, как все! Мне очень захотелось растянуться на кушетке, но я знал, что засну до утра. Нет, надо было выйти из дому. В ресторан. Я пошел в ресторан, обогнув дом с другой стороны, чтобы увидеть еще две соседние улицы. Итак, сперва я очутился на той провинциальной улочке, где два-три домика напоминали маленькие шале; потом свернул направо. Передо мной открылась улица, представлявшая собой унылое зрелище: с чистенькими домиками соседствовали замызганные четырехэтажки из тех, где квартиры сдаются задешево. Посреди улицы сбились в стаю мотоциклисты, готовые сорваться с места всей командой, — они такое, вероятно, видели в каком-то американском фильме, который только что прошел, оставив у юнцов жажду терроризировать окружающих. Их было человек пять-шесть; придерживая одной рукой каждый свою машину, они сгрудились вокруг мотоцикла, с которым было что-то неладно, и явно забавлялись, исторгая из него тарахтение. Потом зарычало еще два или три мотоцикла, и я поспешил как можно скорее уйти прочь от этих ужасных орудий и их кошмарного шума, в котором я мучительно угадывал агрессивные умыслы, с успехом находившие себе выход. Трое-четверо работяг в спецовках возвращались домой, судя по походке, явно успев поболтаться в пивнушке. Я ощутил свою буржуазность. Ощущение своей буржуазности было мучительно, как чувство вины. Какой вины? Напрасно я повторял себе то, что и так знал, то есть что никакой вины за мной нет, — мой разум не в силах был достучаться до иррационального начала. Вот что значит оппозиция и оппозиционная пресса! Какую власть забрали над нами клише, которых мы не признаем, а они все равно коварно проникают в нас и пропитывают насквозь! Вина тут ни при чем. Никто ни в чем не виноват. Или все во всем виноваты, а это то же самое. Но как слабы те, что чувствуют за собой вину, понимая при этом, что ни в чем не виноваты. Какой разрыв между разумом и неразумием. Кто чувствует себя виноватым и вместе с тем знает, что виноват, тому остается только сдаться, сложить с себя полномочия. Его уже ничего не удерживает от самоубийства. А мне-то, сбитому с толку, как быть?.. На углу я свернул направо и вышел на улицу пошире, почти такую же широкую, как проспект, параллельную провинциальной улочке, населенной пенсионерами. Эта новая улица выглядела тоже не слишком весело. Жилых зданий очень мало, зато полным-полно огромных цехов и складов. Вдоль левой стороны улицы тянулись строения, примыкавшие к заводу. Оттуда выходили рабочие. Не было даже ни единой пивной. Был гараж для тех самых автобусов, которые ходили по центральному проспекту, где ресторан. На этом фоне резко выделялась какая-то девушка в розовом платье. Торчало несколько деревьев, шелестя густой, но пыльной листвой. В часы, когда рабочие шли на работу и с работы, это была довольно оживленная артерия, по ней главным образом грохотали тяжелые грузовики и катило на велосипедах множество рабочих. Начинало темнеть. Я прошагал еще сотню метров, потом дошел до угла, свернул направо. Вот и хорошо знакомый проспект, который виден мне из окна. Казалось, я хожу по нему долгие месяцы и годы. Конечно, я приходил сюда, когда покупал квартиру, но знаю проспект только с этого утра, когда по-настоящему его рассмотрел. В толпе прохожих я направился к ресторану. Напротив, на другой стороне, люди по-прежнему ждали автобуса. Я отворил ресторанную дверь и с беспокойством посмотрел, свободен ли мой столик. Он оказался свободен, и я обрадовался. Он уже становился моим столиком. В ресторане было людно, горел свет. Я пробрался в свой угол, повесил шляпу на вешалку, сел. Снаружи тоже зажигались фонари. Ко мне приблизилась официантка, узнала: — Вы были днем? — Да. Я буду приходить каждый день. Вы не могли бы зарезервировать за мной столик? Она ответила, что в таких небольших ресторанах это не принято. Столики резервируют в больших ресторанах. Короче, она попробует, лишь бы я приходил пораньше. Я сказал, что я человек привычки и могу приходить на обед, скажем, к половине первого, а на ужин в семь. — Сразу видно, что вам дороги ваши привычки, — ответила она. Но я, наверно, показался ей довольно странным. Она принесла мне меню. Днем я уже брал селедку с яблоками под постным маслом, теперь для разнообразия я заказал сардины, на второе бифштекс с макаронами, а на десерт ромовую бабу. И конечно, бутылку божоле. — А вы лакомка, правда? — сказала официантка. — Да, люблю вкусно поесть, а готовят у вас хорошо. И ваше божоле мне нравится. — У хозяина знакомый виноторговец, поставляет ему вино прямо со своего виноградника, и потом, у нас все свежее и чисто. Видите, сколько народу ходит. И все довольны, едят с аппетитом. У нас лучший ресторан на всю округу. Есть еще одна закусочная, но она пустует. А еще один ресторан, называется харчевня, — он с претензиями. Она поведала, что сама она — свояченица хозяина, сестра его жены. Здесь же работает еще один ее родственник, он за стойкой. Хозяин сам делает закупки, заказывает продукты. — С родственниками работать проще, больше понимания. Но я пойду, работа ждет. Сию минуту принесу вам ваш заказ. Я повернулся и стал глядеть в окно. Занятно рассматривать идущих мимо людей. Я больше люблю, когда светло. Сумерки нагоняют скуку. Но когда видишь, как мимо идут люди, такие разные, это успокаивает, поднимает настроение. В раннем детстве я боялся темноты. Тогда мама брала меня с собой за покупками. Она держала меня за руку. Улица была многолюдная, немножко похожая на эту, чуть поуже. Мама, конечно, прекрасно знала людей в нашем квартале. Она останавливалась поболтать о том о сем с какой-нибудь знакомой дамой, с соседкой. На лету обменивалась парой слов с торговцем. Помню гомонящую толпу, в которой я чувствовал себя в безопасности несмотря на сумерки — улица освещалась плохо. Те силуэты, те люди большей частью уже ушли в небытие. Я помню улицу, полную призраков. И вдруг мне показалось, что сегодняшние прохожие — тоже призраки. Только призраки. Сердце у меня сжалось, в него вползла тревога. Меня охватил страх. Ни от чего. От всего. На счастье, принесли сардины и вино. Ну вот, сказала официантка. Она сама налила мне в бокал божоле. И ушла. Я выпил бокал и налил себе другой. Стало лучше. Слегка повеселее, что ли. У меня так бывает часто: шевельнется радость, запульсирует счастье, но слишком слабо, и я мгновенно сникаю. У меня есть свой метод, как избавляться от печали или страха, это удается, но не всегда. Метод состоит в том, чтобы как можно внимательнее разглядывать вещи и людей вокруг. Сконцентрироваться на них. Я смотрю очень-очень внимательно и вдруг вижу все и вся будто впервые. И тогда все становится непонятным и интересным.
Я сделал усилие и сосредоточился, пытаясь забыть все дороги, которые видел, и все города, и все улицы, и всех людей, и все вещи. Я заброшен в этот мир и постигаю его словно в первый раз. Силюсь понять эту его причудливость, к которой мне иногда удается пробиться. Как будто смотришь спектакль, смотришь со стороны, на расстоянии, а сам не участвуешь, сам ты уже больше не актер и не статист, а ведь обычно и привычно мы все актеры и статисты. Окруженные всеми, но вне всего. Иногда это усугубляет мою тревогу, но чаще, наоборот, прогоняет. Исподволь обостряет наблюдательность, ведь всякий раз думаешь, до чего этот всемирный механизм, и эти люди, и улицы, и копошение уродливы или прекрасны, хороши или плохи, благоприятны или неблагоприятны, опасны или надежны. Иногда удается достичь некоторого морального нейтралитета. Морального или эстетического. «Они» перестали быть моими ближними, я старался не понимать слов, которые произносили люди в ресторане. Все это был обыкновенный шум или звуки чужого языка. Все превратилось в мимолетные видения, во что-то вроде иллюзии пустоты. Другие в первый и последний раз проходят по улице, по какому-то подобию улицы, подобию пространства. На самом деле существую только я. Все остальное смутно, это просто «что-то такое». И вновь я уперся в стену непостижимого. Где все? Где я? Да, пускай тарелки, ножи и вилки, и автобусы, и пешеходы превратятся в вещи или в нечто такое, с чем неизвестно как обращаться, и неизвестно даже, зачем это! Существую один я. Другие проходили и пропадали с глаз долой, а я чувствовал себя одиноким в этом водовороте, который никак не мог быть реальностью. Реальность оказалась чем-то вроде пустого пространства, заполненного мной. Мое «я» эйфорически раздулось, и чем больше мне представлялось, что «все это» почти что и не существует, тем больше укреплялся я в уверенности, что сам-то я существую. Но следовало придержать эту эйфорию, не разрушать ее, а именно придержать. Иначе я раздулся бы до таких размеров, что занял бы собой, так сказать, все экзистенциальное пространство и вновь уперся бы в невидимые стены непостижимого. Не знаю, удалось ли мневыразить точно то, что я имею в виду. Этого состояния не выразишь. Я, может, хочу сказать совсем другое, а может, и это, и другое. Что-то вроде разума твердило мне, что не может быть, чтобы был один я. Другие — тоже «я», такие же, как я, упорно бормотал разум, который я пытался придушить. Но я в безопасности, только пока чувствую, что я — один, как будто я сам свой творец, свой собственный бог, повелитель призраков. В одиночестве мы обычно одни не бываем. Всё при нас. Мы в изоляции, но изоляция — это не настоящее, не космическое одиночество, а другое, маленькое, социальное, и не более того. В полном одиночестве ничего больше не существует. А так вы маетесь от воспоминаний, образов, вас осаждают другие люди. Докучают вам. Одиночество бывает надоедливое и несносное — тогда-то вы и бросаетесь к другим людям, зовете их, нуждаетесь в них или бежите от них, потому что верите в их существование. Мы боимся других людей — и кидаемся им навстречу, словно надеясь их обезоружить. Но я не бог, и не я изобрел все эти мимолетные призраки, всю эту видимость, «кто-то» ее мне выдал, навязал. «Кто-то». Он и есть изобретатель. А я не мог уклониться, хотя и пытался, я пытался остаться в стороне и только смотреть, не вступая в игру, но приходилось считаться с этой игрой. Правда, меня еще не совсем втянуло во все это: существование или мироздание не окончательно меня засосало, и время от времени я на секунду выпадал наружу. Голоса по-прежнему оставались невнятным ропотом, а люди привидениями. А потом все рухнуло. Нормальное вмиг обрело свою нормальность, я оказался внутри. Вещи стали сами собой. Я еще силился вернуться на ту сторону, туда, где все это не имеет названия. Как можно пристальнее, как можно внимательнее я уставился на винное пятно посреди скатерти. Я с успехом проделывал этот опыт раньше. Смотришь на что-нибудь, пока не перестаешь понимать, что это такое. Пока оно не перестанет быть винным пятном и не превратится в «незнамо что» на чем-то другом, на скатерти, которая уже и не скатерть, и не белое пространство, и не место для пятна. Может, удастся извлечь пусть немного, но хоть что-нибудь из этого пространства внутри чего-то другого, неопределимого, аналогичного пространству по ту сторону. А там, глядишь, и сам сосредоточишься на потустороннем. Но я не мог собраться с мыслями. Возможно, из-за официантки, которая бросила, проходя мимо: — Что-то вы бифштекс не едите… Правда, когда я прочно забираюсь в потустороннее, я увлекаю туда все, даже услышанные фразы, дурацкие или нет, даже то, как люди жестикулируют, — и тогда их жестикуляция превращается во что-то другое, похожее на жестикуляцию, но другое. Часто мне было достаточно долго и быстро повторять слово «лошадь» или «стол», пока понятие не освободится от своего содержания, пока значение не испарится. Но нынче вечером ничего не получалось. — Нет, что вы, — возразил я официантке, — можете даже принести мне десерт, а потом кофе, или нет, принесите сразу. Голоса вновь стали грубыми и резкими, а ведь они уже было совсем слились в невнятный ропот. Да, и все остальное тоже было на месте, свисавшие с потолка лампы не шевелились, ни намека на землетрясение. В самом начале подобных опытов, когда мне было лет пятнадцать-семнадцать, потусторонность наступала быстрее. Чаще всего возникало лучистое марево. А когда потустороннее отступало, я подолгу, несколько дней, помнил о мире, полном света. Я был уверен, что это было, есть и что я могу вновь это обрести. Я радостно помнил об этом по нескольку дней, а то и недель. Теперь я достигаю этого состояния куда с большим трудом и гораздо реже, а когда оно проходит, на меня нападает неуверенность, уныние, чуть не безнадежность. Я даже не уверен в том, что чувствовал то, что чувствовал. Все опять стало само собой, все вещи опять могут называться своими именами. Я доел, выпил кофе, а что потом? Мудрость учит радоваться мелочам, которыми оделяет нас жизнь. Я долго жил, применяя этот принцип. Потом научился не впадать в чрезмерное уныние, обходясь и без мелочей, и без более крупных вещей, которыми оделяет нас жизнь. Нелегко вытерпеть повседневность, хотя, что ни говори, безделье все-таки лучше работы. Если выбирать между усилиями и скукой, я всегда выберу некоторую скуку, она мне больше по душе. Нынче вечером мне все еще было трудно уйти из ресторана. Я заказал коньяк. Все столики опустели, кроме моего и еще одного, занятого, судя по всему, влюбленной парочкой, похожей на миллион таких же парочек. Следовало смириться и уйти. По счету я уже уплатил. Я снял с вешалки шляпу. Попрощался с официанткой, которая, несмотря на все дружелюбие, явно была довольна, что я ухожу. Может, в кино собирается или спешит вместе с другом сесть перед телевизором. А возьму-ка я тоже напрокат телевизор, чтобы вечера стали короче, чтобы легче было заснуть. — Как я устала, мсье, приду домой, сразу спать лягу… — сказала мне официантка, хотя вид у нее был вполне бодрый. Вряд ли она ляжет только для того, чтобы спать. Она сказала, что ее зовут Ивонна. Но у нее нет времени со мной поболтать, ну ничего, будет еще время завтра, послезавтра. Я вышел из ресторана, повернул направо, на ярко освещенном проспекте по-прежнему было людно. Правда, уже не так, как раньше. Я дошел до угла и свернул направо. Очутился на маленькой улочке, где прохожих было немного. Далеко не все легли спать, многие окна еще светились. Вот я уже и перед дверью своего дома. Вошел в парадную. Прошел мимо дверей консьержки. Начал подниматься на второй этаж, и тут дверь консьержки отворилась и на миг показалась она сама. Я пожелал ей доброго вечера. Она, не отвечая, метнулась к себе. Я буду давать ей чаевые и делать подарки, чтобы она стала поприветливей, решил я, вновь нахлобучивая шляпу на голову. Мне не нравятся лица, на которых написано недоверие ко мне, тем более безмолвное недоверие. В конторе мы не слишком любили друг друга из-за патрона, который вечно хмурился и поощрял то одного, то другого, из-за женщин, которые ни с того ни с сего бросают вас и уходят от одного к другому; жизнь наша протекала на фоне раздражения и мелкой ревности, но худо-бедно это была жизнь. Какая жизнь? Такая — с маленькими сюрпризами, ничтожными происшествиями, примирениями. Я поднялся на третий этаж, за дверью той квартиры, что справа, залаяла собака. Я поднялся на четвертый этаж, добрался до моей квартиры, отворил дверь, закрыл ее за собой. Нажал на кнопку выключателя, зажег свет, повесил шляпу на вешалку. В гостиной тоже зажег свет. Задернул шторы. Растянулся на кушетке. Потом встал. Забрался в кресло. «Я дома, мне хорошо». Так ли уж хорошо? Нет, все-таки хорошо. Бывают страны, где нужно быть ко всему готовым: например, в любое время дня и ночи к вам может ворваться полиция. А я и воров могу не бояться. Ведь я не живу в богатом доме, в богатом квартале. Но мне следует найти себе занятия. Получше изучить квартал. Получше изучить дом. Может, познакомиться с кем-нибудь? В этом я был не уверен. Люди могут нарушить ваши привычки. И о чем с ними разговаривать? Я не знаю ничего такого, о чем им интересно было бы послушать. А что говорят другие, мне самому неинтересно. Присутствие других людей всегда меня стесняло. Между ними и мной была невидимая перегородка. Но не всегда. В конце концов, достаточно пяти-шести знакомых лиц. Моя новая жизнь установится в ближайшие дни. Мне пришло в голову выпить еще немного коньяку. Но я представил, что меня ждет наутро: будет, наверно, тошнить, мутить с перепоя. Ладно, посмотрим, как все устроится, сказал я себе. Не Бог весть что, но все-таки интересно. Жизнь — поразительная штука: может случиться столько неожиданностей. Не больших, конечно, а маленьких. Я не любил великих приключений, они неприятны, утомительны, а в результате, — ничего, кроме скуки. Когда я лучше изучу квартал и все закоулки квартиры, только тогда начну замечать маленькие перемены, маленькие метаморфозы, которые творит свет. Я еще недостаточно знаю мебель, сколько на ней цветочков и какого цвета. Я встал и пошел туда, где хранились мои два десятка книг. Я их все читал. Кое-какие я давным-давно не брал в руки. Но часто с первой страницы вспоминал все, что будет дальше. Мне, кстати, очень нравилось время от времени их перечитывать. Обнаруживаешь, что многое не удержалось в памяти. То или иное событие, та или иная сцена. В конце концов я так и не остановился ни на одной из книг. Погасил свет в гостиной, вышел в коридор, где уже горел свет, пошел в спальню, открыл дверь, зажег лампу, выключил свет в коридоре и стал раздеваться. «Впервые в жизни я сплю в этой комнате и в этой большой кровати». Я решил запомнить это первое соприкосновение. Как-никак начинается новая эра. Будильник больше не нужен, подумал я. Они, наверно, все же завидуют мне там, в конторе. Я погасил лампу. Люблю убегать в сон. Я часто мысленно проговаривал эти слова, но сам толком не понимал: убегать от чего? Я — это я, хотя бы и спящий. Мне снится только то, что происходит в моей же повседневной жизни. Нейтральные, серые сны, не отражающие, по-моему, ни желаний, ни ужасов. Кажется, мои желания запрятаны очень глубоко. С посторонней помощью в них можно разобраться. Мне бы хотелось понять, что да как. Мне только два-три раза, по-моему, снились синие сны. Те, что наутро не помнишь, не можешь ухватить, — протянутые руки находят только мимолетные тени, тающие при свете дня. И вся жизнь расползается в клочья. Чтобы не страдать, надо смириться. Я все время напоминаю себе: надо смириться. Частичное смирение удается мне сплошь и рядом. Но это не настоящее, не глубокое смирение. Время от времени вспыхивает ярость. Сперва во мне нарастает смутное недовольство, обволакивает, душит. Нет, никогда я не утешусь, никогда не смогу забыть, никогда не загляну за стену, вздымающуюся до небес. Как смириться с невежеством, в которое мы погружены, несмотря на все науки, всю теологию, мудрость? С самого детства я не узнал ничего и знаю, что ничего не узнаю. Я бы хотел разрушить пределы, положенные воображению. Взорвать стены воображения. Они никогда не рухнут, и я умру таким же невеждой, каким родился. Непостижимо: как это мы не можем постичь непостижимое? А как легко жить за стенами всем этим технарям, политикам, ученым, крестьянам, ремесленникам, богачам и беднякам! Гордость тут ни при чем. Я не хочу знать больше других, я хочу знания для всех нас. «Это невообразимо, так что не будем воображать себе невообразимое», — пишет философ, у которого я некоторое время тому назад исхитрился прочесть несколько страниц, стоя в книжном магазине, заглядывая между неразрезанных листов книги. Я так никогда и не оправился от изначального изумления перед миром, от изумления и вопросов, на которые невозможно ответить. Нам говорят: надо избавиться от этого изумления и идти дальше. Но тогда на каком фундаменте возводить наше знание или мораль? Как бы то ни было, этим фундаментом не может быть невежество, а у нас только невежество и есть за душой, вместо фундамента, вместо отправной точки у нас пустота. Как строить ни на чем? В нашем распоряжении кое-какой практический опыт. Я знаю, что могу перемещаться в пространстве. Знаю, что могу сходить в ресторан. Знаю, что на то и есть рестораны. Знаю, что есть всякие машины. Техника. Мне кажется очень странным, что на свете, бесспорно, есть техника, которая, в общем-то, ни на чем не держится. Это еще один уровень моего изумления. Кто нам это позволяет, или почему нам это позволено, как это получается? Но опять и опять, раз и навсегда: ограниченное знание — не знание. Все мироздание и все живущие — все мы управляемы очень маломощными инстинктами, рефлексами, которые в нас вложены. Нами управляет кто-то другой, сами мы собой не управляем. Мне кажется, будто я ем для себя. А на самом деле я ем из инстинкта самосохранения. Мне кажется, что я люблю и занимаюсь любовью для себя, а на самом деле — во имя продолжения рода человеческого, просто-напросто повинуюсь законам, которые мною распоряжаются. Именно «законам» — я не в силах вообразить другое слово для обозначения этих вещей, этих принципов, которые мною управляют. Мы зажаты в социальные рамки, это бы еще ничего, но также и в биологические и, более того, в космические. И все эти слова, которые я сейчас произнес, вбиты в меня и звучат прежде, чем я их произношу. Но такой способ говорить и думать — это просто то, как я это называю, он не охватывает реальности, поскольку я не знаю толком, что значат эти слова, и не знаю толком, что такое реальность, я вообще понятия об этом не имею, не знаю даже, выражает ли реальность хоть что-нибудь и что это нам дает. Пытаюсь найти то же решение: прекратить мыслить, если, конечно, это называется мыслить и если мысль есть в самом деле мысль. Мы терпим. Я терплю. Нужно довольствоваться терпением. Отсюда рукой подать до смирения. И всякий раз, когда во мне возникает капля смирения, мне становится легче. Какой-то покой, умиротворение. Я засыпаю. Нечего волноваться. А потом, ни с того ни с сего и всякий раз неожиданно, пронзает мысль о том, что я скоро умру. Я бы не должен бояться смерти, потому что не знаю, что это такое, и потом, разве я сам не говорил, что надо дать себе свободу? Бесполезно. Срываюсь с кровати, ощущаю безумный ужас, зажигаю свет, бегаю по комнате из угла в угол, бросаюсь в гостиную, зажигаю свет там. Я не в силах ни лежать, ни сидеть, ни стоять на одном месте. И вот я двигаюсь, двигаюсь, ношусь по всему дому, всюду включаю свет и мечусь, и мечусь. Миллиарды людей терзаются от той же тревоги. Зачем, вдобавок ко всему, нас подвергают еще и этому? Это не объяснить никакими доводами, никакими словами. Потею от страха. Как многие, многие другие. Каждый из миллиардов живущих на земле — вместилище такой тревоги, словно в каждом умирает и он сам, и миллиарды других людей. Почему? Отчего? Дело, конечно, в том, что я переехал и избавился от своих конторских трудов, вот и навалилась внезапно тревога, а ведь она уже так давно ко мне не наведывалась. Все изменилось, я начал новую жизнь, и вернулись прежние страхи, которые в той, привычной и нудной жизни сошли было на нет. Тревога вернулась, свеженькая, как в первый день первого изумления и первой тревоги. Любой человек — пустое место. И в то же время каждый — это целая вселенная. «Ляг, и перестань, и не думай больше, и не думай больше». В конце концов меня охватила усталость. Милая, нежная усталость, словно махнув рукой, пришла ко мне с первыми лучами зари, и я наконец лег в кровать, укрылся, задремал и забылся сном. Каждая заря — это начало или возобновление. Это воскресение из мертвых. Смерть убегает, прячется от дневного света. Утро — то же самое, что возрождение, и это не просто символ. Это ощущает ваша психология, ваша психика. Это видно и слышно. Когда я был маленький и меня уже терзала тревога, а к маме приходили после работы гости, соседи по лестнице, человека два-три, и садились поболтать в комнате рядом с той, где стояла моя кроватка, мама оставляла открытой дверь ко мне в комнату. Я уже тогда, видимо, боялся темноты и тишины, потому что очень рад был слышать рядом обрывки взрослых разговоров, успокаивающее бормотание. Я старался растянуть как можно дольше ощущение полусна, а потом спокойно засыпал в темноте под аккомпанемент этой музыки. Теперь я люблю полудрему перед пробуждением, люблю слушать утренние звуки, шаги соседа наверху, звук открывающейся двери или окна, радио, запах кофе. Но еще больше мне нравится слушать первый грохот метро или, как сегодня, тарахтение первого автобуса. Грохот метро, которого я больше не услышу в этом пригороде, этот подземный грохот, от которого легонько дрожат стены, этот приглушенный шум меня успокаивал, и я засыпал крепким сном. А потом вступала, увы, пронзительная внезапность будильника. Но здесь будильника больше не будет. Если не считать будильника, посторонние звуки мне не мешают. Звуки молотка, отбойного молотка, машин, пил, моторов, — я их приручаю, то есть не стараюсь их не слышать, не злиться на них, противостоять им. Я их внимательно слушаю. Так выстраивается своеобразный звуковой пейзаж, очень интересный на слух, не хуже конкретной музыки.
Меня разбудил звонок в дверь. Одиннадцать часов. Пришла Жанна, домработница. Извинилась за опоздание: она обещала быть в десять, но скопилось много работы и муж болен. Однако она не стала слишком терзаться угрызениями совести: заметила, что я только-только проснулся и ее опоздание позволило мне лишний час поспать. Я попросил ее начать с гостиной, а сам пошел в ванную. Не сказал бы, что в ванной у меня ослепительно светло — она выходит на внутренний дворик, — но и не совсем темно. Все же приходится зажигать свет. Какая обуза — ежедневно умываться, одеваться. Я всегда пытаюсь как можно дольше оттянуть это занятие. По воскресеньям, когда в контору было не надо, я нередко приводил себя в порядок только к двум часам, когда наступало время идти в ресторан, и то обходился без бритья. Но по будням приходилось шевелиться быстрее. Теперь у меня каждый день будет воскресенье. Мне стало страшно, что я распущусь. Это было опасно. Эта лень, эти приступы утреннего безволия приводили меня в отчаяние. Теперь они, того и гляди, испортят мне жизнь. Я решил, что попрошу Жанну приходить пораньше, часов в восемь, нет, все же в девять, тогда мне придется раньше управляться с умыванием и одеванием. Я собрался довольно скоро. И в общем весело. Подумал — пойду пройдусь, посмотрю на улицу, на людей, на всю мою новую жизнь. Я уже предвкушал это зрелище — оживленные улицы при свете дня. Кроме того, надо будет как-нибудь прогуляться по пенсионерской улочке. Выйти из дому. Смотреть на людей со смешанным чувством интереса и безразличия. Это прекрасно. У меня есть основания быть счастливым. Надо же пользоваться тем, что столько всего можешь увидеть своими глазами, услышать своими ушами. Внедриться в самую гущу — и в то же время оставаться вне. Наблюдатель на сцене посреди актеров. Все на свете может оказаться увлекательным, занятным, любопытным, трагическим, необыкновенным, таинственным: например, проследить за псом, который спешит к неведомой цели. За людьми, которые спешат к неведомой цели. Смотреть на людей, которые смотрят. Все это — спектакль, задуманный… кем же? Скажем прямо: Богом. Скажем прямо, я в него верю. Но мироздание и в самом деле — тот же спектакль, хоть я и не знаю всей подоплеки этого спектакля. Что ни говори, зрелище поразительное. Этого нельзя отрицать. Может быть, Он позволил миру создаваться самостоятельно. Может быть, я иногда ошибаюсь. Может быть, неправда, что Он предопределяет все наши поступки. Ну да, достаточно приподнять легкую завесу, прячущую мир от повседневности и пошлости, которые скорее не снаружи, а внутри нас, и оказывается, что все ничуть не пóшло, если приглядеться внимательней, и везде драма перемешана с комедией. Я говорю глупости, это другое, совсем другое. Спектакль, который разыгрывают люди, — лишь жалкий суррогат великого театра.
Завтракать было уже поздно. Ничего. Пойду в кафе и выпью аперитив. Дело уже к полудню, можно остаться в кафе, за столиком на улице будет не слишком холодно, или внутри почитать газету. Я оставил ключ Жанне, попросил положить его под коврик. Кажется, она была слегка разочарована тем, что я ухожу так быстро. Ей хотелось поговорить. Я уже заметил накануне, что она норовит рассказать о своей жизни. Но я-то ей о своей жизни не рассказывал. А она бы не прочь послушать. Но этим секретом я делюсь только с собой. Почему секрет? — задумываюсь я. Не то чтобы секрет, но и не то чтобы не секрет. Не люблю болтать, вот и все. И я ушел. Весело сбежал, насвистывая, с высоты трех с половиной этажей. Потом остановился. С консьержкой нужно осторожнее. Побольше достоинства, солидности. Последние ступеньки я прошел спокойно, почти торжественно. Консьержка тут же приподняла занавеску, приоткрыла дверь и смерила меня суровым взглядом. Я решил, что в следующий раз попробую пройти на цыпочках. Робко поздоровался с ней и сам от этого рассвирепел: ведь она все-таки мне служит и я не делаю ничего дурного. Смотри-ка, на сей раз она снизошла до подобия улыбки. Или не улыбки. Во всяком случае, и не нахмурилась. Мне уже тошно было думать, что каждый день придется проходить мимо ее двери, бросая вызов ее безмолвному осуждению, а то и презрению. Похоже, я уже начал выдумывать. Итак, я вышел, свернул налево, разминулся с каким-то стариком на провинциальной улочке, потом опять взял налево, прошел несколько шагов по проспекту. Пересек дорогу. Добрался до самой автобусной остановки, за которой был главный вход в мэрию, преодолел еще несколько метров, свернул направо, оказался перед боковым фасадом мэрии, где был служебный вход для служащих, повернулся к этой двери спиной и перешел на другую сторону, где было маленькое кафе. Там же был газетный киоск. Я купил газету, сел на застекленной террасе за круглый столик рядом со стеклянной стеной. Заказал кампари и выпил, потом второй бокал, потом третий, потом седьмой. Еле удержался, чтобы не заказать еще. Может быть, из-за официанта: я слишком часто его дергал, и он уже посматривал насмешливо, а главное, сердито. Может, я и ошибался. В конце концов, хватит с меня и семи кампари. Легкое счастье, наступившее сегодня утром, правда, с перебоями — сперва из-за Жанны, которая надоела мне своей болтовней, потом из-за нескольких минут страха, когда мне не удалось избежать взгляда консьержки, — это легкое чувство счастья усилилось, усыпило всякую тревогу, и из него родился покой. У меня возникло желание смеяться, глуповатое какое-то желание. Глуповатое. Ну и что? Я быстро проглядел статьи о внутренней и внешней политике, снова убедился, что внутри страны люди не могут между собой договориться, что среди крестьян растет недовольство, среди рабочих тоже, а также среди руководства, ремесленников и коммерсантов. Чувствовалось, что и полиция недовольна: полицейские угрожают взять штурмом министерства. Интеллектуалы в ярости. Студенты тоже, потому что не хотят работать или потому что у них нет работы, а потом не будет рабочих мест, когда они завершат учение — трудное, скучное, бесполезное или настолько интересное и необходимое для прогресса человечества, что следовало бы платить им куда больше. А значит, они не займут подобающего им положения в этом обществе, которое, впрочем, никуда не годится. Я был об этом того же мнения, но по другим причинам: общество не может быть основано ни на какой морали, ни на какой религии; сами условия человеческого существования недопустимы ни в социальном, ни во внесоциальном смысле. Идейные статьи я никогда не дочитываю до конца. На мгновение я оторвался от газеты и засмотрелся на прохожих, не слишком в них вглядываясь, потому что внезапно мне подумалось: неправда, что все в нашей жизни предопределено и нами управляют. Если управляют, то кто? Кто такой этот Я? Существует ли он на свете? Да, существует. Но есть ли он? Только если мы верим в душу, которая заброшена в мир и претерпевает жизнь в мире. Мы, может быть, лишь узелки, эфемерные скрещения энергии, сил, разных и противоречивых тенденций, которые распутывает смерть. Но в то же время эти силы, эти энергетические события — это мы сами, мы сделаны, мы произведены на свет, мы управляемы, но мы и сами себя делаем, и сами собой управляем. Ах, был бы у меня талант к философии! Я бы добрался до сути. Добрался бы до сути всего этого, сам бы лучше во всем этом разобрался, а кроме того, сумел бы объяснить это другим и обменяться с ними мнениями. А еще я бы мог быть математиком. Один математик, студент, кузен Люсьенны, сказал мне, что математика в состоянии доказать существование Бога. Другой — что математика и физика основаны на постулатах, а постулаты, в свою очередь, основаны на пустом месте. Однако все это, все, что я вижу, выстроено. Можно исходить из каких угодно постулатов, из каких угодно аксиом, и на их основании можно что-то возводить. Реальности нет. Ненастоящего нет, настоящего нет, а все-таки все идет должным порядком, все сбывается, все строится. По Божьему соизволению есть у нас свобода иметь свою волю, питать желания, давать истолкования, предлагать гипотезы, противоречащие одна другой или не противоречащие, но в любом случае вполне годные на то, чтобы что-то с ними делать. Как-то несколько лет назад, в ту пору, когда я обедал в ресторане рядом с конторой, я, пока ел, слышал разговор двух студентов, они спорили, причем один из них утверждал, что если бы нацисты победили весь мир, то их расистские теории, их биология, их экономические теории оказались бы подтверждены опытом и на основе этих теорий можно было бы построить солидное мировоззрение, такое же, как марксизм с его биологическим и экономическим подходом. Самые разные и противоречивые математические теории и геометрии всевозможного рода не мешают, а, наоборот, помогают архитектуре. Фундаментом и отправной точкой служит наш замысел, наша гипотеза, а гипотеза — это лишь наша добрая воля или выражение разных типов личности или разных рас. Все проверяется опытом. Что хотят, то и делают. Не я, а «они». Я тут ни при чем. После седьмого аперитива я думал, что нет ни реального, ни нереального, ни правды, ни лжи. Любая философия или теология хороша или плоха в зависимости от того, нравится она нам или нет. Мне это смешно. Я снова посмотрел на идущих мимо людей. Они все разные. И все одинаковые. Есть только опыт. Только опыт, ничего больше. Что это означает? Мудрено философствовать, не зная философии, да еще и после седьмого аперитива. Я вновь принялся за газету; никогда не читаю спортивную страницу. А между тем команды, бросающиеся в драку, послужили бы прекрасной иллюстрацией того, что мяч тут ни при чем, и когда в драку бросаются более крупные команды, народы или когда войну затевают общественные классы, то делают они это не по экономическим или патриотическим причинам и не ради свободы или справедливости, а просто потому, что поссорились, из потребности повоевать. Но я не специалист в полемике. И потом, меня не интересует, устроят они войну или нет. У меня агрессивности нет или почти нет, и этим-то я и отличаюсь от остальных. Но я охотно читаю репортажи о преступлениях. Не люблю преступников. Мне и жертв не жалко или почти не жалко… Почему же я люблю про это читать? Потому что это выдирает меня из однообразия будней. От этого захватывает дух. Я ни разу не дочитал до конца статьи по внутренней или международной политике. Я хочу сказать — комментарии меня не интересуют. Я сам комментатор событий. Я знаю, что люди одновременно и хотят и не хотят начать войну; знаю, что люди — орудия других людей; думаю, что подчас они не прочь любить друг друга и что большую часть времени они ненавидят друг друга как бы нехотя. Они скучают, сами того не понимая. А может, и не скучают. Сам я часто скучаю. У меня голова кружится от скуки, я ее боюсь; не так давно я страдал депрессией, — возможно, бессознательная дань моде, — а все от скуки, или это и была скука. Когда пишешь о скуке, это значит, что не скучаешь. Скука парализует, или понуждает вас только к разрушительным действиям, или приводит в состояние, близкое к смерти. Это было невыносимо. Никто не мог мне помочь. Я ничем не мог заинтересоваться. Говоря «невыносимо», я считаю, что это слово весьма далеко от истины. Это было убийственно, да, убийственно. Я не мог отворить ни одного окна — на улицу, на внешний мир, на что бы то ни было. Удушье… Как бы еще сказать… Неделями и месяцами любое движение требовало от меня значительных усилий и причиняло такую же муку, как неподвижность. Нестерпимо, да, вот так. Совершенно нестерпимо. Все, что я ел, было безвкусно. Смерть — и все-таки не смерть, живой человек — но уже не живой. Один в бескрайней пустыне. Или, наоборот, в камере, зажатый стенами, высочайшими стенами, где-то наверху тусклый свет, невозможно книжку почитать. Какое мне было дело до того, что говорят люди? Их слова, равнодушные, или дружеские, или неприятные, не достигали меня — или я их отторгал, ускользал от них. Когда я видел, как люди один за другим проходят по улице, меня начинало тошнить. Когда видел, как двое или трое спорят, мне становилось страшно, а если они в форме или без формы шли строем — толпа, спокойная или орущая, или армия, — я терял сознание. Плечо к плечу, что угодно, только не это. Но и одиночества я не выносил. Целыми днями, целыми днями, целыми днями я метался — от дверей к окну, от окна к дверям — и не мог остановиться. Это была не тревога— это была скука, телесное, физическое ощущение скуки, не шевельнуться, не сесть, не встать. Сплошная боль, гангрена души. Лишь бы снова не началось. Секунды тянулись до бесконечности долго. Спасением был сон. Увы, я не мог спать весь день! А когда спал, мне снилось, что я скучаю. В свое время эти штучки бесили моего патрона, потому что мне выписали больничный лист. Врач ничем не мог помочь, пришлось положить меня в больницу, назначить сильные лекарства, а потом силы ко мне вернулись и больница стала не нужна. Скука хуже тревоги, это даже ее противоположность, когда у тебя тревога, ты не скучаешь; так я и переходил от скуки к тревоге, от тревоги к скуке. Нет, больше я не скучаю, нет, упаси Бог, но чувствую, что скука где-то там, на заднем плане, сторожит меня, угрожает разрастись, окутать меня и задушить. Ох, нет, в мире столько интересного, столько интересного. Только смотри. Бывают люди, которым достаточно смотреть на деревья, ходить на прогулки. Мне советовали гулять. Прогулки были скучнее скуки, печальнее печали, все что угодно, лишь бы не упасть в бездну скуки. Внимательно всматриваться в мир, во все вокруг — как можно внимательнее. То, что видишь, освобождать от «реальности», бороться за то, чтобы ежесекундно удивляться, как в первый раз. Вновь обрести ощущение необычного. Просыпаться — и видеть и чувствовать все так, как оно есть на самом деле. Да, жизнь, мир, люди — все призрачно. Существенно только то, что вне всего, по ту сторону стены. Какое отчаяние быть заброшенным в мир. Беспрестанно возвращаться к началу, не давать себе воли, не давать себя поймать. Прислонясь к стене, смотреть на мир от ее подножия или уткнуться в стену лицом, вжаться в нее. Может, она поддастся? Как мне объяснить это себе самому: прислонись, мол, к стене и гляди на то, как развиваются события? Не всегда это удается. Но это единственный способ ускользнуть от скуки, от черной скуки. Хватит об этом. Сейчас я в порядке. И как хорошо прошло спиртное! Я уплатил по счету, встал из-за столика, ноги подгибались, времени было половина первого, в ресторан бы не опоздать, чтобы за мной сохранили мой столик — не хочу за другой, я уже привык к этому. Я вышел из кафе, пересек дорогу, какой-то водитель обругал меня, я доплелся до автобусной остановки перед парадным входом в мэрию. Потом пересек проспект по пешеходной дорожке, какая-то девушка задела меня локтем и извинилась, потом я задел локтем какого-то мужчину и извинился. Я столкнулся лицом к лицу с еще одним человеком, лицом к лицу и нос к носу, обогнул его, ступил на тротуар прямо перед рестораном, по-прежнему держа в руке газету, отворил ресторанную дверь, сразу глянул на свой столик, он был свободен, и на скатерти даже красовалась карточка «зарезервирован». Я уже слишком много выпил. Может, хватит на сегодня вина? Подошла Ивонна, улыбнулась, поздоровалась, спросила, принести ли мне моего божоле. Я уступил не то робости, не то искушению и согласился. Она посоветовала рагу из баранины с яблоками. Налила мне бокал вина. Я чувствовал, что она поглядывает на меня с каким-то дружелюбным беспокойством. Я выпил бокал в один глоток. Хмельная легкость исчезла, навалилась тяжесть. Но ничего неприятного в этом не было. Я не разбирал вкуса рагу, не помню, взял я сыр или десерт, или то и другое, помню, как мне подали кофе: «Вот, выпейте. Он очень крепкий. Это вас взбодрит». Нет, не взбодрило. С трудом вспоминаю, как она проводила меня до дверей, как я свернул направо и побрел вдоль стены, потом завернул за угол и дотащился до дверей собственного дома. Тут у меня в голове внезапно прояснилось. Осторожно: не запнуться в коридоре и держаться прямо, когда пойду мимо консьержки. Она открыла дверь швейцарской, посмотрела на меня и проводила взглядом, пока я поднимался по первым ступенькам лестницы. Остальное я забыл. Только помню, как мучительно было раздеваться. Наутро меня разбудил звонок в дверь — это была Жанна. Она пришла раньше, как я и просил. Зашла в спальню, сказала, что, по ее мнению, выгляжу я нормально, хотя посмотрела на меня как-то странно. А головная боль, а тошнота! От этого только одно лекарство: рюмка коньяку, а еще лучше две рюмки коньяку. Я наскоро умылся и вышел из ванной. После третьей рюмки коньяку, впав в легкую эйфорию, я проглотил очень крепкий кофе, который Жанна мне сварила и настойчиво посоветовала выпить. Потом растянулся на кушетке с газетой, которую она мне принесла. Какой-то отец семейства зарубил топором жену и сына, пока они спали. Какая-то женщина застрелила из револьвера мужа и дочь, пока они спали. Влюбленная пара покончила самоубийством в номере гостиницы. Шестидесятилетний крестьянин застрелил из карабина своего сорокалетнего соседа-браконьера. Наконец-то в Сене нашли сильно разбухший труп пропавшей молодой женщины. Один человек, француз, был женат на японке, которая бросила его ради какого-то немца, и тогда француз сделал себе харакири. Один самоубийца открыл газовую горелку, желая покончить с собой, но не умер, а взорвал весь дом, из-под развалин которого его извлекли живым, но соседей — пару пенсионеров и их внука — задавило насмерть. Кроме того, где-то шла война. В сражении десять тысяч человек погибло и пятнадцать тысяч получили ранения. В Америке взорвался во время полета самолет, в Азии другой самолет сгорел во время посадки. Еще где-то взяли заложников. В другом месте взяли других заложников, но на этот раз похищение совершили представители правого крыла, а в первом случае — крайние левые. Волнения в Африке: освободившись от колониального ига и добившись национальной независимости, племена принялись истреблять друг друга, как до колонизации. Благодаря национальной независимости они получили возможность вернуться к своим первобытным обычаям. Все это, разумеется, удручало. Мир обречен на гибель из-за нехватки кислорода. Астронавты вернулись с Луны[36]. Новая философия желания проповедует усиление карнавального начала[37]. Ватикан рекомендует любовь и милосердие. Международная ассоциация со штаб-квартирой в Иокогаме требует от людей, чтобы они убивали друг друга весело. Это любопытно. Но говорят, и, по-моему, так и есть, что это розыгрыш. Когда люди друг друга убивают, особого веселья не наблюдается. Чтобы убивать, необходима энергия гнева. В одной отдаленной стране с начала гражданской войны убит уже миллион человек. Воюющим сторонам в их борьбе помогают три великие державы, соперничающие между собой; эти державы снабжают их оружием. Общество защиты животных требует, чтобы не убивали больше детенышей тюленей. Какой-то молодой человек убил отца за то, что тот был буржуа. Еще в одной стране, где тоже идет гражданская война, целую деревню — мужчин, женщин, детей, стариков — истребили из огнемета соотечественники-односельчане, потому что религиозная секта, к которой они все принадлежали, запрещала им воевать и принимать сторону тех или других воюющих. Все это разочаровывает. Вечно одно и то же, какая скука. В самом деле, поскольку все люди все равно так или иначе умрут, не все ли равно, если их убьют чуть раньше? Но в конце концов, что ни говори, хотя каждый день происходит все то же самое, все-таки, если следишь за событиями, это освежает голову. Когда Жанна вошла в гостиную, я как раз задремал.
Она до блеска натирала мебель и ворчала на меня за мой нездоровый образ жизни. Она заметила, что я пью больше, чем следует, это вредит здоровью. Нехорошо так жить мужчине в расцвете лет. Я что, не собираюсь найти себе занятие? Ну понятно, наследство. Но это же не повод бездельничать. Хоть женился бы, что ли. Неужели я так и собираюсь жить один, как импотент? Надо создать семью. Завести детей. Для этого человек и живет, а они такие славные, пока маленькие. А потом они растут, а вы стареете, и они не бросят вас в нищете, помогут вам. Умереть в одиночестве, всеми покинутому, еще печальнее, чем жить одному. Я сам не знаю, что меня ждет. Вот у нее муж, она с ним не очень ладит, но теперь он болеет. Есть у них сынок, они его воспитывали как следует, а он их бросил, сердце-то у него доброе, это все из-за жены. О нем ни слуху ни духу. Кажется, у них ребеночек родился. Дочка у нее тоже есть, и тоже воспитывали как следует, и она была такая добрая. Раньше была. А потом у нее тоже родился ребеночек, и вот этот ребеночек умер, и тогда она ушла от мужа. Вернулась домой, потом ушла, жила как хотела. Иногда они узнают про нее от родственников, говорят, она стала наркоманкой, а ведь как о ней заботились! Неблагодарные эти дети. Надрываешься ради них, легко ли на ноги поставить, а вырастут — и поминай как звали, забывают родителей, лучше уж вообще без детей, или нет, пускай будут хорошие, а не такие неблагодарные. А уж если дети неблагодарные, то на них и рассчитывать нечего. Я сказал ей, что она безусловно права. Но она не унялась. Все говорила и говорила, в правой руке держа тряпку, а левой размахивая. Вырвала у меня обещание, что я женюсь и заведу детей. Я обещал. Она как-то не очень поверила. Я поклялся. Наконец она ушла. Идти в ресторан было еще слишком рано. Не прогуляться ли перед обедом? Это может быть увлекательно. Например, увлекательно было бы обнаружить новое кафе. Забегаловок всюду полным-полно. Если каждый день пить аперитив в другом кафе — это превратится в самое настоящее исследование, и каждый раз можно пить другой аперитив. Вчера кампари, сегодня, скажем, вермут. Меня охватило великое желание выпить вермута в новом месте. Во мне поднималась неодолимое чувство радости. Я выглянул в окно, посмотрел, не болтает ли Жанна с кем-нибудь перед домом. Если я ее увижу, а она меня, с нее станется меня остановить и сказать мне что-нибудь, познакомить с кем-нибудь, втянуть в разговор. На улице ее не было. Я бросился вон из дому. Она болтала внизу с консьержкой. Увидев меня, обе замолчали. Они что, говорили обо мне? С какой стати? Пускай оставят меня в покое. Что хочу, то и делаю. Ничего не хочу — ничего не делаю. Мое дело. Ага, я уже начинаю злиться. Я быстро вышел. Но сперва оглянулся в дверях и увидел, что они на меня смотрят. Ждут, пока я уйду, чтобы сплетничать дальше. Что они себе думают? Это все происки консьержки, если бы не консьержка, Жанна не стала бы читать мне нравоучения. Она все-таки славная женщина.
Как бы то ни было, с людьми надо считаться. Раз они мне надоедают, вмешиваются в мои дела — значит, они существуют. Этого довольно, чтобы я сорвался, вновь оказался среди них. Они тащат вас прочь из реальности, они навязывают вам свою и замыкают в ней. Вернее, навязывают вам свою точку зрения. Вы перенимаете их взгляд. Оказывается, надо считаться с другими. Разумеется, я не могу с ними не считаться, но главное, надо же считаться с тем, что вне. Правда то, что вне. Я завернул за угол налево и шел довольно долго, миновал две-три улицы, погода была серенькая, и наконец я очутился перед бистро на углу улицы и проспекта, уходившего в бесконечность, чуть ли не на край света. Я вошел в бистро, заказал вермут, выпил первую и вторую рюмку. У стойки было много посетителей. Рабочие, белые и черные, разнорабочие, каменщики, они были в пятнах извести, а еще там был человечек в бежевом пальто, болтавший с другим типом, таким же никудышным, как он сам, но гораздо выше ростом, и эти двое болтали без умолку, но не очень громко. С виду они смахивали на страховых агентов. Остальные, рабочие, болтали куда громче и с силой хлопали друг друга по плечу. Перекрикивались через всю стойку. Мало-помалу меня вновь охватило чувство странности, необычности мира. Кроме того, я осознал, с той остротой, которая присуща интуитивному пониманию или состоянию внутренней сосредоточенности на себе самом, что эти люди мне посторонние. Как трудно проникнуть в чужую душу! Однако на сей раз мне хотелось быть к ним поближе. Что было бы, будь я поближе к ним, будь я одним из них? Как это было бы интересно! Я бы жил. Их словно отделяло от меня толстое небьющееся стекло. Как к ним подобраться? Для меня они, мои ближние, — марсиане. И кто на самом деле за стеклом, словно в зоопарке, — они или я? Я отделялся от них все дальше. Еще усилие — и мне удалось добиться того, что их движения, жесты показались мне беспорядочными, язык бессмысленным. Я перестал понимать их слова. Какие-то выкрики. Слова, лишенные сути, как корки, из которых вычистили мякоть. Шум. Они открывали и закрывали рты — дыры, в которые кладут то одно, то другое, а потом это выходит через другие дыры. Я обернулся в сторону улицы: фасады домов перестали быть фасадами. Мне показалось, что прохожие больше не прохожие. Потом я посмотрел на стол, за которым сидел, на рюмку, на собственную руку. Пошевелил пальцами — меня разбирал смех. Потом накатила тревога. Потом изумление. Я оглянулся вокруг: что все это такое? И сам этот вопрос показался мне бессмысленным. Что это такое — спрашивать, что это такое? И что это… В конце-то концов, в конце-то концов, я — это я. Но я там, в средоточии всего. А если все это сейчас треснет и я увижу, что за этим кроется? Увижу то, чего нет? Глазами этого не увидишь. Я вновь схватился за рюмку, со страхом, с надеждой. А ведь я почувствовал, все-таки почувствовал. Это меня разбудило. Или усыпило.
В один прекрасный день мне поставили телефон. Я никак не мог решить, где его пристроить — в гостиной, возле кушетки, к примеру. Или лучше в спальне, на столике у изголовья. Приятно, наверно, болтать с людьми (я собирался завязать новые знакомства, восстановить старые), растянувшись на кушетке среди бела дня, глазея на людей, проходящих вдали по улице. С тех пор как мы не виделись, за время, пролетевшее с моего переезда, у меня накопилось что им рассказать. Что произошло в конторе за эти четыре зимних месяца? Свадьбы, похороны, новые сотрудники? Еще мне очень хотелось побывать в моем прежнем бистро. Там было так хорошо. Жизнь изумительна, когда смотришь на нее в общем, в прошлом, в том своеобразном пространстве, в которое превращается время, когда все уже отодвинулось. Она становится цельной массой, чем-то вроде дома или замка, который можно осматривать комнату за комнатой, этаж за этажом. Надо же, а я и не понимал, что тут такая красота. Как глупо. Скоро, завтра, на днях я войду в красоту наступающей весны. На деревьях уже листочки. Раньше жизнь казалась мне бременем, теперь она предстает мне орнаментом, памятником, спектаклем. Смотреть на мир глазами мертвеца, если получится. Это феерия. Это потрясающе. И потом, все становится таким чрезвычайно важным, таким несомненно значительным! Я затосковал попрошедшему времени. Ничего. Я могу туда вернуться, когда захочу. Как там Люсьенна? Будет ли у нее ребенок? А Жюльетга? А Жани-на? А патрон? Бедняга, в сущности, славный человек. Подумать, я воображал, что он меня тиранит. А он был скорее смешон. Почему мы не умеем вовремя рассмеяться? Ничего не бывает ужасным, потому что все проходит. Или, вернее, уходит вдаль. И превращается в нечто единое, с четкими очертаниями, которые взгляд вспоминающего человека может охватить, исследовать, проанализировать, восполнить недостающее. Какие сожаления, наверно, испытывает человек, уходя, когда замечает, что все было чудом, любая мелочь, запах утреннего кофе, смешная ссора, как забавны ссоры, муха в супе, мундир на драгуне, драгун в мундире. Болезни, эпидемии, пытки, войны — все это, когда оно уже отодвинулось в прошлое, больше не причиняет боли, все это можно смотреть, созерцать в истинном и неповторимом виде. Позвоню, да, я всем позвоню. И все-таки не следует ставить телефон в большой комнате. Я, конечно, собираюсь звать гостей, но не люблю, чтобы меня беспокоили. Не хочу, чтобы мой номер поместили в телефонный справочник. Если ко мне заявятся докучные гости, они могут увидеть аппарат и спросить у меня номер. Итак, я решил поставить телефон в спальню. Кое-кому я все-таки дам свой номер. И не хочу, чтобы меня будили слишком ранними или слишком поздними звонками. Служащий, занимающийся установкой телефонов, сказал, что розетки можно установить во всех комнатах: «Тогда вы сможете переносить телефон на новое место, когда захотите». И правда, все так просто и совсем недорого.
Я снял трубку. Откуда эта лихорадка, это нетерпение? Я набрал номер того студента-философа. Правда, он, наверное, уже не студент: он же должен был в ноябре прошлого года получить диплом. Небо заволокло тучами. Сейчас пойдет дождь. Пасмурное небо — это очень неприятно, это нагоняет тоску. А когда пасмурная погода держится подолгу, остается только греть душу спиртным. Но пока еще жить можно, тем более сейчас, когда мне так не терпится поговорить с тем студентом и я надеюсь до него дозвониться. В трубке раздались гудки, я ждал, ответа не было, меня все больше захлестывало разочарование, но я не отнимал трубки от уха. И хорошо, что я проявил упорство. Мне ответил женский голос. — Скажите, Андре нет дома? — с тревогой спросил я. — Почему, дома, дома, недавно пришел. Я назвался, спросил, не отвлекаю ли я его от чего-нибудь, он сказал, нет, ничуть, это правда, да, чистая правда, он рад меня слышать, он даже сам хотел знать, как мои дела, да, экзамен сдал благополучно. Преподает в коллеже, одновременно пишет диссертацию. Он даже хотел справиться обо мне в конторе, в моей бывшей конторе, узнать мой адрес, и я ему сказал, что в конторе адрес не знают, я уже два-три месяца все собираюсь их навестить и дать им адрес, пригласить кое-кого из прежних сотрудников в гости, но все как-то откладываю это путешествие со дня на день, путь неблизкий. Но теперь решено: устрою себе праздник, схожу туда. Я долго с ним болтал, он меня уверял, что не торопится, расспрашивал, и я ему все о себе рассказал. У меня хватило вежливости расспросить сперва про него. Что он поделывает? Он помолвлен с женщиной, которая сняла трубку. Она совсем молоденькая, на два года младше его, миловидная, умная, студентка. Я сказал, что у меня тоже все хорошо, все в порядке. Отдых идет мне на пользу. Правда, временами скучаю. В кино не хожу. И очень зря. Я вообще-то люблю кино. Ничего не читаю. Но начну читать, потому что меня начинают интересовать другие люди, и что они говорят, и их проблемы. Впрочем, все это интересует меня в разной степени, разумеется. Нельзя сказать, что сами по себе люди и вещи интересны в разной степени. Если мы предпочитаем то или другое, это субъективно, иерархия тут ни при чем. Он мне сказал (в насмешку, что ли?), что одиночество сделало меня глубже и что я наверняка много размышлял. Потом я заговорил с ним о всякой всячине, рассказал о консьержке, которая поначалу на меня смотрела как-то не так, будто я какой-то не такой. Проявляла ко мне некоторую антипатию. Нет, у меня нет мании преследования. Я стал делать ей маленькие подарки, она их брала, но это ее словно унижало. При моем появлении она всякий раз что-нибудь выдумывала. Когда я входил или выходил, ей как раз надо было подметать возле самой двери, и я уносил на подошвах на лестницу пыль. Она смотрела на меня косо. Задавала вопросы, в которых сквозила бесцеремонность: «Вы опять? Куда на этот раз собрались? Вечно вы ходите туда-сюда. А ведь не работаете нигде. Везет вам. Не то что другим». А потом, потихоньку-полегоньку, эта враждебность, это недоверие исчезли или, по крайней мере, перестали проявляться. Она привыкла ко мне, к моим постоянным уходам и приходам, к моему странному одиночеству. Как-то она сказала, можно подумать, что я скрываюсь от полиции. Или от каких-нибудь ревнивых мужей. Я ей сказал, что никто не собирается сводить со мной счеты и я никогда не принадлежал к преступному миру. И впрямь, соглашалась она, для этого я выгляжу недостаточно смелым. Но нет, теперь с этим покончено. Я ее больше не раздражаю и не интересую. Это чувствуется. Теперь, когда я приподнимаю шляпу — потому что я всегда ношу шляпу, — она отвечает на мое приветствие машинальным кивком. Не уверен, что она меня замечает. Как бы то ни было, больше она на меня не смотрит. Я для нее что-то вроде этажей и лестничных площадок. Не то что раньше, когда она отодвигала занавеску на застекленной двери привратницкой и бросала на меня яростный взгляд. У меня есть домработница, Жанна, она без конца мне что-то рассказывает. Я уже сыт этим по горло. Она с самого начала не унималась, говорила, говорила, не закрывая рта. Она доводит меня до рези в глазах, перебивает мои мечты, мысли и никак не уймется, какое там, скорее даже наоборот. От нее трудно уйти, она окликает меня, хватает за пуговицу пиджака. Я пытаюсь ускользнуть на цыпочках — безуспешно: у нее очень тонкий слух. «А вам это интересно? — спросил я у собеседника, — а то я и сам поступаю по примеру Жанны». — «Нет, нет, — ответил он, — мне интересно, ваш случай меня интересует». Он был философ, но кроме того, и психолог, и психоаналитик. Как здорово быть психологом, интересоваться людьми, какое замечательное призвание — выслушивать других! «В сущности, все хорошо, в общем, все хорошо?» Да, да, ответил я на его вопрос, но у меня еще бывает ощущение, что я отделен от всего остального мира, словно сижу в стеклянной клетке. Это, конечно, довольно-таки скучно. Собственно, мне приходилось, кроме всего прочего, бороться именно против скуки, когда я чувствовал, что сижу в стеклянной клетке, и в моральном смысле протягивал руку другим людям, стеклянные стены раздвигались, и мне начинало представляться, что весь мир окружен невидимыми стенами. Сквозь которые, правда, ничего не было видно… Небо представляло собой свод, а за домами, за городом, за полями был горизонт, закрытые двери горизонта. Разве все это нормально? Время было сразу и очень коротким и очень длинным, так мне казалось; секунды тянулись до бесконечности, каждая секунда как царапина, а годы мелькали быстро. Уходили. Знаю, ничего нового, все на свете более или менее жалеют об уходящем времени. Но это противоречие казалось мне невыносимым. Я чувствовал всю тяжесть каждого мига, и она так на меня давила, что я не в состоянии был им распорядиться, не то что получить от него удовольствие. У других людей тоже печальные лица, на которых написаны скука и уныние. Вы полагаете, что я проецирую себя на других, приписываю им свою кошмарную скуку, свою депрессию? Вы полагаете, что другие люди веселы, что они беззаботны, есть у них свои заботы, у кого маленькие, у кого серьезные, но эти заботы их не гнетут? Вы думаете, что другие живут? Со мной что-то не так, да? Мне бы лучше пойти работать, но чем мне заниматься? Я, безусловно, не могу вернуться к себе в контору и высиживать по восемь часов в день. Лучше уж поскучаю немножко. К тому же не всегда я скучаю, я не скучаю весь день напролет. Ну, будильник. Будильник, чего говорить, штука мучительная. Весь день впереди, необъятный пустынный пляж, которому конца-края не видно. Но я встаю, варю кофе, пью кофе. Жанна потом вымоет чашку, блюдце, кофейник. А пока я пью кофе, я как-никак переживаю приятные минуты. Вот видите, у меня бывают приятные минуты. Но приятные и проходят быстро. Найти бы какой-нибудь способ их углубить и растянуть. Бывают приступы радости, веселья. Но они тоже быстро проходят. Хотя если бывают эти приступы, эти вспышки, значит, есть неиссякающий источник, родник, а может быть, даже неведомое озерцо, окруженное белыми горами, чьи склоны позлащены солнцем и воздухом внутреннего рая. Где-то же это должно быть. Так я думаю, я в это немножко верю, верю, но уже меньше, совсем не верю. Чем глубже я погружаюсь, тем больше тины, а кроме тины ничего. Грязная лужа. Я себе противоречу, да, я себе противоречу. То есть изнутри идут и плодотворные толчки, что-то вроде борьбы. Не всегда я повержен, не всегда изничтожен. Знаю, что мир хранит вечную, неувядаемую девственность. Это как будто примиряет меня с жизнью. Но то, что я знаю, я знаю недостаточно твердо, не совсем. А тяжесть и плотность приходят сами, мне о них и думать не надо, я чувствую их так, будто они в самом деле существуют, будто они — основа и материал для всего остального. Он мне ответил, что у него, конечно, есть еще время поболтать со мной по телефону, сегодня нет занятий, я могу поговорить с ним еще минутку-другую и даже больше. Мой случай, объяснил он, хорошо известен психотерапевтам. Он привел мне примеры, не такие уж редкие, когда больным казалось, что все мироздание состоит из экскрементов. Я ответил, что до такого еще, к счастью, не дошел. Пока только грязь — но есть и чистое озеро, и снега. Нормальные люди болтаются где-то посредине. Ни свет, ни тьма. В этом промежутке они хлопочут над своими делами, заботами, повседневными занятиями, они этим живут. Этим люди и живут. Это очень по-человечески. А я могу жить только в состоянии благодати. Кто живет в состоянии благодати? И все-таки жить вне состояния благодати неприемлемо. Для меня нет середины между благодатью и дерьмом. Другие люди более или менее беспечны. Они приспосабливаются к этому отсутствию. Я слишком многого прошу, я слишком гордый, я только о себе и думаю, почему бы мне не заняться другими людьми? В том-то и проблема, в том-то — мое истинное бессилие. Другие мирятся с заранее заданными условиями. Они страдают только в случаях великих катастроф, таких как смерть близких, война, голод, болезни. Должен признаться, что для меня это тоже представляет интерес. Может быть, это стыдно, но такие вещи выводят меня из оцепенения. Я с нетерпением и радостью жду, когда придет домработница и принесет мне газету. Набрасываюсь на газету и мрачно упиваюсь — и это воистину упоительно, — прочитывая крупные заголовки, в которых идет речь о войне, жестокостях, пожарах, наводнениях, усугубляющемся загрязнении среды, которое грозит нас задушить. Оно и страшно, и заманчиво. Так пролетают у меня добрые полчаса каждое утро. Да — живое, захватывающее занятие. Помимо новостей в каждой газете есть и кроссворды. Так пробегает еще час. Потом наступает время аперитива, после — обед, за ним — послеобеденный отдых. Потом еще два-три часа, которые нелегко пережить, и вот наконец ужин и возвращение домой. И я проваливаюсь в глубокий сон. Наутро то же отчаяние, затем кофе, прихожу в себя и так далее. Как видите, я все же установил какой-то распорядок дня. Но главное, и это важнее всего, — удивление, что я существую и все вокруг существует. Но самое главное — это бессилие постичь бесконечность. Для жизни это не нужно, но я не отказываюсь от постановки проблемы, и вы, очевидно, скажете, что все это банально. И будете правы. Родившийся в ужасе, в страданиях, я и живу тоже в ужасе перед концом, перед уходом. Я угодил в невероятную, неприемлемую, адскую ловушку между двух кошмарных событий. Тут он мне отвечает, что все это весьма банально, что все это хорошо известно. Мне нужно побольше читать или просто читать, потому что я вообще не читаю. Вот, например, гностики — я многому мог бы у них поучиться. И знаете, все люди ставили себе эту проблему. То, что вы говорите, отнюдь не ново. Разумеется, возразил я, вам эти проблемы известны, вы читали, у вас есть знания, но меня эти вопросы потрясают, они для меня живые. Для вас эти проблемы — просто часть культуры. Вы не просыпаетесь каждый день с тревогой, ломая себе голову над тем, каковы же ответы на них, и твердя, что ответов нет. Но вы знаете, что все люди задавали себе эти вопросы. Знаете, что никто никогда на них не ответил и не может ответить. Просто для вас все это разложено по полочкам, поскольку вы знаете, что проблемы поставлены, поскольку вы знаете, кто их ставил, знаете, что на эти темы написано множество трактатов и книг, вы уже больше их не ставите, вы отложили их в сторону, в какой-то уголок памяти. Ну да, для вас же это просто часть культуры. Отчаяние рассматривали с позиций культуры, его перерабатывали в литературу, в произведения искусства. Мне это не помогает. Это все культура, культура. Тем лучше для вас, если культура сумела предотвратить драму человека, его трагедию. А он мне в ответ, что мы еще поговорим об этом, что я должен прийти к нему повидаться. Сейчас у него больше нет времени и ему нужно все-таки кое-куда сходить, потому что у него-то есть профессиональные обязательства. Я — невротик с навязчивыми идеями, все время пережевывать одни и те же мысли — ненормально. Он знает, кто может мне помочь. Когда метафизическая тоска заходит слишком далеко, как у меня, ее надо лечить. Бывают самые разные таблетки, которые избавляют вас от метафизической тоски. В наше время с тоской можно справиться при помощи химиотерапии. Он повесил трубку. Я подумал, как странно считать, что ненормально жить, постоянно задавая себе вопросы о том, что такое мироздание, что такое удел человеческий, каково мое предназначение здесь и есть ли в самом деле какое-нибудь подходящее для меня дело. Мне казалось, что ненормально, наоборот, что люди об этом не думают, что они позволяют себе жить бессознательной жизнью. Может быть, у всех, кроме меня, есть несформулированная, иррациональная вера в то, что рано или поздно все прояснится. Может быть, одним прекрасным утром на человечество снизойдет благодать. Может быть, одним прекрасным утром благодать снизойдет на меня.
Прежде чем заснуть, погрузиться в бездну сна, бывало, я, еще наполовину бодрствующий, улыбался при мысли, что, может быть, уже через несколько часов заря принесет мне знание и свободу, и заря эта будет вечной. Иногда я думал об этом по вечерам. Но только иногда: чаще всего я возвращался домой пьяный, ничего не сознавая, ничего не чувствуя, свободный от навязчивого чувства неразрешимости и непоправимости, а утро никогда не оказывалось тем утром, о котором я мечтаю, на которое уповаю. Какая-то неизбывная горечь — доктор, вероятно, сказал бы, что это печень. Так или иначе, я не в силах отделаться от этой горечи. Я пытался опять заснуть, продлить сон, чтобы ночь и сон продолжались бесконечно. Я тоскливо предчувствовал долгий день, который подкарауливал меня, чтобы взять в плен, я содрогался, представляя себе, что надо будет часами бороться, и не всегда успешно, против скуки. Все было мучительно: малейший жест, вид этих стен и одеяла в цветочек. Но надо было вылезать из постели, пока не пришла Жанна. Она вставала рано, она работала, я стыдился своего не то безделья, не то морального паралича. Я вытаскивал из-под одеяла ногу, потом другую, вставал, тащил собственное тело, как какое-то бремя, и на меня наваливалось отчаяние. Умывание представлялось мне такой же тяжкой работой, как труд чернорабочего. Я входил в ванную как осужденный. Так продолжалось с полчаса В свое время я умывался холодной водой. Теперь этот подвиг мне не по силам. В ванную я всегда проникаю с каким-то страхом. Это несомненно символизирует для меня боязнь воды, идущую из глубокой древности. Мне чудится, что ванна, полная воды, сродни могиле. Войти в воду — значит заживо погрузиться в бездну. А потом нужно побриться. Прежде чем приступить к этой работе, я некоторое время смотрел на себя в зеркало. Проводил рукой по лицу. Ощущал жесткую щетину, уже немного тронутую сединой, смотрел и не нравился себе: слишком крупный рот, невыразительные светло-голубые глаза, припухшее лицо, неаккуратно причесанные волосы, слишком длинные, потому что к парикмахеру я ходил нечасто, слишком большие уши, морщинки на припухших щеках — я один такой, ни на кого не похожий, все, наверно, замечают, что я не такой, как все. Тягостно все же настолько отличаться от других. А ведь в моем лице нет ничего ненормального. Я такой, как все, хотя и не такой, как все. Моя исключительность, наверно, просвечивает сквозь кожу. Но ведь прохожие на улице на меня не смотрят, никто не оборачивается мне вслед. Хотя почему — а консьержка, а соседка с собачкой, а Жанна, домработница, — она часто глядит на меня, качая головой, — а еще официантка, — эта ведет себя со мной совершенно по-особому, отчасти дружелюбно, отчасти презрительно. Другие люди обычно избегают моего взгляда. А если и смотрят на меня, то во взглядах проскальзывает не то враждебность, не то равнодушие. Но я и сам питаю к ним ту же враждебность и то же равнодушие. В чем они могут меня упрекнуть? Что я живу не так, как они, не смиряюсь с судьбой. А я их в чем могу упрекнуть? Ни в чем. Особенно когда вспоминаю, что, в сущности, они такие же, как я. Они — это я. За это я на них и злюсь. За то, что они — другие, хотя совсем не другие. Если бы они и вправду были не такие, как я, я бы мог взять их за образец. Это бы мне помогло. Мне чудилось, что я ношу в себе весь страх и всю тоску миллиардов людей, чувство всеобщей неловкости. Любой из них, окажись он в иных условиях, переживал бы ту же тревогу, тот же страх перед жизнью, ту же неловкость. Они не углубляются в себя. С каким-то не то легкомыслием, не то смирением, бездумным смирением позволяют себе быть подростками, потом взрослыми, потом стариками. Они как могут, пока могут, защищаются от себя самих. Но если бы каждый углубился в себя, каждый пережил бы тревогу и страх миллиардов других людей. Эта тревога сидит в каждом из нас. Именно это кажется мне в какой-то мере жестокостью со стороны Бога: каждый одновременно и уникален, и такой, как все, каждый универсален. Насколько проще было бы, если бы тревога, и отчаяние, и паника поровну распределялись между всеми миллиардами представителей рода человеческого. Тогда наша тревога оказалась бы всего-навсего одной трехмиллиардной всемирного страдания. Но нет, каждый из нас, умирая, уносит с собой целую рушащуюся вселенную. Я доставал и раскладывал бритвенные принадлежности — электробритву я не признаю, — намыливался, пытался сразу и курить и бриться, что непросто, и когда с бритьем было покончено, наступало облегчение. Словно я преодолел огромные трудности. Если Жанна еще не приходила и не начинала уборки, я устремлялся в гостиную, открывал буфет и выпивал свои две рюмки коньяку, которые меня крепко выручали. Но если Жанна уже была на месте, она замечала, что я пью, и выговаривала мне — это меня стесняло. Лучше вставать рано.
Я переставал понимать, где я. Хотя, конечно, понимал. Я словно был сразу и здесь, и не здесь. Мне казалось, что все движется или уже подвинулось. Странные перемены, их легко почувствовать тут же или сразу после, но невозможно объяснить словами. Это был мой дом, тот же дом, то же кресло, та же кушетка, тот же ковер, и вместе с тем это был не тот ковер, и не та кушетка, и не те книги, и не те стены. Что-то необъяснимо странное Или, вернее, просто что-то странное, из-за чего я, в сущности, толком не могу что бы то ни было объяснить. Нет, мир уже был не тот. И вещи не на тех местах. И небо не то, и люди. И все-таки дело было в другом. Где я? Где я сейчас? Тоска, невыразимая уже потому, что сами слова оказывались не в силах означать то, что раньше. Я мог перейти с место на место, заглянуть в кухню, спуститься по лестнице, сходить за газетой, вернуться, но все это происходило в мире, который уже перестал быть прежним миром.
Прежде, когда все так менялось, меня захлестывало что-то вроде радости. Теперь наступает не радость, а страх. Вдруг меня со всеми корнями вырывают из почвы и пересаживают в другое место, вне привычного мира. Как будто мир может быть привычным! Как будто мир может быть нормальным! Как будто слышать биение собственного сердца и дышать — естественно! Я рассматривал предмет, оказавшийся у меня перед носом: метр семьдесят в высоту, метр двадцать в вышину, две открывающиеся дверцы. Внутри — рейки, на которых развешана одежда, моя одежда, а на полках разложено белье, тоже мое. Разумеется, если бы меня спросили, что это за предмет, я бы ответил, что это платяной шкаф. Но это уже не было шкафом, я не мог искренне считать это шкафом, хотя ничем другим это тоже не было. Я бы кому угодно сказал, что это шкаф. Но слова лгали. Мало того, что вещи уже не были теми самыми вещами, но и слова тоже были уже не те. Слова казались мне неправильными. Мне представлялось, что вещи утратили свое назначение. Я что-то делал с этими вещами, но мне представлялось, что они предназначены совсем не для того, что я с ними делаю, и даже что они вообще не для того, чтобы их как-то использовать. Я словно не имел права их трогать. Я погрузился в новый мир, с которым не знал, что делать. Который, скорее всего, никуда не годился. Если я был в параллельном мире, в мире, который был негативом по отношению к нашему, все это мне не принадлежало, все это не могло мне принадлежать. Куда меня перенесли? Мир дрожал и колебался. Как будто все вокруг подменили. Я оказался в заново сотворенном мире. Для меня он словно сотворенный заново. Надо было заново узнать смысл вещей и их назначение. Но, зная назначение, все равно невозможно было угадать, в чем смысл этих вещей и как они действуют. И все вокруг меня было другое. И я сам был другой. А что, если сейчас проломится пол? Вот я все от себя отшвыриваю. А что, если меня самого отшвырнут? И куда? Во что? И что такое это «куда», это «во что»? Если я пробовал раскрыть книгу и прочесть в ней что-то, что раньше казалось мне банальным и будничным, эти банальность и будничность каким-то необъяснимым образом так и выскакивали мне навстречу. Я дотрагивался до круглого столика, гадая, почему он так называется и что это означает. Откуда я взялся? Кто есть кто? Когда на меня это накатывало, я испытывал то страх, то неловкость. Словно я не у себя дома. Никакого «у себя дома» вообще нет. Себя нет. Шевелить руками и смотреть на них. Такое шевеление повергало меня, вероятно, в состояние младенца, глядящего на свои руки и не знающего, что это такое. Если бы это дарило мне радость открытия, я был бы счастлив. Когда-то открытия приводили меня в восторг. Но теперь на меня больше не накатывала радость. Не слетала ко мне. Радость — это когда вдруг каким-то сверхъестественным образом замечаешь, что мир — вот он, и что ты — в мире, что ты существуешь, что я существую. Теперь все, казалось, подтверждало несуществование вещей и мое собственное несуществование. Я боялся исчезнуть. Когда я внимательно слушал и смотрел на то, что в комнате, или выглядывал из окна, мне казалось, что из-за легких, неощутимых, но довольно частых подземных толчков весь мир стал очень хрупким. Все крошится, все норовит провалиться в какое-то небытие. И мироздание, и реальность все больше и больше поддаются распаду. А есть ли что-нибудь позади этой декорации? Хоть что-нибудь, другая декорация — или вообще ничего? И что такое вообще ничего? Я чувствовал себя каким-то раздрызганным в этом раздрызганном мире. Удивительно, насколько все одновременно и такое настоящее — и такое ненастоящее, такое твердое, плотное — и такое хрупкое. Неужели это существует на самом деле? Неужели существовало раньше? Еще чуть-чуть ослабнет — и все развалится на куски, на тысячи кусков. Я чувствовал себя светящейся искрой в огненном фейерверке. Тошнило от пустоты. Потом тошнило от переполненности. Еще вопрос, как это все держится и сколько времени сможет продержаться, если время вообще есть. Может быть, есть только мгновенность.
Я сел в кресло. Машинально взял газету. Преступления, войны, правонарушения, объявления, реклама новых фильмов, а в общем — ничего. Как ничего может давить таким тяжким грузом? И как эта тяжесть может в то же время быть такой легкой? Вместе и слишком материальной, и слишком нематериальной. Этот мир из папье-маше, эти театральные декорации могут в любое время смениться другими. Я воображал себе этот мир, в котором один из актеров — я сам. Может, даже автор, а может, просто исполнитель некой роли. Я осторожно встал, нахлобучил шляпу, надел пальто, потом, дрожа всем телом, спустился по лестнице, прошел по улице, слегка спотыкаясь, то и дело задевая за стены, боясь одновременно и что они меня раздавят, и что они исчезнут. Добрался до кафе. Официантка глянула на меня и сказала, что я, наверно, болен, что у меня потерянный взгляд. Мне-то показалось, что это у нее лицо потерянное и вообще она как-то не в себе. Я рухнул на свой обычный стул, перед своим обычным столиком, выглянул из окна и некоторое время глазел на ускользающие силуэты, которые выступали из тумана словно затем только, чтобы вновь нырнуть в него и исчезнуть из виду. — Что-то вы сегодня не очень, месье. Опять не очень. — Сегодня опять не очень. Сегодня еще хуже, чем в другие дни. Если другие дни вообще бывают. — Другие дни были. Другие дни будут. Вы как в тумане. — А вы из тумана. Официантка взглянула на меня: — Да что с вами? Вы бы сходили к врачу. — Вы уверены, что вы существуете? Официантка вытаращила глаза: — Я в этом уверена. Вы что, хотите меня напугать? Вы тоже существуете. Уверяю вас. — За всем этим, может быть, ничего нет, — сказал я, указывая на окна, стены, улицу. — А что, по-вашему, должно за этим быть? Просто оно есть, и всё тут. — И всё, вы думаете? Но тогда этого недостаточно. Это ведь очень мало. На чем же, по-вашему, все держится? Она была несколько озадачена. Я ей нравился, но она меня с самого начала считала немного сумасшедшим. — Вы вечно не в своей тарелке. Вы мне на это можете возразить, что откуда мне знать, в своей вы тарелке или не в своей и что это вообще за тарелка. Она ушла и очень быстро вернулась с коньяком. — Вот, это вас взбодрит. Приведет в чувство. Я залпом выпил рюмку коньяка. Он меня немного согрел. Я сказал ей: — Как по-вашему, это долго еще протянется? — Что «это»? — Все это! — Ни с того ни с сего никуда оно не денется, уверяю вас. Все это очень даже надолго. Оно будет, когда нас уже не станет. — А когда оно исчезнет, что наступит вместо него? Что-нибудь другое? Разве вы не видите, что все расползается в разные стороны? Нет, не видите. — Мое место прочное. И работа тяжелая. Чем больше я работаю, тем больше дел наваливается. Было бы меньше, мне бы, может, стало полегче. — А куда потом все девается? — Вы такие вопросы задаете, что я не знаю, как ответить. Никогда об этом не думала. И не буду думать. Похоже, вы боитесь людей. А я гляжу на вас и тоже боюсь… За вас боюсь. У вас сдали нервы. Это не страшно. С этим можно справиться. Вот вам еще рюмка коньяку. Сходите к врачу. — Не кажется ли вам, что врачи сами больны? Мы знаем, что все это временно, что мы все умрем, а они вам говорят, что вы сумасшедший, если вы думаете о смерти, если у вас тревога. Да их самих надо посадить под замок. Я-то думаю нормально. Это они ненормальные. — Пойду приготовлю вам хороший бифштекс с картошкой, это вас поддержит. — И пожалуйста, как следует прожаренный.
Я смотрел, как в ресторан входят другие посетители, усаживаются с мнимой непринужденностью. — Вы не видите, — сказал я, — они же все заперты в прозрачных гробах. На меня посмотрели. Подошла официантка, вполголоса сказала: — Молчите. Вас посадят под замок. В самом деле, в зале поднялся легкий шум и все взгляды обратились на меня. — Я и так уже под замком. Так же как все. Заперт и вместе с тем чересчур нараспашку. Стекло невидимо. Я вышел, чувствуя, что все смотрят мне в спину. И зашагал в сторону большой площади, она довольно далеко, и я еще не успел разведать тех мест. До площади около двух километров. Интересно, давно она там или это новая застройка? Площадь кишела народом. Опять какая-то потасовка. Посреди — два жандарма, смятых в лепешку двумя толпами, идущими стенка на стенку. Брань, удары. Удары дубинками по головам. Проломленные, лопающиеся черепа, мозги брызжут наружу из черепов и невидимых стеклянных коробок. Шло взаимное истребление. Уж не знаю, как эти люди ухитрялись все время оказываться втроем на одного. Площадь была усеяна телами. По четырем улицам, упиравшимся в площадь, подкатывали машины, набитые полицейскими. Те тоже поверх касок были окружены невидимыми стеклянными гробами. Я бросился в толпу с криком: — Вы и так уже в гробах. Погодите, не бейте! Куда вы торопитесь? Зачем такая спешка? Скоро никого не останется. Никто меня не слышал и не хотел слышать. На площади и на тротуарах, прямо на земле, образовалась непонятная каша. Головы взрывались и разлетались на куски, легковушки и грузовики тоже. Я кричал: — Разве вам не хочется умереть спокойно, без шума, вы ведь не обязаны превращать друг друга в клочья с такой жестокостью. Выбор-то за вами! Я вмешался в толпу, в самую середину дерущихся. Меня не задевал ни один удар. Меня словно не видели. Я для них был всего-навсего призраком. Они сами были призраками, но призраками жестокими, возбужденными. Я попытался остановить чью-то занесенную руку, изготовившуюся к пинку ногу; в драку вмешались полицейские с дубинками, касками, щитами. Непонятно было, на чьей они стороне. Возможно, вообще против всех. Мне удалось подняться на пьедестал статуи, стоявшей посреди площади. Оттуда я крикнул: — Послушайте меня, послушайте, я ваш арбитр. Все можно уладить, вы в силах все уладить. По-другому. Давайте поговорим. Все можно решить по-доброму. Ко мне не присоединился ни один из дерущихся. Они по-прежнему валились наземь вокруг меня. Тогда я опять закричал: — Все можно решить по-доброму. Выберите делегатов. Дайте вашим делегациям указания. Я вижу, я понимаю, вы больше всего не хотите друг друга слушать. Почему вы так спешите? Зачем эта спешка? Я кричал в пустоту. В смесь наполненности с пустотой. Я кричал в пустоту. Или в чрезмерную наполненность. «Я такой же человек, как вы. Говорю на том же языке». Я говорил не на том же языке. Мне удалось обхватить статую руками, и, примостившись рядом с ней, я продолжал кричать. Они бы могли меня увидеть. Они бы могли меня услышать. Голос у меня довольно громкий, а руки и ноги довольно длинные. Они меня принимали за пугало. Вернее, вообще ни за что. Наверняка они меня вообще не видели. И только один полицейский спросил: — Что ты там делаешь? И вновь бросился дубасить по черепам. Я медленно спустился в гущу толпы и стал хватать за рукав то одного, то другого. — Вы с ума сошли, — говорил я им, — а если вы в своем уме, скажите мне, чего вы хотите. Я все улажу. Он и сразу вырывались. И только один из них сказал: — Сами вы сумасшедший, не понимаете, что мы боремся за наши права! — За нашу свободу! — добавил другой. Я спрашивал, о каких правах идет речь. Спрашивал, какой именно свободы они добиваются. Никто не отвечал. Все торопливо дубасили направо и налево. Кругом было полно стекла и крови. Дрались все беспощаднее. По четырем прилежащим улицам прибывали все новые люди. Кое-кто — прямо из мансард, по водосточным трубам Я ломал руки, один в толпе. — Это же так просто. Все так просто уладить. Кто-то крикнул: — Если бы все было так просто, не было бы так сложно. Те, кто падал с проломленной головой, были, казалось, наверху блаженства. Те, кто проламывал головы, — счастливы и упоены победой. Сплошь и рядом им самим проламывали головы чуть позже. В конце концов ко мне подошел коренастый человек и произнес: — Вы словно не понимаете, что здесь идет гражданская война. И вновь бросился в драку. Вот оно что, гражданская война. Он еще услышал, как я ему крикнул: — Это значит, вы хотите убивать! — Это значит, мы больше не можем терпеть. — Можно просто поменять законы. Но вам этого мало! Еще я крикнул: — Поменять законы вам мало. Все законы и все общества плохи. Читайте газеты. Разве бывают хорошие законы? Или хорошие общества? Война — это праздник. И вам нужен этот праздник… Знаете ли вы, — крикнул я еще, — что в Мексике единственные веселые песни — революционные? Революции ради того, революции ради сего, какие угодно. Революции за, революции против, какая разница. Лишь бы убивать и идти на смерть. Я знаю, что жизни нет. Знаю, что на самом деле ничего нет. Вижу, что все бурлит и машет дубинками. Несуществование залито кровью. Мы не живем. Это как-то странно. Люди убивают себя и других, чтобы доказать, что жизнь на самом деле есть. Но на самом деле ничего нет, говорю вам, ничего нет, ничего нет, — крикнул я изо всех сил. Я оглянулся вокруг и заметил, что никого нет. Безлюдная большая площадь. Большая площадь в большом городе, который мог бы показаться провинциальным городком. А видел ли я этих громил с дубинками? Видел ли полицейские машины? Кровь на земле? Слышал ли военные марши и радостные гимны? Куда делись чудовища? Куда делось их веселье?
Ко мне подошел какой-то старик и сказал: — То, что вам померещилось, происходило почти двести лет тому назад. Площадь так и называется — «площадь Революции». Будущей революции, близящейся, возможной. Идите домой. Так все и кончается. Сегодня есть другие законы, против которых мы будем бороться. Но еще не сегодня. Может быть, завтра. А может, это было вчера. Один мой предок сражался на этом самом месте, и ему проломили голову, и другой тоже тут сражался. Этот умер гораздо позже. У себя дома умер. Дома. Говорят, его отравила жена. Но тут ни при чем законы, ни при чем политика. Придерживая за локоть, старик довел меня до конца площади, и я зашагал по улице, которая вела к ресторану. Одурев от всего этого шума, в ужасе от куч битого стекла и валяющихся трупов, в потрясении от ударов, которые наносили не мне, а другим, я отворил дверь в ресторан. Там уже никого не было, только официантка еще не ушла. — Где посетители, запертые в стеклянных гробах? Погибли во время революции? Она посмотрела на меня с беспокойством: — Поели и ушли, может, и поссорились, поубивали друг друга где-нибудь в другом месте, а может, все опять придут сюда вечером, будут пить аперитив, болтать, ужинать. Я никакого шума не слышала. — А шум-то был, и еще какой. Посмотрите, у меня у самого руки в крови, а я никого не убивал. — Это просто пятна краски. Вы, наверное, трогали руками свежеокрашенную стену. Дайте-ка сюда руки, я их вытру влажной тряпкой. Она смотрела на меня с бесконечным состраданием. — Похоже, вы перенесли потрясение, — сказала она. — У вас нервы сдали. — У вас у самой потрясение из-за того, что нервы в порядке. Не знаете, что творится вокруг. Я и сам знаю совсем чуть-чуть, самую малость. — Вы слишком одиноки, месье. — Я окружен людьми, окружен толпой. Толпой или пустотой. Вытирая мне руки, она твердила: — Вы совсем одиноки, вы в самом деле слишком одиноки. Вам нужна жена. Может, я вам подойду… Она поцеловала меня. Мне бы следовало взять инициативу на себя, подумал я. Но это было так сладко. И мне показалось, что это так по-настоящему, так всерьез. Она поселилась у меня. Кровать была достаточно широка, места хватало. Такое блаженство было по утрам видеть в солнечном свете ее голые груди. Иногда мне становилось за нее страшно. Ночами у меня бывала бессонница, и вот однажды она спала, тихонько похрапывая, рубашка задралась, обнажились ляжки. Причинное место у женщин всегда представлялось мне чем-то вроде раны внизу живота, между ляжек. Похоже на разверстую бездну, но еще больше на открытую рану, огромную, неисцелимую, глубокую. У меня это всегда вызывало жалость и страх: бездна, вот именно бездна. Я тихонько ее накрыл. Она даже не проснулась. А я продолжал блуждать по комнате, по квартире как лунатик. Курил сигарету за сигаретой — а ведь я уже почти отвык от курения — и наконец, обессилев от усталости, пристроился рядом с ней, как можно подальше от ее раны, на самом краешке моей половины кровати. В конце концов я заснул на правом боку. В ресторане у нее была куча работы, но она поспевала и по дому, и я отказался от услуг домработницы. Соседям стало легче на душе при виде женщины, входившей в мою квартиру. Встречаясь со мной, они игриво улыбались: теперь им было и веселей, и спокойнее. Я в их представлении стал нормальнее, безмятежнее. Мне нравилась эта женщина, у нее, несмотря на усталое лицо, была такая пышущая здоровьем улыбка. По утрам в ванной она пела. Я никогда не пел. Я даже не насвистывал. Я был в плену у беспощадного, ничем не оправданного страдания. И подумать только: мне казалось, что ничем не оправданы именно здоровье и нормальность. Когда я просыпался по утрам раньше нее, на меня накатывала огромная радость, какой давно уже не бывало. Наплывало очень давнее воспоминание, полусвет, полутень, полумрак, полуцвет. Нечто очень далекое по времени и бесконечно близкое, очень странное и очень привычное, очень правдивое и обманчивое, а что же было-то… давно, давно… Да, что же это было? Какое-то событие… Я уже не мог вспомнить, но что-то было. Но между мной и этой картиной, полусветом, полутьмой, вился вихрь. Иногда мне приходило в голову: а что, если мы с ней — фундамент нового мира? Выздоровевшего мира. Мира без дыр и щелей. Надежного мира, который удался Господу Богу. Ученые друзья рассказывали мне, будто в Каббале сказано: Бог пытался сотворить мир уже двадцать семь раз. Кажется, эта попытка — уже двадцать восьмая, причем не такая неудачная по сравнению с прежними. Как выглядели те, предыдущие? И когда будет удачная? Мне кажется, от той, что теперь, он уже отказался и теперь не мешает нам падать в бездну пустоты и небытия. Мы просто временный островок, и еще не решено, присоединять ли его к окончательному мирозданию. Иногда до нас долетают вести. По утрам, на рассвете, пока она еще спала, мимо моих окон взад и вперед двигались похоронные процессии, небывало скорбные, с кучей цветов, венков и надписей на лентах. Там были важные господа в цилиндрах, в черном с головы до пят, и важные дамы в глубоком трауре, в черных вуалях, скрывавших лица. Однажды я ее разбудил. — Посмотри, — крикнул я, — посмотри, что делается за окном. Она вскочила, наполовину проснувшись, выглянула, а потом снова легла и сказала мне, что мне снятся сны наяву. В другие дни, целыми неделями ничего не происходило, несмотря на мое ожидание. Она быстро одевалась, умывалась, уходила на работу, я невольно поглядывал на ее потрескавшиеся руки. Сам-то я никуда не спешил, попивал кофе с молоком, который она варила мне перед уходом, заодно пропускал капельку коньяку или рому, не спеша одевался. Когда наступало время аперитива, я приходил к ней в ресторан и заставал ее в вихре работы, словно это была не она, а другой человек. Потом обед. Бессильные попытки пойти погулять, как она мне советовала, повидаться с друзьями. Я пытался и не мог, и возвращался домой, и там ждал, когда наступит время вечернего аперитива, ужина, возвращения домой вдвоем. Иногда она допекала меня добрыми советами, но такое случалось все реже и реже; чаще всего мы теперь вообще не разговаривали. Мы шли под руку по нашей улице, поднимались по лестнице, входили в квартиру. Я рассеянно читал газету, изнывая от нестерпимого желания, ждал, когда она разденется. Лихорадочно укладывался в постель рядом с ней. Любовь была как падение в бездну, как отчаяние, как смерть и примирение со смертью. Потом мы сразу засыпали. Но скоро я просыпался и начинал бродить по квартире с сигаретой в руке. Меня душила тоска: как долго выдержит она такую жизнь, гадал я, как долго? Она здоровая женщина, не сможет она долго терпеть то, что доктора назвали бы моей неврастенией. Время от времени я собирался попросить ее уйти с работы. Потом отказывался от этой мысли. Она ничего от меня не требовала, но ведь у меня было на что ее содержать. Но я не был уверен, что мы с ней станем новыми Евой и Адамом. Какой неподъемный труд! Мне представлялось, что я буду как новый Атлас. И так оно будет тянуться веками. Я впадал в панику при мысли о том, что, возможно, произведу на свет Каина. Что за дикая затея, говорил я себе в дурные минуты, начать все сначала именно в тот миг, когда все уже идет к концу и так легко со всем покончить. Кроме того, были сожаления о том, чего не было и что еще может случиться. Столько поступков, столько приключений, столько любви, столько всего я упустил просто по невниманию, потому что мы не умеем жить, проникаясь всей полнотой настоящей минуты. Впрочем, это все была литература. Воспоминания, коренившиеся в моем детском школьном чтении.
То, что рядом со мной — эта официантка, было мне сейчас бесконечно полезно. Меня огорчали ее красные огрубевшие руки, но если за ними немного поухаживать, они были бы очень красивы. Она была совсем недурна собой, небольшого росточка. Длинные ресницы, красивые черные глаза, черты лица, пожалуй, резковаты. Жить всегда с ней рядом, до самого конца, когда она будет сгорбленная, а я буду едва ходить с палочкой. Эта картина приводила меня в ужас. Стоило только выглянуть из окна — там были сотни стариков и старух, проходивших по улице, сгорбленных, с палочками. Может быть, где-то там, чуть дальше, они собираются все вместе? Я помнил одно собрание стариков. Кашляя, они говорили о том, что жизнь прекрасна, и провозглашали права пенсионеров, требуя себе преимуществ и в то же время единения с людьми труда. Я был старше, чем они. К прочим соображениям примешивалась мысль о том, что я мог бы облегчить официантке жизнь. Как поступить? Сейчас все хорошо, или, скажем, скорее хорошо, чем плохо. А завтра будет видно. Может, в недалеком будущем или я умру, или она умрет. Скорее она. Меня мысль о несчастном случае повергала в ужас, и я долго выжидал и колебался, прежде чем перейти дорогу. Когда она проснулась, я широко улыбнулся и, чувствуя себя очень великодушным, сказал ей: — Я уже давно хотел тебе сказать, денег у меня хватает, может, ты бы бросила работу. Знаешь, денег правда хватает. Она ответила, что ждала от меня подобного предложения уже давно, с тех самых пор, как мы стали жить вместе. Теперь она сомневается, как я сам сомневался. Ей тяжело жить с неврастеником. Нелегко это — все время обо мне заботиться, меня поддерживать. Лучше уж она будет работать, нозато без всяких обязательств, и потом, она не знает, долго ли она со мной проживет. Кое-кто обещает ей другую работу, и кроме того, этот кое-кто ей, в общем-то, нравится. — Ты хочешь от меня уйти? Скоро? На меня накатило глубочайшее горькое раскаяние. Счастье было так близко. И опять я все упустил. Судьба хочет мне помочь, провидение посылает мне своих ангелов, а я их отталкиваю или не замечаю. Наверное, в садах и на улицах полным-полно источников с живой водой, а я их не вижу. Они непременно где-то есть. Выходя из дому, я широко расставлял руки в надежде случайно наткнуться на один из них. Погода стояла сухая, нигде ни капли воды. Прохожие ругались. А я упорно ходил с растопыренными руками в отчаянной надежде найти жизнь и в отчаянии от того, что меня скоро бросят. Жить с неврастеником тяжелее, чем тяжело работать. В ушах у меня все время звучали эти ее слова. Когда я приходил в ресторан, она всегда была на месте, и подавала еду, и уносила пустые тарелки как ни в чем не бывало. Мне казалось, будто я живу двойной жизнью: с одной стороны, продолжалась неизменная повседневность, с другой — произошло потрясение, образовалась огромная дыра. После ужина я, как обычно, ее ждал, мы, как обычно, возвращались домой, она ничего мне не говорила. Ее лицо изменилось, оно было как у статуи — лицо статуи, скрывающей какую-то тайну. От одного из посетителей я узнал, что она увольняется из ресторана. В тот вечер мы тоже ничего друг другу не сказали. Я жадно ждал хоть слова, хоть взгляда. На другой день за завтраком она объявила, что уходит. Я провел скверную ночь, полночи вообще не спал, а остальную половину видел какие-то непонятные и кошмарные сны. Я был уже вполне подготовлен к известию. Мне снилось, что мир во всю прыть убегал у меня из-под ног и я бежал, задыхаясь, пытался его догнать. Я был на мостике над бездной. Я хотел взлететь и тяжело падал среди колючих кустов и диких зверей. В конце концов мне удалось выдавить из себя: — Мне это очень больно. — Мне самой больно делать тебе больно. Ты молчал. Витал в своих мыслях. Не знаю даже, мысли это или что другое; я имею в виду, у тебя не такие мысли, как у всех нас. Ты не сумасшедший, но иногда кажется, что у тебя не все дома. — Это потому, что у меня есть голова на плечах… Потому что я вижу и понимаю. Как тебе объяснить? Тебе никогда не кажется странным, что ты в ресторане, или на улице, или рядом со мной? Ты не замечаешь в этом ничего удивительного? Во всем этом, — и я обвел рукой окружающее пространство. — Вот видишь, мы совсем разные. На все смотрим по-разному. Я вжался в кресло, словно паралитик. Смотрел, как она собирается. Чемодан, другой. Слышал, как она хлопает дверцей шкафа в задней комнате, потом возвращается, равнодушно, как мне казалось, складывает в чемодан еще какие-то вещи. Я помог ей запереть чемоданы. Под конец она сказала: «Мне было трудно решиться. Но ты слишком… слишком такой, какой ты есть. Я думала, что рядом со мной твоя болезнь отступит». — Какая болезнь? Она постучала пальцем по голове. — Ну, ты сам понимаешь. Я тебя в общем-то люблю, люблю по-прежнему. Но я не могла выносить твое молчание, твой этот вид, эти глаза испуганной мартышки. И потом, все на свете имеет конец. Я снес вниз чемоданы. Вызвал такси. Спросил напоследок: — Кто будет меня обслуживать в ресторане? — Моя сменщица. Я ей о тебе говорила. Ты увидишь, она славная. Я показала ей твой столик. Я подумал, что никогда больше не смогу пойти в этот ресторан, надо бы подыскать другой или даже переехать, но это уже труднее. Она поцеловала меня краешком губ и уехала.
Странно. Словно часть мира внезапно обрушилась в бездну. Что сталось с прожитыми жизнями, с древними соборами, с толпами? Все рухнуло. Наверное, все это обнаружилось где-то в другом месте, но об этом нам ничего не известно, ровным счетом ничего. Я очутился на краю мира. Передо мной зияла бездонная дыра хаоса. Все мироздание осталось позади. Вселенная дышала за спиной, всей своей тяжестью подталкивая к бездне. Какое головокружение! Мне хотелось попятиться. Но я боялся шевельнуться. Шаг вперед, и я упаду, и меня проглотит, пожрет, растворит в себе ничто. Я закрыл глаза, но от этого головокружение и тошнота только усилились. Космос опрокинулся. Что происходит с этим миром — он слишком тяжел или слишком непрочен? Того и гляди, с минуты на минуту исчезнет. Или раздавит меня своей тяжестью. Я осел на землю между наполненностью и пустотой. Мне помогли встать. Улица была по-прежнему на месте — те же прохожие, те же дома. Я почувствовал крепкую руку какого-то молодого человека. Он существовал, и я существовал. — Все на месте, — сказал я, — удивительно, мсье, все на месте, спасибо, что помогли. — И всегда было на месте, и будет на месте. Ничего не надо бояться. — Вот именно, надо бояться этого ничего. И все же земля у меня под ногами была тверда. Мне передалась его уверенность. Было уже лучше. Мои неуверенные шаги стали тверже. Еще секунда-другая, и пришла радость. Может, ничего еще не потеряно, может, ничего и не будет потеряно. Может быть, время, протекая, сольется с вечностью. Я через каждые несколько шагов трогал стены, чтобы ощутить их жесткую и плотную реальность. Может быть, то, что существует, тождественно тому, что есть. Может быть, все это, весь мир, — нерасторжимая реальность или оболочка абсолютной реальности. Просто завеса, которая ее скрывает. Миллиарды образов, голосов, одновременные или сменяющие друг друга, — все это, возможно, опирается на незыблемые, основательные устои. Это возможно. Я отчаянно хотел, чтобы так оно и было. По-видимому, мне не хватало чего-то самого существенного. Я не такой, как другие. Что же это, своего рода увечье, увечный ум? Другие спокойно идут по улице, позади меня, впереди, рядом; может, они интуитивно знают нечто такое, о чем я понятия не имею? Одного меня охватывает паника, постоянная паника, день за днем, час за часом, минута за минутой, кошмар, но я проснусь, проникнусь реальностью того, что незыблемо стоит за тем, что зыблется. Люди шли, толкались, походя смотрели на меня — или это были просто зрячие тени? Взгляды пугающие или успокаивающие. Прохожие, которые проходят, проходят. Я пришел в ресторан. Сел за столик. Но нет, несмотря ни на что, все Выглядит надежно. Новая официантка улыбнулась, принесла мне выпивку. Внезапно я сжался от боли при мысли о том, что та, другая, ушла. Когда тронулось с места увозившее ее такси, я впал в какое-то полубесчувствие, в оцепенение. А теперь наконец вполне осознал, что она ушла. Неужели было время, когда она была здесь? Где те минуты — разве их потрогаешь руками? Неужели те картины очевидны, те воспоминания точны? Я был более или менее уверен только в том, что мог почувствовать на ощупь; а то, что я пережил, — правдиво оно или воображаемо? Оно больше не существует. Может, и не существовало раньше. Как убедиться, что воспоминания — не сны, не фантазии? Дым это все, и даже пар, а не дым, если бы это был хотя бы дым… Время уничтожит в забвении эти образы. Этого больше нет, этого не было. Это было ничем. Ничего не было. — Вы с ней дружили, не правда ли? — спросил я у новой официантки. — Конечно. Не беспокойтесь, она пришлет о себе вес-точку. До того как принесли закуски, я уже выпил все вино. Заказал себе еще. Как всегда, я смотрел на прохожих и машины за окном. Ничего из этого больше не будет. Но как может исчезнуть то, что было? Где же оно было? Где теперь то, что исчезло? Где оно было раньше? В какую бездну кануло? И все же оно должно где-нибудь обнаружиться. Ничего, ни пылинки. Да, то, что было, если оно было, не может просто взять и угаснуть. Но его больше нет — что же это значит? Уйдя вперед, в будущее, я оставил это за спиной. Если я оглянусь и посмотрю на пройденное с высоты нынешнего уровня эволюции, я увижу только туман. Может быть, вернувшись, проделав обратный путь, я мог бы вновь почувствовать, потрогать то, что было. Увы, все исчезло, как не было, прошлое сгинуло, образы распадаются. Кто может доказать, что это было? Прошлое умерло, и трупа не осталось. Кто-то жил-был… и след простыл. Теперь я остался один. Я чувствовал, как давит на меня бремя моего несчастья. Я много выпил. Заплатил по счету, встал, попрощался с новой официанткой, свернул направо, обогнул угол, прошел по улице, добрался до дому, поздоровался с консьержкой. Она заметила, разумеется, что та, другая, ушла. Консьержка мне не улыбнулась. Наверное, думала, что та ушла по моей вине. Что я ненормальный. Ей, наверно, хотелось узнать подробности, мне бы следовало с ней поговорить. Объяснить, что случилось. Я подумал и стал подниматься по лестнице. Перед дверью долго стоял в нерешительности с ключом в руке. На лестницу вышла соседка с собачкой. Я решился и открыл дверь. Она забыла одну тапочку. Тапочка валялась здесь, в темном коридоре. След. Она была здесь. Она жила здесь. Единственная осязаемая вещь из того, что было. Каким же это образом настоящее становится прошлым? Что такое время? Поставщик небытия. Все должно было бы рождаться прочным, незыблемым. Я поднял с полу тапочку. Это была свидетельница. Снял пальто, шляпу, повесил их на вешалку в темном коридоре, пошел в гостиную, рухнул в кресло у окна. Квартира моя была пустыней, обширной, как весь мир. Эта женщина, конечно, ушла от меня ради кого-то другого, она кого-то встретила. Во мне шевельнулось нечто неприятное, смахивавшее на ревность. Как странно. Неужели я вправду к ней привязался? Да, конечно. Значит, что-то связывает меня с мирозданием. Это меня почти обрадовало.
После долгого затишья опять начались военные действия. Сейчас битва шла на площади, довольно далеко от моей улицы. Однако вполне вероятно, что в ней участвовали и жители моего квартала. Не все, конечно, человека два-три, не больше. В сумерках я видел одного из них с перебинтованной головой. Однажды в час дня, обедая в ресторане, я увидел другого — он вошел с карабином через плечо. Большинство посетителей не обратили на него внимания и продолжали есть. Несколько человек окружили его у стойки. Он заказал анисовый ликер. Другие заказали то же самое. Он возвращался из боя. Говорил громким голосом. Во взглядах слушателей читалось почтение. Он объяснял, почему записался в добровольцы, и его объяснения показались мне обоснованными. Я и сам не согласен с тем, как устроен мир. Он говорил про общество. Энергично махал руками. Он был возбужден и, пока говорил, возбуждался все больше. Слушатели, пятеро мужчин и одна женщина, в знак одобрения кивали головами. Женщина, маленькая, худая, нервная, смуглая, говорила, что с этим пора кончать. «Слава Богу, есть еще на свете мужчины», — выкрикнула она, обернувшись к людям за столиками, которые, похоже, не слушали или притворялись, будто не слушают. Среди мужчин было двое рабочих в спецовках. Другие двое, среднего возраста, были, по-видимому, мелкие служащие. Один из них в свое время сражался за революцию в какой-то стране, я догадывался, что он имеет в виду Сардинию. Последний, маленький старичок с белой бороденкой, в молодости был анархистом. Он твердил, что главное — не сдаваться. — В мое время, — добавлял он, — в мое время… — Да, — подтвердил человек с карабином, — теперь или никогда. — Мы им докажем. — Необходимы перемены, — сказал один из рабочих, залпом допив свой анисовый ликер. Хозяин объявил, что угощает, и все согласились. — Больше так жить нельзя, — воскликнул воин. Я тоже думал, что так больше жить нельзя. — С такими парнями, как вы… — сказал служащий. — Надо идти до конца, — сказал анархист. — Ах, мне бы ваши годы! — Страна бездельников… — продолжал воин. — Они нам уже осточертели, — сказала женщина. — Еще как, — хором подхватили все. — Они не заслуживают ничего, кроме презрения. — Презрения мало, — заметил кто-то. — Их надо уничтожить, — сказал воин, — так будет лучше для всех. — Верно. — Мы будем справедливы, — добавил воин. — Справедливость — штука суровая, они это скоро заметят. — Все, кто погряз в разврате и несправедливости… — Они этого не понимают. — Все они понимают. Боец обернулся к нашим столикам. Мне показалось, что он метит именно в меня. Он открыл рот. Я не знал, куда деваться. Потом раздались слова: — От всего этого у меня страшный голод. Живот подвело. Старик с седой бородкой предложил ему пообедать здесь, в ресторане, вместе с ним и остальными пятью. Боец обвел их взглядом и отказался. — Я бы с удовольствием, — сказал он, — но жена ждет к обеду. Не хочу, чтобы она волновалась. И потом, надо немного отдохнуть. В три часа мне возвращаться на баррикаду. Он поднял руку в знак приветствия, воскликнул: — Долой полицию! — Долой полицию! — отозвались остальные, и боец направился к выходу, провожаемый взглядами всей пятерки. Из окна я увидел его на улице. Он шагал с непримиримым видом. Пятерка рассеялась — двое направились к столику, остальные ушли. Мне было не по себе. Надо что-то сделать, сказал я себе без особой убежденности. — Коньяк, пожалуйста, — попросил я.
Ну, дом-то они не подожгут. Я жил по-прежнему. Нанял немую домработницу. У нее уходило два часа в день на то, чтобы застелить постель, подмести, помыть бокал, из которого я пил, проветрить квартиру, а потом затворить окна. Кроме того, она чистила от пыли шторы. Нет, они не подожгут дом. Бой шел еще довольно далеко. Прохожие на улице не проявляли тревоги. Дама с собачкой выходила на прогулку в одно и то же время. Пенсионер с женой, что жили в домике с садиком напротив, ежедневно ходили гулять, поддерживая друг друга. Высокий седой русский, прихрамывая, возвращался домой с тростью в одной руке, с хлебом в другой. Еще один господин возвращался, нагруженный покупками: его жену уже разбил паралич, она больше не могла ходить на рынок. Это мне рассказала консьержка, — она ко мне подобрела. Привыкла, что я здесь: люди ко всему привыкают. Однако издали доносился треск стрельбы — еле-еле, если напрячь слух. А потом я выкидывал это из головы. Но по вечерам, пожалуй, стрельба звучала громче. Я вставал поздно. Норовил выйти из дому, как только придет домработница. Время обеда. Подчас я думал о первой официантке — как ее звали? Ивонна или Мари? Ее преемница была со мной дружелюбна. Не более того. Иногда меня терзали воспоминания о той, первой. Но все меньше и меньше. И все же во мне осталась дыра. Еще одна дыра. Может, следовало взять на себя инициативу и сказать новой официантке, как бы мне хотелось, чтобы она заняла место Ивонны — или Мари?
По проспекту, на котором стоял ресторан, раза два-три проходили люди с карабинами. Они ничем не выделялись из толпы. Вероятно, шагали на площадь, где шел бой. Их можно было принять за гуляющих — просто не совсем таких, как другие. На моей улочке, по-прежнему спокойной, провинциальной, они не появлялись. И все же шум как будто слышался ближе. Соседи выходили из домов в прежнее время; седой русский и дама с собачкой слегка наклоняли головы, вслушивались. Я видел их из окна. Они словно слегка тревожились или удивлялись — или мне это только мерещилось? Как бы то ни было, из моего окна на четвертом этаже я видел по ту сторону домиков, тянувшихся вдоль дороги, красные вспышки, полыхавшие, несомненно, со стороны большой площади. В ресторане за обедом и ужином посетители по-прежнему сидели уткнувшись носами в тарелки. Бойца я больше не видел. Наверно, он был слишком занят. А может, убит, или ранен, или в тюрьме, а может, отказался от борьбы, или уехал, а может, сказал себе, что все это ни к чему, в общем-то, не приведет, не поможет объяснить смысл нашей жизни? Я и сам так думал. Ничто не может прояснить тайну. Люди дергаются, действуют сами, призывают к действиям других потому, что это для них — бегство, забвение, а я и то и другое нахожу в спиртном. Как-то раз, около полудня, собираясь в ресторан, я увидел в окно, как бежит окровавленный человек, а за ним гонятся трое полицейских. Все они скрылись за углом. На сей раз окна соседей в моем доме и напротив распахнулись. Высунулись головы. Я спустился по лестнице. В конце вестибюля, у входной двери, консьержка спорила с соседской консьержкой, седой морщинистой теткой — я ее еще не видел, но мне о ней говорили. Обычно она никогда не выходила из привратницкой. Она услышала, как полицейские во время погони кричали: «Держи его!» Чета пенсионеров, муж паралитички, высокий седой русский со своим хлебом обступили обеих консьержек. Они никогда не видели подобного на нашей довольно-таки людной улице. — Вор, — предположил пенсионер. — Может быть, революционер, — сказал седой русский. — Ну, вам везде революционеры мерещатся! Здесь не то, что у вас дома, это Франция. — У вас тоже были революции, — возразил седой русский. — Да, революция восемьдесят девятого года, — согласился пенсионер, — но это было очень давно. Наши люди все поняли, больше у нас такого не повторится. Господин, нагруженный покупками, полагал, что происходит нечто весьма угрожающее. — А что вы думаете об этих кровавых вспышках, об этой трескотне, которая до нас долетает? В самом деле, шум стал громче, его слышали все. — Нам это даже мешает спать, — сказала жена пенсионера. Господин с покупками подхватил. — Это стрельба, — сказал он, — я знаю, я сам охотник. Я вмешался в разговор: — А что такое эти кровавые вспышки? Обе консьержки вспышек не видели. — Просто вы на первом этаже, — объяснил я, — у вас окно выходит во двор! — Все это очень и очень подозрительно, — сказала вторая консьержка. — Успокойтесь, ничего не будет, — заметила дама с собачкой. — Так мой муж сказал. Кучка людей рассеялась. Я пошел обедать. Свернув за угол, я увидел прямо на тротуаре перед рестораном четырех людей с карабинами, которые быстро шагали по двое в ряд, озираясь по сторонам; шли они направо, в сторону большой площади. Казалось, они полны решимости защищаться. Против кого? — гадал я. Здесь же были двое полицейских. Они не двинулись с места. Казалось, они не видят тех четверых. Да им бы их и не остановить. Эти полицейские были приставлены следить за уличным движением. Я открыл дверь в ресторан, вошел. Прошел к своему столику в углу у окна. Оглянулся по сторонам. Они переговаривались. — Что-то происходит? — спросил я у официантки, которая принесла мне графин с вином. — Не знаю, не думаю, в газетах ничего не писали. — А что там за красные вспышки на большой площади?
Все люди были слегка возбуждены на этой мирной улице, где никогда ничего не происходило и не должно было происходить. Большей частью здесь жили старики. Они хотели только одного: спокойно доживать свой век. А я-то все равно переживал катастрофу, и это никак не зависело от того, что творилось вокруг. Вернее, то, что творилось во внешнем мире, творилось и во мне. Внутреннее начинало отражаться во внешнем. Или наоборот. Но я только теперь начал это понимать. Я осознал свое недомогание. Это правда, сказал я себе, с самого рождения я чувствую себя неуютно. Почему? Что не в порядке? Столько людей живут. До самого последнего времени они выглядели вполне довольными или смирившимися. Во всяком случае они не бились над проблемами. Не боялись смерти, вернее, не думали о том, что рано или поздно умрут. А меня это преследовало неотступно. С тех пор как ушла моя подруга, когда я просыпался ночью, на меня нападала тревога: холодный пот, паника, на рассвете я умру. А ее больше не было рядом, чтобы сказать: «Ну, будет, будет, ложись в постель», и я вспоминал, что мне бывало довольно услышать ее голос или прикоснуться к ней, или чтобы она взяла меня за руку, и тревога улетучивалась. Может быть, такую же тревогу испытывают другие, все. Они спасаются от нее деятельностью. Они не любят жизни, потому и бунтуют. К счастью, общество устроено скверно. Что они будут делать, если в один прекрасный день общество исправится? Они больше не смогут против него бунтовать, и тогда предмет беспокойства предстанет во всей наготе, во всей чудовищности. А моя тревога всегда была при мне, никакое общество не в силах было ее исцелить. И потом, все общества плохи: разве хоть одно из них за все времена можно признать удачным? Люди убивают друг друга в войнах и революциях. Идут на смерть. Убивают себя в другом человеке. А может быть, пытаются убить смерть. А потом меня внезапно охватила беспредельная печаль, огромная безнадежность. Я всегда изнывал от этого, сам не понимая. Мне всегда мешало радоваться неизменное — «к чему все это?». Не слишком осознанное — «к чему все это?». Теперь я все осознал. Я думал обо всем этом, кружа по квартире, из комнаты в комнату, из комнаты в коридор, из коридора в гостиную, к окну, из которого видел, как на большой площади все ярче, все очевиднее полыхали огни. Я привык к этим огням, они меня больше не интересовали и не занимали. Меня удручал внутренний пейзаж. Перед глазами разворачивалось все мое прошлое, пейзаж, полный отчаяния, пустыня без оазисов. Вернее, студеная пустыня. И кругом до самого горизонта, до самых краев этой огромной крышки, — ничего, ни единого цветка, то сухая земля, то пыль, то грязь. Неужели я сам в этом виноват? Я один? Вероятно, я не умел правильно взяться за дело. Какая горечь, какая боль, какое отчаяние, какая неразбериха! А ведь могла быть и радость — неужели и впрямь могла быть радость? Мог быть ослепительный свет вместо этой грязной серости, этой хмурой ясности. Неужели мог быть свет? Неужели могла быть любовь? Могла… Сколько упущенных возможностей! Женщины меня бросали, потому что я не умею любить. Моей последней надеждой была Ивонна — или Мари. И все-таки во мне была любовь. В подвалах и казематах, в одиночных камерах моей души. Под замком. Двери заперли, а ключа у меня не было Увы, да, все это было зарыто очень далеко и очень глубоко Да, какая неразбериха. На меня напали беспредельные сожаления. С этим пора кончать. Начал я неудачно. Даже и не начинал. Все старты я, конечно, пропустил. Что делать теперь? Ждать, ждать, терзаясь тревогой. Чего?.. Ах, если бы можно было начать сначала. Мне бы хотелось начать сначала. Чтобы начать сначала, надо, чтобы сперва все кончилось. Оставалась ли надежда? На что я мог надеяться? Все погибло? Разве не все погибло? Я считал, что все погибло. Между тем их было множество вокруг меня, они блуждали, копошились, они были прозрачны, они ели, спали, ничего не говорили, говорили, чтобы ничего не сказать. Неужели они так и проживут всю жизнь сомнамбулами? Я видел, что теперь они просыпались, по крайней мере многие из них просыпались. Страдали от ностальгии. Что-то делали. Эти люди с карабинами, эта стрельба, эта спешка… С самого начала были миллиарды людей. Сейчас нас и то три миллиарда. Как они жили все веками, веками, веками? Я думал об этих множествах людей. Головокружение. Бесконечная бездумность?
На другое утро, или через день, я проснулся немного позже обычного. В дверь позвонили, наверно, пришла домработница, немая. Не добрившись, я пошел открывать. Домработница была испугана. Издавала нечленораздельные звуки. Я уже привык к ней и начал ее понимать. Она кричала от ужаса. Рукой показывала в сторону окна гостиной. Я пошел туда, открыл окно. На тротуаре был простерт человек. Он плавал в луже крови. Это была агония. Соседи обступили его. Я закрыл окно, прямо с бородой из мыльной пены на лице сбежал по лестнице. Я подошел к лежащему, отстранил чету качавших головами старичков-пенсионеров. — В жизни такого не видывали, — говорил муж. Жена поддакивала. — А что мы вообще видели? — изрекла консьержка. — В такие времена живем! — Да это же сын той дамы, вдовы, что живет в угловом доме, у нее еще муж в прошлом году умер! В самом деле, старуха-консьержка привела мать, и та, рыдая, упала на тело сына. — Я же ему говорила не вмешиваться! Я же ему говорила! — Нынешняя молодежь, — изрек господин с продуктовой кошелкой, — не понимает, что такое опасность. — Бедный мой мальчик, — причитала мать, — бедный мой мальчик. Раненый был без сознания. Молодой человек, лет от двадцати до двадцати пяти, совсем хрупкий, невысокий, черноволосый, с чуть курчавыми волосами. Его тело сотрясали конвульсии. — Ну вот, — говорили люди, — какой ужас. Мать продолжала причитать и стонать: — Что они с ним сделали? Он был такой добрый, такой хороший… Конвульсии затихли; тут подъехала полицейская машина. Вышли четыре полицейских, грубо растолкали людей. Мне достался удар локтем. — Проходите, проходите, — покрикивали они. — Вы же не регулировщики, — воскликнул седой русский. — Помалкивайте и убирайтесь, — отрезал второй полицейский, толкнув его. — Не ваше дело, не учите меня моей работе. Полицейские оттеснили людей подальше. — А эта что тут делает? — крикнул третий, показывая на мать, цеплявшуюся за труп сына, который уже испустил дух. Четвертый полицейский схватил мать, она отбивалась, а первый тем временем что-то писал себе в блокнот. Женщина продолжала плакать и звать: — Мальчик мой, Реймон, мой малыш! — Ладно-ладно, этим вы его не разбудите. Сами видите, он уже не дышит. Покойный был в рубашке и джинсах, рубашка голубая, в красных пятнах: кровь. На ногах — домашние тапочки. Один из полицейских порылся в брючных карманах простертого на земле паренька и извлек складной нож. Двое полицейских взяли тело, не обращая внимания на вопли матери, по-прежнему цеплявшейся за сына, и оттолкнули ее, чтобы не мешала. Забросили тело в машину. Двое других подняли мать, которая упала на тротуар и рыдала в луже крови. Все руки у нее были в крови; они подняли ее и тоже швырнули в машину: — А ну, живо, поехали, вы нам еще дадите объяснения. Машина с полицейскими, матерью и мертвецом рванула с места. По тротуару растеклось огромное пятно крови. Люди как под гипнозом смотрели на это пятно. Соседкина собачка нюхала кровь, лизала ее. Дама потянула собачку за поводок. Я стер рукой мыло с лица. Люди разбредались, разводя руками. — Вы помните, это тот самый, который на той неделе бежал с окровавленным лицом. — Нет, это другой, из другой партии. Недобритый, без галстука, я зашагал в ресторан. — Вот так-то: живешь, живешь и помрешь, — услышал я напоследок за спиной. — Раньше или позже — все там будем! Меня терзала жажда. Жажда спиртного. Я завернул за угол, вошел в дверь. Что-то переменилось. Я засомневался, тот ли это ресторан. Да, тот самый. Но теперь за столиками сидело множество людей с карабинами, прислоненными к стульям. Из карманов торчали рукоятки револьверов. Здесь были прежние посетители, были и новые. Почти все при оружии, завсегдатаи так же, как остальные. — Надо же защищаться, черт побери, — сказала официантка, заметив испуг у меня на лице. — Вина, — попросил я, — вина. Я разглядывал обедающих. Мне с трудом удавалось узнать посетителей, которых я видал здесь каждый день. У них стали другие лица. Изменилось что-то главное. Они были те же и не те. В их облике проступила незнакомая ипостась, другая личность. Все вокруг разговаривали, не обращая на меня внимания. До моих ушей долетали обрывки разговоров и отдельные слова: «Классовая борьба», «мясник с Красной площади», «с ножом в зубах», «богатые», «бедные», «пролетариат», «примитивный контрреволюционер», «диктатура, да, но свободная», «добровольно признанная», «завтрашние песни», «кровавые зори», «это будет новая варфоломеевская ночь», «такое искупается кровью и смывается кровью», «согласитесь, что они сами напросились, со всей этой коррупцией», «грязные буржуи», «рабочие бедны, потому что пьют, все они алкоголики», «и наркотики туда же», «коллективизм», «индивидуализм», «тоталитаризм», «общество потребления», «сосут народную кровь», «продажный правящий класс». Кто-то долговязый, тощий внезапно вскочил в ярости, грохнул кулаком по столу, так что посыпались вилки и ножи, и прогремел: «А братство! Нельзя забывать братство!» Повисла тишина. Люди опешили. На мгновение все перестали жевать. Долговязый сел на место. Потом споры возобновились: «Хватит с нас», «три четверти человечества живут в нищете, если это вообще можно называть жизнью, они умирают с голоду», «мы — привилегированные». «По сравнению с нашими привилегированными мы не привилегированные». «Хватит привилегий». «Долой привилегии». «Что-то должно измениться». «Люди не меняются». «Революции проходят». «Эволюция или революция?» «Все имеет свой конец. Все имеет свое начало». «Это квадратура круга». «Только у молодежи хватит энтузиазма на то, чтобы…» «Молодые проницательнее нас». «У стариков опыт». «Молодые все идиоты». «Старики все идиоты». «Есть и молодые идиоты, и старые идиоты». «Если кто идиот, это на всю жизнь». «Мы больше не сдадимся». «Революция во имя радости». «Это же невыносимо, — на работу, с работы, с детьми повозишься и на боковую, и все». «Праздник, поймите, мы можем жить в атмосфере праздника!» Меня поражал высокий уровень разговора. Поражало, какими интересными вещами озабочены все эти люди, которые до нынешнего дня будто спали. Мне показалось, будто внутри у меня что-то шевельнулось: захотелось шевелиться. Может быть, что-то и в самом деле осуществимо. Может быть, мы в силах по крайней мере расширить, раздвинуть пределы. Сегодня было столько народу, что официантка разрывалась на части, и хозяину пришлось прийти ей на помощь и разносить заказы, чтобы посетители были довольны. Дела шли на лад, и оба весело носились среди шума и гама. Некоторые посетители считали, что их обслуживают недостаточно быстро. Один невероятно толстый человек, почти гигант, грубо отчитал официантку, она, мол, совсем не торопится. Он говорил, что они спешат, что через полчаса им на демонстрацию, на большую площадь, посмотреть, что там делается. Официантка бодро ответила, что она старается как может и они уйдут вовремя. Толстяк возразил: — Вы — лавочники. В сущности, эксплуататоры, вот вы кто! — Эксплуатация человека человеком, — услышал я. По залу словно прошла дрожь негодования. — Я-то труженица, — отозвалась официантка, — зарабатываю на жизнь в поте лица, а вот вы ничего не делаете, только болтаете; все это слова, одни слова. — Шлюха, — бросил толстяк в лицо официантке. Этого я не вынес. Все, что во мне было героического, встрепенулось. Я встал: — Мсье, как вам не стыдно! — Грязный буржуйчик, — отозвался тот, побагровев от гнева. — Ну-ка подойди, дай себя рассмотреть. Я неосторожно подошел ближе. И тут же получил в лицо удар кулаком, от которого отлетел назад и рухнул на свой стул. Официантка вне себя от возмущения влепила толстяку одну за другой две оплеухи; тот сел, ощупывая челюсть. Потом она подошла ко мне с полотенцем и вытерла кровь, которая текла у меня из носа. — Такие вещи не для вас, — мягко сказала она. Инцидент прошел незамеченным. Но в ресторане нарастала нервозность. Пока я, прижимая к носу платок, пил добрый коньяк, который поднесла мне официантка, на улице послышался треск пулеметных очередей, и вдруг, словно по команде, люди в ресторане схватились за карабины и повскакали с мест. — А как же счет? А как же счет? — в отчаянии кричали официантка и хозяин. Кое-кто швырял купюры им прямо в лицо: — Вот вам ваши грязные деньги! Другие пожимали плечами, даже не думая платить. А другие и плечами не пожимали. Все, толкаясь, вышли из ресторана. «К оружию, граждане! — кричали люди. — Покажем бошам! Зададим им перцу!» Они хлынули на улицу, в сторону большой площади, направо. Влились в толпу, вооруженную карабинами и дубинками. Улица была запружена людьми, которые кричали, ругались, пели. Я тоже вышел. Прижимаясь к стене, стал пропускать идущих. Затрещали выстрелы. Улица опустела. Вдали еще слышались проклятия, да и пение тоже. На мостовой безжизненно простерлись двое полицейских и какая-то старуха.
Я выглянул из окна большой комнаты у себя в квартире. На улице царило необычное оживление. Люди спорили, собираясь в кучки, и расхаживали по улице взад и вперед. Появились и новые лица. Молодые ребята, сорокалетние, пятидесятилетние бородачи. Они несли карабины. У некоторых были пистолеты. Они стреляли в воздух. Они выходили из двориков, из садиков, на прощание махали рукой семье, родным. Где они прятались до нынешнего дня? Я никогда их не видел. Наверно, жили в маленьких мансардах, работали, должно быть, в ночную смену. Многих из них кто-нибудь провожал. Женщины — жены, матери — держали в руках платочки, утирали слезы. Я растворил окно. Старики держались с большим достоинством, пылко воодушевляли молодых. Я слышал слова, которые доносил до меня легкий ветерок, потому что погода была ясная, небо безмятежное, равнодушное. «Я и сам в четырнадцатом году воевал», — говорил сморщенный старичок. Другой, помоложе, произнес: «Сопротивление». — «Я тоже был на баррикадах, в двадцать седьмом или в тридцать седьмом, в сорок седьмом или в тридцать пятом». Я и не знал, что за последние несколько десятилетий было такое множество баррикад. Во Франции ничего такого не было. Скорее, где-нибудь в Бразилии, или в Испании, или в Конго, или в Палестине, или в Одессе, или в Китае, или в Ирландии. Наверное, речь о французских добровольцах-революционерах, или о революционерах-иностранцах, нашедших прибежище во Франции. Вероятно, во всех странах это происходило на один и тот же лад. И наверняка приносило свои плоды. Возможно, я даже пользовался этими плодами, сам того не понимая. Были наверняка и поражения, потому-то и приходилось все время начинать сначала, начинать сначала… Один из бойцов задрал голову и заметил меня. — Пошли с нами, что ты там делаешь наверху? — Смотрю на вас, — крикнул я. — И удивляюсь. — Бездельник, — изрек по моему адресу другой боец.
Я затворил окно и забился в кресло. Возможно, — сказал я себе без особой убежденности, — возможно, мне и надо бы тоже пойти с ними. Поступить как все. К несчастью или к счастью, навалилась усталость… Да и зачем, рассуждал я, все равно мы не можем сдвинуть с места солнце, не можем обратить вспять смерть. Думаю, они и убивают-то друг друга именно потому, что не могут потеснить смерть. Вот они и набрасываются друг на друга, и теснят других людей. Яростно хватаются за что придется. Хватаются за что придется, потому что не могут объяснить необъяснимое. Войну, революцию, мир, скуку, радость, болезнь, здоровье, любовь, добрых жен, хнычущих детей. И эту длинную дорогу. Эту длинную дорогу. Внезапно на ум пришло слово «любовь», всколыхнувшее во мне невнятную ностальгию. Я понял, что это могло бы мне помочь, заменить объяснения. Любить до безумия. На самом деле это было настолько неправдоподобно, все было настолько неправдоподобно, что могло показаться привлекательным. Я мечтал о путешествии на прекрасном корабле — море, небо. Или пустыня. Или отыскивать заброшенные города. Остались еще, наверное, в нашем мире безлюдные места. Картина безбрежного моря, спокойной пустыни всколыхнула во мне какую-то радость, словно подобие надежды. Любить пустыню, любить синеву моря, любить белизну кораблей — мне представлялось, что это-то можно. Любить людей казалось мне тяжелей. Не питать к ним ненависти — это да. Но любить эти существа, которые шевелятся, разговаривают, суетятся, шумят, требуют, желают, подыхают? Это уже смешно. Чем может кончиться желание? Чем может кончиться ненависть, резня или простой разговор? Мы бултыхаемся в необъяснимом. Ждать. Доверять. Сердце, набухшее любовью. Бывают на свете сердца, набухшие любовью. Бывают на свете сердца. Нет, я не боюсь. Не страх мне мешает, не страх останавливает мои порывы. А даже если бы я и боялся. Бояться — это так по-человечески. «По-человечески, по-человечески», — и я расхохотался. Слово «по-человечески» вызывало у меня хохот. Бояться, не бояться — тут нет никаких критериев. Одни боятся, другие не боятся. В конечном счете это скорее даже забавно. Меня возбуждает бездействие. Такая разновидность возбуждения ничем не хуже прочих, просто те, кто возбуждается на мой лад, ничего не делают. Мне не от чего страдать. А между тем я страдаю. Меня возбуждает страдание. Приходится это признать. Во мне живет какая-то неугомонность, и эта неугомонность, как ни странно, ввергает меня в паралич… Разнонаправленные, противоположные толчки. И снова я пожалел, что не изучал философии. Может быть, я бы что-нибудь знал, что-нибудь о чем-нибудь. В дверь постучали. Это пришла консьержка и сообщила, что моя немая домработница убита и никто не знает толком, кем убита — повстанцем или полицейским. Ей приказали остановиться, она не ответила на оклик. Консьержка предложила исполнять мои поручения, ходить за продуктами, вести хозяйство. — Надо вам помочь, мсье, и потом, надо принести чай, сахар, сухари, сушеное мясо, варенье, кофе, картошку. У вас тут хватает места. И в подвале тоже. Никто не знает, сможем ли мы потом выходить из дому. В самом деле, выстрелы раздавались все чаще. А иногда все ненадолго успокаивалось. Она знакома с бакалейщиком, штора на витрине спущена, но можно войти с заднего хода. Разумеется, он возьмет немного дороже. Я согласился, разумеется. Правда, очень жаль, что нельзя будет больше ходить в ресторан, мне будет этого недоставать. У меня не хватило воображения. Как это я ничего не предусмотрел? Почему не уехал при первых признаках тревоги, прихватив с собой все деньги, какие были, — теперь они, конечно, обесценятся из-за всех этих беспорядков и грядущих перемен; надо было сесть в синий поезд или в белоснежный самолет, прочерчивающий по небу след, на пароход или просто в машину с шофером. И сейчас гулял бы я спокойно по городу, сверкающему на солнце, шагал бы вдоль розовых фасадов, взбирался на покосившиеся башни, бродил по заграничным музеям, насыщенным искусством. Одному мне было бы скучно. Надо было предложить это Ивонне или Мари; может, она ждала именно этого — путешествий, путешествий… Да, но мне было интереснее здесь, посреди всеобщего возбуждения: было на что посмотреть.
Теперь мне этого больше не хотелось. Воспользовавшись кратким затишьем, я вышел пройтись. — Не задерживайтесь, — крикнула мне консьержка, — у них перерыв на обед, но скоро все начнется сначала, теперь уже и на нашей улице стреляют по всему живому. Не переходите через дорогу, загляните в ваш ресторанчик и скорее возвращайтесь. Я завернул за угол улицы, шагая немного поспешнее обычного, очутился на проспекте, вошел в ресторан, который, к счастью, был открыт. — Входите скорей, — крикнула официантка. — Может, завтра мы еще откроемся. А послезавтра навряд ли. Я сел на свое обычное место. Пол был весь в щербинах, по нему шли глубокие трещины. — Да, — сказала она, — эти, внутри, стреляли в тех, снаружи, а те, снаружи, в наших посетителей. Есть мясной салат. — Вы уезжаете? — Хозяин не захотел возглавить революцию. Он уже не в том возрасте. И потом, он не уверен в победе. Ну вот, и на него злятся. — Были бы хоть настоящие революционеры, — сказал, появившись в зале, хозяин, — я бы, возможно, и пошел им подсобить. Но они же реакционеры. — А другие, их противники? — Тоже реакционеры. Две банды реакционеров. Одним платят лапландцы, другим турки. Вооруженные отряды проходили под нашими окнами. Какие-то люди с улицы показывали нам кулаки. Другие строили рожи. Третьи колотили по окнам, угрожая их разбить. Официантка перенесла мой прибор в середину зала. — Вот видите, — сказал хозяин, — рожи бусурманские. — Не будьте расистом, — возразил я. Потом я замолчал, глотая слюну. — А я вот расистка, — сказала официантка, — я все расы люблю. — Рас вообще нет, — заметил хозяин. — Тогда я никого не люблю, — ответила официантка, — только молодых люблю. — Молодые все предатели, — сказал хозяин. — Когда я работал на заводе, они вечно не выдерживали забастовки. Уж кто-кто, а я не стану лезть в эту пригородную революцию. Переберемся куда-нибудь в центр, там все спокойно. Вошел некто в котелке, гетрах и при усах. — По дороге сюда я прошел через лагерь мятежников. Хотел посмотреть, не сожгли ли мое предприятие. Правда ваша, в центре города, за большой площадью, все спокойно. Целые зоны спокойствия. Улицы спокойны. Уличное движение гораздо меньше обычного. Люди сидят по домам. Торчат перед телевизорами, глазеют на революцию. А дальше, по ту сторону центра, в западных предместьях, на деревьях выросли листья. А за ними — большие дороги, и они идут, идут, идут… А потом поля. Яблони в цвету. А потом прекрасная река, текущая в море. А потом пляжи, огромные пляжи. А потом океан. Сию минуту он спокоен, спокоен, как горное озеро. А дальше — острова. Море листвы. Вечная весна. Обнаженные женщины. Мы в тюрьме, бесспорно, но тюрьма огромна и прекрасна, с парками и садами. В садах добродушные сторожа. Они улыбаются вам, у них нет дубинок. А на островах вообще нет сторожей, во всяком случае их не видно, они прячутся в зарослях, спят. Внезапно мне предстало целое мироздание — такое огромное, многообразное. В мире есть дороги, горы, поля, ручьи, сияющее небо, дружелюбные люди. Есть страны, где любят иностранцев, где их принимают. Кормят их и поят, и живут они в домах без крыш, потому что там никогда не бывает дождя. Звезды горят так низко, кажется, только руку протяни. Фрукты. В банке, в центре города, у меня лежат деньги. Я решился: рискну, попробую туда добраться. Мне дали поносить каску. От карабина я отказался. В лавке, которая прежде была шляпной, а теперь превратилась в оружейную, торговали пуленепробиваемыми жилетами. Но продавали только бойцам. Я зашагал в сторону большой площади, собираясь пересечь ее и пойти дальше, к центру города, к зонам спокойствия. Проспект перегородила баррикада. Я помахал белым платком. Платок пробила пуля. Я побежал в другой конец улицы. Там раньше были большие заводы, большие трубы, теперь их разрушили, и они торчали посреди шоссе как непреодолимые стены. Их было не обойти ни слева, ни справа. Направо был укрепленный лагерь мятежников с часовыми, которые стреляли в каждого, кто хотел подойти ближе, или выпускали автоматные очереди просто так, для забавы. Налево стояли отряды полиции, там всех задерживали. Мне пришлось вернуться назад вместе с толпой недовольных. Я добрался до дверей в мой ресторан, его уже закрывали. Я заметил официантку: она, пригнувшись, пролезала под железными жалюзи, которые были уже на три четверти опущены. — Скажите Ивонне, чтобы она меня ждала, — крикнул я ей. — Я с ней не вижусь, — последовал ответ. — Я уже больше года ее не видела. — Она что, замуж вышла? И дети есть? — Четверо, — и официантка исчезла. Сколько же времени прошло с тех пор, как Ивоннаот меня ушла? Месяцы, годы. Время летит быстро. Я уже слышал это утверждение от массы народу. И не в первый раз я сам убеждался в его справедливости. Время проходит, время ушло, и вот он я, на краю пропасти. Я завернул за угол, чтобы попасть домой. Мне с трудом удалось пройти. В этом конце улицы возводили баррикаду. Я торопливо объяснил, что живу тут, рядом. — Живете на этой улице, — возразили мне, — а сами даже не знаете пароль? Ладно, проходите. Я прошел и увидал, что на другом конце тоже возводят баррикаду. Мой дом стоял на середине улицы. Я дошел до подъезда — отсюда было видно знамя на баррикаде в другом конце улицы. Такое же, что на другой баррикаде. Зеленое знамя с полумесяцем и колоском. — То же самое знамя! — воскликнул я. — Попробуйте им это объяснить. Они из одной и той же партии. Убивают своих. — Что же у них, биноклей нет? Они же должны понимать, что происходит. Может, это два соперничающих вождя из одной и той же группировки. Не успел я это выговорить, как с обеих сторон полоснули пулеметные очереди. Мы попали между двух огней. Шляпу мою прострелило насквозь. Старик рухнул с криком: «Да здравствует…»; хлынувшая кровь так и не дала мне узнать, кому он, собственно, желал здравствовать. Из дома напротив вышла жена старика. Увидала мужа, простертого на земле, и, разумеется, испустила душераздирающий вопль. Показала мне кулак: «Это все из-за вас, грязный буржуй!» Пулеметы застрекотали с удвоенной силой. Я быстро вошел в дом, не обращая внимания на старуху и ее старика. Переступив порог, в ярости швырнул шляпу на пол. «Никогда больше не буду носить шляпу!» — крикнул я. — Заходите скорее, мсье, — сказала консьержка. — Поднимайтесь к себе. Я купила вам продуктов. Все необходимое на несколько месяцев. — А вы не забыли… — Я ровным счетом ничего не забыла. Я подумала о том, о чем вы сейчас думаете. Вам этого хватит на месяцы, на годы. Вы же любите одиночество, так что вам будет хорошо там, наверху. Лишь бы не отключили электричество и не засорилась канализация. Я поднялся на четвертый этаж, отворил дверь в квартиру. И впрямь, здесь было все, что нужно. Все. Полным-полно бутылок по всей квартире, вино — бордо, бургонское, и савойское, и эльзасское, и туренское, и минеральная вода в огромных количествах, по всему коридору, по всему коридору. Всего было полно. И целые мешки продуктов. До моего этажа наверняка не доберутся ни крысы, ни мыши. Впрочем, я собирался возвести против крыс и мышей баррикады в дверях и окнах. В трубах. И отрава для грызунов у меня была. И даже пистолет. К окнам было почти не пробраться. Впрочем, оно и к лучшему: по стеклам то и дело шарахали шальные пули. Все-таки мне был виден краешек улицы. Люди покинули свои баррикады и пошли на приступ вражеских. Выстрелы, гул, крики ярости, вопли раненых, предсмертный хрип, скорая помощь. Конца и края этому не было. Улицу усеяли мертвые тела. Это продолжалось уже не то три, не то четыре дня. На смену тем, кого убивало на баррикадах с вечера и с утра, постоянно поступало свежее пополнение. И все стонали, и выли, и пели, и выкрикивали оскорбления. Как видно, те обитатели улицы, что не принимали участия в военных действиях, изрядно развлекались. Они торчали у окон, распахнутых настежь несмотря на опасность. Время от времени кто-нибудь платился за это жизнью. В него попадала шальная пуля. Иногда по ним стреляли нарочно. Потому что они нервировали бойцов. В конце концов, гулять так гулять. Это так объяснимо. Так по-человечески. Убитые исчезали в глубине комнат. А иногда вываливались из окон наружу: шмяк! Прямо на мостовую, представьте себе. Время от времени невинно пострадавших подбирали: за них дрались оба лагеря. Благодаря этим жертвам каждый лагерь мог упрекать противную сторону в том, что они — банда палачей, убийцы стариков, женщин и детей. Правду сказать, это меня не слишком занимало. Я пресытился всей этой кровью, всеми этими трупами. Лубочные картинки, подумал я.
Лично я решил, что больше ждать не буду. Хватит с меня залитых кровью горизонтов, театральных и киношных руин, событий, которые еще дадут пищу огромному количеству литературы, десяткам тысяч книг. К тому же все еще не кончено. Это затянется на годы, на целые годы, в конце которых маячит голубая надежда. Огонь пожарищ и тяжелый дым мешали мне видеть звездное небо космической тюрьмы. В какой же это восточной легенде, арабской, что ли, говорится, что там, над небесной крышей, по ту сторону покрова, сияет ослепительный свет, который виден нам сквозь отверстия, которые мы называем звездами? Я решил забаррикадироваться от всего света. Ничто не гнало меня из дому. Вода, газ, электричество, отопление работали превосходно. Все это поступало к нам по толстым трубам, зарытым очень глубоко под землей: ни мятежники, ни их противники просто не в состоянии были докопаться до такой глубины, а значит, никак не могли разрушить коммуникации. Правда, они разрушили в нашем районе заводы, гаражи, административные здания. Но все-таки время от времени они нуждались в отдыхе, в увольнительных, поэтому пощадили кое-какие дома, кое-какие улицы, в том числе и мою: здесь у одних бойцов жили родственники, которых они иногда навешали, а у других было жилье на чердаках. Кроме того, в тех же домах хранились у них запасы провизии и склады боеприпасов. Из-за этих боеприпасов иногда даже происходили взрывы, но только по чистой случайности. У нас в доме боеприпасов не было, и никто из жильцов не доводился родней бойцам. Время от времени наведывался один, косматый и бородатый, — его приводила единственная наша активистка, дама с собачкой, у которой как раз, якобы случайно, умер муж. А иногда, время от времени, дама с собачкой приводила другого повстанца, — у этого и голова, и подбородок, и щеки были гладко выбриты, и он явно принадлежал к народной армии, то есть сражался на противоположной стороне. Что называется, двойная игра. Иногда два повстанца-противника встречались в гостях у дамы, но, по всей видимости, учитывая, что наш дом — ничейная земля, или, иначе говоря, нейтральная территория, они отлично ладили все втроем. Я думал о подземных трубах и кабелях, подававших нам из центра города тепло и свет. Как, наверное, издеваются надо мной бывшие сослуживцы! Конфликт в нашем предместье тянется уже так долго, что за это время они там у себя в центре вполне могли разбить новые парки с прекрасными лужайками. Небось уже и деревья выросли, все выглядит красиво и весело. А я заперт в этом опасном предместье, где бушует гнев, и ярость, и кровь, и смерть. С некоторых пор начали постреливать и по моим окнам. Взяли на заметку как опасного нейтралиста? Но я же ничего не понимаю в их борьбе. И все же у них на то были, вероятно, свои причины. Как-то раз, свыкшись уже и с шумом, и с опасностью, я читал старую газету, еще с довоенных времен, и вдруг мне захотелось по малой нужде, и я вышел. Послышался звон бьющегося стекла, и, вернувшись, я обнаружил на кушетке разорвавшийся снаряд — ровно на том месте, где недавно покоился мой зад. Мне захотелось принять меры, чтобы такие инциденты не повторялись. Надо было создать видимость, что моя квартира необитаема. Я загородил окна матрасами и диванными подушками. Все наглухо заткнул. Чтобы наружу не пробился ни единый лучик света. Я решил поселиться в задней комнате, которая выходила окном на двор. Там было тихо. Света хватало, ведь я жил на четвертом этаже, а поскольку окно смотрело на юг, то иногда и солнце заглядывало. Солнечный луч, лучи. Малых детей всех отправили за город или в пансионы в центре города. С ними уехали родители. Дети старше двенадцати были мобилизованы, сказала консьержка, в подтверждение своих слов показывая мне газету повстанцев, — эта газета валялась у входа в дом. Одни дети уехали учреждать военную или полувоенную организацию «Когорта парижских гаврошей», другие, при другой партии, — «Легион новых Жозефов Бара».[38] Еще была третья группировка — «Бойскауты предместья». У этих было задание подбирать и выхаживать раненых с обеих сторон, а также воровать кур и другую живность, в обмен на которых они выдавали владельцам талоны, опять-таки в пользу бойцов обоих, или трех, или даже четырех лагерей. Внутренний двор, видный мне с высоты четвертого этажа, был усыпан мусором, из которого образовался холмик, поросший травой и несколькими деревцами, уже начинавшими цвести. Я без помех швырял туда же свои отбросы, и они превращались в растения, в цветы, в траву. По всему моему коридору было столько мешков с провизией и бутылок, что мне пришлось выстроить их вдоль правой и левой стенки, чтобы образовалась тропинка, по которой могла пройти и консьержка — последняя ниточка, связывавшая меня с бушевавшим вокруг миром пороха и огня. В задней комнате я поставил кровать. Это был оазис, маленькая Швейцария. Не исключено, что выйти отсюда мне придется не скоро, но по крайней мере есть где отсидеться. Как спокойно было в этой комнатке! Какое блаженство замечать, что за безмолвными окнами никого нет! Я знал, что здесь мне будет хорошо, и у меня будет вдоволь времени мечтать и прикладываться к спиртному сколько душе угодно.
Время шло. Пролетали месяцы. А может, годы. Время от времени консьержка приносила мне лубочные картинки с изображением воинов революции при карабинах, в бородах, в колпаках, а иногда без бород и без колпаков. Это уже вошло в историю. На одной картинке была запечатлена героическая смерть Жозефа Бара — он падал, пронзенный штыками. На другой я увидел Гавроша с руками, воздетыми к небу, сраженного пулей. А поодаль — злодеи, продолжавшие в него стрелять. Злодеи были в каких-то зеленых мундирах. Однажды консьержка объяснила мне, что на нашей улице наконец взорвали дома. Вот почему мне недавно чудилось нечто вроде подземных толчков. Я напрягал слух, но стреляли явно где-то вдали. «Верно, — подтвердила консьержка, — теперь стреляют только на большой площади. И даже там уже все меньше и меньше. В промежутках между выстрелами или в минуты затишья люди ходят по своим делам». Я поинтересовался, что теперь с моим рестораном. «От него ничего не осталось, мсье, — сказала консьержка, — от всех тех домов ничего не осталось». Наш дом и два-три соседних оказались единственным уцелевшим островком. Теперь на моей улице жило не так много народу. Пенсионеры, седой русский, дама с собачкой, — остальные все умерли. Не обязательно из-за гражданской войны, кто-то от старости, кто-то от инфаркта и от других болезней. «Но потом все восстановят. Будет людям работа. Знаете, сколько теперь стоит квадратный метр земли на нашей улице?» Консьержка тоже умерла. Вместо нее стала приходить ее дочка. Я заметил это не сразу. Кто-то приносил продукты. Уносили пустые консервные банки, но меня беспокоили редко, а скоро и совсем перестали.
Комната у меня была светлая. Много света. Я каждый день заставлял себя добираться до ванной, мыться, бриться. Но в пасмурные дни не брился. Потом возвращался назад по узенькой тропинке, проторенной мною между грудами продуктов и бутылок, и опять ложился в постель. Позже стелил, подметал, отворял дверь, выносил в коридор грязное белье, брал чистое. Все это занимало массу времени и настолько утомляло, что потом я с полным правом укладывался в кровать, с которой было видно небо и потолок. Я ждал. Ждал, сам не зная чего. Но ждал напряженно, нетерпеливо. Когда, примешиваясь к синеве, по небу пробегали легкие тучки, я пытался что-то истолковать, что-то прочесть на небе. Я не чувствовал себя несчастным, как раньше. Годы не то принесли мне мудрость, не то усмирили силы, которые во мне когда-то бурлили и бушевали. Но, правда, и счастливым я себя тоже не чувствовал. Как вышло, так вышло. Внутри большой всемирной тюрьмы я устроил себе тюрьму поменьше, по своей мерке. Устроил себе уголок, в котором можно жить. Совсем маленький уголок. Я это понимал. Но хотя бы по моей мерке. Маленький уголок на каторге, укрывавший меня от каторги. Причем каторга — без работы. Что мной владело, скука? Или смирение? Скорее, усталость. Но я мог прилечь в любую минуту, в любую минуту. Я проводил в кровати целые часы, целые дни. От меня не требовалось никаких усилий, никаких — только ожидание. Глядя на небо, я всегда пытался разглядеть, что там, по ту сторону. Существует ли на самом деле «я»? А между тем «я» — вот оно, между двух бесконечностей, большой и малой. Что я такое? С одной стороны, точка. С другой — нагромождение миров. Во мне рождаются, достигают расцвета, клонятся к упадку, умирают целые вселенные. Я — миры, для космических систем я — миллиарды веков. Я — миллиарды и миллиарды километров для неведомых существ, которые суетятся во мне, негодуют, восстают, сражаются, любят и ненавидят друг друга. Да, все это во мне есть.
Мой дом и два-три соседних представляли теперь островок, окруженный обширной стройкой. Все, что было разрушено, теперь восстанавливали. Для того и разрушают, чтобы восстанавливать. А восстанавливают, чтобы потом разрушать. Стены соседних зданий защищали меня от шума строительства. К тому же у меня был свой метод. Я не боролся с шумом, не затыкал ушей, не раздражался, не бушевал. Наоборот, слушал как можно внимательнее. Это было вроде музыки. Это меня не взвинчивало, а приносило отдохновение. Иногда выдавались прекрасные деньки. Может быть, потому, что я жил в южном предместье, а здесь погода лучше и теплее, чем в северном. Однажды утром, ближе к полудню, глядя, как частенько бывало, на синее небо над крышами, я заметил трещину, еле заметную щель, которая бесшумно пролегла по лазурному своду от края до края. Трещина лучилась светом — ярче дневного, и синева была, как бы это сказать, синее небесной синевы. Во мне шевельнулась надежда. Со стройки как ни в чем не бывало долетал обычный шум. Конечно, не у всех есть время смотреть на небо, причем смотреть внимательно. Но люди вообще не поднимают глаз. Им некогда перевести дух — работа, дела… Я смотрел на небесную расщелину. Глазам было больно, но я не отводил взгляда. И сияющий луч, свет на фоне света, медленно исчез, постепенно, так же как возник, и бесследно. Позже полоса показалась на звездном небе, шире, чем днем. Она была как застывшая молния от одного края горизонта до другого. Звезды рядом с ней побледнели, казалось, они угасали; а между тем сама эта черта, сиявшая ярче, чем два солнца, вместе взятых, протянулась из звезды, из одной маленькой звездочки. И снова на меня нахлынула радость. Я принял это не как угрозу, а как обещание. Потом взошла заря, черта исчезла с неба, и заря показалась мне серой. Около восьми молодая консьержка принесла мне кофе, у нее-то не было привычки глазеть на то, что творится над крышами. Она ничего не видела. Во-первых, по ночам она спит. А днем слишком много хлопот. У нее работа. Она посмотрит на небо в воскресенье. С другой стороны, ни жильцы, ни строители, среди которых у нее есть друзья — и она с ними виделась, когда ходила за хлебом, ни, кстати, булочница, — никто ей ни о чем подобном не говорил. Только я один. Я сказал ей, что в воскресенье это явление может и не повториться. — У меня снов наяву не бывает, — огрызнулась она. — Уверяю вас, — возразил я, — я это видел своими глазами. — Но я же вам говорю, никто из моих знакомых ничего мне об этом не говорил. Она попросила меня выписать чек, чтобы она могла купить продуктов. Кроме того, сообщила она, нужен изрядный аванс на устройство лифта — на лифте настаивают новые квартиросъемщики. Он бы и мне очень пригодился, многозначительно добавила она, если бы я дал себе труд побольше двигаться. Мое отшельничество ничем не оправдано. Опасности давно нет. Время от времени она еще слышит отдельные взрывы, далекий грохот бомб. Все это обошлось людям довольно дорого, но теперь в квартале спокойно. Революция переместилась к центру города и в северное предместье. — Довольно мы попыхтели, теперь их очередь. Весь день, и в следующие дни, и в воскресенье, облокотившись на подоконник, я смотрел на небо над крышами в надежде, что явление повторится. Несколько воскресений, несколько недель кряду. В вышине больше ничего не происходило.
Я вновь привыкал к обыденности дневного света. И мне стало скучно. Я даже подумывал, не выйти ли мне из квартиры. На месте старого ресторана уже, вероятно, отстроили новый. Я пережил неприятные минуты: пробрался вдоль длинного коридора, с обеих сторон загроможденного продуктами, подошел к двери, отворил ее. Спустился по лестнице, удивляясь, как это, оказывается, легко. Прошел мимо швейцарской, консьержки на месте не было. Прежняя всегда была на месте. Никогда не отлучалась. Другие нравы. Шагнул раз-другой по тротуару. Я не узнавал домов. Все они были новенькие, высокие, одинаковые. Нашу улицу пересекала другая, новая. Она возникла на месте разрушенных домов. Теперь путь до проспекта стал короче. Особняков с садиками и двориками больше не было в природе. Новых соседей я не знал. Издали в самом деле доносились разрывы бомб. Я добрел до ресторана. Там был прежний хозяин, вернулся на старое место. Правительство, за которое или против которого он сражался, вернуло ему прежнее заведение в обновленном виде. Он очень постарел, стал хромать. Я и сам, вероятно, здорово постарел, потому что он меня не узнал. В зале было полно молодых посетителей, они веселились вовсю. Это была совсем не та публика, что прежде. Одни играли на гитаре. Другие пили безалкогольные напитки. Все громко смеялись. Многие сидели развалясь и задрав ноги на стол. Мир помолодел, подумалось мне, а я постарел. Они тоже постареют. — Знаете, — сказал я хозяину, — я тот человек, что ходил к вам и садился вот сюда, где теперь пластиковый стол, за которым устроились те ребята. — Да-да, припоминаю, — ответил старик. — Нет, официантки у меня больше нет. У нее небось дети уже выросли. А может, и внуки есть. Выпейте со мной. Я скоро ухожу на покой. А вы как, работаете? — Вы же знаете, я вышел в отставку еще совсем молодым. Я давным-давно ушел на покой. — Повезло. Значит, живется вам неплохо. А на вид одряхлели. Эх, это дело никого не минует. Может, вы бы лучше сохранились, если бы работали. Когда уходишь на покой, непременно надо найти себе занятие. Сменить профессию, вот что. Переучиться. Помните: гражданская война, баррикады, о-ля-ля, хорошее было времечко. Стреляли прямо у нас в ресторане. — Знаю, прекрасно помню, это было как раз при мне. — Ах да, как же я забыл. Вы еще получили страшную зуботычину. Да, чего не бывает в жизни. К счастью, хорошее вино осталось, — сказал он, разливая вино у стойки. — Стойка осталась, вино осталось. А вот камамбер уже не тот. Хорошего камамбера не стало. Его теперь делают фабричным способом. Так легче. Молодежь обленилась. Эти не дадут себе труда пострелять, не то что в наше время. А может, и они тоже могли бы. Хотя кто его знает, что людям втемяшится. — Да уж. В каждом из нас есть склонность к агрессии. Она может пробиться наружу в любую минуту. Когда я выходил, молодые люди обернулись и проводили меня насмешливыми взглядами. Они подталкивали друг друга локтями, перемигивались. Скорее всего, потому что я был одет по старой моде. Или принадлежал к другому миру. А может, вообще умер. Знать бы, остались ли еще буржуа? Тогда я — один из них. Или ни буржуа, ни всего прочего больше нет? Я изо всех сил заторопился домой. Хватаясь за поясницу, поднялся по ступенькам, отворил дверь, запер за собой на ключ и, не заглянув в гостиную, пошел в спальню. Мало-помалу опять вернулись звуки. Они доносились словно издалека. Но все же явственно слышалось — буры, отбойные молотки, бетономешалки, подъемные краны. И песни, и голоса рабочих. Звуки были очень глухие, и я подумал, что слух у меня сильно сдал. Новый мир, строится новый мир — так они, наверно, себе говорят. А мне подумать об этом — и то утомительно. Вероятно, консьержка на меня злится. По три раза в день взбираться по лестнице, приносить мне еду, белье, исполнять поручения, — масса работы. Она попросила прибавки. «Жизнь так вздорожала, деньги теряют в цене». Я согласился. Меня охватила паника. Неужели придется опять наниматься на работу? Это было бы ужасно. Да я и сомневался, справлюсь ли. Далеко не сразу я решился, написал своему нотариусу, написал в банк. Ответы меня успокоили. Мои деньги в обороте. Доходы растут. Все-таки я решил на всякий случай бросить курить. Без алкоголя я не мог, но дозу значительно сократил. Мясо — только дважды в неделю. Стал меньше есть. Консьержка рассказала, что в недорогом ресторанчике по соседству отпускают обеды на дом. Это было мне больше по вкусу, чем консервы и жаркое, приготовленное консьержкой. К тому же хотелось избавить ее от лишней работы, поберечь ее время. Ей приходилось, помимо прочего, присматривать за малышами своей сестры — та была замужем и работала на стройке. Муж болел, пособия на все не хватало. Я изо всех сил старался утихомирить консьержку, но она все ворчала, хлопала дверью, смеялась мне в лицо. Я даже пытался немного с ней поболтать. Но моя напускная жизнерадостность, мои шуточки, похоже, были ей не по вкусу. Очевидно, ей казались странными мой образ жизни, мое поведение, мое затворничество. Она намекала на мое безделье, а потом принялась прямо меня попрекать: «Не собираюсь от вас скрывать, у меня что на уме, то и на языке, я прямо в лицо говорю людям все, что думаю». Чтобы не слишком ее раздражать и хоть немного умаслить, я каждое утро тщательно умывался и одевался. Виски у меня поседели. Как много времени прошло… По ее мнению, я не имел права жить на покое, не заслужил: «Тем более — что вы в жизни сделали? Ничего не сделали. Какой от вас толк?» А если бы и был толк, то что толку? Этой проблемы я с ней не обсуждал. — Скоро вам придется переехать, все дома в округе, и наш в том числе, идут на снос — это последний островок старья. Построят новые, современные здания. — Современные тоже быстро состарятся. Мы и ахнуть не успеем. Она не отвечала, пожимала плечами. Мой дом скоро снесут? Это меня слегка встревожило. Но я успокоился. Эта угроза нависла уже Бог знает сколько времени назад. Дело, скорее всего, затянется на годы. А потом, я ведь могу и не согласиться. Я — владелец квартиры. Правда, есть такая вещь, как общественные интересы. Меня могут заставить. Но не сразу же.
А что сталось со всеми остальными людьми? Со служащими в конторе, моими прежними сослуживцами, моими былыми подружками? Умерли, или стали тещами и свекровями, или нянчат внуков. Не повидаться ли с ними? Интересно, по-прежнему ли в их части города, в центре, идет гражданская война? Как бы узнать? При мысли о прежних временах на меня нападала печаль, тоска по прошлому. Да, тоска по старому бистро, по аперитивам с хозяином распивочной, с моим прежним сослуживцем… Как его звали? Жак? Кажется, Жак. Нет, Жаком звали мужа Люсьенны. Может, Пьер? Пьер, а как дальше? Фамилия у него начиналась на «Б» — а точно ли на «Б»? Что-то вроде «Буль». Фамилию патрона я забыл начисто. Память совсем сдала. А ведь все это было не так уж давно. Не так уж давно. Хотя нет — давно. Моя молодость. Старые улицы, старые парижские улицы, прекрасный Париж. Он был прекрасен по воскресеньям, когда я присаживался на террасе кафе или ресторанчика и глазел на прохожих. Мои номера. Откроешь, бывало, окно и смотришь на кишащих внизу людей. Это было до войны. А потом была та официантка, Ивонна. О ней я жалею больше всего. Да, не вернуть тех дней! Я философствовал. Что там было еще? Дождь, солнце, кино. В кино я ходил редко. А как много интересных фильмов! Слишком поздно. Я бы многое мог узнать из тех фильмов. Ничего бы не узнал. Что из них узнаешь? Память, память, чего ты от меня хочешь? А главное, в городе были огни, ночь. Серое небо, серые дома, серые люди. Но ведь когда-то была и ослепительно белая дорога. В тот день было очень светло. Это было не в городе. Да, куда-то я ехал, в машине, с Люсьенной. С Люсьенной? Меня очень удивило, что природа такая разноцветная, красные маки среди колосьев. Мы вышли из машины, прошлись пешком сотню-другую метров по пустой дороге, а в конце дороги была зеленая листва, пронзенная солнечными лучами. Мы вышли в пшеничное поле. Были и еще воспоминания, их пересказывали мне другие люди. Мой сослуживец в конторе, постойте, как же его звали, он когда-то совершил долгое путешествие по Бельгии на автобусе. Давно, еще в молодости. Было очень весело. Все смеялись, болтали, пили вино, доставая его из мешка прямо там, в автобусе. Пересекли границу. В автобус вошли не то таможенники, не то полицейские, спросили паспорта. И они покатили дальше. Пруды, маленькие городки с домами из красного кирпича. Прибыли в Брюссель. Как только въехали в город, у самого вокзала хлынул ливень, Боже, ну и ливень! Вышли из автобуса и бегом побежали через улицу, укрылись в узком и длинном кабачке с крашеными деревянными столами. Пили пиво, знаете, это особенное бельгийское пиво, «гёз», много выпили, ужасно развеселились. Было очень забавно. А потом поехали в Антверпен. В припортовых улочках дома были островерхие, совсем не такие, как у нас. В витринах торчали женщины. Квартал был опасный. Часто случались потасовки. Но за время, что они там бродили, ничего не произошло. Он был бы не прочь посмотреть. Это им ничем не грозило — у них была огромная компания. На каждом углу торчали полицейские и смотрели за порядком. Бельгийские полицейские. А еще я помнил девушку, которая умерла в девятнадцать лет. Гроб окружали груды цветов и венков. Цветы всех оттенков. Я не удержался и понюхал эти цветы. После этого у меня притупилось обоняние. Говорят, так бывает с теми, кто нюхает цветы, принадлежащие покойнику. Долгое время я чувствовал только дурные запахи. Потом обоняние вернулось, хоть и не полностью. В детстве у меня был очень острый нюх. Мне завязывали глаза, и я узнавал товарищей по запаху их пальтишек. Стопроцентное обоняние ко мне так и не вернулось. Неправда, не все было серым. Хотя ярких воспоминаний немного, от силы два-три, а остальное — грязная мостовая, влажный булыжник, ночь. А еще меня неотвязно преследовал образ мамы. Щуплая, с проседью, в сереньком платье, с серым цветом лица и с честолюбивой мечтой, чтобы я «вышел в люди». Разве в наших силах куда бы то ни было выйти? А потом контора, списки присутствующих, политические споры с сослуживцем, ссоры, примирения после работы, в сумерках, за аперитивом. Сколько темных промежутков, какая темнота — все потому, что я перебирал спиртного, а спиртное стирает образы. То тут, то там смутный свет, полусвет в пелене темноты. А еще были революции, и гражданские войны, и та зуботычина. Много всего происходило вокруг меня. Без меня. Хотя мне было интересно. Были трупы. Были революционные марши, гневные люди. Убитый юноша на тротуаре, окруженный соседями с той самой улицы, которая потом так изменилась. Те старички, пенсионер с женой, — такие худенькие, тщедушные. Неужели все это было? Все прошло, как не было. А у того седоусого старичка, кажется, была еще борода? Или маленькая бородка? Или только усы? Какая была славная улица до революции, мирная, с теми старичками, с тем хромым русским. Я ее недооценивал. Слонялся по всему кварталу. Там был проспект, высились заводы, а наша улица жила как-то в стороне. Мне бы следовало гулять по ней гораздо чаще, использовать эту возможность. Надо было сходить повидаться с друзьями, навестить сослуживцев по конторе. Я ведь и собирался. Да, все исчезло. Всё. Я чувствовал какое-то странное сожаление, горечь, подступавшую словно из желудка. Я столько всего видел. Ружья, поднятые кулаки, вытянутые руки, всевозможные салюты. Трогательно. Жизни, которую я вел у себя в квартире, не хватало разнообразия. Я очень скучал. Как права была Ивонна, что ушла. Ивонна или Мари… Я сам снес ее чемоданы на улицу, помог водителю поставить их в багажник. Прекрасно помню. Не такая уж у меня скверная память. Что еще было? Что еще? Учитель в школе, он был директором, седина в волосах, черные усы. «Я всего добился своими силами, я сам себя воспитал», — думал я, а потом услышал: «Из вас ничего не выйдет, друг мой, попомните мои слова, я не вечен, но из вас, попомните, ничего не выйдет». Он ткнул в меня пальцем, обращаясь к маме. «Из него ничего не выйдет», — безжалостно сказал он, не оставляя ей иллюзий, и плевать ему было, что у нее на глазах слезы. Но главное, я ощущал, что мне чего-то не хватало. В сущности, хорошо было бы, да, если бы я мог чем-то заполнить каждое мгновение. Я даром растратил поток жизни. Это все равно бы кончилось. Но сохранившиеся у меня воспоминания превратились в картинки в рамах памяти. Картины, немного расплывчатые, немного потемневшие от забывчивости. Забывчивость была как черные пятна, скрывавшие от меня изображение. Вечно это чувство, будто чего-то не хватает, постоянно не хватает. А чего не хватало? Чего же мне не хватало? Я хотел знать все. Этого мне и не хватало. Знания. Знания обо всем. Я был невеждой, но не настолько, чтобы не чувствовать своего невежества. А ученые — знают ли они хоть что-нибудь? Хватает ли им этого? А что сверх того? Может быть, деревья знают больше. Многое знают животные. Я не сделал ни малейшего усилия, потому что чувствовал, что узнать ничего невозможно. И с этим я не мог примириться. Может быть, в один прекрасный день люди узнают всё. Другие люди. На мне тяжким грузом лежала усталость. Усталость бессилия. Да, были миллиарды и миллиарды людей. Миллиарды людей жили на свете — и всеобщая тоска. Каждый, как Атлас, нес на себе всю тяжесть мира, каждый, словно один на свете, изнемогал под бременем непознаваемого. Утешала ли меня мысль, что самый великий ученый — такой же невежда, как я, и сознает это? Но так ли это?
Как-то утром меня разбудило птичье чириканье. Я распахнул окно — к нему тянулось дерево, все в цвету, все в белых цветах. До одной ветки было рукой подать. Синие и зеленые птицы взлетали и вновь возвращались на это дерево незнакомой мне породы. Правда, я, старый горожанин, в природе не разбирался. Горы мусора на дворе превратились в лужайку, а на ней выросло дерево. У него был гладкий ствол, который на уровне моего этажа венчался ветками и цветами. Я сорвал три непорочно-белых цветка с той ветки, до которой мог дотянуться. «Посмотрите! — закричал я. — Посмотрите!» Мне ответило только эхо. В дверь тихонько постучала консьержка. Я отворил. Отметил, что она стареет. — Какое красивое дерево на дворе, — сказал я. — Выросло за одну ночь. Посмотрите сами, если не верите! Слышите птиц? — Ничего не слышу, — возразила она. Нехотя подошла к окну. — Нет никакого дерева, — сказала консьержка. — Что вы мне тут рассказываете? Я тоже выглянул из окна и убедился, что дерева больше нет. — Но вот же цветы, я сорвал их с ветки! Вот они, видите? — Я положил их на стол. Она посмотрела: — Да, в самом деле цветы. Я таких никогда не видела. Откуда вы их взяли? — С дерева, с того дерева, про которое я вам сейчас толковал! Она снова посмотрела на три цветка. Поставила их в стакан с водой и ушла, пожимая плечами, молча. Я был разочарован. Куда девалось дерево? Оно же только что было здесь, свидетельство тому — эти три цветка. Я их трогал, вдыхал их аромат. Консьержка их тоже видела. Это было странно, и все же мне стало спокойнее. Я опять пошел к окну. Какая-то дрожь пошла по окружавшим меня стенам и крышам, яркая дрожь, переходившая в ослепительный свет. Стены и крыши словно распадались на части, их очертания расплывались. Они утратили плотность, стали, как мне показалось, невероятно хрупкими. Они превращались просто-напросто в завесу, которая становилась все прозрачнее и прозрачнее, в полутени, в постепенно исчезающие тени. Я увидел, как они слегка качнулись влево, вправо, задрожали, словно отражения в проточной воде; увидел, как они стали морщиться и потихоньку отдаляться. И исчезли в ослепительной дали, растаяли прозрачным дымом. Перед моим взором простерлась пустыня, безграничная пустыня под ослепительным небом, залитая жгучим солнцем до самого горизонта. Повсюду только песок, искрящийся на солнце. Моя комната словно парила в тишине — точка в необъятном пространстве.
Перед этим на долгие минуты установилась тишина; лежа на кровати, я смотрел на двустворчатый платяной шкаф, стоявший у дальней стены. Дверцы распахнулись. Они были похожи на две створки огромных ворот. Я больше не видел ни одежды, ни белья. Только голая стена. Потом и стена исчезла. Распахнутые створки преобразились в две золоченые колонны, на которых покоился очень высокий фронтон. На месте стены медленно складывались образы. Все наполнилось мощным свечением. Появилось дерево, увенчанное цветами и листьями. Потом другое. Еще одно. Множество деревьев. Целая аллея. Из-за деревьев бил свет ярче дневного. И это все приближалось, это заполонило собой все. Как это умещалось в моей комнате? Оно было гораздо больше комнаты. Я не чувствовал ветра, от которого дрожали ветви, дрожали белые и синие цветы. Хотя нет — подул как будто легкий морской ветерок Был луг. Какая прекрасная трава! Для кого этот луг, сад, свет? Деревья, выстроившись в ровную прямую линию, уходили вдаль. В середине возникло еще одно дерево. Дерево или большой куст? Справа от него, а от меня слева, повисла, на метр не доставая до земли, серебряная лестница, теряющаяся в синем небе. Я долго вглядывался в нее, не смел встать, подойти ближе, боясь, как бы все не исчезло. Я легко мог дотянуться до куста, дотянуться до лестницы. Свет был очень сильный, но глазам не было больно. Сверкали ступеньки. Сад приближался ко мне, окружал, я был частью этого сада, я был в самой его середине. Проходили не то годы, не то секунды. Лестница придвинулась ко мне. Теперь она была почти у меня над головой. Проходили не то годы, не то секунды. И все стало удаляться, растворяться в воздухе. Исчезла лестница, потом куст, потом деревья. Потом колонны и триумфальная арка. Осталась только частица проникшего в меня света.
Это был знак, и я его понял.
Перевод Е. Баевской выполнен по первому изданию романа.
ПОСЛЕДНИЕ СТРАНИЦЫ
{10}Жестокая правда старости
Я взбешен. Я и ждал этого, и не ждал. Ждал, что волосы у меня поседеют, что при ходьбе буду помогать себе клюкой, но не ждал умственной деградации и до сих пор к ней не готов. Лет в двадцать, в тридцать каждый знает, что будет потом, знает и как бы не знает. Все равно с этим миришься, потому что есть инстинктивная воля к жизни, страх смерти, который сильнее пыток, сильнее болезней. В молодости, да и позже, все, естественно, знают, что потом состарятся, знают и не знают. Чтобы понять, что такое старость, надо состариться. Знаю, бывает хуже: рак, неизлечимые болезни, или когда на тебя ополчится всякое отребье, или пытки. Да, бывает и хуже, и это «бывает хуже» вколочено в нас, оно сопротивляется пытке, сопротивляется смерти. На меня накатывает нежность пополам с печалью, когда я беру за руку мою милую, славную жену, у которой были такие милые, прелестные ручки. Сейчас руки у нее больные, а у меня тоже болят и руки, и ноги (я еще не сказал, что не могу ходить из-за артроза). Да, это не самое худшее, но и это не пустяк, а когда я беру за руку мою бедную жену — у нее были такие изящные, такие белые ручки, — когда я беру ее за руку и вспоминаю, какие были белые, изящные ручки, на меня накатывает горестная, болезненная нежность, и мне так хорошо с ней, с тремя ее горбами, с тремя этими трогательными искривлениями. Бедная, она словно врастает в землю. В сущности, Бог скрыл от нас правду. Все удивляются, почему подросток, взрослый человек, прямой и стройный, делается таким сгорбленным, таким скрюченным и не убивает себя: это необъяснимо. Нельзя отрицать, да, нельзя отрицать, что, кроме отвращения к жизни, есть еще одно чудо — любовь. Я понимаю так: если я чего-то добился, если есть во мне что-то, сделавшее меня одним из великих писателей нашего времени, — я понимаю так, что за все это я должен платить. И уж во всяком случае надо платить за то, что живешь. В одной из своих пьес Беккет вкладывает в уста некоего персонажа слова, относящиеся к другому персонажу: «Он страдает, следовательно, он живет». Жестокая прописная истина: рано или поздно она открывается каждому. Страдание непостижимо. Почему святая Тереза из Лизье страдает из-за своей любви к Богу? То же самое со святой Терезой из Авилы[39]. Я говорю банальные вещи, не спорьте, крайне банальные, банальнее быть не может, пока жизнь бьет ключом. А если я доживу до ста лет — какой ужас и какое счастье. Хочу я этого или не хочу — а я и хочу и не хочу, — при мне моя дочь, бедная моя дочурка, и она яростно борется за мою жизнь, разыскивает лучших врачей, лучшие лекарства и выхаживает меня, выхаживает, выхаживает. Она занимается только нами двумя — своей матерью и мною. …Этот негодяй Жан Жене. Парадоксы о предательстве, лишь бы эпатировать буржуа. Он приписывает одному из своих героев такие слова: «Стрелять по своим товарищам — это был великолепный трюк», и так далее. В конечном счете он и прав, и не прав, но я предпочитаю «Лысую певицу», это было прославление глупости… У нее были маленькие, очень белые ножки, я называл их «белыми мышками». Теперь ступни у жены искривлены артрозом. Есть он или нет его — все равно надо будет призвать его к ответу. Морис де Гандильяк[40] говорит мне, что Бог не надо всем властен, что Им создано. В кратком виде это именно то, что думаю я сам, так оно и есть, но это чересчур кратко. Мне трудно сказать и выдумать что-то еще. Я словно бегун на большие дистанции, который, запыхавшись, прибежал к финишу. В голову приходят кое-какие мысли, сформулирую завтра. Я в отчаянии от седых волос Жана Маре и Мишель Морган, от седых усов Мишеля Серро[41]. Жан Маре, Мишель Морган, Мишель Серро смиряются с сединой, как будто стареть «естественно». Они принимают свою судьбу с радостью. А я думаю, что это неприемлемо, что все это неприемлемо, что жизнь неприемлема. Нельзя изменить законы, но восстать против них можно. Все человечество должно было бы восстать против этих законов. И вот что докучает мне не меньше старости, не меньше болезней: скука. Сегодня я скучаю меньше, чем в другие дни, вероятно потому, что мне удалось записать эти несколько мыслей, что-то сказать, что-то сказать. Скука слабеет, если стоять или сидеть; она зависит от позы. Лежать — это хуже некуда. Скука бегает, как волна, волна скуки. Я буду стонать скорее от скуки, чем от боли, а когда к скуке добавляется тоска, неумолимая тоска, неумолимая тревога, от этого нет спасения. Я перестал радоваться — вот чего мне больше всего не хватает. Разве можно так жить? Не можешь, а живешь… Рождаешься, чтобы умереть, умираешь, чтобы быть. Рай: место, где нет смерти, место, где все живое, вечная жизнь, в которой все существует. Здесь, вне какого бы то ни было Эдема, то есть в том месте, которое называется «везде», люди рождаются, чтобы умереть. Все создано для того, чтобы прийти к концу. Рождаешься, растешь, живешь, вся природа живет и фантастической лавиной летит навстречу смерти, навстречу небытию. Я пью чашку кофе, чтобы испить ее до дна. Хожу в школу, чтобы ее окончить. Иду на спектакль, чтобы досмотреть его до конца, и так далее. Впрочем, известно, что всему на свете бывает конец. А умираешь, наоборот, чтобы родиться. Значит, смерть, наверно, это что-то вроде перехода к жизни, да, рай, должно быть, и есть место, где все существует. Агония: муки рождения?Мое прошлое от меня отделилось
В старости нельзя ожидать, что здоровье наладится. Какое лекарство ни принимай, дела все равно идут хуже и хуже. Есть люди, сотканные из собственного прошлого. Мне кажется, что мое прошлое в каком-то смысле от меня отделилось и мне не принадлежит. А ведь я знаю, что это я написал «Лысую певицу», «Стулья» и так далее и что у меня уже давно есть дочка по имени Мари-Франс и жена по имени Родика. Но прошлое не определяет моей сути. Тот я, который живет теперь, поглотил все остальное. Час — не для всех один и тот же час. Восприятие времени бывает разное, иногда час равняется двадцати, тридцати минутам или четверти часа, а иногда, наоборот, тянется намного дольше. Объективного времени не бывает, или, по крайней мере, не бывает объективного восприятия времени. Когда я скучаю — а я скучаю нередко, — время тянется, тянется, тянется. Иногда время идет, а иногда и стоит на месте. Когда ждешь хоть десять минут — это дольше, чем час, проведенный без скуки. Старик и причиняют много зла, старухи — колдуньи: их обвиняют в мелких пакостях и в уродстве. Бедные старухи. От старости никогда не излечишься, не то что от гриппа. Через некоторое время, вместо того чтобы поправиться, попадаешь в те же капканы. Отделаешься от какой-нибудь хвори, но все равно можешь быть уверен, что старость и дальше будет творить разрушения. С тех пор как я родился, мною владеют восхищение и страх. Что сильнее? Для меня сейчас — страх. Сиделка говорит: «Страдание — вот что меня удивляет. Если у человека есть вера, зачем ему так страдать? Это удивляет меня все больше и больше, все больше и больше. Читаю святую Терезу из Лизье, читаю книги святой Терезы из Авилы и удивляюсь, удивляюсь». Живу между удивлением и страхом, восхищением и ужасом. Жена говорит: «Ты даже не представляешь, как я тебя люблю. Когда ты умрешь, я тоже сразу умру». Правильно, я и должен уйти первым. Не могу больше жить. Руки, пальцы на руках, ноги — сегодня все это чинит мне почти неодолимые проблемы. Завтра вообще ничего не смогу. Спрашиваю себя: куда они все делись? Сказать, что их нигде нет, легко. Сказать, что они где-то есть, невозможно. Мы все втроем — в очень незавидном положении. Как с нами поступят? Или как Он с нами поступит? Чем больше об этом думаю, тем больше удивление и ужас. Этой ночью мне снилась жена. Ей снилось, что я умираю, и лицо у нее было искаженное, подурневшее, но любимое, как никогда. Она проснулась, чтобы сказать мне: если я умру, она меня не переживет. О старости говорят мало. Те, кто мог бы поговорить о ней со знанием дела, слишком стары. Старость не существует в письменном виде. Отвращение к кюре и прелатам с их дубовым языком, но все-таки они в себе уверены и знают, как выстоять и в молодости, и в старости. Какая польза от того, что стареешь? Смотришь, как стареют другие. Два года я не видел одного хорошего друга. Два года прошло — и я увидел его постаревшим: седина, одутловатость, и лицо уже отсутствующее. Каждый миг нашего старения можно было бы отметить, сравнив его с предыдущим. Наше самое важное переживание в жизни — это старение, понимание того, что стареешь. Я постарел со вчерашнего дня, с прошлого года, постарел за последние десять, двадцать лет. Вот самое важное, что я сделал в жизни:состарился.Господи, сделай так, чтобы я в тебя поверил
Массаж не помогает. Вот сию минуту мне, несмотря ни на что, так больно, что трудно писать. Когда испытываешь такую боль, мысли разбегаются. Скоро пять часов, ночь приближается, ненавижу ночь, но все-таки иногда она приносит мне такой блаженный сон. Мои пьесы играют чуть не по всему свету, и я думаю, что люди, которые ходят их смотреть, смеются или плачут, не зная настоящих страданий. Понимаю, что скоро это кончится, но, как я уже сказал, каждый день — это выигрыш. Жена мается глазами, и мне от этого еще тяжелее. По-моему, я знаю, где я, хотя чуть-чуть притворяюсь, что не вполне в этом уверен. И все-таки знаю. В кресле, из которого мне так трудно подняться без помощи моей жены, худенькой и хрупкой, или дочки, или, что лучше всего, с помощью более крепкой женщины, нашей помощницы по дому, так их теперь называют.* * *
Иногда меня навещают друзья, несколько верных друзей. Мне очень приятно их видеть, но через час я уже устаю. Что хорошего я делал раньше? Думаю, зря тратил время, плыл по течению. В голове пусто, и трудно продолжать, не из-за боли, а из-за экзистенциальной пустоты, которой полон мир, если можно сказать, что мир полон пустоты. Кроме кофе с молоком, в моей жизни есть только два обожаемых существа, да еще, если позволительно сочетать это вместе, обеды и ужины, которые, заодно с завтраками, остаются великими событиями моей жизни. Думаю о том, что вот сейчас я встану, но не имею понятия, что мне делать со временем, остающимся до половины седьмого или даже до семи, когда будет ужин, и, как всегда, думаю о том, что, может быть, умру сегодня вечером или, в лучшем случае, завтра или послезавтра. Или даже — кто знает? — еще позже. Когда я не думаю о самом худшем, то скучаю, скучаю. Иногда мне кажется, что я думаю, иногда — что молюсь. Вот сейчас ко мне пришел друг, и, по счастью, пустота ненадолго отступает, и кто знает, может быть, что-то и останется, что-то и останется. Может быть, радость придет потом. Какой формы Бог? Мне кажется, что Бог овальной формы…* * *
На моем, как говорится, жизненном пути мне помогало множество людей, перед которыми я в большом долгу. Прежде всего это моя мать, которая произвела меня на свет: она была невероятно ласковая и очень веселая, хотя один ее ребенок умер очень рано, а муж, как я уже рассказывал, бросил ее одну в огромном Париже. Она разыскала там сестру, Сесиль, которая и сама могла предложить ей лишь место в маленькой квартирке, где жили мои дедушка Жан, бабушка Анна и молоденькая Сесиль, моя тетка. Позже мне, бедняку, удалось найти что-то вроде работы, надписывать конверты для школы, в которой готовили к экзаменам на степень бакалавра. Мне тогда хотелось продолжать преподавание. И директриса, предложившая мне надписывать адреса на конвертах, сказала: «Все-таки это связано с вашей профессией — ведь вы же были преподавателем. Надеюсь, перемена не слишком выбьет вас из колеи». В свое время мне пришел на помощь отец, живущий в Бухаресте: он заставил меня получить среднее образование, а потом уж я сам получил и высшее. Но больше всего меня выручали и поддерживали в жизни жена Родика и дочка Мари-Франс. Без них я бы, конечно, ничего не сделал и не написал. Им я обязан всем своим творчеством, и все мои книги посвящены им. А потом, позже, были все мои преподаватели в бухарестском лицее. И директор лицея — благодаря ему я, несмотря на свою лень (в школе я ничего не учил), ходил в публичную библиотеку и читал книги. Я обязан Стефану Попу тем, что получил степень бакалавра. Но это несравнимо с помощью, которую мне оказывала жена, — и тогда, и позже, все дни, не зная передышки.* * *
Я очень обязан жулику Керцу, подстроившему провал в день последнего представления «Носорога» в Нью-Йорке, что принесло ему сумму в 40 000 долларов, но создало мне имя в Соединенных Штатах. Невольно он помог мне. А потом была Маргарет Рамсей, мой литературный агент. И были английские и французские литературные критики, в том числе Жан-Жак Готье и Роберт Кемп, которые так яростно на меня обрушились, что это очень укрепило мою известность. Критики «Монд» были против критиков «Фигаро» и наоборот, к тому же левые поначалу думали, что я левый, а правые — что правый. И те и другие, сами того не подозревая, сделали для меня много хорошего, в том числе Барт и еще один, чью фамилию мне сейчас не припомнить. И опять-таки моя жена, снова жена, заставила меня получить степень лиценциата и принять участие в конкурсе на должность преподавателя. В результате в один прекрасный день директор-француз дал мне стипендию, чтобы я мог продолжить образование в Париже и подготовить докторскую диссертацию, которую я так и не написал. Его звали Альфонс Дюпон, он скончался недавно в возрасте 89 лет. А еще мне помогла, желая навредить, вторая жена моего отца, Лола: она выставила меня из отцовского дома, и мне пришлось как-то устраиваться самому, вот я и добился успеха. Мне помогли преподаватели лицея Святого Сава, выгнавшие меня из своего лицея, и благодаря этому мне удалось получить степень бакалавра в провинции, где меня приютила сестра жены, Анжела, державшая пансион для юношей-лицеистов, которые, насколько мне известно, ничего не добились в жизни. Кочуя из дома в дом, из семьи в семью, я, бесприютный бродяга, стал обладателем прекрасной квартиры на Монпарнасе. Наконец, иногда меня поддерживали более или менее дальние родственники, и тетя Сабина, и тетя Анжела, и преподаватели, воображавшие, будто у меня есть талант. Недавно, в войну 1940 года, мне помогла мать моей жены, Анка, которая, превозмогая горе, отпустила зятя с дочерью во Францию, хотя сердце у нее обливалось кровью. Она умерла, веря, что приедет к нам в Париж, хотя ей это так и не удалось, она умерла с этой надеждой. Мне помогал Бог, когда в Париже я оказался на положении беженца, потому что не желал примкнуть к бухарестским коммунистам: как-то взял я корзинку, а денег у меня не было ни гроша, и пошел на рынок, и нашел на земле 3000 франков, тех, сорокового года. Вот сколько обстоятельств мне помогало. Может быть, Бог поддерживал меня в жизни и во всем, что я делал, а я этого и не замечал. А еще мне помог хозяин квартиры с улицы Клод-Терасс, г-н Коломбель, да благословит его Бог, он не посмел выставить за дверь беженца, который не платил за квартиру, но, может быть, был послан Богом. Вот так, переходя из рук в руки, мне и удалось стать такой знаменитостью, и вдвоем с женой дожить до восьмидесяти и даже до восьмидесяти одного с половиной года, и терзаться тоской и страхом смерти, не догадываясь о том, что Бог сделал мне хоть что-то хорошее. Он не отменил ради меня смерть, и это, по-моему, недопустимо. Но мне были даны жизнь, здоровье, доктора, спасающие от несчастий, которые я сам на себя навлек неразумным поведением. Несмотря на все мои усилия, несмотря на священников, мне так и не удалось прийти в объятия Бога. Мне не удалось окончательно уверовать. Увы, я как тот человек, о котором рассказывают, что каждое утро он молился: «Господи, сделай так, чтобы я в Тебя поверил». Как все, я не знаю, есть что-нибудь по ту сторону или нет ничего. Вместе с Папой Иоанном Павлом II я склонен думать, что между силами тьмы и силами добра идет вселенская битва. Я, разумеется, верю в конечную победу добра, вот только каким образом это произойдет? Кто мы — брызги мироздания или существа, которым предстоит воскреснуть? Может быть, больше всего меня удручает разлука с женой и дочкой. И с самим собой! Я надеюсь, что не утрачу способности к самоотождествлению — временному, надвременному и вневременному. Я с невероятным трудом хожу с помощью дочери, которая меня обнимает и поддерживает, мне страшно, и на каждом шагу я рискую упасть.* * *
Люди приходят на землю не для того, чтобы жить. Приходят, чтобы зачахнуть и умереть. Проживаешь детские годы, растешь, очень скоро начинаешь стареть, а все же трудно представить себе мир без Бога. Все-таки легче думать, что Бог есть. Похоже на то, что современная медицина и геронтология во что бы то ни стало пытаются представить человека во всей его полноте, чего не сумело Божественное начало: поднять его над старостью, слабоумием, истощением и так далее. Воссоздать человека во всем блеске, бессмертного, каким не захотело или не смогло его сделать божество. Каким его не сделало божество. Раньше, каждое утро, вставая с постели, я говорил: слава Богу, даровавшему мне еще один день. Теперь говорю: еще один день Он у меня забрал. Что делал Бог со всеми детьми, со всем скотом, которых отнял у Иова? И все-таки, несмотря ни на что, я верю в Бога, потому что верю в существование зла. Если есть зло, есть и Бог.Перевод Е. Баевской
Вокруг пьес

МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СНОВИДЕНИЕМ

Беседы с Клодом Бонфуа (Фрагменты книги)
{11} Клод Бонфуа. В 1950 году родился новый драматург. Это были вы, Эжен Ионеско. Ваша первая пьеса «Лысая певица», поставленная в театре «Ноктам-бюль» Никола Батаем, настолько всех ошеломила, она так явно шла вразрез со вкусами и привычками публики, что вызвала настоящую бурю: с одной стороны — восторга, с другой — раздражения. И хотя по-прежнему существуют люди, которые отказываются понимать или видеть самих себя и собственную никчемность в болтающих без умолку Мартинах и Смитах, «Лысая певица» давно стала классикой нового театра. Вы прославленный автор, ваши пьесы идут во всем мире, о них пишут научные труды. Но драматург не рождается с первой пьесой. За ней стоят размышления о литературе, о театре, о мире, а иногда и статьи на эти темы. За ней стоит человек, вся его предшествующая жизнь, то есть некая совокупность событий, переживаний, страстей, грез. Прежде чем говорить о вашем театре, о вашем понимании литературы и драматургии, о близких вам темах и, может быть, о вашем отношении к реакции критиков, мне бы хотелось обратиться к истокам, к вашему прошлому, попросить вас рассказать о событиях, впечатлениях, открытиях, наложивших на вас отпечаток, — отчасти как это делает у вас в «Жертвах долга» Шуберт, — но не бойтесь, я не так жесток, как полицейский инспектор, принуждающий его копаться в прошлом. Главное — припомнить переживания, мысли, которые подготовили вас к писательству. Начнем с самого начала. В сборнике «Фотография полковника», после рассказов, вы опубликовали фрагмент из дневника «Весна 1939 года» — о возвращении в места вашего детства. О детстве вы пишете и в книге «Прошлое настоящее, настоящее прошлое». Так вот, поскольку ваш театр во многом строится по логике сновидения, мне хочется спросить, не использовали ли вы в пьесах свои детские сны? Эжен Ионеско. Детские сны? Нет. Я храню воспоминания о детстве, образы детства, свет и краски детства. Но чтобы из сновидения родилась пьеса, мне нужно помнить его очень точно, оно должно быть недавним. Сновидения для меня необычайно важны, потому что они позволяют глубже заглянуть в самого себя, делают меня зорче. Ведь во сне мы тоже думаем, но мы более проницательны, мы мыслим подлиннее, глубже, поскольку погружены в себя целиком. Сновидение — это своего рода медитация, духовное созерцание. Это мышление образами. Иногда сон оказывается прозрением, жестоким прозрением. Он ослепительно ясен. Для человека, который занимается театром, сновидение, по сути своей, — прототип драмы. Это и есть собственно драма. Во сне мы всегда в «драматической ситуации». В общем, моя точка зрения сводится к следующему: во-первых, во сне мы находимся в ясном уме, куда более ясном, чем когда бодрствуем, во-вторых, мыслим образами, а в-третьих, всякий сон театрален, он всегда есть драма, поскольку во сне человек всегда находится в «драматической ситуации». Но мы к этому еще вернемся. — Не могли бы вы поделиться своими ранними впечатлениями, вспомнить какие-то картины детства? Что из детских переживаний было для вас наиболее важным? — Печаль моей матери, открытие смерти, одиночество — опять же моей матери, — но это, так сказать, мрачная сторона. Ну а еще — жизнь в деревне, в Ла Шапель-Антенез, время, полное света и счастья. — В чем состоял ваш опыт одиночества? — Одиночества я сам не испытывал. Я имею в виду одиночество матери. Об этом трудно рассказывать. Моему отцу пришлось вернуться в Бухарест, и я видел ее всегда одну, несчастливую, с трудом добывающую деньги на жизнь, окруженную жестокостью мира, — отчасти как Жозефина в «Воздушном пешеходе». — А открытие смерти? — Я уже писал о том, что чувствовал, когда видел похороны, когда мимо наших окон проносили покойников, и как я спрашивал у матери, что это значит. Она отвечала: «Кто-то умер». — «Почему?» — «Потому что болел». В результате я пришел к выводу, что люди умирают от болезни или от какой-то роковой случайности, короче, что смерть, в общем, — несчастный случай и если хорошенько беречься, носить теплый шарф, вовремя пить лекарства и осторожно переходить улицу, то не умрешь никогда. Но это меня как-то смущало, главным образом потому, что я уже знал о такой вещи, как старость. Я мучился вопросами: до какого предела человек может стареть? Сколько это может продолжаться? Я рисовал себе картины, как человек сначала растет, растет, потом ссутуливается, у него появляется седая борода, она становится все длиннее, потом начинает волочиться за ним по улице, а сам он все ниже и ниже пригибается к земле. Я говорил себе: «Нет, должен быть какой-то конец, нет, это не может длиться вечно!» Однажды я спросил у матери: «Мы все когда-нибудь умрем? Скажи правду». И она сказала: «Да». Мне было года четыре-пять, я сидел на полу, а она стояла передо мной. Я до сих пор вижу эту сцену. Она держала руки за спиной. И стояла прислонясь к стене. Когда она увидела, что я рыдаю — а я разрыдался, — она растерялась, взгляд ее стал испуганным, беззащитным. Мне было очень страшно. И главное, я подумал, что она тоже когда-нибудь умрет, и эта мысль с той поры неотступно преследовала меня… Может быть, ее смерть страшила меня сильнее, чем смерть вообще? Странно, как быстро все эти переживания и страхи исчезли, едва я оказался в деревне, где прожил три года без матери, которая, возможно, и была подсознательной причиной моей тревоги. — А потом тревога вернулась? — Да, и уже не оставляла меня. Она вернулась — не помню точно когда, но уже после того, как я уехал из Ла Шапель-Антенез. В Париже мне открылось существование времени: за воскресеньями и четвергами неотвратимо следовали будни[42]; сколько бы ни длился праздник, он все равно когда-то должен был кончиться, во всяком радостном событии словно зияла дыра, куда его постепенно затягивало, каждый час безвозвратно проваливался в прошлое. В Ла Шапель-Антенез времени не существовало. Я жил всегда в настоящем. Жить было счастьем, неиссякаемой радостью. — Сколько вам было лет? — Восемь, девять, десять. — Что такое для вас Ла Шапель-Антенез? — Абсолютная полнота жизни. Что-то вроде символического воплощения рая. Это место остается для меня образом утраченного рая и по сей день. Я уехал оттуда в Париж, потом в Румынию. Оно удалялось от меня одновременно и в пространстве, и во времени. — Почему оно было для вас раем? — Почему?.. Почему?.. Почему?.. Там было так, словно все приходит и уходит, а я остаюсь на месте: уходила весна с ее высоким небом, цветами; ее сменяло лето, потом зима, приносившая новые краски, новый пейзаж; потом весна наступала снова; мир вращался вокруг меня — время было круглым, да-да, как колесо, и оно вертелось вокруг меня, а я чувствовал себя неизменным, вечным, я был центром мироздания. Увы, центробежные силы в конце концов выбросили меня в движущийся круг, во время. Я жил в очень красивом, очень старинном доме. Не в замке, нет, это была старая ферма, которая называлась «Мельница». Когда-то, лет сто назад, там действительно была мельница… Дом стоял в изумительном месте, на перекрестке трех или четырех дорог, среди холмов, совсем низеньких, поросших кустарником. Настоящее гнездо, укрытие. В этом доме, довольно темном, как все старые деревенские дома, меня не покидало ощущение необычайного покоя… Все было словно создано для того, чтобы служить символом. Мы жили в лощине, и по дороге в село нам надо было подняться на небольшой холм, который мы называли Злюка. Там, когда чуть-чуть поднимешься, становилась видна верхушка сельской колокольни, а потом и вся колокольня. Я помню одно утро, очень радостное, лучезарное, когда я в воскресном костюмчике шел к церкви. До сих пор у меня стоит перед глазами это синее небо и на его фоне шпиль церкви. И слышится звон колоколов. Было небо, была земля и совершенная гармония между ними. Некоторые психоаналитики, последователи Юнга, считают, что мы страдаем оттого, что в нашем сознании земля и небо разъединены. А там земля и небо были поистине в полном единстве. Это сейчас я пытаюсь объяснить себе, почему там было так хорошо. А тогда я просто жил в этом раю. Там были краски такой яркости и свежести, какой у них больше не будет никогда, мои любимые краски, например чистая, нетронутая голубизна. Весной появлялись примулы, открывалась дорога. Это тоже было таинством, тоже несло глубинный смысл, некую извечную истину. Зимой дорога утопала в грязи, она действительно закрывалась. Ее невозможно было перейти. И внезапно вдруг происходило как бы преображение пейзажа. Все заполнялось живыми цветами, белками, поющими птицами, золотистыми насекомыми… На моих глазах по-настоящему воскресал мертвый мир, мир грязи и застывших деревьев, которые начинали потягиваться, оживать. — То есть главным для вас было ощущение согласия с ритмами природы? — Да, и уверенность в ежегодном возрождении. Но там была еще одна вещь. Свобода. Когда я потом вернулся в Париж, лет в одиннадцать, я очень томился. Чувствовал себя как в тюрьме. Это из-за парижских улиц с высокими домами, похожими на тюремные стены. — В деревне вы ощущали себя свободным благодаря простору? — Деревня была для меня одновременно и простором, и гнездом. — В «Весне 1939 года» вы рассказываете, как ходили в школу вместе с деревенскими детьми. Школа в Ла Шапель-Антенез воспринималась вами иначе, чем в Париже? — Да, конечно! — Но ведь там тоже приходилось заниматься? — Да, но в деревне школа не казалась казармой. Она помещалась в маленьком домике. Сама деревня была совсем небольшая, несколько сотен жителей. В школе для мальчиков нас училось человек сорок-пятьдесят. Там имелся один общий класс, разделенный на три группы: учитель подходил то к одной группе, то к другой. Там все было меньше, ближе к человеку. Но это был не усеченный мирок, а целостный, полноценный мир. У всех людей, у каждой вещи было свое лицо. Религия имела лицо — это был кюре. Власть имела лицо — это был мэр или сельский полицейский. Наука имела лицо — это был школьный учитель. Ремесло имело лицо — это был кузнец. Все было персонифицировано, конкретно. — Не получалось ли так, что вы переносили свое отношение к конкретным людям — кюре, местному полицейскому, учителю — на те учреждения, на те понятия, которые они для вас воплощали? — Нет. Их должность имела зримое воплощение, но мы понимали, что должность и конкретный человек не одно и то же. В нашем сознании представление о звании священника отнюдь не сливалось с образом нашего кюре-пьяницы, над которым все посмеивались. Что вовсе не мешало нам верить в Бога, ходить в церковь и учить катехизис. Точно так же и со школьным учителем, месье Гене: у него были свои заботы, семейные неприятности и прочее, но вместе с тем он учил нас читать и писать, преподавал нам географию и историю, в том числе и историю департамента Майен, потому что в те времена в школах изучали историю своего края. Короче, должность была должностью, а человек — человеком. Сейчас, к сожалению, человек почти повсюду сливается со своей должностью, точнее, все чаще и чаще отождествляет себя со своей общественной функцией; тут уже не функция обретает человеческое лицо, а человек теряет свое, обесчеловечивается. Это происходит главным образом в тоталитарных государствах. Я всегда считал, что неправильно, не по-человечески, чтобы военный спал в форме. Тогда он становится военным целиком, метафизически. И видимо, сейчас столько говорят о социологии именно потому, что «функция» приобрела такое значение. Перед нами очевидное отчуждение человека от его сущности. Общественная функция не должна поглощать человека тотально, тоталитарно. Никогда, как известно, отчуждение не было так сильно, как сейчас, особенно в социалистических странах, где трубят о преодолении отчуждения. Это. разумеется, было и раньше, но не в такой степени. В деревне человек не сливался со своей функцией. Папаша Дюран представлял кюре, папаша такой-то представлял полицейского, как актеры играют ту или иную роль, тогда как в нашем теперешнем мире «писатель» — он и во сне писатель. У него «писательский» галстук, «писательская» жена, «писательские» друзья, он растворился в своей отчуждающей функции, его самого больше нет. Его слопала общественная машина. Общественная машина — это общество, превратившееся в чудовище, в людоеда. — Как по-вашему, воспоминания о Ла Шапель-Антенез сыграли какую-то роль в вашем творчестве? — Да. Масса образов, и светлых, и тревожных, присутствующих так или иначе в моем сознании, родились из воспоминаний о Ла Шапель-Антенез и об утрате этого рая. Все пережитое оставляет следы. Я был ребенком, в сущности, маленьким человеком во всей его сложности… время от времени — школьником, но это не составляло мою единственную суть… да, я в числе прочего ходил в школу, но я не был винтиком какой-то машины… Иначе говоря, я не был существом с единственной функцией, которая человека обедняет, лишает нас одного из наших измерений.— В «Записках за и против» вы пишете: «Наше формирование происходит по воле случая». И говорите дальше, что если бы наши учителя, друзья, события, которые мы пережили, были бы другими, то были бы другими и мы сами, мы бы иначе мыслили. Нет сомнения после вашего рассказа, что жизнь в Ла Шапель-Антенез сыграла огромную роль в формировании вашего мировосприятия. В вашем театре постоянно присутствуют темы укрытия, гнезда, потерянного рая, чистоты красок, контрастная оппозиция человека и функции, личности и социального механизма. Но мы скоро к этому вернемся. А сейчас мне хотелось бы продолжить разговор о случайностях, которые в юности играют такую роль в нашем становлении. Были ли в вашем детстве, в отрочестве люди — учителя, друзья — или какие-то события, которые оставили след в вашей душе на всю жизнь? — Я уже не помню фразы о том, что нас формирует случай. И не знаю, так ли это. Верно ли, что все в руках случая? Может быть, мы сами делаем что хотим и с событиями, которые с нами происходят, и с влиянием наших наставников. События и доставшиеся нам учителя — конечно же, случайность, но поступает с ней каждый по-своему. На меня, например, оказали влияние мои университетские профессора в Бухаресте. Но довольно любопытным образом: их влияние часто вызывало обратное действие — я не желал думать так, как они. Возможно, у меня скверный характер, возможно, я так и не изжил детский дух противоречия. Но я с ними не соглашался. Моя неизменная позиция, точнее, склонность или потребность состояли в том, чтобы им противиться. Так, у меня был преподаватель теории литературы и эстетики, который поставил перед собой задачу найти точные критерии для оценки поэзии. Известно, что литературоведение не может быть точной наукой, что критерии меняются, они не покрывают произведение целиком, анализируя произведение, исследователи на самом деле занимаются психологией, или социологией, или историей, или историей литературы и так далее. То есть они все время кружат где-то рядом с произведением, в широком контексте. А текст их, по сути, не волнует, хотя текст — главное, и рассматривать надо именно его — как нечто целое, как живой организм, как пересозданное творение, а вовсе не контекст, который есть нечто внешнее и безличное. Меня интересует не то, что в данном произведении имеется общего с другими произведениями, а то, что в нем неповторимо, уникально. Иначе говоря, не обществоведение и не история, а внутри истории, внутри общества — несводимость данного произведения ни к чему другому, то есть история — какой она предстает именно в этом произведении, а не вообще. Так вот, мой профессор пытался подобрать некий критерий, максимально точный, чтобы в количественных показателях измерить качество и ценность каждого произведения — задача, слегка напоминающая поиски абсолюта, к тому же несколько наивная. Он говорил, что произведения бывают виртуозные, талантливые и гениальные. И хотел определить, сколько в каждом тексте виртуозности, гениальности и таланта. Хотел взвесить это на точных весах. Теперь, когда я о нем вспоминаю, я думаю, что эта задача очень интересная и следовало бы попытаться ее решить — именно потому, что решить ее невозможно. Тогда я был против только потому, что испытывал потребность возражать. Он отстаивал свою позицию, а я сокрушал его доводами, почерпнутыми у Кроче[43], которого тогда читал. Но были случаи, когда мои расхождения с преподавателями оказывались куда более серьезными и не имели отношения к мальчишескому фрондерству. Это касается нескольких профессоров, которые уже тогда поддерживали нацизм: они были теоретиками расизма, ницшеанцами или неоницшеанцами, последователями Розенберга[44] или Шпенглера (Шпенглер был не в чести у нацистов, но являлся тем не менее их теоретическим предшественником). — Но может быть, в вашем противостоянии профессору эстетики тоже было не одно фрондерство? Может быть, вам тогда уже хотелось писать или вы начинали это делать, и поэтому у вас вызвала протест попытка втиснуть литературное произведение в цифровые рамки? — Вполне возможно. Но в восемнадцать лет у меня не было четкой позиции. В тот период я занимался литературной критикой и находился под сильным влиянием — не моего профессора, которого звали Драгомиреску, а Кроче. Кое в чем я согласен с Кроче и сейчас: в том, что ценность произведения определяется его оригинальностью и вся история искусства есть история выражения. Когда рождается новый способ выражения — это всякий раз событие, то есть происходит нечто важное и новое. По сей день я убежден, что выражение является не только формой, но и содержанием. Произведение есть как бы живое существо, дитя, похожее чем-то на своих родителей, но другое, неповторимое. Каждое произведение уникально, и оно становится великим, если оказывается, с одной стороны, оригинальным и неожиданным, а с другой — своеобразным синтезом всего предыдущего. Из Кроче я еще принял для себя определение видов мышления: их два — дискурсивное и интуитивное. Иными словами, логически организованное и эстетическое. Так вот, я считаю, что интуитивное мышление воплощено в сновидениях — они и есть эстетическое мышление в чистом виде, когда мысль сразу оформляется не в слова, а в образы. От моего профессора эстетики я тоже кое-что усвоил, несмотря на все свое сопротивление: он привил мне стремление, потребность искать четкие и точные критерии — хотя я отлично знаю, что применительно к литературе они невозможны. Есть вещи, в которых я убежден до сих пор, благодаря ему и другим моим преподавателям. А именно, что критика, литературоведение — это не политика и не психология, что должна быть система исследования, максимально приближенная к самому произведению. Какая? Я думаю, мы должны исходить из законов и правил, которые диктует каждое новое произведение. Отвечает ли оно своим собственным целям? Как ни странно, как ни парадоксально это звучит, но текст должен сам задавать критерии его оценки. Какие именно? Тут надо покопаться. Психология, социология, история литературы могут быть средствами подхода… но если они пытаются не просто служить ступенькой, а поглотить произведение целиком — социологически, идеологически, догматически, — то это глубокая ошибка. — Наверно, главное — для начала проанализировать структуру? — Конечно. — Вот вы рассказали о ваших румынских преподавателях. Скажите, то обстоятельство, что вы с детства принадлежали двум культурам, французской и румынской, дало вам что-то или, наоборот, оказалось причиной если не ломки, то, может быть, определенных сложностей? — Сложности были. Была раздвоенность, и были свои плюсы. Я попал в Бухарест в тринадцать лет и уехал оттуда только в двадцать шесть. Румынский язык я выучил там. В четырнадцать-пятнадцать я приносил плохие отметки по румынскому языку. Постепенно я научился писать по-румынски. И свои первые стихи сочинил на румынском. Я стал хуже писать по-французски, начал делать ошибки. Когда я вернулся во Францию, я, конечно, французский не забыл, но разучился на нем писать. Я имею в виду писать «литературно». Мне пришлось учиться заново. Уметь, потом разучиться, выучиться заново — по-моему, это интересный опыт. И потом, да, была ломка, потому что в Бухаресте я ощущал себя в ссылке. — Можете ли вы вспомнить какие-то события, переживания, относящиеся к тому периоду, которые, подобно вашим детским впечатлениям от Ла Шапель-Антенез, сохранили бы для вас свою значимость впоследствии? — Да… Как офицер на улице ударил по лицу крестьянина или просто бедного человека, потому что тот не отдал честь — или забыл отдать честь — знамени. Как студенты избивали прохожих, у которых были не вполне православные носы… В основном все это — сцены жестокости, обывательская тупость, офицеры, которые разгуливали по городу, щеголяя начищенными сапогами, военная служба, короче, разные отвратительные или просто неприятные вещи. В то же время у меня там были друзья. Может быть, в другой раз я вам о них расскажу. И потом, я познакомился там со своей женой. — Значит, по крайней мере одно счастливое событие там произошло. — И оно было необычайно важным, решающим для всей моей судьбы. Моя жизнь с женой — это богатая, очень яркая история, которая еще продолжает развиваться. Вы не считаете, что вещи важные, неожиданные, будь они приятные или неприятные, часто происходят на уровне повседневности? Я мог бы написать об этом целые тома. — Расскажите еще о вашей жизни в Бухаресте. — Самым интересным там было все-таки именно то, о чем я говорил: конфликт со средой, где я ощущал себя не на месте, неприятие не столько идей, сколько определенных чувств. Ведь прежде чем стать идеологиями, нацизм, фашизм и тому подобное складывались как своеобразная манера чувствовать. Все идеологии, включая марксизм, суть лишь оправдания и алиби для некоторых человеческих эмоций, страстей, инстинктов, зарождающихся на биологическом уровне. Потом конфликт стал серьезнее. У меня были в Бухаресте друзья. И вдруг многие из них — это были тридцать второй, тридцать третий, тридцать четвертый, тридцать пятый годы — начали склоняться к фашизму. Сегодня у нас все интеллигенты обязательно левые, «прогрессивные», как они выражаются, потому что такова мода. А тогда модно было принадлежать к правым. Во Франции отчасти происходило то же самое: возьмите Дрие Ла Рошеля, «Королевских молодчиков»[45]. Я не люблю социалистические лозунги, как ненавидел в свое время фашистские, и мне кажется, что у вчерашних фашистов и нынешних борцов «за лучшее будущее» много общего. Социализм сегодня строят дети бывших фашистов. А во Франции из «интеллектуальных» буржуазных кругов выходят революционеры… сильно опоздавшие со своими революционными идеями. Быть на уровне сегодняшнего дня — уже значит отставать: надо двигаться вперед быстрее, обгонять сегодняшний день. В Бухаресте что-то действительно едва не надломилось во мне. Я чувствовал себя все более и более одиноким. Вокруг оставалось какое-то количество людей, пытавшихся противостоять идеологическому давлению, не принимавших лозунги, которые на нас обрушивались. Но сопротивляться было очень трудно, и не в смысле политической борьбы (ясно, что она была бы очень трудна), а в смысле сопротивления нравственного и умственного, пусть даже молчаливого, потому что когда вам двадцать лет и вас окружают уважаемые профессора, которые подводят под новые теории научную — или псевдонаучную — базу, когда против вас вся атмосфера, идеологические доктрины, целое народное движение, то очень трудно не дать себя убедить. К счастью, тут мне очень помогла жена. — Но вы же рассказываете историю Беранже, героя «Носорога»! — Конечно. Я всегда остерегался коллективных истин. Я считаю, что идея может быть верна, пока она не утвердилась в умах, а как только это случается, она переходит в свою крайность. Нарушается мера, возникает какая-то избыточность, раздувание, которые и делают идею ложной. Я смог прийти к этому выводу благодаря одному мыслителю, с которым мне доводилось встречаться, но чаще я его просто читал: это Эмманюэль Мунье[46]. Мунье постоянно заставлял себя делать умственное усилие, дабы прояснить, что истинно, а что ложно в каждом политическом утверждении. Мунье был единственным, кто такое усилие совершал, кто стремился отличить истинное от ложного. А теперь никто даже не пытается этого делать. Люди охвачены страстями и отказываются их анализировать, потому что не хотят с ними расставаться. Чем значительнее человек, тем дальше заводит его страсть и тем больше он способствует путанице в умах и затемнению истины. Возьмите Сартра. — У нас еще будет, я думаю, случай поговорить о Сартре. А сейчас я хотел бы задать вам последний вопрос о Румынии. Дала ли вам что-то румынская литература? — Среди румынских писателей есть очень интересные. Например, замечательный драматург Караджале[47], но он, со своей стороны, испытывал влияние тех же писателей, что и я: Флобера с его «Лексиконом прописных истин»[48], Анри Монье[49], Лабиша[50]. Я любил еще одного румынского писателя, Урмуза, он был абсурдистом, предшественником сюрреализма, но сам он тоже многим был обязан Жарри[51]. Так что серьезного влияния румынская литература на меня не оказала. На меня, в принципе, могли бы повлиять безымянные народные поэты. Румынская народная поэзия невероятно богата, это великая поэзия. Но ее темы не были мне близки. Они не затрагивали меня по-настоящему глубоко. — Итак, чем-то все-таки ваша румынская юность вас обогатила. Это произошло, во-первых, благодаря вашим профессорам, пусть даже через реакцию отторжения, во-вторых, благодаря размышлениям о литературе, попыткам заниматься критикой. И потом, был какой-то жизненный опыт: ощущение изгнанничества, конфликт с идеологией, открытие любви. Все это, и хорошее, и тягостное, что вы там пережили, способствовало вашему формированию как писателя и как человека. Но открытие литературы, театра пришло к вам не оттуда. Какие же книги вас в юности потрясли, вызвали желание писать? — Их было много. Они менялись. Ребенком я читал, как все дети, сказки, затем жизнь маршала Тюренна, жизнь принца Конде[52]. Потом истории более давние. В Ла Шапель-Антенез я прочел целую «народную» библиотеку восемнадцатого столетия. — Книжки лубочного типа? — Да. Во времена моего детства они были еще очень распространены. Например, история про мальчика, который во время первого причастия взял в рот облатку и рот его вдруг наполнился кровью. Это была кровь Господа. Или вспыхнул во рту огонь, так что даже остались ожоги. Были еще рассказы о привидениях, оборотнях, паломниках. Не думаю, чтобы эти книжки как-то на меня повлияли. Слишком давно это было. Знаю только, что литературу я открыл для себя лет в одиннадцать-двенадцать, благодаря Флоберу. Я прочел «Простое сердце» и внезапно понял, что такое настоящая литература, красота языка, стиль. К тому времени я уже успел прочесть «Отверженных», но такого потрясения не испытал. До Флобера я читал все подряд: классику — несколько романов Бальзака, Гюго, «Трех мушкетеров» — и разное чтиво — детективы, «Крикри», «Великолепного». Но после «Простого сердца» я уже не мог читать дешевые романы с продолжением или низкопробные детективы. Бывают люди, у которых есть некое чувство литературы, как у других — музыкальный слух. Мне кажется, у меня это чувство было. Мои приятели продолжали читать всякую ерунду. Они не отличали хорошие книги от плохих. Они сами говорили, что их интересует только сюжет: что произошло с героем, как он поступил. А я не мог больше читать то, что было скверно написано. Я понял тогда, что такое литература: это не сама история, а то, как она подается, то есть каким способом история, любая история, открывает свой глубинный смысл. Мне кажется, любить больше то, как рассказана история, чем то, что она рассказывает, и есть признак литературного призвания. — После «Простого сердца» вы не стали читать всего Флобера? — Нет. Я был еще слишком мал для такого методичного подхода. К тому же открытие Флобера не помешало мне полюбить потом некоторых авторов второго ряда. — Например? — Альбера Самена, Франсиса Жамма[53], Метерлинка. Тогда они еще считались современными. Они умели писать. Но, увы, были несколько слащавы. Когда я сейчас их перечитываю, то понимаю, что переоценивал их. — Может быть, они привлекли вас атмосферой грез, которые отвечают каким-то неясным чаяниям отрочества? — Наверняка так оно и было. У них у всех есть что-то туманное, расплывчатое. Для меня их влияние оказалось губительным, потому что они привили мне сентиментальность, от которой я по сей день не могу до конца отделаться. Когда-то они действительно соответствовали моим юношеским настроениям. Потом, к счастью, я снова вернулся к Флоберу. Но я больше любил его за «Воспитание чувств», чем за «Госпожу Бовари». «Воспитание чувств» — самая цельная его книга, самая многогранная. Там есть и сатира на расхожие истины, опасные своим убожеством, там есть стиль. Есть любовь, есть слом времени, революция 1848 года, увиденная критическим взглядом. В общем, и вымысел, и историзм, и критический подход. Это настоящее произведение искусства, идеальный роман, такой, каким роман должен быть, — целый мир, единый и сложный. Есть один писатель, который не трогал меня никогда. В те времена все зачитывались книгой Андре Жида «Яства земные». Я ее терпеть не мог — за напыщенность. Считалось, что она хорошо написана, а по-моему, она написана плохо — фальшиво, выспренно, претенциозно. — Что вы искали в литературе? — «Простое сердце» я полюбил за то, что эта вещь словно светится изнутри, там есть свет в словах. То же самое я ощутил, читая Шарля Дю Боса[54] — не помню уже, что именно, какое-то критическое эссе: мысли были не Бог весть какие, но зато был стиль, который я на своем собственном языке называю светоносным. Я нашел его и у Валери Ларбо[55], в новелле про влюбленных девушек, про лесбиянок. Они находятся в комнате с решетчатыми ставнями, и это описание игры света и тени я запомнил навсегда. У Валери Ларбо я любил еще — или прежде всего — «Детские» зарисовки, полные света и перекликающиеся с моим собственным представлением о детстве. — У кого еще из писателей вы встречали этот свет? — У Ален-Фурнье[56], властителя моего литературно-мечтательного отрочества. В моем сознании местом действия «Большого Мольна» была Ла Шапель-Антенез, особенно когда речь там идет об отцовском доме. Образы моего детства перехватывали и вбирали образы Фурнье, и я ясно представлял себе все пейзажи, знал, где находится затерянная тропа. Она виделась мне в нашем деревенском парке при замке. Валери Ларбо, Шарль Дю Бос, Ален-Фурнье, Флобер — всех этих писателей я любил за то, что лежало за пределами текста, чего в нем, казалось бы, и нет, за какие-то вещи, которые, возможно, были заключены во мне самом. У них у всех я ощущал присутствие света. Среди книг, которые говорили о свете и сильно на меня подействовали, можно назвать тексты исихастов, византийских мистиков двенадцатого, тринадцатого, четырнадцатого веков, и «Русскую церковь» Арсеньева[57], где рассказывается о том, как несчастный больной человек, истерзанный страхом, приходит к священнику, монаху, тот кладет ему руку на плечо, и больной вдруг чувствует, как все его существо наполняется радостью, все вокруг озаряется, на него нисходит великий свет, и он выздоравливает. Я сам не знаю, что значит этот свет. И не ищу в нем какого-то мистического смысла, мне просто интересно, что он значит с точки зрения психологии, чем объясняется моя потребность в нем, почему каждый раз, когда я чувствую в книге присутствие света, я бываю так счастлив. — Мы начали с ваших литературных пристрастий, с писателей, которые произвели на вас впечатление и, быть может, оказали какое-то влияние на ваше творчество. Но раз уж мы затронули тему света, а она встречается в ваших пьесах и новеллах очень часто — во всяком случае, не реже, чем противостоящая ей тема грязи или трясины, засасывающих героя, или, в плане социальном, тема отчуждения, — то мы могли бы сделать сейчас небольшое отступление, чтобы попытаться выяснить, каковы литературные или другие истоки этих тем и какую форму они принимали или принимают для вас в жизни. Тогда мы лучше поймем и ваше восприятие мира, и смысл вами написанного. Поэтому я хочу сейчас спросить, были ли у вас, помимо чтения названных книг, какие-то собственные яркие переживания, связанные со светом? — Да, и я рассказал о них, в частности, в пьесе «Бескорыстный убийца». Но никто не понял, что такое Сияющий город. А это свет, град света. Свет — это преображенный мир. Это, например, чудесная весенняя метаморфоза грязной дороги в моем детстве. Мир внезапно обретает неизъяснимую красоту. Когда я был моложе, во мне были неисчерпаемые резервы света. Сейчас они начинают оскудевать… я двигаюсь в сторону грязи. Помню, однажды ко мне зашел один мой приятель-пессимист. Я жил тогда на первом этаже, на улице Клод-Террасс. У меня незадолго до этого родилась дочь, у нас было тесно, и мы развесили ее пеленки прямо в комнате. Так вот, мой приятель пришел и начал говорить, что все не так, жизнь ужасна, кругом одно убожество и уродство, беспросветная тоска, и что дома у нас тоскливо и неуютно, и так далее. А я ему говорю:«А по-моему, тут очень красиво. Пеленки, которые сушатся на веревке посреди комнаты, — это очень, очень красиво». Он посмотрел на меня удивленно и с легким презрением. А я повторил: «Да, очень красиво. Надо только уметь смотреть, уметь видеть. Это все восхитительно. Любая вещь на свете — чудо, торжественное богоявление, любой самый ничтожный предмет излучает сияние». И мне действительно показалось в тот момент, что белье на веревке наделено странной красотой, что мир вокруг девственно чист и светел. Мне удалось увидеть его глазами художника, увидеть его способность сиять. И с этого мгновения все преобразилось вокруг, все стало прекрасным. Вот хотя бы дом напротив. Он некрасивый, у него уродливые треугольные окна. Но если я смотрю на него с любовью или просто без предубеждения, он весь озаряется. Я имею в виду, что он озаряется внезапно, что это событие, происходящее на моих глазах. Такие вещи могут открыться каждому. — В «Бескорыстном убийце» вы описали то, что произошло на улице Клод-Террасс? — Отчасти. Но пьесу неправильно толкуют. В первом действии Беранже попадает в Сияющий город. Ему открывается преображенный мир, который до этого он видел обезображенным. Он обретает рай после дождливого города. — Но там все пронизано тревогой, потому что в раю затаился убийца. Как толковать ваш светлый и опасный мир? — Это деградация, падение. — Это вершина. — Это падение. — Это вершина, то есть точка, с которой начинается падение. — Да, именно так. — Всякий экстаз предполагает момент спада, возвращение к обыденности, правильно? — Да, это падение, первородный грех, то есть ослабление внимания, силы взгляда, иными словами, потеря способности восхищаться, забвение, склероз привычки. Обыденность — это серый покров, под которым таится девственная красота мира. Тут поистине первородный грех: нам открывается истина, но мы не видим, не узнаем самих себя и ничего вокруг. А еще это — зло, которое приходит в мир. Но критики ничего в пьесе не поняли. Они сказали, что никакого сияющего города там нет, вернее, он есть, но это просто современный город, индустриальный, технизированный — наверно, по аналогии с «Сияющим городом» Ле Корбюзье в Марселе[58]. Но для меня «сияющий» значит буквально «светлый, лучезарный». Еще говорили, будто это вовсе не город счастья, потому что туда пробрался преступник и безнаказанно убивает невинных людей. Все не так. Это очень счастливый город, но в него проник дух разрушения (слово «разрушение» здесь больше подходит, чем такие расплывчатые понятия, как «зло» или «добро»). — А что вошло в пьесу из вашего личного опыта? — Мне было лет семнадцать-восемнадцать. Я находился в небольшом провинциальном городке. Дело было около полудня, в июне. Я шел по узкой улочке, очень тихой. Вдруг мне показалось, что мир словно удаляется от меня и в то же время приближается, вернее, что мир от меня удалился и я очутился в каком-то другом мире, несравнимо более светлом и более моем, что ли, чем прежний. Собаки по-прежнему лаяли на меня из-за заборов, но их лай сделался вдруг почти мелодичным, или приглушенным, перестал резать слух. Мне казалось, что небо как-то сгустилось, свет стал почти осязаемым, а дома — невероятно яркими, я такого никогда не видел, это была действительно необычная яркость, словно улица сбросила свой привычный вид. Все это очень трудно описать; может быть, проще сказать, что меня вдруг охватила огромная радость, я почувствовал, что со мной происходит нечто очень важное. В тот момент я подумал, что больше не боюсь смерти. У меня было ощущение, что мне открылась какая-то абсолютная, окончательная истина. Я решил, что отныне, какие бы тревоги, какие бы печали ни обрушились на меня, мне довольно будет вспомнить это мгновение, чтобы снова обрести радость и ясность духа. Какое-то время это меня поддерживало. Сейчас я уже все забыл, вернее, помню само мгновение, но оно осталось во мне только как воспоминание — чисто, я бы сказал, теоретическое… Я помню его, потому что много раз вспоминал, очень хотел запомнить. Но больше я его не переживал. Да, это было чудо, которое длилось минуты три-четыре. Я казался себе невероятно легким, как будто земное притяжение перестало на меня действовать. Я шел широкими шагами, почти скачками, и мне было легко. А потом мир вдруг снова стал обыкновенным, как всегда или почти всегда. Белье на веревках больше не было похоже на знамена, на орифламмы, это были обычные простыни. Мир опять рухнул в яму. — Вы сейчас произнесли слова, на мой взгляд, очень важные. Они свидетельствуют о том, что это воспоминание для вас не такое уж «теоретическое». Вы упомянули об отсутствии тяжести в тот момент и описали ваше разочарование в конце, когда мир снова становится таким, как всегда. Но ведь то же самое испытывает у вас в «Воздушном пешеходе» Беранже. Это два основных мотива пьесы: желание взлететь и ощущение горечи, разочарования потом, когда полет кончается. — Разочарование Беранже связано не только с окончанием полета, а еще и с существованием диктаторских режимов, со слепотой мира, с тем, что наш мир позволяет себя оболванивать… Я писал «Воздушного пешехода», основываясь на сне о полете, который очень распространен. Психоаналитики рассматривают его как эротический, я же считаю, что это сон о свободе и о свете. — Как вам снятся полеты? — Например, начинается подъем, который предшествует взлету. Собственно, подъем — еще не сон. Я когда-то страдал бессонницей, и один мой друг мне посоветовал, чтобы поскорее заснуть, представить себе, будто взбираешься на гору. Вообще, это путь интеграции личности, восстановления своего «я». Я попробовал. Попытался мысленно увидеть некую гору и вообразить, будто я на нее поднимаюсь. Сначала это очень трудно, почти непереносимо, а потом, когда уже недалеко до вершины, становится удивительно легко. Я поднимаюсь все выше и выше, мысленно стараюсь шагать шире, и у меня получается, я едва касаюсь земли. Тут я успокаиваюсь и засыпаю. В сущности, такой подъем, который порекомендовал мне мой друг, Мирча Элиаде[59], это одно из архетипических сновидений. — Элиаде ведь очень известный специалист по символам и мифам. — У меня бывали и другие архетипические сновидения, более мрачные. Например, снится стена: я стою перед ней, хочу перебраться и не могу. А иногда мне снится, будто я космонавт. Довольно странный космонавт. Нахожусь в какой-то целлулоидной капсуле, голый. Я сижу (это ведь, кажется, классическое положение зародыша?), а напротив меня сидит еще кто-то, очень на меня похожий. То есть я как бы одновременно и зародыш, и космонавт. Я знаю, что лечу на другую планету. Вокруг космическое пространство. И вот мы прилетаем. Мы как-то вдруг выросли, на нас большие очки, как у авиаторов 1914 года. На планете толпа людей. Невероятное количество народу. Некоторые мужчины с бородой. И главное, там есть какой-то один, с черной повязкой на глазу. Мне делается страшно. Я говорю своему спутнику, который стал для меня чем-то вроде проводника — он больше на меня не похож и как бы старше, взрослее, чем я: «Что за дурацкая была идея сюда лететь? Как мы теперь вернемся на Землю?» Положение пренеприятное. Я начинаю обсуждать его с каким-то прохожим на инопланетном бульваре — на самом деле это бульвар Ле-февр, один из внешних бульваров Парижа. А прохожий мне говорит: «Вместо того чтобы метаться и психовать, пойди купи билет и лети на свою Землю. Нет ничего проще, ты увидишь». Я иду на вокзал и спрашиваю в кассе, есть ли у них обратные билеты на Землю. Женщина в окошечке что-то мне говорит, но я ничего не понимаю, потому что говорит она по-итальянски. По крайней мере, я теперь знаю, что марсиане говорят по-итальянски. И так каждый раз… Я ухожу с вокзала и бросаюсь искать своего товарища, но не могу нигде найти. Меня охватывает паника. Я один, заблудился на чужой планете. Так сон и кончается. Покинуть Землю и не иметь возможности вернуться — тоже одна из глубинных причин тревоги. — Это ситуация, обратная свету, полету. И хотя тут вы тоже летите, но вас гнетет замкнутое пространство капсулы, чувство утраты. Мне кажется, что радость связана для вас со светом, с невесомостью, а тревога — с темнотой, грязью, увязанием в грязи. Совсем недавно, перечитывая «Голод и жажду», я обратил внимание на одну коротенькую фразу, вклинившуюся в длинную реплику. Она напомнила мне о бассейне с утоплениками в «Бескорыстном убийце», а заодно вашу новеллу «Трясина» и сделанный по ней фильм, где этот мучительный образ увязания воплощен зримо, конкретно. Я подумал, что «Трясина» может служить основным ключом к одной из ваших постоянных тем, которая принимает самые разные формы в ваших пьесах, но суть от этого не меняется. В «Жертвах долга», например, герой, погружаясь в прошлое, в какой-то момент начинает увязать в грязи. Шуберту чудится, что он тонет, что грязь уже доходит ему до подбородка, заливается в рот, и наоборот, когда он пытается опомниться, вновь обрести себя, он изображает восхождение, подъем, как в том сне об интеграции личности, о котором вы рассказывали. Даже в «Лысой певице», хотя и в совершенно ином плане, гораздо более абстрактном, можно распознать мотив увязания в словах, в пошлости, которое выражает неспособность персонажей совладать с миром. Кстати, в «Жаке, или Подчинении», когда Роберта говорит, что она увязла, то неизвестно, увязла она в своем кошмаре или в словесном бреду. По-моему, все это выражает определенную трудность бытия. — Да, определенную трудность бытия. — Значит, оппозиция строится так: с одной стороны, свет, воздух, полет, с другой — плотность, тяжесть, связанные часто с образами грязи, трясины, а иногда — вспомним бассейн из «Бескорыстного убийцы» — даже и с чистой водой. — Почему она там чистая, я и сам не знаю. Любопытно! Ведь она не должна быть чистой. Разве что… Да, она чистая только в самом начале, а потом уже нет, потому что там плавает утопленница с длинными рыжими волосами, похожими на водоросли, и вода становится темнее. Вы говорите, что в моих пьесах много тины, грязи и герои утопают в ней. Это и правда соответствует одному из двух моих состояний. Я чувствую себя то легким, то тяжелым, то слишком легким, то слишком тяжелым. Легкость — это эйфорическое растворение, которое может стать мучительным, трагическим, если к нему примешивается тревога. Когда тревоги нет, то это — легкость бытия. Не знаю, что сказал бы мне психоаналитик. Кажется, мы уже с вами вспоминали Юнга. Последователь Юнга сказал бы, что мои пьесы невротические, потому что они отражают раздвоенность мира, разделение его на небо и землю. Действительно, то у меня — тяжесть, вязкость, земля, вода, грязь, то — небо, легкость, растворение. Наверно, мои сочинения передают нарушение равновесия между землей и небом, отсутствие единства, целостности, словом, выражают род невроза. — А разве литература вообще не есть сплошь и рядом выражение невроза? — Я считаю, что литература есть невроз. Где нет невроза, там нет и литературы. Здоровье — вне поэзии, вне литературы. Равно как и вне прогресса, поскольку не требует ничего «лучше, больше». Теперь другой вопрос: репрезентативен ли подобный «невроз» как отражение трагедии человека вообще, или это частный случай? Если это частный случай, то он малоинтересен. Но в той мере, в какой он отражает удел человеческий (человек — «больное животное», не так ли?), метафизическую тоску или является откликом на психологические условия, созданные не писателем, а объективно существующими обстоятельствами, он весьма интересен и знаменателен и заслуживает серьезного рассмотрения. Так вот, тема трагического человеческого удела, вероятно, воплощается — во всяком случае, у меня, да и у других тоже — в тяжести и тучности. Это проявление индивидуальной психологии… Но индивидуальная психология вписывается в общечеловеческий контекст, в его внеисторический и внесоциальный пласт, и одновремено в ситуацию социальную, историческую. Возможно, в социальном аспекте эта тяжесть, эта трудность бытия вызвана тем, что именуется тоталитаризмом, коллективизмом, толпой, массой или «невыносимой современной жизнью». А может быть, наоборот, тоталитаризм есть просто некое воплощение давления, удушья, гнета, которым подвергает нас нынешний мир и которые мы ему возвращаем сполна: люди сами как бы выделяют, секретируют диктатуры, создают удушливую атмосферу. В мире есть периоды легкости — Перикл, Возрождение, и периоды тяжести — всякие сталинизмы, неосталинизмы, правые и левые фашизмы, коллективизмы, а с другой стороны — суперкапитализация, этатизм, национализм… — Итак, большинство книг, которые вы любили в юности, пронизаны светом. Рассказывая о том, как свет вошел в вашу жизнь, и о том, как некоторые ваши сновидения преломляются в ваших пьесах, вы дали понять, что у вас единый подход к миру природы и миру культуры, что для вас не существует пропасти между ними. Зато существуют оппозиции свет — тьма, легкость — тяжесть, счастье — тревога, выявлявшиеся и в сновидениях, и в разлуке с Ла Шапель-Антенез. К ним мы еще вернемся не раз, когда будем говорить о вашем театре. А пока, пытаясь определить истоки вашего творчества — или хотя бы тот климат, в мотором оно зарождалось, — я хотел бы спросить: встречали ли вы в литературе описания тревоги, созвучной вашей собственной, или, может быть, какие-то книги вызывали у вас эту тревогу? Можете ли вы назвать авторов, у которых человек, подобно вашим героям, вынужден жить в гнетущем мире и постоянно пребывает в поисках света — поскольку вас интересуют прежде всего поиски света? — Не думаю, чтобы кто-то из писателей оказал на меня существенное влияние, во всяком случае так мне кажется. Но я действительно встречал у некоторых авторов одержимость теми же образами и мыслями, какие не покидают меня самого, и чувствовал в их описании что-то мне близкое, подкреплявшее мои собственные впечатления. А иногда даже находил выражение того, что чувствовал сам. Очень удобно находить готовые формулировки, когда говоришь себе: «Автор сказал то, что я сам хотел сказать, но у меня не получалось». Этим можно воспользоваться как подспорьем. Кто-то выразил мои смутные мысли удивительно внятно и тем самым помог мне двигаться дальше. — Так кто же из писателей сумел прояснить для вас ваши смутные состояния? — Был Кафка. Сначала «Превращение», потом весь Кафка целиком. Были художники, такие как Кирико. Был Борхес. Это тот же род тревоги. — А что именно Борхеса? — «Вавилонская библиотека». — Где тревогу порождает культура… — Да. Но тут и другое — бесконечность, лабиринт, который есть образ бесконечности и который мы находим и у Кирико, и у Кафки. Лабиринт — это ад, это время, это пространство, это бесконечность, тогда как рай, напротив, — цельный сферический мир, в котором «заключено все», он ни конечен, ни бесконечен, проблема конечного и бесконечного здесь просто не возникает. Именно так я воспринимал Ла Шапель-Антенез: место, где тревоги не существует. Как только мы оказываемся во времени или в пространстве, которое может быть измерено, — это ад. — А что, к примеру, дал вам Кафка? — Я открыл Кафку довольно поздно. Первое же, что я прочел — это было «Превращение», — поразило меня, хотя я не уверен, что с самого начала правильно его понял. Я только чувствовал за всем этим нечто ужасное — что может случиться с каждым из нас, хотя это и представлено в совершенно ирреалистической форме. Я ощущал там — и это взволновало меня больше всего — какое-то чувство вины, вины «без причины», как бы и неосознаваемой. Вероятно, Кафка не имел этого в виду, но я понял так, что каждый из нас способен стать чудовищем, что в нас во всех таится такая возможность. Чудовище способно вылезти наружу в любой момент. И тогда с нами произойдет превращение. Иными словами, чудовище, таящееся внутри нас, в состоянии одержать верх. Ведь толпы людей, целые нации периодически теряют человеческий облик: войны, восстания, погромы, резня, коллективные преступления, диктатуры, репрессии. И это только часть тех форм, в которых проявляется наша чудовищность, просто они первыми пришли мне в голову, так как очень распространены — и сегодня, и в истории вообще. Чудовище в нас принимает разные обличья, их множество, коллективных и неколлективных, бросающихся в глаза и нет, очевидных и неочевидных. — Вы говорите, что, возможно, Кафка хотел сказать своей новеллой что-то другое… Но во всяком случае, понятно, как ее восприняли вы. Говоря о «Превращении», вы рассказываете опять же «Носорога». — Конечно. У Кафки ведь тоже есть пробуждение чудовища. Прочитав его, я довольно долго жил в состоянии паники. Мне и теперь кажется, что в какие-то моменты любой может стать преступником. Кто знает, а вдруг чудовища в нас проснутся и вылезут наружу? Я помню, как мне было страшно. — А кроме Кафки и Борхеса, есть еще писатели, которые подействовали на вас так же сильно? — Разумеется, но в совершенно ином плане. Достоевский, конечно. В огромной степени Пруст. Потому что он выражал то, что я чувствовал, но не в состоянии был уложить в слова. Например, я проходил однажды мимо какого-то дома, где в кухне было открыто окно и оттуда пахло сдобой, ее запах напомнил мне что-то, а это что-то в свою очередь напомнило о чем-то еще и так далее. Я не мог это выразить, я считал, что это невыразимо, пока не прочел у Пруста знаменитый кусок про пирожные «мадлен». — А Поль Валери? — Нет. У него нет внутреннего света, у него есть только ювелирный блеск, жесткое, холодное сверкание бриллианта. Валери Ларбо кажется мне намного более теплым, а может быть, его теплота просто более очевидна. Поскольку я сам человек не столько умственный, сколько эмоциональный, меня тронул именно он, так же как и Ален-Фурнье, как Жерар де Нерваль, как лирический Пруст… Словом, были писатели, которые меня поддержали, которые меня подтолкнули, помогли мне, просветили меня, дали мне почувствовать мою собственную правоту, причем в обеих плоскостях — и умственной, и эмоциональной. Ведь чувства — это тоже своего рода мысли, и наоборот, мышление окрашено эмоциями. Оставим логикам и физиологам проблему их разграничения. Но хотя мысли и эмоции смыкаются — даже математика в каком-то смысле субъективна, поскольку она плод человеческого сознания, — скажу, огрубляя, что есть два разряда авторов, которые на меня повлияли: поэты и несколько мыслителей. — Кого из мыслителей вы бы назвали? — Дионисия Ареопагита[60]. Кто он — мистик, философ или поэт? Что есть его мысль? Это выражение его опыта, который выходит за грань обычного мышления. Я не поднимался сам до опыта столь высокого, но Ареопагит дал мне некоторое представление о том, что он испытал за пределами мысли, за пределами восприятия, доступного обычному человеческому рассудку или сердцу. Поэтому я могу назвать Ареопагита в числе тех, кто на меня повлиял. Точно так же могу назвать даже не самого Сан Хуана де ла Крус[61], а книгу Жана Баруцци о Сан Хуане де ла Крус. Из нее я узнал о его мистическом опыте, очень близком к опыту византийских мистиков. Это откровения во тьме, то есть, если мне не изменяет память, отказ от чувственного мира, от зрительного образа, дабы достичь света по ту сторону образа, вне образа. Я, конечно, довольно смутно помню тексты византийцев — святого Григория[62] и других, — но от них у меня остался в памяти, несмотря на их отрицание образа, именно образ — образ вне образа, — образ света. Это есть и в книге под названием «Филокалия», отрывки из которой существуют во французском переводе. Интересно, что от опыта всех этих людей, отвергавших зримые картины мира с их яркостью, красками, светом, остались, как это ни парадоксально, именно свет, яркость, сияние. Любопытно, правда? — В зависимости от того, неоплатоник вы или христианин, это свет Единого или свет Бога. — Но всегда именно свет — будь ты хоть неоплатоник, хоть неохристианин, хоть неоиудаист или даже марксист. Ведь известно, что без иудаизма Маркс никогда не стал бы тем, чем он был. В самом деле, в марксизме, помимо констатации определенной общественной ситуации, сложившейся в девятнадцатом веке и давным-давно преодоленной, есть и тоска по утраченному раю. Эта тоска передалась от него революционерам, и они, сами того не сознавая, ищут утраченный свет. Первоначальная основа коммунистической идеи именно в этом. Время от времени появляются поразительные произведения в литературе, в кино, и тогда становится видно, что кроется за марксизмом. Миф, истина глубокая, изначальная, вдруг проступает сквозь идеологию, которая есть не что иное, как выродившаяся истина мифа. — Мифы, как и сновидения, много значат для вас? — Да. Я помню один советский фильм, «Золотой ключик»[63]. В его основе итальянская детская книжка про Пиноккио. По ней сделана масса фильмов. Кстати, у Диснея фильм получился идиотский. Русский фильм — тоже, но кое-что в нем все-таки было. Там режиссер оказался умнее самого себя, своей идеологии. «Пиноккио» — это история про старика, который мастерит деревянных кукол. И одна из его кукол вдруг оживает. Почему она оживает? Потому что старый Пигмалион так полюбил свое творение, свое дитя, что его любовь сделала чудо. Но это только начало. — Нет ли тут какой-то связи с еврейским мифом о Големе? — По-моему, нет, но можно проверить. Пигмалион, Голем, Пиноккио, в общем, ожившие статуи — хорошая тема для докторской диссертации. Но меня интересует советский фильм. Маленького деревянного нищего эксплуатирует злой капиталист, хозяин цирка. В определенном смысле эксплуатация означает отчуждение от человеческой сущности. И Буратино из куклы становится человеком, как только ему удается вырваться на свободу, сбежать из цирка. Куда же он бежит? В социалистический рай. Но главное — бежит. Он садится на корабль. Злой капиталист гонится за ним на другом корабле. И вдруг корабль Буратино отрывается от поверхности воды и поднимается в воздух. Начинается потрясающий полет по небу. Все мистические темы и, главное, чувство освобождения, света воплощены в этих изумительных кадрах, ярких, с поразительно свежими, чистыми красками. Фильм состоялся благодаря идеологии. Но сквозь идеологию проступают темы вознесения, неба, света, рая. И еще «подлинной» жизни: деревянное тело Буратино становится человеческим, он обретает «духовное тело». Буратино попадает в цветущий рай, где правит улыбающийся усатый дядя — эта скотина Сталин, — который во имя великой цели превращен в Бога Отца… Не очевидно ли, что в марксистском учении заложен миф о Новом Иерусалиме, об идеальном граде? <…> — Мы с вами долго говорили о литературе, и вы назвали писателей, поэтов, мыслителей, критиков, которые как-то повлияли на вас или по крайней мере произвели впечатление. Меня удивляет, что среди них нет ни одного драматурга. — Я мог бы ответить, что не люблю своих коллег, что я драматург от Бога. Но я шучу. Что вы спросили? Почему я не назвал драматургов? Наверно, потому, что не нуждался в чужом театре. Мне незачем было искать театр у кого-то другого, я считаю, что театр во мне самом. — Вы равнодушны к великим драматургам? — У меня, как и у всех, были учителя французской словесности, и я читал Корнеля, Расина, Мольера. Точнее, нет, не читал. Мы проходили Корнеля, Расина, Мольера, нам задали прочесть несколько пьес, как обычно в школе, и несколько отдельных сцен из других пьес. Кажется, я так никогда и не взялся читать Расина по-настоящему, целиком, как делают некоторые. Прочту-ка я Расина! А теперь Корнеля! О, какая катастрофа этот Корнель! Я не мог заставить себя читать пьесы, мне было страшно скучно. Я читал романы, стихи, эссеистику. — Неужели правда ни один драматург вас не заинтересовал? — Шекспир. Мольер — нет. Моя дочь обожает Мольера. Лет в девять-десять она уже начала его читать и не могла оторваться. А я Мольера не любил. Но теперь стал относиться к нему лучше. — Почему? — Потому что теперь часто говорят, будто «жеманницы» на самом деле умнее Мольера и будто, несмотря на весь свой талант, он был человек недалекий и мыслил как лавочник. Я-то считаю, что правда на стороне Мольера и иногда — Аристофана, а не на стороне рафинированных умников из Шестнадцатого округа. Ведь наверняка во времена Людовика Четырнадцатого был свой Шестнадцатый округ[64], как, впрочем, и в Афинах. — Обеды у Агафона, к примеру. — Словом, снобы и педанты всех времен считали сочинителей комедий дураками, пусть даже и гениальными. Аристофан и Мольер для них дураки. Вы же знаете, как высоколобые авторы, ученые ослы и прочие Бартоломеусы[65] кичатся своей утонченностью: они заумны и потому считают себя умными, любят усложнять простые вещи и считают себя сложными. Пора, по-моему, перестать держать комедиографов за идиотов. В конце концов, неизвестно еще, что лучше: ученый осел или невежественный. — Давайте вернемся к Шекспиру. Что такое для вас Шекспир? Вы, насколько я понял, отводите ему исключительное место среди драматургов. Почему? — Да, отвожу. Но дело не в том, какой он драматург, а в том, что он нам близок. Разве он не сказал, что жизнь — это повесть о безумцах, рассказанная дураком? Что все есть лишь «шум и ярость»? Шекспир — предтеча театра абсурда. Он все сказал очень давно. Беккет пытается это повторить. А я даже не пытаюсь: когда все сказано так хорошо, что можно добавить? — Вас часто сравнивают с Фейдо[66]. Оказал ли он какое-нибудь влияние на вас? — Я уже говорил, что на меня гораздо больше влияли поэты и прозаики, чем драматурги. Звучит неправдоподобно, но это правда. Когда-то мне говорили, что на меня оказал влияние Стриндберг[67]. Я прочел пьесы Стриндберга и сказал: «Да, действительно, Стриндберг оказал на меня влияние». Потом сказали, что на меня повлиял Витрак[68]. Я стал читать Витрака и сказал: «Да, действительно, Витрак на меня повлиял». Потом мне сказали, что на меня повлияли Фейдо и Лабиш. Я прочел Фейдо и Лабиша и сказал: «Да, пожалуй, они на меня повлияли». Так я приобрел театральное образование. Однако если я мог «испытывать влияние» Стриндберга, Витрака, Фейдо до того, как их прочел, то это означает только одно: человек существует не в вакууме. Мы ошибаемся, когда думаем, будто писатели абсолютно свободны в выборе темы и произвольно решают, писать или не писать какие-то вещи. На самом деле тревоги, навязчивые образы, мировые проблемы у нас внутри, и мы — каждый в свой час — обнаруживаем их. Великое заблуждение сравнительного литературоведения, каким оно было лет двадцать назад, заключалось в том, что оно рассматривало влияние одних писателей на других как прямое воздействие и вообще исходило из идеи влияний. Очень часто никакого влияния нет вовсе. Просто существует некая данность. И какие-то люди реагируют на нее более или менее одинаково. В этом смысле наш поиск свободен, но в то же время и предопределен. <…>
— Если исходить из того, что вы рассказали о ваших литературных предпочтениях, то возникает вопрос: как и почему вы стали театральным автором? — Мне и самому это любопытно. Спросите лучше психологов. Почему я сел писать свою первую пьесу? Может быть, хотел доказать, что все ценности дутые и что отовсюду ушла жизнь — из литературы, из театра, из самой жизни. — Вы могли выбрать для этого и другую форму: поэзию или эссеистику. Правда, вы написали и роман, «Одинокий», но в 1973 году, когда уже были знаменитым драматургом. Мне интересно вот что: многие ваши пьесы — «Бескорыстный убийца», «Жертвы долга», «Носорог», «Воздушный пешеход» — выросли из рассказов, которые вы собрали в книгу под общим названием «Фотография полковника». Может быть, изначально у вас было призвание рассказчика? — Изначально я писал критические статьи. И стихи, очень плохие. — Ну, это вы так считаете. — О, они были действительно никудышные, в духе примитивного антропоморфизма: цветы плачут и исходят кровью, мечтают о лугах, о весне и еще не знаю о чем. Мне было семнадцать лет. Единственное, что меня извиняет, это влияние Метерлинка и Франсиса Жамма. А потом, после плохих стихов, я начал писать критические статьи, очень суровые и беспощадные, как будто через других хотел наказать самого себя. Потом пытался написать роман. Это было страшно давно. — А о чем роман? — О самом себе, естественно. — То есть вы начали классически, как все подростки: со стихов? — Нет, до этого я сочинял пьесы. — Уже? — Погодите… Еще раньше, лет в десять, я писал мемуары. Я написал две страницы и потерял их. Первую страницу помню до сих пор. Я писал о том, как меня фотографировали в три года. Теперь я уже забыл, как меня фотографировали в три года. Только помню, как в десять лет писал про это… А в одиннадцать я уже сочинял стихи и патриотические пьесы. Французские патриотические пьесы. В тринадцать лет я попал в Румынию, выучил румынский язык и в четырнадцать перевел свою патриотическую пьесу на румынский, слегка ее переделав, и получилась румынская патриотическая пьеса. — Вы были дважды патриотом. — Дело в том, что в детстве я испытал большое потрясение. Во Франции, в деревенской школе, меня учили, что французский, который был моим родным языком, — самый прекрасный язык в мире, а французы — самые храбрые, они всегда побеждали своих врагов, а если и терпели иногда поражение, то только потому, что у противника солдат было в десять раз больше, или потому, что сплоховал Грушй или Базен[69]. В Бухаресте я узнал, что мой язык — румынский, что румыны всегда побеждали своих врагов, а если и терпели иногда поражение, то только потому, что среди них были свои Грушй и Базены. Короче, выяснилось, что не французы, а румыны самые лучшие и превосходят все прочие народы мира. Большое счастье, что я не очутился через год в Японии!.. В общем, я начал с патриотической пьесы. А одновременно писал комедию. — Вас уже тогда влекло к комическому? — Да. Но эту пьесу я помню довольно плохо. Мне было лет одиннадцать-двенадцать, дело было в Париже, на улице Авр. Один мальчишка, мой приятель, сказал, что ему купили кинокамеру и мы можем снять фильм. Это была неправда, он был просто фантазер. Он попросил меня написать сценарий. Помню только конец: в доме все разнесли вдребезги. Человек семь-восемь детей пришли в гости пить чай, а потом начали бить чашки, ломать мебель и в конце концов выбросили в окошко родителей. — Но тогда это все-таки не кончилось, как потом в «Гневе»[70], атомной войной. Интересно, что в вашем детском сценарии уже видны те же механизмы, те же темы, что и в «Гневе» столько лет спустя: нарастание темпа, ускоряющиеся повторы одинаковых действий и наконец разрушение. — Что ж, значит, у меня всегда была к этому склонность. Кстати, ускорение и повторы есть и у Фейдо: возможно, у него это тоже осталось от детства. Наверно, таковы составляющие моего видения, моего ритма. (…)
— Мне все-таки интересно, как и почему вы избрали для себя маску театрального драматурга? — Почему я пришел в театр? Сам не знаю. — Но вы ведь написали в «Записках за и против», что взялись за сочинение пьес, потому что ненавидели театр. — Написал. Но это было упрощение. — Однако это вполне увязывается с подзаголовком «Лысой певицы»: «антипьеса». Какой смысл вы в него вкладывали? — Наверно, когда я писал пьесу, я знал. Но с тех пор успел забыть. — Потому что полюбили театр? — О, когда я говорил, что люблю театр, это тоже была не совсем правда. Признаюсь, когда я написал в «Опыте театра», что в какой-то момент открыл для себя театр и полюбил его, это была просто небольшая уступка нескольким театральным критикам, защищавшим меня от нападок, и актерам, игравшим в моих пьесах. — Но когда вы взялись за перо, чтобы написать «Лысую певицу», у вас же наверняка был какой-то замысел. Критикам в первую очередь бросилась в глаза — я не имею в виду тех, кто вообще ничего не понял, — сатира на повседневность, поданная в форме обличения искусственного литературного языка. — Не знаю, что они там увидели. Был человек, который понял пьесу великолепно. Это Жан Пуйон. Он написал в «Тан модерн» в июне 1950 года статью, где объяснил все, что я хотел сказать. И объяснил правильно. Я вовсе не обличал некоммуникабельность или одиночество. Наоборот. Я за одиночество. Говорят, будто мой театр — это стон одинокого человека, который не умеет общаться с другими людьми. Да ничего подобного! Общаться как раз легче всего. Человек никогда не бывает один, и его несчастье в том и состоит, что он не бывает один. — Это вы и хотели показать? — Чем была для меня эта пьеса? Она выражала удивление перед жизнью, восприятие нашего существования как чего-то в высшей степени странного. Люди общаются. Они разговаривают. Понимают друг друга. Это же поразительно. Как получается, что мы друг друга понимаем? То есть я вдруг перестаю понимать, каким образом мы друг друга понимаем. Если сознательно отстраниться, взглянуть на все как бы извне или с некоторой высоты, поставить себя в положение зрителя или, скажем, жителя другой планеты, который смотрит на жизнь нашего мира, то вы ничего не поймете: слова будут пусты, все лишится смысла. То же самое мы почувствуем, если станем смотреть на танцующих, заткнув уши. Что они делают? В чем смысл их движений? Его нет. Я пишу пьесы, чтобы передать чувство удивления, недоумения. Кто мы есть и почему? Что все это значит? Нет, я даже не задаю вопрос «почему?», не спрашиваю, что это значит. Тут скорее вопрос несформулированный, но более сильный, чем если бы он был сформулирован, что-то вроде первобытного изумления, оттого что нечто существует и движется или кажется, будто движется. Вот что мне хотелось передать. Конечно, сразу посыпались социальные толкования, хотя я-то старался выразить нечто, выходящее за рамки и логики, и социологии. Я хотел высветить странность нашего бытия вообще, поделиться своим удивлением перед жизнью. Ведь странно абсолютно все: наши слова, жест, которым кто-то берет стакан и выпивает его, — короче, сама наша жизнь. Можно, например, гулять, а можно не гулять — и то и другое удивительно. Делать что-то или не делать — удивительно. Совершать революции, не совершать революции — удивительно… Но как только мы принимаем жизнь, оказываемся внутри нее, удивление, абсурд исчезают. Когда мы соглашаемся быть внутри, мы начинаем общаться. Когда же мы снаружи, когда мы отстраняемся и смотрим — общения нет. Персонажи «Лысой певицы» непрерывно общаются, говорят тривиальные вещи. Но я писал пьесу не затем, чтобы обличать пошлость, совсем не затем. Их слова казались мне не пошлыми, а удивительными, в высшей степени странными. Когда мистер и миссис Смит говорят в начале пьесы: «Мы ели сегодня вечером хлеб, картошку и суп с салом, мы хорошо поужинали», — я хотел передать этим свое изумление перед совершенно поразительным занятием — есть суп. Есть казалось мне в тот момент чем-то невероятно странным, загадочным, непостижимым. Когда персонажи говорят: «Мы ели картошку с салом», или: «Существует ноуменальная реальность, которая таится за миром явлений», или наоборот: «Сущность вещей познаваема через явления», — для меня это несет одинаковый смысл — или бессмыслицу. Любое из этих высказываний одинаково поразительно. Иначе говоря, является чудом. — Вы уравниваете противоречивые вещи, помещаете их в одну плоскость. Может быть, театр тем и хорош, что позволяет представлять противоречия, не предлагая синтеза? — Да, конечно. Для меня, как и для вас, жизнь то невыносима, трудна, мучительна и непостижима, то кажется проявлением божественного начала, воплощением света. И я занимаюсь театром, а не пишу эссе или романы, потому что проза и эссеистика требуют известной логики, последовательности, а «непоследовательность» и противоречивость возможны только в театре. На сцене персонажи могут говорить что угодно, любые нелепости, любой вздор, какой придет в голову, потому что это говорю не я, а они. Приличия соблюдены. — То есть наличие действующих лиц позволяет вам держать дистанцию по отношению к каким-то вещам? — Да, к разным навязчивым образам, тревогам, противоречиям. Все это потом каким-то образом собирается, и возникает синтез… нет, скорее не синтез, а некий ансамбль, где уравниваются все «за» и «против», верх и низ. В общем, он объединяет противоположности, и получается не синтез, а сосуществование множества разных вещей. — Эта дистанция в театре по отношению к вашим подлинным переживаниям, личному опыту, противоречиям жизни становится заметна, если сопоставить ваши рассказы из сборника «Фотография полковника» и пьесы, которые вы из них потом сделали. В рассказах возникает впечатление, что вы фиксируете непосредственно — или в слегка транспонированном виде — свои собственные ощущения, сновидения, кошмары. В пьесах же действие, включая его скрытую или явную символику, разворачивается словно само по себе, без участия автора. И персонажи, которые не есть Эжен Ионеско, переживают свою эпопею на наших глазах. — Правильно, потому что в театре все гораздо сильнее объективируется, хотя это и не всегда осознаешь. Ведь всякое творчество есть смесь сознательного и спонтанного. — Как происходит переход от рассказа к пьесе? — Рассказ служил в каком-то смысле сырьем для пьесы. Сначала я писал пьесы. Потом стал писать рассказы, потом снова пьесы, рождавшиеся из этих рассказов. Я смотрел на какой-нибудь рассказ и говорил себе: неплохой рассказчик и, по-моему, очень сценичный, сделаю-ка я из него пьесу. И рассказ становится как бы болванкой, предварительным наброском. Я использую его просто как сценарий. Иногда пытаюсь превратить в пьесу рассказ, на первый взгляд совсем несценичный или трудный для инсценирования. Рассказ — это уже некое усилие, транспозиция, а пьеса — это транспозиция транспозиции. Поэтому все объективируется вдвойне. — Рассказ — это транспозиция чего? — А стихотворение — транспозиция чего? А пьеса, которая пишется без предварительного сценария? Вся литература есть транспозиция или же запись того, что я вижу, думаю. — А не могли бы мы попытаться через эту двойную транспозицию рассказ — пьеса проанализировать ваш механизм творчества? — Слишком сложно… сегодня. Я уже писал кое-что об этом: «Автор и его проблемы» в журнале «Ревю де метафизик» и в «Записках за и против». — А может быть, все-таки попробуем? — Чтобы пробовать, нужна память. — Ну, возьмем, к примеру, рассказ, который лег в основу пьесы «Воздушный пешеход». Что побудило вас его написать? Из чего родился замысел? — Из сновидения. Я использовал один из моих снов. Сон о полете. Я уже говорил о нем. В этом рассказе, с одной стороны, — сон, сон об освобождении, о силе, с другой — реалистическая картина ужасов тоталитаризма, сатира, зловещее пророчество. Парижские критики, за исключением таких, как Кантер, Лемаршан, Готье, ничего не поняли в этой истории, хотя она очень проста. Критики-«интеллектуалы» просто не пожелали понять. Но вернемся к пьесе. Я отталкивался одновременно и от сновидения, и от вполне осознанной мысли. Сон — это улетающий господин. Сознательная часть — картины, которые он видит в полете. Что же он видит? Да то, что происходит на половине нашей планеты и что другая половина, по причине своей слепоты, равнодушия, предвзятости, видеть не хочет: десятки миллионов униженных, разнузданный террор, диктатуру, взбесившуюся власть — словом, маленький повседневный апокалипсис, так сказать, привычный, — людей, которые лижут зад идолам, и прочие забавно-кошмарные вещи. Но все это уже есть в рассказе. Вас, наверно, интересует, как рассказ превратился в пьесу? Я помню почему, но уже не вполне помню как. Он превратился в пьесу, потому что я подумал: «Воздушный пешеход» — это не театр, более того, это прямая противоположность театру, а раз так, то попробуем сделать из него пьесу. Противоположность театру тоже можно превратить в театр. Тут есть свой азарт. В «Лысой певице» я уже пытался создать нечто зрелищное из совершенно незрелищного удивления и недоумения перед бытием. А как сделать спектакль из «Воздушного пешехода», где человек летает, а гуляющая публика беседует, вот и все? То есть не происходит никаких явных событий, которые должны разворачиваться на сцене перед зрителем. Именно такая задача меня и соблазнила. — И вы решили, что невозможное все-таки возможно? — Я читал когда-то давно повести Жана Ришпена[71]. Там действовал один странный преступник, который, сидя в тюрьме, пытался написать большую поэму, где были бы только односложные слова. Он начал писать и, как только понял, что это возможно, бросил. Примерно такие же пари с самим собой я заключал, когда писал некоторые пьесы — «Лысую певицу», «Воздушный пешеход», даже «Стулья». По-моему, это хорошее упражнение в мастерстве — найти сценичность там, где ее нет, во всяком случае нет на первый взгляд. — Вам казалось, что «Воздушный пешеход» не годился для театра, потому что его невозможно поставить? — Да. Но я слегка преувеличиваю. На самом деле, всё — драма, но не всегда такая, как принято в традиционном театре. И если я говорю, что мой поиск был анти-театрален, то я имею в виду, что искал театр вне театра, или вне «театральности», то есть я искал драматическую ситуацию в ее первобытной, глубинной подлинности. — Могли бы вы сформулировать свое понимание такой ситуации и объяснить, в чем ее отличие от классических театральных ситуаций, на которые театроведы давно наклеили ярлыки и которые нам вдалбливали в лицее? — Вы сами это знаете не хуже меня. Я уже говорил: я ищу свой театр главным образом в осознании того, что я, как и любой из нас, — человеческое существо и нахожусь — не по своей воле — один на один с миром, который почти никогда не ощущаю своим, — ситуация неуютная, но извечная и требующая осмысления. Разнообразные формы и исторические обличил этого мира, который находится здесь, передо мной, за мной, сверху, снизу и даже во мне самом и в котором я чувствую себя как утопающий в океане, — так вот, его обличил и все, что в нем происходит, не так важно: то или это… тот фильм или этот… поразительно, что фильм есть, а какой — значения не имеет. Нас потрясает существование кинематографа, а не конкретного фильма. Сам кинематограф — откровение. Правда, фильм, который показывает нам жизнь сегодня, поистине ошеломляет. Но кинематограф как таковойошеломляет еще больше, ибо он включает все фильмы, какие есть, и я в каждом фильме вижу в первую очередь кинематограф. Кино… то бишь, простите, театр — в каждой пьесе… потому что говорим-то мы о театре, о бытии, о том, что существует мироздание и все происходит в нем. В общем, вы меня понимаете.
— Скажите, независимо от того, лежит или нет в основе пьесы рассказ, что побуждает вас ее писать? — Бывают моменты, когда я мыслю сумбурно, почти бессвязно, когда ассоциации возникают необычайно свободно и я испытываю самые разные порывы, которые могут уживаться друг с другом, а могут и нет. Такое почти хаотическое состояние мыслей очень часто («часто» не значит «всегда», потому что абсолютного правила тут нет) означает, что мне надо написать пьесу: хаос должен принять какую-то форму, из него должен возникнуть стройный, ясный мир. И наоборот, эссе, статьи, исследования я пишу в более спокойном состоянии, когда чувствую, что лучше владею собой и уверен в точности своего знания. Когда я именно знаю, а не стремлюсь узнать. Но в такие периоды я уже не могу писать пьесы. Когда я размышляю о театре — своем собственном или других драматургов, — или о живописи, или о чем угодно, это не есть моменты творчества. Моменты творчества — это те, когда у меня мыслительный метаболизм протекает необычно, когда мой мозг функционирует беспорядочно, когда я не в себе. В такие минуты я мог бы писать стихи, если бы вообще их писал. Откуда-то всплывают самые неожиданные вещи, они словно возникают из темноты. Сам не знаю, откуда они берутся. Я просто ловлю их, как могу. Сопоставляю, выстраиваю и так далее. И только когда они записаны, закреплены, как-то упорядочены, благодаря тому что оказались в сцепке друг с другом и в этом положении застыли, я могу, что называется, мыслить, хотя для меня самого «мыслить ясно» часто означает мыслить заурядно или недостаточно глубоко, псевдорационально, в пределах привычных клише, иначе говоря — «не мыслить». — То есть исходным моментом театрального мышления становится некий сумбур, неуравновешенность… — Вот-вот, неуравновешенность. — И она означает, что вас мучит некий вопрос. Или даже она сама и есть этот вопрос. А рождающаяся из него пьеса помогает вам если не разрешить его, то по крайней мере сформулировать, так? — Так. — Иными словами, из этой неуравновешенности вы выстраиваете некое новое собственное равновесие. — Да. Иногда мне все кажется ясным. Я рассуждаю вполне последовательно, но не пишу. А потом вдруг словно землетрясение случается в моем маленьком мире, все как будто рушится и наступает тьма, точнее, странная смесь тьмы и света, хаос. Из этого я и начинаю что-то создавать, как создавался настоящий мир — из хаоса… Художественное творчество — это ведь тоже сотворение мира. Процесс приблизительно одинаковый, mutatis mutandis[72], но сходство есть. — Такое состояние, с его эмоциями и будоражащими вопросами, сохраняется на протяжении всего времени, которое требуется, чтобы написать пьесу, то есть несколько месяцев, год или больше? — Я пишу пьесы за два-три месяца, иногда за месяц. — И нужное состояние держится все это время? — Примерно. — И не бывает сбоев, периодов сильных и слабых? — О, трудно сказать. Да, бывают перерывы. Я успокаиваюсь, становлюсь более уравновешенным. А потом снова погружаюсь в прежнее состояние. И дело пошло. Я помню, как писались «Стулья», «Амедей, или Как от него избавиться», «Жертвы долга». Я считаю, что «понимаю», например, «Жертвы долга» или другие свои пьесы очень хорошо, лучше, чем критики, но, когда я их писал и некоторое время после, они на определенном уровне «понимания» были для меня не вполне ясны. — Можете вы объяснить этот механизм — одновременно творчества и… — Освобождения. Это действительно освобождение. Если бы, когда я писал «Жертвы долга», мне сказали: «Объясните, пожалуйста, вашу пьесу», — то мне пришлось бы, чтобы ее объяснить, сочинить еще одну пьесу, то есть придумать новую цепочку образов. Обычное понимание лежит в других пластах сознания, в другой системе формулировок. — В сущности, работая, вы переживали то же самое, что и ваш герой Шуберт в «Жертвах долга». Вы шли тем же туннелем. — Совершенно верно. А потом, когда пьеса уже поставлена и критики начинают говорить: «Это означает то-то и то-то», — я вдруг, словно опомнившись, восклицаю: «Да они же ничего не понимают! Пьеса означает совсем другое, она означает вот что…» — и начинаю объяснять. Я могу давать объяснения, потому что сам больше не нахожусь внутри того мира, между мной и пьесой успела возникнуть дистанция. А когда я писал, я был целиком во власти логики сновидения, которая сознанию не подотчетна. — Но разве, скажем, «Экспромт в квартале Альма» написан без участия ясного критичного сознания? — У меня есть и такие пьесы, критически направленные, писавшиеся вполне сознательно. «Сознательно» в кавычках, ибо мы все делаем сознательно — просто иногда работает другое сознание. Свет солнечный, свет лунный. Есть сознание дневное и есть ночное; есть и дневная бессознательность — что-то вроде отключения памяти. Есть непересекающиеся плоскости сознания и знания. Вот, например, «Носорог»… — Здесь ведь в основе тоже лежит кошмарный сон, верно? — Да, как одна из составляющих, но сон очень давний, как бы уже переваренный. Я мог размышлять о нем на холодную голову. Меня за эту пьесу ругали. Не потому, что я представил тоталитаризм, коллективную жизнь как нечто отталкивающее, а потому, что не предложил выхода. Но мне и не нужно было предлагать выход. Мне нужно было показать, почему в коллективном сознании возможна мутация и как она происходит. Я просто описывал — феноменологически — процесс коллективного перерождения. Я делал это вполне осознанно, имея в качестве отправного пункта тот давний кошмарный сон. Но я уже не жил в нем. А когда я писал «Жертвы долга» или «Аме-дея», я именно жил в атмосфере кошмарного сна — или удивления. Удивление — это состояние, когда некое определенное сознание рушится, а на его месте появляется — или готово появиться — сознание новое. Мне могут заявить: «Вы работаете примитивно, не сознавая своих задач». Но ведь я не могу сказать, что нечто — в данном случае сознание — есть, когда оно еще только зарождается. Пьесы нет, пока я не написал слово «Занавес». А во время работы над такими пьесами, как «Лысая певица», «Жертвы долга», «Стулья», процесс письма напоминал рост дерева: оно словно росло само, без участия обычного сознания, или вопреки ему, или невзирая на сознание, которое при этом присутствовало и констатировало рост. Ведь сознание все фиксирует, я не впадаю в слабоумие, когда пишу. — Такое присутствие сознания, исполняющего роль дежурной лампы, выражается ли в правке, в переделках? — Я правлю, когда пишу статьи о Бранкузи[73], о Жераре Шнейдере[74], о Бизантиосе[75], когда пишу о своих пьесах, когда пишу вообще о литературе или о поэтическом творчестве. А когда я пишу для театра, то не правлю практически ничего. Мой мозг в это время работает иначе. Я даю себе волю… чего никогда не делаю, если сочиняю статью, где должна быть логика, ясное, связное изложение мыслей. Но в поэзию, в театр нельзя допускать логически организованное мышление. — В «Жертвах долга» в основе лежит сновидение, иррациональные картины. А в «Лысой певице», которую, как вы говорите, вы писали в аналогичном состоянии, явно преобладают не образы, а языковые конструкции. В этой пьесе вы шли за словом или за образом? — И то и другое. Я же сказал, что стараюсь не допускать логическое мышление, дневное сознание к процессу письма. Я даю волю образам насколько могу, но все равно это не обходится без примеси сознания. Всегда есть осознанная мысль, которая примешивается к спонтанному рождению образов. Равно как и в работе дискурсивной мысли участвует масса подспудных импульсов, вытесняемых в подсознание картин и так далее. — И все-таки, бывают ли моменты, когда вас ведет за собой какое-то определенное воспоминание, образ, конкретный персонаж или просто механизм языка, который вдруг включается и каждая фраза сама тянет на свет следующую? Или у вас все это происходит одновременно? — Все одновременно, вперемешку наплывает со всех сторон: литературные воспоминания, сны, идеологическая полемика, удивление перед бытием, свободные ассоциации, размышления, метафизика, банальности… Например, когда я писал «Стулья», у меня сначала возник образ стульев, потом — человека, который бегом таскает стулья на пустую сцену. Но что этот исходный образ должен был означать, я не понимал. А потом понял. Понял все-таки раньше, чем комментаторы. Критики заявили: «Перед нами история двух неудачников. Их жизнь, жизнь вообще — неудача, абсурд. Двое стариков, ничего в жизни не достигших, воображают, будто принимают гостей, им кажется, что они живут полной жизнью, они силятся убедить себя, будто им есть что сказать другим людям…» Короче, они пересказывали сюжет. Но сюжет еще не пьеса. Пьеса — это совсем другое, пьеса — это стулья и всё, что они значат. Так вот, я сделал усилие, как когда пытаешься истолковать сон, и понял: стулья — это отсутствие, это пустота, небытие. Стулья пусты, потому что никого нет. И в конце занавес падает под гул толпы, хотя на сцене стоят только пустые стулья и полощутся на ветру занавески. Мир на самом деле не существует, тема пьесы — небытие, а не неудавшаяся жизнь. Стулья, на которых никто не сидит, — это абсолютная пустота. Мира нет, потому что его больше не будет: все умирает. А пьесе дали рациональное психологическое толкование, в то время как тут должно действовать другое сознание, в котором происходящее воспринимается как исчезновение мира. <…>
— Как вы работаете? Нуждаетесь ли в четком расписании, в графике, во внешних стимулах? — Очень по-разному. У меня нет правил, нет определенного метода. Зато есть причуды: я то пишу сам, то диктую. Бывают периоды, когда я относительно спокоен, и тогда работаю каждое утро — с девяти до двенадцати, иногда до часу. Писать — это, в сущности, не работа… Я сижу и думаю, что жить на свете плохо. А не жить было бы еще хуже. Но среди живущих я один из самых везучих. Правда. Мне повезло больше, чем даже царям и королям, потому что короли все-таки должны работать, а я могу пойти куда захочу, когда захочу, с карандашом и с блокнотом; я не обязан расписываться каждый день в журнале присутствия (когда-то я расписывался и знаю, что это такое!). У меня возникает ощущение, что я капризный ребенок, что у меня дурной характер, что с моей стороны свинство быть недовольным жизнью. В то время как другие люди воюют, убивают друг друга, умирают с голоду, тяжко трудятся, чтобы заработать на пропитание, я просто живу. Но можно сказать, что и работаю. А можно сказать, что не работаю. И то и другое будет правдой. Я не работаю, так как могу вроде бы делать что хочу, и в то же время я раб, раб слов, сочинительства, а писать на самом деле очень трудно. И пишу я, по сути, от чувства вины, потому что в глубине души писать мне не хочется, не хочется делать усилие, напрягаться, короче, работать. Мне нужны долгие месяцы накопления, чтобы работать месяц. Что такое долгие месяцы накопления? Это ощущение, что надо сесть за работу, плохое настроение оттого, что я не сажусь, страх, что жизнь пройдет впустую, как будто, если писать, она не пройдет впустую, мысли о том, что где-то люди гибнут и голодают, а я шатаюсь по Монпарнасу. Постепенно от угрызений совести у меня накапливается некоторая энергия, которой хватает примерно на месяц. И я должен обязательно кончить пьесу за месяц или два, а если не успею, то всё: финал пьесы может оказаться смазан, потому что на него не хватает энергии. <…>
— Как вы говорите, вы иногда пишете, а иногда диктуете. Внутренний ритм текста при этом более или менее одинаков или эти два вида письма отвечают разным задачам? — Когда я пишу сам, текст получается более интимный, более мой, что ли. А когда диктую, в нем, естественно, личного гораздо меньше. Пьесу «Король умирает» я диктовал, в ее основе не лежат никакие сны, и сочинял я ее в состоянии полной ясности мыслей. Это очень трезвая пьеса, очень дневная. То есть я писал ее более сосредоточенно, обдуманно. Критики тогда объявили, что я отошел от авангарда и перешел к классической манере. Но дело вовсе не в разнице между классицизмом и авангардизмом. Просто пьеса писалась иначе, потому что включился другой пласт сознания. А манера письма, естественно, зависит от состояния автора. — Что послужило вам исходным толчком для этой пьесы? — Страх, мой собственный страх. Очень простой и понятный. Не такой иррациональный и безотчетный, как иногда бывает, а вполне логичный, лежащий ближе к поверхности сознания… Ведь логика— это поверхностный слой сознания. А сновидение — сознание глубинное, основополагающее… Я написал «Король умирает» за двадцать дней, в два приема. Было так: я работал подряд десять дней. А перед этим болел, и мне было очень страшно. После этих десяти дней случился рецидив, и я проболел еще две недели. А потом снова сел за работу. И еще через десять дней закончил. Но я заметил, перечитывая написанное, — и замечал потом, уже во время спектаклей, — что в первой части ритм совсем иной, чем во второй. Иной ритм, иное дыхание, как будто просто взяли два разных текста и сложили вместе. Ровно посередине чувствуется слом. — Болезнь сыграла какую-то роль в выборе темы? — Сыграла. Собственно, болезнь меня и подтолкнула. Я много лет собирался написать эту пьесу, но почему-то никак не мог за нее взяться. — В одной из первых наших бесед вы рассказали, как в детстве думали, будто если хорошенько беречься, то можно не умереть никогда. Похожая мысль есть и в пьесе «Король умирает», во второй части, когда король говорит: «Я мог бы принять решение не умирать». Видимо, эта тема, очень давняя, из раннего детства, всплыла во время болезни? — Наверно. Но именно из воспоминаний о детстве, а не из детских сновидений. Впрочем, тут есть и другое: я сказал себе, что умирать можно научиться и можно помочь другим научиться умирать. По-моему, это самое важное, потому что все мы, по существу, — умирающие, которые цепляются за жизнь. Моя пьеса — что-то вроде практического курса смерти. — Как вы считаете, это помогло вам? — Мне совершенно не помогло. Но может быть, помогло другим, например румынскому переводчику пьесы, замечательному поэту Иону Вине[76]. Когда он решил ее переводить, он был уже пожилым человеком и тяжело болел. Он работал над ней месяца три или четыре. И все это время был практически при смерти. Он сдал перевод и дней через пять умер. Раз он взялся за перевод, зная, что скоро умрет, и так хотел — и смог — его закончить, значит, пьеса ему, наверно, чем-то помогла. Если это так, то я считал бы свою жизнь оправданной и даже осмелился бы назвать литературу не вполне бесполезным занятием. — Тема смерти — одна из главных в вашем творчестве, точнее, тема страха смерти, это так? Я имею в виду не столько прямое и практически однозначное изображение смерти — как, например, утопленники в «Бескорыстном убийце», труп в «Амедее», самоубийство стариков в «Стульях», — сколько ее воплощения, символические, транспонированные: увязание Шуберта в грязи, страшный мир, открывшийся Беранже, в «Воздушном пешеходе», пустота в «Стульях», распад речи в «Лысой певице». — Думаю, что вы правы. — Когда вы пишете, опираясь не на рассказ с уже готовой структурой, а на сновидения, тревоги, образы, знаете ли вы с самого начала, как будет разворачиваться действие? — Иногда знаю, иногда нет. В «Лысой певице», например, я этого не знал, хотя писал ее по сценам и нумеровал их: сцена первая, сцена вторая, сцена третья и так далее. Это была действительно первая моя пьеса, не считая детских, и я строил ее так, как в моем представлении должна была строиться пьеса для театра (теперь я уже не разбиваю пьесы на сцены). Я давал подробные сценические указания: герой садится, встает, снова садится, звонят в дверь, он идет открывать, входит новый персонаж, он входит справа или слева… Но четкого плана у меня тем не менее не было, он сложился в процессе работы. Я не знал точно, каким образом подойду к распаду речи в финале, хотя сознательно вел все именно к этому. То же самое происходило со «Стульями». — В «Записках за и против» вы пишете, что у «Лысой певицы» было несколько вариантов финала и окончательный вариант вы выбрали только на репетиции, вместе с актерами. И в спектакле конец был не такой, как в изданиях текста. Почему оказались возможны две концовки? Или конец для вас не имеет значения и главное — то, что ему предшествует, само поведение персонажей, пошлое и в то же время поразительное? — Ну, во-первых, возникла причина чисто техническая. Когда пьеса была уже написана, выяснилось, что сделать тот финал, который я хотел, невозможно, так как нужно очень много актеров, пулеметы и прочее. А кроме того, «Лысая певица», по сути, не нуждается в концовке или может иметь их несколько, ибо выражает не единство, а гетерогенность жизни. Странность, необычность могут быть переданы на сцене как угодно — в частности, через появление персонажей, которые не имеют к героям никакого отношения, но это далеко не единственный способ. Здесь все случайно, поэтому возможен и любой конец, но мне захотелось придать пьесе дополнительный смысл, начав в конце все сначала — с другими персонажами. Конец, таким образом, сомкнулся с началом. В пьесе действуют две супружеские пары, Мартины и Смиты, и она начинается со Смитов, а кончается Мартинами, что выражает их взаимозаменяемость: Смиты — это Мартины, а Мартины — это Смиты. У них нет никакой внутренней сущности, никакой психологической подлинности. Они говорят что попало, и их «что попало» полностью лишено содержания. В этом вся пьеса, и я именно этого и хотел: чтобы реплики героев не несли сами по себе никакого смысла. Пьесе давали психологические, социальные, реалистические толкования, видели в ее персонажах карикатуру на парижских обывателей. Возможно. Отчасти так оно и есть. Но только отчасти. Людям хочется свести все необычное к уже известному, к нам самим, к знакомому до скуки миру, на самом же деле в «Лысой певице» действуют марионетки. — Мне хочется вернуться к проблеме концовки. Во многих ваших пьесах — я имею в виду «Лысую певицу», «Жажду и голод», «Урок», «Жертвы долга» — последние реплики произносятся словно механически, персонажи, как автоматы, повторяют одно и то же: какое-нибудь слово, фразу или цифры. Это является просто приемом или несет какой-то глубинный смысл? — Вы критик, вам и судить… В принципе, нет никаких оснований, чтобы пьеса кончалась. По идее, она могла бы кончаться в любом месте, как перерезается ленточка. Поскольку произведение есть транспозиция жизни, всякий конец в нем выглядит искусственно. — За исключением драм, где все умирают. — Но «жизнь» продолжается и помимо героев… Театр продолжается. Конец не будет искусственным, лишь когда умрем мы. Только смерть ставит точку в человеческой жизни, в пьесе, в любом произведении. Иначе конца нет. Придумывать конец — значит упрощать театральное искусство, и я понимаю, почему Мольер вечно мучился с концовками. Концовка нужна только потому, что зрителям пора идти спать. — То есть если бы зрителям спать не хотелось, то теоретически можно было бы вообразить непрерывный театр? — А он существует. Занавес открывается, и мы видим нечто, начавшееся давным-давно, потом он закрывается, потому что мы уходим домой, но за занавесом все продолжается. Конструкция пьесы с началом и концом неестественна. По-настоящему нужна композиция более сложная, которая позволяла бы обходиться без концовок, или, наоборот, не нужно вовсе никакой композиции, во всяком случае замкнутой. Что-то должно оставаться открытым. В жизни это так. Почему же в искусстве должно быть иначе? — Когда, начиная писать «Стулья» или «Лысую певицу», вы сами не знали, что будет дальше, это как раз и была та открытость, то свободное движение жизни, о которых вы говорите? — Я вот что хочу сказать: произведение — фрагмент жизни, выхваченный как он есть, в его пространственных и временных границах, но все это течет и продолжается где-то без нас. В «Стульях» передо мной был просто образ пустой комнаты, которая заполняется никем не занятыми стульями. Они появляются с невероятной быстротой, все быстрее и быстрее. Для меня они выражали онтологическую пустоту, какой-то вихрь пустоты. На эту исходную картину наслоилась история старика и старухи, которые сами уже на грани небытия и которые всю жизнь мыкались. Но их история понадобилась только затем, чтобы сделать зримым тот главный образ, в котором заключен смысл пьесы. — Нет ли определенной закономерности в том, что в ваших пьесах часто действуют старики — по крайней мере, люди немолодые — или обделенные природой, а также супружеские пары, которые очень давно живут вместе и с которыми происходят разные драматические события? — В «Амедее», например, действительно имеется пара. Но главное — что и несет идею пьесы — это труп. Все остальное — только история вокруг трупа, хотя и она имеет какое-то значение. Труп для меня — это вина, первородный грех. Труп, который увеличивается на глазах, — это время. — Конечно, но вина существует не сама по себе, ее ощущает герой, и по отношению к ней проявляют себя они оба — одновременно давая ей возможность стать наглядной. Но если эта пара, уже немолодая, каких много в ваших пьесах, нужна только для того, чтобы дать жизнь образу, то использование ее есть просто средство, прием. Может быть, тут все глубже? — Пара — это наш мир, это мужчина и женщина, Адам и Ева, две половины человечества, которые любят друг друга, которые все время вместе. Они устали друг друга любить, но и не любить тоже не могут, как и не могут жить друг без друга. То есть это не просто он и она, а еще и разъединенное человечество, которое силится соединиться, слиться. — Значит, все происходит одновременно как бы в двух плоскостях: одна очень конкретная, бытовая — плоскость повседневных действий, болтовни, ссор, а другая — символическая, где обыденные поступки, тщательно воспроизведенные, приобретают универсальное, символическое значение. — Надеюсь, что это так. Персонажи помогают воплотить символы благодаря тому, что эти люди более или менее «реальны»: кажется, будто они существуют на самом деле, будто мы встречаем их каждый день на улице, словом, они, если можно так выразиться, подлинные. Поэтому их повседневный быт подчеркивает или оттеняет по контрасту то, что повседневности не принадлежит, все странное, необычное или символическое. Символ тут надо понимать как образ, несущий некое значение. — То есть персонажи помогают прояснить символы — иначе говоря, те образы, которые служат для вас отправной точкой? — Персонажи важны для контраста. Они помогают высветить фантастическую сторону: противопоставляя реальное ирреальному, мы получаем оппозицию, которая есть одновременно и взаимодействие, — реализм помогает подчеркнуть фантастический аспект, и наоборот. Нечто похожее делает художник Бизантиос. Он абстракционист. Он всегда писал абстрактные картины, как я пишу абстрактные пьесы. Ведь «Лысая певица» — пьеса, в общем, абстрактная. И вдруг он придумал очень интересную вещь. В его картинах существует подвижный живой фон, с пучками света, вибрацией, — словом, целая абстрактная драма. Этот фон на самом деле и есть картина. Перед ним, как на авансцене, он помещает артишок, дерево, кувшинку и так далее. И этот реальный, или реалистический, или псевдореалистический предмет сообщает свою подлинность, свою силу абстрактному фону. Наверно, то же самое я инстинктивно проделал в «Стульях», где тоже есть абстрактное движение, вихрь стульев, а старик и старуха служат стержнем для умозрительной конструкции, для подвижной архитектуры, каковой всегда является пьеса. То же самое происходит и в «Амедее», где есть зримый, реальный труп и мнимое существование двух действующих лиц. <…>
— Пока пьеса не поставлена, она существует только как факт литературы. Ее театральные достоинства еще не очевидны. Подлинную значимость она приобретает только на сцене, хотя всегда есть риск, что авторский замысел может быть искажен режиссером или исполнителями. Но об этих искажениях мы еще поговорим позже. А сейчас мне вспомнилось место из «Записок за и против», где вы рассказываете об огромном удивлении, которое испытали, впервые увидев, как в постановке Никола Батая оживают ваши персонажи… — Да-да. Это правда необычайно странно — сознавать, что ты создал каких-то персонажей. Когда на моих глазах настоящие живые люди из плоти и крови учили мой текст и превращались в Пожарника, в Служанку, в Смитов и Мартинов, а позднее в Короля и Королеву или в Старика и Семирамиду, я очень удивлялся. Я до сих пор удивляюсь, хотя, казалось бы, уже привык. Поразительно видеть, как воплощается выдуманный мною мир. Мне всегда даже как-то страшновато на это смотреть. Возникает такое чувство, будто я влез на место Господа Бога. <…>
— Когда вам, к примеру, режиссер заказывает пьесу… — Мне не заказывают пьесы. У меня их просят. Мне повезло: на протяжении многих лет меня окружали друзья, у которых были небольшие театры. Это Серро, это Марсель Юовелье, это Моклер, это Польери, это Постек, который, как мне кажется, был моим лучшим режиссером, он и Моклер. Когда они узнавали, что я пишу пьесу, они стремились получить ее, причем как можно скорее. Поэтому мне приходилось торопиться. — Скажите, общение с режиссерами, споры во время постановки помогали вам найти какие-то ходы или нет? — Пожалуй, нет. Это звучит нескромно, но, по-моему, скорее они шли за мной, чем я за ними, и они не всегда поспевали, им было трудно принять мое видение театра, которое в те времена казалось диковатым. Поэтому в большинстве случаев у меня возникали конфликты с режиссерами. Особенно вначале. У них была, в общем, более реалистическая концепция театра, более логический подход. В ту пору они еще находились где-то на уровне Антуана[*], несмотря на все, что уже было сделано в театре Дюлленом, Жуве, Питоевым[77]. В литературе, живописи, музыке совершались поразительные эксперименты: сюрреализм, Пикассо, абстрактная живопись, новая музыка и так далее. Огромный рывок сделала психология. А театр отставал. Там по-прежнему царил традиционный реализм. Повинны в этом, с одной стороны, «театр бульваров», который продолжает существовать и сейчас, благополучно сочетая реализм с развлекательностью, а с другой — дидактически-назидательный театр воспитания. Для «театра бульваров» главное — нравиться. А мы не боимся не понравиться, пойти против вкусов публики. Всякое настоящее произведение агрессивно, иначе оно остается демагогическим или коммерческим, бульварной пьеской. Иногда нам вдруг удается понравиться. Но не потому, что мы к этому специально стремились. Мы не любим «уступок». Новое — всегда вызов. Без агрессии, без обновления в искусстве нет движения, нет жизни. Да, новизна — это агрессия. Обычные театры стремятся либо забавлять обывателя, либо поучать. Так продолжается и до сих пор, хотя назидательность понемногу из театра уходит. — А по-моему, она и сегодня очень живуча. — Конечно. Но среди передовых писателей, по-настоящему прогрессивных, уже есть желание порвать с ангажированной литературой. Кто эти писатели? Это не наши западные прогрессисты, английские, французские, немецкие, которые в массе своей — дидактики, догматики, популисты, тупые фанатики; нет, это молодые писатели из России, из Польши, из Венгрии, ощущающие потребность в свободе необычайно остро. Здесь, во всех бистро Парижа, Сен-Жермен-де-Пре, свобода поглощается каждый день вместе с кофе и рогаликом или с кружкой пива, здесь она столь привычна, что ее перестаешь осознавать, в то время как интеллигенция Восточной Европы постоянно ощущает ее отсутствие, ее необходимость, они жаждут, алчут свободы. У нас нет диктатуры, полиция не задерживает нас на каждом шагу. Именно поэтам из Восточной Европы суждено обновить для всех нас вкус свободы, объяснить нам заново, что это такое, помочь в конце концов почувствовать, что мы — свободные люди. Впрочем, не совсем… у нас есть все «свободы», но меньше свободы мысли, воображения. Воображение — это не бегство в фантазии. Воображать — значит строить, создавать, возводить новые миры… А воображая — можно «пре-обра-жать» и наш мир. Мир не перестраивают, его выстраивают… Ладно, вернемся к теме нашего разговора. Я говорил, что долгое время мои пьесы удивляли режиссеров. Они им нравились и в то же время казались странными. Как поставить все это на сцене? Как вытащить на сцену пятьдесят стульев? Сильвен Дом это сделал, Моклер это сделал, а немцы отказались. Они не понимали. Намучился я и с «Амедеем», пока уговаривал Серро сделать ноги трупа по-настоящему огромными. В «Амедее» имеется труп, который на протяжении всего действия пьесы растет. Сначала он лежит в соседней комнате, а потом перестает там умещаться, ноги его упираются в дверь, она распахивается, и ноги вылезают на сцену — к ужасу героев, мужа и жены, совершивших когда-то это убийство. Они сидят в полутьме, в столовой своей квартиры, и покойник растет, как угрызения совести, буквально у них на глазах. Я хотел, чтобы ступни трупа были не меньше полутора метров. А Серро не решался. Он собирался сделать заказ на семьдесят пять сантиметров. И то считал, что много. Мы стали спорить. Я сказал, что семьдесят пять сантиметров — это, в сущности, немногим больше нормы и в результате получится обычный «ужастик». А чтобы появление ног было действительно ошеломляющим, размеры должны превышать обычные во много раз. Серро соглашался отступить от реализма, но не отваживался откровенно порвать с ним. Сделать покойнику полутораметровые ступни было для него чем-то немыслимым. Но в конце концов он все-таки сделал. А со временем мы стали понимать друг друга великолепно. Когда он ставил потом мои пьесы, уже в «Одеоне», то по части воображения шел даже дальше, чем я. И тут он действительно прекрасно решил проблему размеров в «Амедее». А в финале, когда Амедей улетает, он устроил настоящий театральный праздник. Среди прочего там был огромный светящийся шар, подвешенный к колосникам: он вертелся, и по всему залу скользили отсветы. А еще были звезды, всякие зрелищные эффекты — целая астральная феерия. Потрясающе! Интересно, помнят ли еще эту постановку? <…>
— Но в общем теперь вы ладите с режиссерами? — Сложности бывают главным образом за границей. Здесь мы работаем вместе, и даже когда получается не совсем то, что я хочу, у нас происходит некая диффузия. Мы постепенно забываем, кто из нас изначально чего хотел, и из этой диффузии рождаются какие-то интересные вещи. — А какого рода сложности у вас возникали в других странах? — Ну, например, когда Питер Холл в пятьдесят пятом году решил ставить «Урок», нового театра в Англии еще не существовало. Я думаю, это мы их раскачали. Потом английские режиссеры и драматурги стали делать что-то иное, свое, но, не будь в самом начале Беккета, Адамова, Вейнгартена[78], Тардье, меня, они, пожалуй, не скоро бы сдвинулись с мертвой точки… И вот тому доказательство. В пятьдесят пятом году Питер Холл, который был тогда молодым двадцатипятилетним режиссером и имел в своем распоряжении театр, мечтал делать что-то новое. Он уже нашел пьесу, которую считал «авангардистской», «Девушка для ветра» Андре Обэ[79]. Он искал еще одну. Ему кто-то рассказал про «Урок». Он французского не знал и прочел его по-английски, а потом сказал мне: «Да, я буду ставить вашу пьесу, но мне нужен другой перевод, этот никуда не годится. Вы не могли такого написать. Текст совершенно бредовый, ваш переводчик просто скверно работает». Я ответил: «Переводчик тут ни при чем, это я написал бредовый текст. Нарочно». Он все-таки решил ставить. Но с некоторыми поправками. У меня в пьесе учитель убивает сорок учениц за день, и приходит сорок первая. Он убивает и ее, а назавтра все начинается сначала. Питер Холл сказал, что такого быть не может. Он еще готов допустить, что учитель убивает по две-три ученицы в день и в городе никто не удивляется. Но сорок — это уж слишком. Мы долго торговались и сошлись на четырех. Четыре — еще ладно, это нормально, а сорок — ни за что. Похожая история произошла в Соединенных Штатах с «Носорогом». Сюжет пьесы режиссер счел вполне правдоподобным: его не смущало, что по улице средь бела дня разгуливает носорог, потом появляется второй, третий, что в носорогов превращается сначала один человек, потом десять и наконец весь город. Но одна вещь его серьезно тревожила. Он сказал: «Знаете, с вашего разрешения я хотел бы вставить в текст одну реплику. Во втором акте Беранже, герой пьесы, приходит к своему другу Жану. Он стучится, и Жан спрашивает: „Кто там?“ А Беранже отвечает: „Это я, Беранже“. Позвольте мне кое-что добавить, потому что так нельзя. Надо как-то это подготовить». — «А в чем дело?» — спрашиваю я. «Да в том, — говорит режиссер, — что в предыдущей картине в комнате, где находился Беранже, есть телефон. Пусть он возьмет трубку и скажет: „Позвоню-ка я моему другу Жану, узнаю, дома ли он“. Он наберет номер, подержит трубку, ему никто не ответит. Он скажет: „Наверно, телефон испортился. Но я все-таки зайду к нему без звонка“». То есть режиссеру все казалось вполне нормальным, даже самые невероятные превращения, но у него не укладывалось в голове, как можно зайти к приятелю, не договорившись заранее по телефону. <…>
— Итак, изначально вы были рассказчиком, и вы им остались. Чтобы в этом убедиться, достаточно вас послушать или почитать ваши «Сказки для детей до трех лет», где проступают детские корни вашего удивления перед миром и вашего ощущения абсурда. Сначала вы сочиняли новеллы, потом на их основе — пьесы и спустя годы, очень непрямым путем, опять вернулись к прозе. К тому моменту у вас уже был за плечами огромный опыт театрального драматурга, режиссера, сценариста, даже актера. И вдруг вы опубликовали первый роман — «Одинокий». Почему в один прекрасный день драматург Ионеско испытал потребность в романной форме? — Я сам точно не знаю. Можно придумать причины. Не в смысле «выдумать», а попробовать поискать. Наверно, мне просто захотелось выговориться. Побеседовать с кем-то один на один. Кому-то исповедаться. Когда пишут пьесу, ее пишут для множества людей сразу, для публики. А роман пишут — во всяком случае, я — для отдельного человека. Рассчитывая, естественно, что таких отдельных людей будет много. Каждый одинок, когда он пишет или читает. Каждый одинок — это и означает в каком-то смысле заглавие романа. Мне захотелось обратиться к одиноким, причем тоже с позиции одинокого. В общем, я стал писать роман потому, что проза, как мне представляется, это нечто более личное, более сокровенное, она больше соответствует состоянию одинокого человека. Не помню, говорил ли я вам, но мне давно кажется, что театр — вещь гораздо более грубая, чем роман, и уж тем более чем поэзия (но, к сожалению, я не поэт). Это вовсе не значит, что театр хуже, чем поэзия или проза. Он просто грубее — в том смысле, что там невозможны некоторые нюансы. Коллективный зритель не в состоянии их воспринять, поэтому приходится упрощать, огрублять какие-то вещи. Туг действие должно быть динамичным, никакие повторы, возвращения назад — равно как и забегания вперед — невозможны. Однако такие возвраты и сложные повороты естественны для определенной формы мышления, и только гибкая романная проза позволяет их передать. Театр, требуя упрощения, вынуждает к некоторой подтасовке. Проза тоньше, свободнее, ближе по форме к ходу потаенных мыслей. У кинематографа тоже есть важное преимущество перед театром — всемогущество камеры. Там зрители, сливаясь в зале в единое целое, остаются при этом одиночками. А в театре они полностью сплавляются воедино, поэтому о театре и говорят как о коллективном празднике. Вот почему я взялся за роман. По-моему, причины вполне убедительные, и я их не выдумал, я полусознательно, полубессознательно исходил из них, когда писал. Но парадокс в том, что, несмотря на все, о чем я сейчас говорил, я решил потом сделать из романа пьесу. <…>
— Одинокий человек живет не только в своем одиночестве. Он живет в истории, в своей эпохе. И вы сами, до того как взялись за роман, пытались в дневниковой форме запечатлеть ход времени, передать ощущение утраты и дробления воспоминаний. Это были «Раскрошившиеся мысли». А в книге «Настоящее прошлое, прошлое настоящее» совмещение фрагментов из двух дневников — нынешнего и довоенного — создает эффект странной игры между прошлым и настоящим, воспоминаниями и свежими впечатлениями, историей и личным опытом. Что означала для вас такая перекличка эпох? — Да я и сам уже не вполне понимаю, ведь книга вышла несколько лет назад. Наверно, мне хотелось продемонстрировать, что история повторяется, возвращается, показать, что сегодняшние тоталитарные режимы мало чем отличаются от тех, что были тридцать-сорок лет назад. Я уже говорил во время наших бесед, что не вижу большой разницы между тоталитаризмом левым и правым. Вчера в нацистской Германии, фашистской Италии, а сегодня в России или в Китае происходят одни и те же массовые действа, в которых участвуют десятки тысяч человек. Муссолини, Сталин или Мао — везде находится обожествляемый идол, которому истерически рукоплещет толпа. Священный кумир, почти бог. С той разницей, что идолы взывают к массам, а бог нет. Каждый из нас говорит с Богом поодиночке. Если решать проблему теологически, то вот оно, различие между Богом и Сатаной. Бог воспринимается индивидуально и нас делает индивидуальностями — братьями, да, но не похожими друг на друга, — а Сатана нас обезличивает. Во времена Гитлера людей обезличивали с помощью военной формы, а в Китае вообще вся страна обязана носить одинаковую одежду. — Мне хочется вернуться к книге «Настоящее прошлое, прошлое настоящее». При параллельном чтении ваших двух дневников, довоенного и конца шестидесятых, бросается в глаза даже не столько повторение истории, сколько верность себе Эжена Ионеско. Из дневника в дневник переходят одни и те же видения, сны — вы пересказываете их без обработки, как есть, но они напоминают те, которые воплощены в вашем театре. Узнается и ваша способность удивляться, и даже манера описывать и называть то, что вас поражает или тревожит. Выясняется, например, что вы еще в сороковом году употребляли слово «носорог» применительно к людям — часто даже к друзьям, — которые заражались нацизмом. И хотя политика занимает в книге важное место, гораздо нагляднее здесь неизменность ваших реакций, постоянство образов, волнующих вас на экзистенциальном уровне. Сквозь эти записи проступают темы вашего творчества. И в этом смысле книга является своего рода ключом. — Может быть, но так вышло случайно. Я действительно рассказываю там об очень важном для меня давнем переживании, которое больше не повторялось, сколько я ни старался его вернуть, и которое я пытаюсь воссоздать во многих своих пьесах, — о встрече со светом. Но в этой книге мне хотелось сказать и о другом: в отличие от героя моего романа, который держится в стороне от событий — что, наверно, и мне следовало бы делать, удивляясь издали тому, что творят люди, — я обеспокоен, поглощен, одержим современной политикой, и так было всегда. Мы живем на нескольких уровнях сознания. Я тоже прожил жизнь, отвлекаясь от самого важного, в тревогах, в политических страстях, хотя отлично сознавал, что политика не главное, а главное — проблема бытия. Я был слишком увлечен литературой, слишком остро воспринимал отзывы критиков, ликовал, когда они были хорошие, приходил в ярость, когда плохие, — а Бог свидетель, плохих было много! — и, как видите, меня это волнует до сих пор, раз я сейчас об этом говорю. Но где-то у меня всегда таилась мысль, как у моего героя в пьесе «Этот потрясающий бордель», что все это как бы не всерьез. И вот недавно, в семьдесят шестом году, я пережил очень важный, пожалуй даже решающий, момент, укрепивший меня в этой мысли. — Что же произошло? — Я был болен, мне делали операцию. В операционной, перед тем как мне дали наркоз, я подумал, что, возможно, умру, но мне было совершенно не страшно. Не знаю, буду ли я относиться к этому так же, когда придет время умирать по-настоящему, но тогда мной полностью овладела уверенность, что все, что я в жизни делал, все, что у меня позади, не имеет абсолютно никакого значения. Вся общественная сторона жизни исчезла. Все мои поступки, вся история мира превратились в прах. Одновременно возникло неприятное чувство, что и впереди у меня ничего нет. Я заснул, потом проснулся после операции, но это отношение к миру сохранялось у меня довольно долго. «Я жив. Что ж, хорошо», — думал я. Люди рассуждали о моем так называемом «творчестве», а мне казалось нелепым даже говорить об этом. Тем не менее я понимал: хотя «творчество» и не имеет никакой цены, но приходится им зарабатывать и надо пристраивать пьесы, одну дать Лавелли или Моклеру, другую в «Одеон», в «Театр де ла Билль». Просто теперь это нужно было только затем, чтобы прокормить себя и семью. История, политика тоже потеряли для меня всякий интерес, с тех пор как я почувствовал перед операцией, что прожил жизнь впустую и не могу унести с собой ничего. Я не умер. Выздоравливая, я жил на даче и провел там довольно счастливый месяц, потому что отрешился от всего, кроме красоты этого мира, и вновь наслаждался впечатлениями, каких не испытывал уже много-много лет. Вокруг была масса зелени, и я радовался, что мир так прекрасен: он казался прозрачным, словно утратил обычную плотность, непроницаемость, стал легким, необременительным, как видение, как мираж, который вот-вот исчезнет. И в самом деле, как я ни старался удержать это ощущение прозрачности, оно постепенно стало исчезать. Теперь я снова живу в плотном, непроницаемом мире, в мире общественном. Все потихоньку опять начинает казаться важным. Политика вновь стала политикой, история — историей, литература-литературой. Все снова обрело былую ценность или псевдоценность. Я иногда думаю, что не умер тогда потому, что моя смерть не имела смысла, ибо мои тогдашние ощущения были ложными. Они были бы верны, только если бы весь мир оказался просто моей грезой. Но так быть не может, потому что существуют —реально существуют — другие люди, которых я люблю и которых не люблю. И когда я понял, что другие люди существуют действительно, что я верю в их существование (потому что ведь можно не верить в существование других), это решило все. Наверно, я вернулся к жизни затем, чтобы глубже осознать существование других людей, их реальность, и, может быть, когда я осознаю их реальность как следует, я смогу унести это с собой. Ведь самым важным — и самым неприятным — в ощущении близкой смерти было сознание, что мне нечего унести с собой и для меня нет никакого моста между нашим миром и тем, что за ним. Шарль Пеги хотел унести с собой все, перенести землю на небо[80]. Это подход вполне католический, как, впрочем, и иудаистский. Человек так любит все сущее, несмотря на его трагизм, так любит все без исключения, чем была полна его жизнь, что жаждет все сохранить, чтобы ничего не исчезло. А у меня нет единого отношения ко всему этому. Временами мне кажется, будто нет ничего, временами — что все существует и существовало вечно, а иногда — что это зависит от нас. Иногда мне безразлично, имеет ли все существующее и его история какой-то смысл, а иногда хочется, чтобы смысл был, причем смысл вневременной, вечный. Я рассказываю об этом без стеснения, потому что подобные чувства наверняка испытывают все. Ведь я такой же, как остальные. Мои ощущения заложены в человеческой природе и знакомы каждому. Просто в наше время это принято скрывать, люди не говорят об этом вслух. Но я считаю своей задачей, объективной или выдуманной, говорить вслух то, о чем другие думают про себя. — На все эти вопросы о бытии, о мироздании, которые вы ставите перед собой — и перед зрителем, — пытаются ответить религии. Каковы ваши отношения с религией? — Не знаю. Религии дают ответы слишком легко. Это как марксизм, как политические идеологии, у которых готов ответ на все, как Брехт, который запросто предлагает нам ключи от идеального общества. — Камера и келья для вас одно и то же? — В общем, да. Во всяком случае, даже религия утверждает, что истину надо искать самому. Чтобы быть по-настоящему религиозным, чтобы верить, надо быть очень простодушным или очень умным, а я ни то ни другое. Или есть вариант великого ученого — как Лепренс-Ренге или де Бройль[81], как Эйнштейн, Планк или Гейзенберг, — для которого, будь он католик или иудаист, принадлежность к определенной религии менее важна, чем приобретенная уверенность в том, что в мироздании есть некий план, просматривается целеполагающее начало. Когда великие физики верят в упорядоченное устройство мира, то они вряд ли считают какую-то одну религию более истинной, чем другие, ибо все религии, воплощая различные традиции, включают одни и те же символы, одну и ту же фундаментальную эзотерическую истину. Есть два замечательных типа веры: вера ученого и вера угольщика, то есть человека неискушенного. Поскольку мне не дано подняться до высших ступеней знания, я стараюсь вернуться к невинности — кстати, знание тоже по-своему ведет к ней: когда знаешь много, то видишь, сколь еще велико, бесконечно велико наше неведение. Мне кажется, я переживал состояние невинности в те минуты, о которых рассказывал вам, когда на меня нисходила естественная благодать — свет. Возвращаясь к литературе, к сочинительству, хочу повторить вот что: как бы сильны, как бы подлинны ни были чувства человека, они не имеют ни малейшего отношения к ценности его произведений. В литературе не важно, о чем писать, важно, как это написано. <…>
— В ваших пьесах очень важен механизм действия. Порой он на самом деле напоминает работающее механическое устройство, что проявляется по-разному: персонажи говорят или движутся как автоматы, на сцену прибывают и прибывают в невероятном количестве одинаковые предметы, темп нарастает, и действие разлаживается, как если бы в машине что-то испортилось. Тут налицо полный разрыв с механизмами классического театра. Ведь их, по сути, всего два: трагедийный, состоящий в повторении слов или ситуаций, в запутывании интриги, которая должна разрешиться в финале (что соответствует нарастающему напряжению в трагедии), и, наконец, в ускорении действия. Но эти механизмы представляют собой нечто внешнее по отношению к героям, случайное стечение обстоятельств, из которых они не могут вырваться. В одном случае — судьба, в другом — подножка, подставленная клоуну. У вас же все начинается с комедии, с бурлеска, который вроде бы рождается из поведения самих персонажей, потом машина постепенно набирает обороты и вдруг словно становится неуправляемой — фарс оборачивается трагедией. Прекраснейшая иллюстрация внезапного перехода от бурлеска к трагедии — ваш сценарий «Гнев», написанный для Сильвена Домá. Какой смысл вы вкладываете в такой механизм действия и в переход от комического к трагическому? — Вы просто открываете мне глаза. Но для меня это не прием и не метод. Это подход к жизни. Сначала действительно «в живом появляется нечто механическое»[82]. Это смешно. Но потом механического становится все больше, а живого все меньше, делается страшно и душно, и смешное оборачивается трагизмом, потому что возникает ощущение, что мир ведет себя непредсказуемо. Нечто подобное я ощущал при чтении некоторых пьес Фейдо. Наверно, аналогичный страх перед непредсказуемостью мира должен испытывать ученик чародея. А может быть, тут присутствует и образ нашего ближайшего будущего. Мы ведь уже не в состоянии держать в повиновении запущенные нами фантастические механизмы. Вся планета может в любой момент взлететь на воздух… запросто. — Этот разлаженный механизм, как мне представляется, страшен в силу своей неумолимой логики, он напоминает ход мыслей сумасшедшего, который рассуждает очень последовательно, но исходит из ложной посылки, и именно она свидетельствует об утрате контакта с реальностью. — По-моему, сам наш мир может разладиться, как испорченная машина. В «Гневе» мир сходит с ума, он взрывается от наших страстей. Механизм страстей выходит из-под контроля и идет дальше поставленных людьми целей. Ну, скажем, люди бастуют, поднимают восстание, совершают революцию, чтобы добиться вполне конкретных результатов. Но в своем порыве заходят слишком далеко и создают почву для диктатуры, непрошибаемого догматизма, массовых убийств и так далее. Люди вдруг словно теряют власть над собой, лишаются рассудка. И то, что было задумано как добро, превращается в зло. Революция оборачивается регрессом, свобода — отчуждением, законность — жесточайшим подавлением, правосудие — разнузданным садизмом и так далее. — В «Гневе» разлад начинается вполне безобидно — с мелких будничных неприятностей, которые нарушают согласие между супругами, друзьями… — Да, и вокруг пустякового раздражения закипает беспричинная ярость, включается механизм ненависти. — Интересно, что этот механизм принимает самые разные формы, настолько разные, что его не сразу распознаешь… — А где, собственно, он действует? Дайте-ка я сам вспомню. Ну, во-первых, в «Лысой певице». В какой-то момент что-то вдруг нарушается, беседа сходит с рельсов, и все съезжает куда-то не туда. В «Стульях» это ускоряющийся балет стульев, которые Семирамида все быстрее и быстрее выносит на сцену. В «Амедее» это опять же ускорение: размеры трупа растут в геометрической прогрессии. В «Новом жильце» грузчики в нарастающем темпе тащат и тащат в дом мебель, так что для героя не остается места. — Мне кажется, есть определенное родство между загромождением квартиры в «Новом жильце» и темой грязи, в которой увязает герой в «Жертвах долга». В основе и того и другого лежит, вероятно, страх разлада с миром, образ мира враждебного, где человек постоянно подвергается агрессии со стороны природы, предметов, повседневного языка, короче, вышедших из-под контроля механизмов, которые чаще всего человек сам же и приводит в действие. — В «Уроке» есть нарастание потока слов. Слова множатся и множатся. — Не только слова, но и убийства. — Да, верно, и убийства. В «Носороге» множатся толстокожие чудовища. И человек, Беранже, оказывается окружен, зажат ими со всех сторон. Он остается один среди носорогов, как остается один «новый жилец» в загроможденном и враждебном мире. Это, в сущности, одно и то же. За темой внешней, за ее явным социальным и психологическим содержанием таится другое психологическое содержание — менее очевидное. — В «Носороге», например, разыгрывается драма одиночества, драма отдельной личности, индивидуального сознания в столкновении с общественными механизмами. — Наверно, мне следует попытаться определить природу тревоги, которая вызывает к жизни подобные образы. Боязнь ли это, что неуправляемые силы возьмут верх, что все вот-вот взлетит на воздух? Или это страх перед безумием? — Может быть, это просто отражение механизма сновидений? — Не думаю. Нелогичность наших сновидений, маскирующая иную, глубинную логику, не имеет ничего общего с работой разлаженной машины, которая, как вы сами только что сказали, действует по законам логики, но логики чрезмерной. — В «Записках за и против» вы говорите, что «Лысая певица» — это попытка заставить «театральный механизм работать вхолостую». — Эта пьеса не имеет ничего общего со сновидением. Во сне все строится по совершенно иным законам, ассоциации возникают по другому принципу. Во сне нет жесткой последовательности. Там образы сами сменяют друг друга, ассоциации рождаются свободно. Внешне они кажутся беспорядочными, но на самом деле точно следуют каким-то движениям нашей души, всего нашего существа, причем очень естественно. Сновидение — это нечто естественное, оно не безумно. А вот логика способна впасть в безумие. Сны, будучи выражением самой жизни во всей ее непоследовательности и противоречивости, безумными быть не могут. А логика может. И идеологические системы могут, ибо они абсолютизируют относительное, объявляют субъективную точку зрения объективной истиной. — Поэтому вы и ввели в пьесу «Носорог» Логика, который очень быстро поддается общему психозу? — Конечно, ведь логика лежит вне жизни. Логика, диалектика, разнообразные системы — все они строятся по механическим принципам, тут возможны любые формы помешательства: в идеологических системах, как известно, чувство реальности утрачивается. <…>
— По-моему, ваш театр строится на своеобразном контрасте, на оппозиции, которая не всегда уловима внутри одной пьесы, но становится очевидна, если рассматривать ваш театр в целом. С одной стороны, механистичность, антипсихологизм, автоматизм поведения, распад речи. С другой — глубинная психология, сновидения, тревога, навязчивые состояния. Возникает вопрос, не связан ли ваш интерес к механистичности действия с тем, что для вас так много значат сны, внутренняя жизнь. Ведь механистичность — со всем, что в ней есть неожиданного и пугающего, — это угроза внутреннему миру человека, равно как и тот ритм жизни, при котором навязанные обществом представления парализуют или тормозят свободное проявление личности. — Вы сформулировали все это лучше, чем я бы выразил сам. На театральном языке ваша оппозиция — это комическое и трагическое. <…>
— Лет двадцать назад критики, чтобы обозначить новое направление в театре, придумали выражение «театр абсурда». Под этим названием Мартин Эсслин выпустил ряд статей о таких разных авторах, как Беккет, Адамов, Тардье, Жене, Олби, Гюнтер Грасс и Эжен Ионеско. Чувствуете ли вы какое-то внутреннее родство с ними или считаете, что вас ничто не объединяет? — Я надеюсь, что все мы действительно разные. В то же время у нас есть нечто общее, и я считаю, что к драматургам театра абсурда можно причислить и кое-кого из великих: Шекспира, Софокла и Эсхила, Чехова, Пиранделло, О’Нила — и всех писателей вообще, и крупных и мелких. Понятие абсурда очень расплывчато. Вероятно, абсурд — это непонимание каких-то вещей, законов мироустройства. Он рождается из конфликта моей воли с мировой волей, а также из конфликта с самим собой, из столкновения противоречивых желаний и побуждений: я одновременно хочу жить и хочу умереть, или, точнее, я ношу в себе стремление «к смерти» и «к жизни». Эрос и Танатос, любовь и ненависть, любовь и разрушение — согласитесь, противоречие достаточно серьезное, чтобы вызвать у человека ощущение «абсурда», ведь совершенно непонятно, как, исходя из этого, строить какую-то логику, пусть даже «диалектическую»? — Вы недавно сказали по поводу некоммуникабельности, что это просто модное слово, вроде «абсурда». А может быть, модное слово отчасти выражает проблемы эпохи, и писатели сознательно или бессознательно передают то, что носится в воздухе? — Очень часто, когда идея становится модной, она вырождается, превращается в набор пустых штампов, утрачивает содержание, подлинность, свежесть открытия. С другой стороны, каждое произведение принадлежит своему времени. И если оно не выражает свою эпоху, тревогу своей эпохи, проблемы или часть проблем своей эпохи, то оно никуда не годится. Оно никуда не годится, потому что в нем нет плоти, нет исторической реальности, иначе говоря, жизни. Это ясно, ясно. Однако всякое настоящее произведение оригинально, оно несет нечто новое. Вся история литературы есть история форм выражения. Но персонажи при этом не должны быть слишком крепко привязаны к конкретному периоду, иначе образ человечества получится ущербным, искаженным. По-настоящему талантливое произведение лежит на перекрестке времени и вечности, в идеальной точке универсальности. Возьмите театр Беккета или Адамова, выражающий абсурдность человеческого удела. Каковы его темы? Человек неизбежно должен умереть; возможности человека имеют предел; человек не приемлет свою судьбу, однако судьба у него есть; в чем смысл судьбы? В чем смысл того, что человек не видит смысла в своей судьбе? И так далее. Это проблемы не только сегодняшнего дня, но они обострились, выявились благодаря конкретным современным событиям, современным ситуациям. Эти темы можно встретить в любую эпоху, которая считается кризисной; впрочем, все эпохи в той или иной степени кризисные, ибо все есть кризис. Словом, они пронизывают всю историю театра. У греков, например, там, где действует рок, где есть противостояние человека року, есть и ощущение абсурда, очевидность абсурда. А Беккет, как я уже не раз говорил, напоминает мне Иова. Так что к этим темам люди возвращаются постоянно. Уже два тысячелетия человечество в определенные периоды осознает реальность абсурда, если можно так выразиться, и задается мировыми вопросами. Что же касается современного театра абсурда, то он отличается от бульварного театра тем, что бульварный театр не ставит проблему человеческого удела или смысла бытия, тогда как театр Беккета весь в этом и состоит. — Считаете ли вы, что Беккет, Адамов или вы сами испытали влияние философии абсурда, глашатаями которой были после войны Сартр и особенно Камю? — Дело в том, что абсурд был тогда одной из составляющих эпохи, иначе говоря, само время заставляло более остро воспринимать какие-то вещи, хотя они и не являются исключительными приметами только тех конкретных лет. Конечно, мы все, и я в том числе, испытывали влияние каких-то прочитанных книг, трудно точно сказать, каких именно. Мы всегда испытываем влияние того, что видим или читаем, и те писатели, которых мы читаем, тоже испытывали влияние своей эпохи, то есть того, что читали, видели и переживали. — Любопытно, что и Камю и Сартр, притом что они разрабатывали в философском плане идею абсурда и использовали в своих пьесах сюжеты из мифологии или из античной истории — Электра, Калигула, — оставались в то же время в рамках традиционной театральной эстетики! Их пьесы чрезвычайно интересны, но они действительно ближе к Сарду[83], чем к Брехту или к Беккету и Ионеско. Кроме того, мне кажется, что и вы, и Адамов, и Беккет исходили не столько из философской концепции или интереса к античности, сколько из пережитого опыта и стремления найти новую форму, которая позволила бы воплотить этот опыт на сцене со всей его пронзительностью и злободневностью. Сартр и Камю подходили к своим темам на уровне философского размышления, вы же решали их гораздо более живо и современно. — У меня такое впечатление, что эти писатели, действительно очень крупные, очень значительные, анализируя проблему абсурда, смерти, не ощущали ее на каком-то нутряном, иррациональном уровне, не жили в ней, она не пронизывала насквозь их художественный язык. Она у них еще предстает на уровне риторики, классического красноречия. А у Адамова, у Беккета сквозь кажущийся распад формы проступает обнаженная реальность переживания. И то, что поначалу выглядело как распад, сейчас кажется кристально ясным. Образное выражение некоей катастрофы постепенно застывает, отдаляя эту катастрофу от нас. Распавшийся художественный язык вновь складывается в целое, но уже по-другому. Вернее, он застывает в момент распада, который и предстает в виде новой упорядоченности… или, точнее, в виде новой коры, застывшей лавы. Поэтому великие главные темы всегда открыты для нового осмысления и воплощения, и к ним всегда будут возвращаться. — Абсурд в вашем театре не есть ли выражение, с одной стороны, того удивления перед миром, про которое вы говорили, а с другой — стремления перенести на сцену просто реальность как таковую, поведение людей в его обыденности, не ища объяснений или оправданий этой реальности и этому поведению? — Я предпочитаю вместо слов «абсурдный», «абсурд» говорить «странный» или «ощущение странности» происходящего. Бывает, что мир вдруг кажется лишенным всякой экспрессии, всякого содержания. На него смотришь, как будто ты только что родился, и он предстает странным и необъяснимым. Конечно, объяснения нам известны! Нам их дали в несметном количестве, и мы располагаем множеством систем осмысления. Но все системы рассыпаются, как только возникает это ощущение, исконное, первобытное — вот мы здесь, вокруг нас существует нечто, и это нечто вызывает у нас вопрос. В такой момент любые философские системы, любые объяснения кажутся недостаточными, тем более что они объясняют все, исходя из некоей несформулированной данности — из наличия монолитного необъяснимого мира и факта человеческого существования, который все идеологии, моральные учения, социологические теории избегают: они или отворачиваются от этого, или останавливаются на подступах. — Этот факт присутствия, данности напоминает о бесконечных толкованиях термина «Dasein» [84] в немецкой философии от Гегеля до Хайдеггера. Ощущали ли вы влияние этой философии? — Когда читаешь какого-то философа, он или находит, или не находит в тебе отклик. Он находит отклик, если мы сами когда-нибудь ощущали то, о чем он говорит, на уровне личного опыта. Философия ведь тоже поэзия, и, по-моему, Хайдеггеру не чужда такая точка зрения. Должен сказать, что ощущения подобного рода, удивление перед данностью, перед существованием, испытывали все. Лет в десять-двенадцать, еще не читав Паскаля, я чувствовал страх перед бесконечностью: у каждого случалось такое. А лет в восемнадцать я пережил озарение, открытие света, о чем уже много говорил. Философы, которых я сумел худо-бедно прочесть, возможно, углубили, прояснили то, что прежде существовало для меня на уровне интуиции. — Вы говорили, что театр не должен быть идеологическим. Считаете ли вы, что он не должен быть и философским? — Театр не должен быть философским, но поскольку всякая поэзия философична, то и театр философичен в той или иной степени. Разве не философия — осознавать, что перед тобой мир, и задаваться вопросом: «А что это такое?» — Это основной вопрос философии. — Так никогда и не разрешенный! Все в некотором смысле есть философия или исходит из философии. Театр тоже исходит из этого главного вопроса. Более того, он должен исходить из него, иначе рискует оказаться несостоятельным, неинтересным. Только уточним еще раз, что я имею в виду философию, а не какую-то философскую доктрину, философию, а не идеологию. Искусство — это философия в той мере, в какой философия есть исследование, проблема, вопрос, точка зрения. А идеологией я называю закрытую систему, дающую «штампованные» объяснения. <…>
— Скажите, а ход истории, который сейчас в центре внимания многих наших современников, включая и драматургов, не является ли тоже абсурдным? — Я могу сказать, что история нелогична или что объяснения, которые ей дают, нелогичны, хотя в идеале какое-то объяснение, наверно, возможно. Что мне кажется абсурдным, странным в высшей степени, так это существование как таковое! Вот основной пробел, зияющий в нашем сознании, непреодолимый предел постижения. Точнее, недоступный мне. А что такое история? Это люди, которые действуют, действуют хорошо, а чаще плохо, и которые выдумывают себе абсурдный мир, потому что находятся в противоречии с самими собой. Как только возникает противоречие между реальностью и идеологией, появляется абсурд. Но не то ощущение абсурда, какое бывает на уровне повседневной жизни, морали, и не абсурд метафизический. Это абсурд, который человек отчасти создает сам. И скорее всего, он воспринимает историю как нечто абсурдное, поскольку перестает понимать, по каким законам она развивается. Ведь нам без конца твердят, что история развивается по каким-то законам. По каким? Что такое смысл истории, развитие истории? Что значат эти слова? Можно найти причину для любого действия. Тогда абсурд — абсурд исторический — исчезает. Но разве сама причина, заставляющая нас действовать, не абсурдна? Можно сказать, что наличие причины — это еще не причина. Возможно, абсурд — это попытка найти причину для всего на свете. Короче, я не считаю, что история логична или нелогична, разумна или неразумна. Люди иногда бывают разумны и в то же время позволяют увлечь себя разными безрассудными доводами, так что история, с одной стороны, логична, с другой — нет, смотря из чего исходит. И слова, язык, по сути дела, постоянно противоречат реальности, простой и очевидной, как будто люди не желают на эту реальность взглянуть. Так, в странах с диктаторскими режимами подавление именуется освобождением, диктатура — демократией, месть — справедливостью. И люди говорят о дружбе и о любви там, где на самом деле одно равнодушие или злопамятство. — В общем, надо, чтобы слова соответствовали истинному положению дел. — Надо, чтобы шла постоянная работа по прояснению, уточнению слов, и тогда сам собой исчезнет политический «абсурд»… который не имеет ничего общего с метафизическим. — А кто мог бы делать эту работу? — Я, например, если бы мне помогли… Шучу. И все-таки я думаю, что если бы в мире нашлось человек сто, которые работали бы, постоянно имея перед глазами некую статую, воплощающую объективность, мир можно было бы спасти. А так у людей в голове путаница, потому что они захвачены страстями. <…>
— Мы уже говорили с вами о соотношении комического и трагического в ваших произведениях. Комическое существует у вас на различных уровнях. Комизм ситуаций, игра слов (точнее, игра со словами), автоматизм поведения — все это либо чередуется, либо сочетается в разных сценах. Но особенно ярко абсурдность или странность мира проявляется благодаря черному юмору. Что для вас значит юмор? — Часто говорят, что мой театр юмористический, что у меня есть чувство юмора. Что такое юмор? Наверно, умение смеяться над несчастьем, в том числе и над своим собственным. — Юмор — это ведь далеко не то же самое, что комизм бульварного театра, вы согласны со мной? — Комизм возникает, когда персонажи попадают в нелепые или неприличные ситуации. Но вовсе не всякая ситуация комична. Юмор же передает ощущение, что абсолютно все нелепо и иррационально, что мы с самого рождения находимся в необъяснимой и не поддающейся объяснению ситуации. — Может быть, это способ не обманываться, держать дистанцию между собой и абсурдом, или трагизмом? — Именно. Но это еще и разоблачение абсурда, преодоление его трагического восприятия. Юмор предполагает отказ от самообмана, своего рода раздвоение, трезвое осознание тщеты собственных страстей. Человек продолжает их испытывать, сознавая, что они абсурдны или глупы, хотя он и не может справиться с ними. В общем, юмор — это осознание абсурда, в котором мы тем не менее продолжаем жить. — Вы можете привести в пример какую-нибудь ситуацию? — Все ситуации — юмористические, и все — трагические… Вы хотите пример… Ну, скажем, бессмысленно кого-нибудь ненавидеть. И все-таки я ненавижу. Хотя знаю — это бессмысленно. Смешно быть влюбленным, ибо никто не достоин любви, но мы продолжаем любить, понимая, что мы смешны. Юмор позволяет испытывать страсть, отдавая себе отчет в ее бессмысленности. — Вы уверены, что влюбляться бессмысленно? — Влюбиться — значит попасться в ловушку, психологическую, или биологическую, или физиологическую, или во все три разом. Это значит обманываться (я рассуждаю сейчас исключительно с точки зрения юмориста!). Испытывать какие-либо чувства, страдать — значит обманываться. И юмор помогает нам это сознавать, хотя мы по-прежнему и любим, и мучаемся. Полная демистификация возможна только в смерти. Но юмор помогает взглянуть на свои эмоции со стороны. — То есть человек одновременно и актер, и зритель. Идеальная театральная ситуация, не так ли? — Таков и должен был театр. Театр — это зрелище, где человек смотрит на самого себя. <…>
— В пьесе «Экспромт в квартале Альма» очень интересны ваши ответы критикам. Вы говорите, что театр должен быть прежде всего театрален. Что значит «театрален»? — Вы меня озадачиваете. Не знаю, есть ли на свете человек, которому удалось определить, что такое «театральность». Особенно с тех пор, как мы занимаемся «антитеатром» и считаем, что это тем не менее театр. Всезнающие доктора театроведения тоже любят рассуждать о театральности. — Они обычно начинают с того, что противопоставляют развлекательному театру поучительный. — Ни развлечение, ни нравоучение не исчерпывают понятие театра. И то и другое вполне может быть театрально, а может и не быть. Что такое вообще театр? Вот самый трудный вопрос. — Но вы разрешаете его, занимаясь театром, как идущий человек доказывает существование движения. — Что такое театр? Развертывание конфликта? Возможно. Но эпический театр — это не только развертывание конфликта, а сегодня требуют, чтобы театр был эпическим. Разве театр — это конфликт? Футбольный матч — тоже конфликт, но это не театр. Это зрелище, как коррида, где тоже имеется конфликт. А театр может существовать и без конфликта… В театре возможно все. На сцене можно показывать длинную историю или просто человека, который выходит, останавливается, осматривается. Можно показывать световые эффекты, элементы декораций, силуэты, зверей… Можно показывать даже пустую сцену. И все это — театр. Театр — это то, что показывают на сцене. Вот самое простое определение, наименее неточное и в то же время наиболее туманное… зато его сложно опровергнуть. Вообще, мы ведь знаем пример, что такое театр, иначе не могли бы о нем говорить. Наверно, можно определить его как архитектуру в движении, как живую конструкцию, динамичную, полную внутренних антагонизмов. Если вернуться к тому, что делаю я, то для меня главное в театре — показать что-то необычное, странное, чудовищное. Нечто страшное должно постепенно проступать сквозь развитие не действия, нет, — или термин «действие» надо специально оговорить, — а некоей цепочки событий или состояний. Театр — это череда состояний и ситуаций с нарастающей смысловой нагрузкой. — Вы произнесли слово «чудовищный». Если театр есть череда ситуаций, внутренних или внешних, то я хотел бы спросить, что тут чудовищно — театр, жизнь или вы сами? — Жизнь, я сам, персонаж, которого я вывожу на сцену, событие, которое внезапно выворачивается наизнанку. Театр для меня и это тоже. Мне кажется, будто я нахожусь среди людей необычайно вежливых, в более или менее уютном мире. Вдруг что-то ломается, рвется, и чудовищное в этих людях проступает наружу. Или в декорации появляется что-то странное, и она оказывается чем-то совсем иным, обнаруживает, как и люди, свою подлинную природу. Может быть, театр и есть выявление какой-то скрытой сущности. Театр — это неожиданное открытие, театр — это удивление. Я не стану употреблять слово «демистификация», хотя оно, на первый взгляд, подходит, потому что демистификация — как правило, еще худшая мистификация, особенно сегодня, когда с этим словом связывается масса идеологических и политических понятий. Что следовало бы подвергнуть демистификации, так это в первую очередь саму «демистификацию»… ее словесные штампы. Демистификация при помощи штампов — какая нелепость!.. Но главная моя мысль состоит в том, что театр не должен быть иллюстрацией чего-то уже известного. Театр, наоборот, есть исследование. И благодаря этому исследованию всякий раз обнажается некая истина, которая чаще всего почти невыносима, но порой бывает ослепительно яркой и освежающей.
Перевод И. Кузнецовой

Текст задней обложки
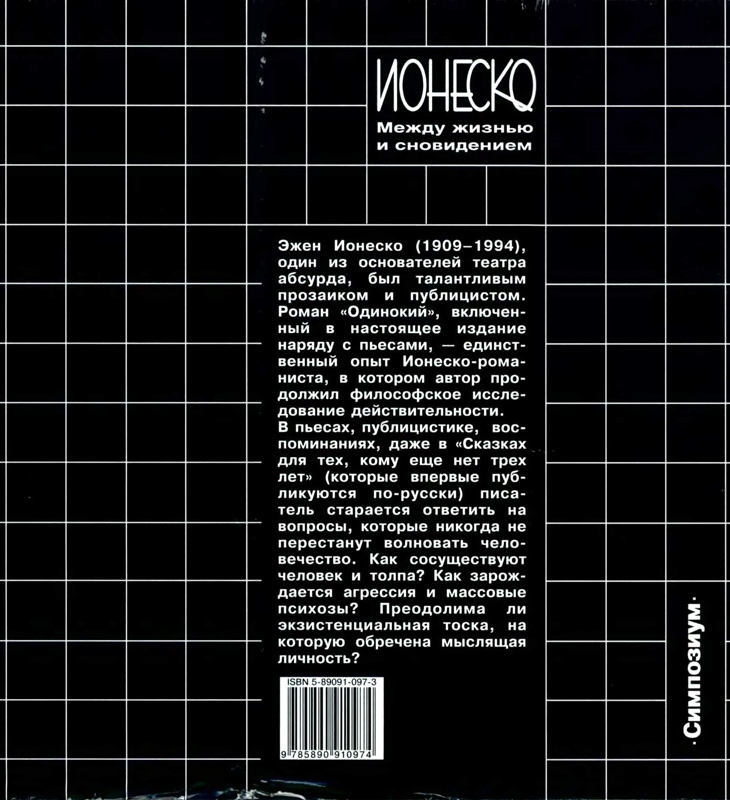
Эжен Ионеско (1909–1994), один из основателей театра абсурда, был талантливым прозаиком и публицистом. Роман «Одинокий», включенный в настоящее издание наряду с пьесами, — единственный опыт Ионеско-романиста, в котором автор продолжил философское исследование действительности. В пьесах, публицистике, воспоминаниях, даже в «Сказках для тех, кому еще нет трех лет» (которые впервые публикуются по-русски) писатель старается ответить на вопросы, которые никогда не перестанут волновать человечество. Как сосуществуют человек и толпа? Как зарождается агрессия и массовые психозы? Преодолима ли экзистенциальная тоска, на которую обречена мыслящая личность?
Примечания
1
Esslin Martin. The Theatre of the Absurd. Third edition. — London, 1980. — P. 145 (обратно)2
D'Ivanov à Neuvecelle. Entretiens avec Jean Neuvecelle recueillis par Rарhаёl Aubert et Urs Gfeller. — Montricher (Suisse), 1996. — P. 286. (обратно)3
Ионеско Эжен. Зачем я пишу? — Знамя. 1992, № 6. — С. 191–192. (Перевод В. Бибихина.) (обратно)4
Там же. С. 196. (обратно)5
Alfred de Vigny. Journal d’un poète. — Paris, [s.a.].—P. 33–34. (обратно)6
Жаккар Жан-Филипп. Даниил Хармс и конец русского авангарда. — СПб., 1995.— С. 218. (обратно)7
Liiceanu Gabriel. «Tout finit dans l'horreur»/Un entretien inédit avec Ionesco. — Magazine litteraire. Septembre 1995, № 335. — P. 20. (обратно)8
Сартр Жан-Поль. Миф и реальность театра. — Театральная жизнь. 1990, № 14. — С. 23. (Перевод С. Исаева.) (обратно)9
Современная драматургия. 1987, Ns 4. — С. 163–164. (обратно)10
Ионеско Эжен. Зачем я пишу? — Знамя. 1992, № 6.— С. 198. (обратно)11
Ionesco Eugéne. La tregédie du langage//Notes et contre-notes. — Paris, 1966. — P. 244. (обратно)12
Перед началом пьесы, пока не поднят занавес, и несколько секунд первой сцены, когда сцена еще пуста, слышен стук молотка. Когда же появляется служанка и идет открывать дверь ученице, она убирает со стола тетрадь и портфель и швыряет их в угол, где уже валяется целая куча подобных вещей. Наконец в последней сцене, торопясь к входной двери, служанка швыряет туда же тетрадь и портфель только что убитой ученицы. Когда занавес опускается, стук молотка можно повторить. (обратно)13
Франциск I (1497–1547) — король Франции с 1515 г. Фразы, подобные этой, скорее всего, не являются отсылкой к каким-то конкретным историческим событиям, — в данном случае, возможно, содержится пародийная аллюзия на то, что Франциск I покровительствовал мореплаванию и создал королевский флот. В контексте конкретного фрагмента пьесы следует указать, что вода для Ионеско была символом гниения и мрака, как земля — символом разложения: «Земля для меня вовсе не кормилица, земля — это грязь, разложение, смерть, которая меня ужасает… Вода — это не изобилие, не спокойствие, не чистота. Воду я всегда представлял грязной. Вода — это образ тоски. Вода поглощает или, по крайней мере, грязнит (то есть угрожает смертью). Вода — это тоже разложение» (Eugene Ionesco. Journal en miettes. Paris, 1992. P. 193). (обратно)14
Лорел, Стэн (1890–1965) — американский комический актер, сценарист и режиссер. (обратно)15
Cтрока из знаменитого стихотворения Франсуа Вийона «Баллада о дамах минувших времен». (обратно)16
Аллюзия на оду Пьера Ронсара «К возлюбленной» (Оды, кн. I, ода XVII): «Пойдем, возлюбленная, взглянем//На эту розу, утром ранним// Расцветшую в саду моем…» (Перевод В. Левика). (обратно)17
На представлении занавес падал во время молчания оратора, черной доски не было. Первая постановка 1952 года прошла без музыки. Для второй постановки Моклера в 1956 году и ее возобновления в 1961-м Пьер Барбо написал музыкальное сопровождение: фанфары трубили при появлении императора; в сцене прибытия гостей и в последней сцене, когда старик произносит благодарственные слова, звучала ярмарочная балаганная музыка, издевательски-торжествующая, подчеркивавшая юру стариков, гротесковую и трагическую одновременно. (обратно)18
Имеется в виду Андре Антуан (1858–1943), французский режиссер, актер, теоретик театра, приверженец идей натурализма. Реформатор сценического искусства и принципов организации театрального дела. В 1887 г. основал «Свободный театр», на сцене которого впервые во Франции поставил пьесы Ибсена, Гауптмана, Толстого. (обратно)19
Или сам полицейский. (обратно)20
Пусть чашек будет как можно больше. Несколько десятков их должно стоять рядами и друг на друге на буфете или (если нет буфета) на столе, как в парижской постановке. (обратно)21
Намек на известное высказывание французского философа, писателя и ученого Блеза Паскаля (1623–1662): «Человек — всего лишь тростник, слабейшее из творений природы, но он — тростник мыслящий» (Блез Паскаль. Мысли. СПб., 1995. С. 115. Перевод Э. Линецкой). (обратно)22
Или на стол (или, если угодно, на стол, на буфет и на камин). (обратно)23
Поль Бурже (1852–1935), французский писатель, драматург, член Французской академии с 1894 г., был автором многочисленных романов, а также «Очерков современной психологии», написанных с позиций натурализма с использованием метода подробного психологического анализа. (обратно)24
Штефан Лупаско (род. 1909) — французский философ, румын по происхождению, друг Ионеско. (обратно)25
С того момента, как появляется Никола Фторо, игра актеров делается все оживленнее и комичнее, достигая карикатурности. Речь Никола о театре должна быть произнесена настолько естественно по мимике и тону, насколько позволяет общий гротескный стиль игры. Дама в шляпе, при зонтике. Она сидит молча и ест земляные орешки. (обратно)26
Намек на известные слова, сказанные Людовиком XIV на заседании французского парламента 13 апреля 1655 г.: «Государство — это я». (обратно)27
В тексте пьесы на латыни; по Квинтилиану — вопросы при расследовании преступления: кто виновен в преступлении, в чем оно заключается, где оно совершено, каким способом, кто соучастники, мотивы преступления, как и в какое время оно совершено. (Прим. переводчика.) (обратно)28
В тексте на латыни: «Felix qui potuit regni cognoscere causas». Перифраза известного стиха Вергилия: «Felix qui potuit rerum cognoscere causas» — «Счастливы те, кто вещей познать сумел основы» (Вергилий. Георгики, II, 489. Перевод С. Шервинского). (обратно)29
В тексте на латыни; контаминация известного библеизма и стиха из молитвы «Отче наш». (обратно)30
В тексте на латыни: «Ad augusta per augusta»; пароль заговорщиков из драмы В. Гюго «Эрнани» (действие четвертое, сцена третья). (обратно)31
Это и предыдущие заклинания — полный набор предлогов латинского языка, которые, следуя дидактическому правилу, принято зубрить наизусть. (Прим. переводчика.) (обратно)32
В тексте на латыни: «Video meliora, deteriora sequor». Урезанная цитата из «Метаморфоз» Овидия, слова Медеи: «Video meliora proboque, deteriora sequor» — «Желаю // Я одного, но другое твердит мне мой разум» (Овидий. Метаморфозы, VII, 20. Перевод С. Шервинского). (обратно)33
В тексте на латыни: «Omnia vincit amor». Начало стиха из «Буколик» Вергилия: «Все побеждает Амур, итак — покоримся Амуру» (Вергилий. Буколики, Эклога X, 69. Перевод С. Шервинского). (обратно)34
Слова Макола заимствованы из «Макбета» У. Шекспира — монолог Малькольма, обращенный к Макдуфу. (Прим. автора.) (обратно)35
Арсен Люпен — великосветский взломщик, персонаж детективных рассказов Мориса Леблана (1864–1897); Рультабиль — журналист и сыщик-любитель, герой детективных романов Гастона Леру (1868–1927). (обратно)36
Имеется в виду полет на Луну в 1969 г. американских астронавтов Нила Армстронга, Эдвина Олдрина и Майкла Коллинза на корабле «Аполлон-11». Возвращение на Землю произошло 24 июля 1969 г. (обратно)37
Речь идет о «желании» как центральном понятии в философии Ж. Лакана, чьи теории, впервые опубликованные в 1966 г. («Ecrits»), оказали огромное влияние на умы современников. Карнавальное начало стало философской модой после появления книги М. Бахтина «Франсуа Рабле и народная культура Возрождения» (1965). (обратно)38
Жозеф Бара (1779–1793) — ребенок-герой. По легенде, созданной Робеспьером, он попал в облаву, и солдаты потребовали, чтобы он кричал: «Да здравствует король!» Он крикнул: «Да здравствует Республика!» — и был убит. (обратно)39
Святая Тереза из Лизье (ум. 1896) — французская проповедница; Святая Тереза из Авилы (1515–1582) — испанская монахиня, считается покровителем Испании; автор многочисленных проповедей и наставлений, проникнутых религиозной экзальтацией и вместе с тем отличающихся высокими литературными достоинствами. (обратно)40
Морис де Гандильяк (1906) — французский историк философии, в то время профессор Сорбонны. (обратно)41
Жан Маре (1913–1998), Мишель Морган (род. 1920) — французские актеры театра и кино; Мишель Серро (род. 1928) — французский актер и режиссер. (обратно)42
В годы учения Ионеско во французских школах было два выходных дня: воскресенье и четверг. (обратно)43
Бенедетто Кроче (1866–1952) — крупнейший итальянский философ, политический деятель либерального толка, историк, литературовед. Выступал как последовательный противник фашистской диктатуры. (обратно)44
Альфред Розенберг (1893–1946) — один из главных идеологов фашизма, казнен по приговору Международного трибунала в Нюрнберге. (обратно)45
Пьер Дрие Ла Рошель (1893–1945) — французский писатель, во второй половине 30-х гг. пришел к фашизму; в годы оккупации был коллаборационистом, однако спас от ареста многих видных деятелей культуры; после освобождения Парижа покончил с собой. «Королевские молодчики» — последователи шовиниста Шарля Морраса (1868–1952), политика и писателя; во время Второй мировой войны он поддержал режим Виши и в 1945 г. был осужден на пожизненное заключение. (обратно)46
Эмманюэль Мунье (1905–1950) — французский философ; в 1932 г. вместе с другом Ионеско писателем и философом Дени де Ружмоном (1906–1985) основал журнал «Эспри», объединивший многих французских интеллектуалов. (обратно)47
Ион Лука Караджале (1852–1912) — румынский драматург и писатель, вошел в историю театра как яркий комедиограф, мастер остроумных диалогов и сатирического изображения правящих классов общества. (обратно)48
«Лексикон прописных истин» — незаконченное произведение Гюстава Флобера (1821–1880), опубликован посмертно в 1910 г. По словам автора, это сатирический перечень того, «о чем надо говорить в обществе, чтобы прослыть человеком благопристойным»: избитые истины ограниченного буржуа. (обратно)49
Анри Монье (1799–1877) — французскийписатель, драматург, актер; в 50-е гг. XIX в. вывел в своих произведениях и ввел в литературный обиход знаменитый образ Жозефа Прюдома, воплощающий буржуазную пошлость и самодовольство. (обратно)50
Эжен Марен Лабиш (1815–1888) — французский драматург, прославился как автор комедий и водевилей («Соломенная шляпка», 1851; «Путешествие месье Перришона», 1860; «Копилка», 1869). Член Французской академии (1880). (обратно)51
Альфред Жарри (1873–1907) — французский драматург, автор знаменитого сатирического фарса «Король Юбю» (1896). (обратно)52
В отрывках из дневника «Весна 1939 года» Ионеско также вспоминает «книжки с жизнеописаниями Тюренна и Конде». Речь идет о героях Франции маршале Анри де Тюренне (1611–1675) и принце Конде (Луи II Бурбон, 1621–1686), одержавших важные победы в период Тридцатилетней войны. (обратно)53
Альбер Виктор Самен (1858–1900) — французский поэт, близкий к символизму. Франсис Жамм (1868–1938) — французский поэт и прозаик, воспевавший природу и сельскую жизнь; один из представителей «католического возрождения» во французской поэзии XX в. (обратно)54
Шарль Дю Бос (1882–1939) — философ, критик, исследователь французской и английской литератур; в 30-е гг. был соредактором французского католического журнала «Vigile». (обратно)55
Валери Ларбо (1881–1957) — французский поэт, прозаик и переводчик; автор получившей известность книги «Стихи для богатого любителя» (1908), изданной под псевдонимом А. О. Барнабус, и книги новелл «Любовники, счастливые любовники» (1923). (обратно)56
Ален-Фурнье (наст, имя Анри Фурнье, 1886–1914) — французский писатель. Родился в деревне Ла Шапель д’Анжийон, в полутора сотнях километров от Ла Шапель-Антенез, и в романе «Большой Мольн» (1913) описал, в частности, свои ранние отроческие годы, проведенные в этой деревне. (обратно)57
Николай Сергеевич Арсеньев (1888–1978) — русский философ и писатель, эмигрировал в 1920 г., преподавал теологию в Кенигсберге, Варшаве, Нью-Йорке; автор книг, посвященных экуменизму и православным религиозным традициям. (обратно)58
«Сияющий город» (1935) — сочинение выдающегося французского скульптора Ле Корбюзье (Шарль Эдуар Жаннере, 1887–1965), в котором он обосновал свою концепцию жизнедеятельности и планировки современного города, воплощенную, в частности, в его постройках в Марселе. (обратно)59
Мирча Элиаде (1907–1986) — французский писатель, философ, культуролог, друг Ионеско. (обратно)60
Дионисий Ареопагит (V — нач. IV в. до н. э.) — христианский мыслитель, автор трактатов и посланий в духе неоплатонизма. (обратно)61
Сан Хуан де ла Крус (Иоанн Креста, 1542–1591) — испанский религиозный деятель, богослов и поэт, реформатор монашества. На французском языке были опубликованы две книги Жана Ба-руцци о Сан Хуане де ла Крус: «Изречения Иоанна Креста» (1924) и «Святой Иоанн Креста и проблема мистического опыта» (1931). (обратно)62
Святой Григорий — имеется в виду Григорий Богослов (ок. 330 — ок. 390), ранневизантийский церковный деятель, мыслитель и поэт, автор проповедей и автобиографических поэм. (обратно)63
Я помню один советский фильм, «Золотой ключик». — Фильм «Золотой ключик» вышел на экраны в 1939 г. (режиссер А. Птушко). (обратно)64
Шестнадцатый округ — район Парижа, где традиционно селилась зажиточная буржуазия. (обратно)65
Имеются в виду Бартоломеус I, Бартоломеус II и Бартоломеус III, персонажи пьесы Эжена Ионеско «Экспромт в квартале Альма». (обратно)66
Жорж Фейдо (1862–1921) — французский драматург, автор водевилей; его пьесы отличались виртуозной драматургической техникой, занимательной интригой и забавными сценическими ситуациями. (обратно)67
Август Стриндберг (1849–1912) — шведский писатель, драматург, театральный деятель. Основные пьесы: «Отец» (1887), «Фрекен Жюли» (1888), «Эрик XIV» (1899), «Соната призраков» (1907). (обратно)68
Роже Витрак (1899–1952) — французский драматург, близкий к сюрреализму; совместно с Антоненом Арто создал «Театр Альфред Жарри» (1926–1929). На сцене этого театра были поставлены пьесы Витрака «Мистерия любви» (1927), «Виктор, или Дети у власти» (1928). (обратно)69
Эммануэль Груши (1766–1847) и Ашиль Франсуа Базен (1811–1888) — французские маршалы; Груши потерпел поражение от англо-прусских войск под Ватерлоо, Базен во время франко-прусской войны 1870–1871 гг. был окружен в Меце немецкими войсками и капитулировал. (обратно)70
«Гнев» — киноновелла Ионеско; вошла в фильм «Семь смертных грехов». (обратно)71
Жан Ришпен (1849–1926) — французский поэт и прозаик, член Французской академии с 1908 г. (обратно)72
С соответствующими изменениями (лат.). (обратно)73
Константин Бранкузи (1876–1957) — французский скульптор, румын по происхождению. (обратно)74
Жерар Шнейдер (1896–1986) — швейцарский художник, жил во Франции; начинал как фовист и кубист, в дальнейшем пришел к абстракционизму. (обратно)75
Константин Бизантиос (род. 1924) — греческий художник, с 1946 г. живет во Франции, рисовальщик, представитель фигуративного искусства; помимо Ионеско о творчестве Бизантиоса писали французские философы Мишель Фуко и Жан-Поль Арон. (обратно)76
Ион Виня (наст, имя Ион Иованач, 1895–1964) — румынский поэт, прозаик, журналист. Переводил с французского (Ромен Роллан, Ионеско) и английского (Шекспир, Эдгар По) языков. (обратно)77
Шарль Дюллен (1885–1949), Луи Жуве (1887–1951), Жорж Питоев (1884–1939) — французские актеры и режиссеры, сторонники творческого и организационного обновления театра. Вместе с Гастоном Бати в 1926 г. создали союз четырех театров — так называемый «Картель». (обратно)78
Ромен Вейнгартен (род. 1926) — французский поэт и драматург, близкий к сюрреалистическому театру Витрака («Кормилицы», 1961; «Лето», 1966; «Смерть Августа», 1982). (обратно)79
Андре Обэ (1892–1975) — французский драматург, автор пьес на библейские и классические сюжеты («Ной», 1931; «Венера и Адонис», 1932; «Лазарь», 1951). (обратно)80
Ионеско имеет в виду католические поэмы французского поэта Шарля Пеги (1873–1914) — «Мистерия о милосердии Жанны д’Арк» (1910), «Мистерия о святых Праведниках» (1912), «Ева» (1913) и др. (обратно)81
Луи Лепренс-Ренге (род. 1901), Луи де Бройль (1892–1987) — французские физики-теоретики. (обратно)82
Ионеско ссылается на определение комического, данное французским философом Анри Бергсоном (1859–1941) в его книге «Смех» (1900): «Комическое — это механическое в живом». (обратно)83
Викторьен Сарду (1831–1908) — французский драматург, автор более шестидесяти пьес, от водевиля до исторической драмы. (обратно)84
Бытие, существование (нем.). (обратно)Комментарии А. Шульгат, М. Ясное
1
Данный том избранных произведений Эжена Ионеско составлен по избранному ранее принципу и состоит из трех разделов: «Театр» (пьесы «Урок», «Стулья», «Жертвы долга», «Этюд для четверых», «Бред вдвоем» и «Макбет»), «Проза» (здесь впервые публикуются четыре сказки Ионеско для детей «Сказки для тех, кому еще нет трех лет», новый перевод романа «Одинокий» и появившиеся незадолго до кончины писателя воспоминания, собранные под названием «Последние страницы»). В третий раздел — «Вокруг пьес» — включены фрагменты из книги «Между жизнью и сновидением», в которой представлены беседы Ионеско с журналистом и критиком Клодом Бонфуа.При подготовке издания помимо русских переводов Ионеско, учитывались оригинальные издания, прежде всего Полное собрание его пьес, изданное в «Библиотеке Плеяды»: Eugène Ionesco. Théâtre complet. Édition présentée, établie et annotée par Emmanuel Jacquart. Paris, 1991. (обратно)
2
Пьеса написана в июне 1950 г. Премьера состоялась 20 февраля 1951 г. в театре «Пош», режиссер — Марсель Кювелье. Первая постановка в России — театр-студия «У Никитских ворот», 1991 г. (режиссер Мария Фрид).Перевод Н. Мавлевич печатается по изданию: Эжен Ионеско. Носорог. Пьесы и рассказы. М., 1991. (обратно)
3
Пьеса написана в апреле — июне 1951 г. Премьера 22 апреля 1952 г. в театре «Ланкри». Режиссер — Сильвен Домм, декорации Жака Ноэля. Первая постановка в России — Театр им. К. С. Станиславского, 1987 г. (режиссер Г. Залкинд).Перевод Е. Суриц печатается по изданию: Эжен Ионеско. Лысая певица. Пьесы. М, 1990. (обратно)
4
Стульев на сцене должно быть не менее сорока, а то и больше. Подносят их со все нарастающей быстротой, обилие стульев олицетворяет обилие гостей. Темп и быстрота действия требуют, чтобы старушку играла молодая актриса. Так было в Париже (Сцилла Челтон), в Лондоне и Нью-Йорке (Джоан Плаурайт). Вся эта сценка — сложный, почти цирковой номер. В конце его вся сцена загромождена стульями. Благодаря освещению маленькая комнатка стариков должна производить впечатление огромной, похожей на храм. Так было в постановке Жака Моклера (1956) благодаря декорациям Жака Ноэля. Реплики старушки, когда она вторит старику, должны быть то очень громкими, то тихими и жалобными. С прибытием гостей стулья отдельных персонажей не представляют — дама, полковник, прелестница растворяются в толпе. Стулья сами по себе становятся действующими лицами. Особенно настаиваю на следующей рекомендации постановщикам — старушка, молча, задыхаясь, сбиваясь с ног, должна в течение минуты непрерывно подносить стулья. Непрерывно должны звонить звонки. Старик на авансцене должен молча кланяться, как паяц, вертеть головой и делать реверансы, здороваясь с гостями. Мы даже думали ввести вторую Семирамиду, которая появлялась бы только спиной к публике и создавала впечатление ошеломляющей быстроты и вездесущности старушки. Вторая старушка может появиться несколько раз. Ощущение одновременности должно создаваться следующим образом: старушка появляется сразу и справа и слева, где должна появиться и где ее не ждут. (обратно)5
Первая редакция создана в сентябре 1952 г. на основе новеллы, написанной в том же году и впоследствии вошедшей в сборник рассказов «Фотография полковника». Премьера пьесы состоялась в феврале 1953 г. в «Театре Латинского квартала». Режиссер Жак Моклер, декорации Рене Альо, музыка Полин Кампиш.Перевод Н. Мавлевич печатается по изданию: Эжен Ионеско. Лысая певица. Пьесы. М., 1990. (обратно)
6
Пьеса написана в начале 50-х гг. и в июне 1959 г. представлена на фестивале в итальянском городе Сполето. Тогда же опубликована в «Тетрадях Коллежа патафизики» (1959, № 7). В России впервые поставлена в 1994 г. на сцене московского театра «Вернисаж»; спектакль под названием «О-ля-ля! или Три способа игры в театр» состоял из трех пьес: «Лекарь поневоле» Мольера, «Милейший Селимар» Лабиша и «Этюд для четверых» Ионеско (режиссер В. Коровин).Перевод М. Зониной был впервые опубликован в журнале «Театральная жизнь», 1987, № 12, и переиздан в книге: Эжен Ионеско. Носорог. Пьесы и рассказы. М., 1991. (обратно)
7
Пьеса написана в марте 1962 г. Премьера — апрель 1962 г. в «Студии на Елисейских полях». Режиссер — Антуан Бурселье. В России пьеса была впервые поставлена в 1996 г. на новой сцене МХАТ им. А. П. Чехова («Бред на двоих», режиссер М. Апарцев); в том же году состоялась премьера фильма «Бред вдвоем» (режиссер Б. Мильграм).Перевод Е. Дюшен был впервые опубликован в сборнике: Театр парадокса. М., 1991, и переиздан в книге: Эжен Ионеско, Театр. М., 1994. Еще один перевод пьесы — под названием «Delirium на двоих — если вам этого хочется, время не ограничено», — выполненный Е. Поп и В. Сегиным, опубликован в журнале «Театр», 1992, № 1. В оригинале пьеса имеет подзаголовок «…До тех пор, пока хочется», рифмующийся с названием («Délire à deux… A tant qu’on veut»). (обратно)
8
Первый случай, когда Ионеско обращается к адаптации и реконструкции классического произведения. Он сам указывает на источник замысла — книгу польского критика и литературоведа Яна Котга «Шекспир — наш современник» (позднее она была переведена на французский язык и в 1978 г. опубликована с предисловием Питера Брука), разъясняя: «Шекспир — основоположник того театра, который называют театром абсурда» (Eugdne Ionesco. Theatre complet. Paris, 1991. P. 1798). Премьера пьесы состоялась 27 января 1972 г. в театре «Рив Гош». Режиссер — Жак Моклер, декорации и костюмы Жака Ноэля, музыка Франсиско Семпруна и Мишеля Кристодулидеса.Перевод Л. Завьяловой печатается по публикации в журнале «Театр», 1994, № 2. (обратно)
9
Впервые напечатаны как вставные новеллы в книге воспоминаний «Настоящее прошлое, прошлое настоящее» (1968). Отдельными изданиями выходили в 1969–1970 гг. («Conte № 1» — 1969; «Conte № 2», «Conte № 3», «Conte № 4» — 1970); переизданы издательством «Галлимар» в 1983–1985 гг., выходили также отдельными изданиями.В ноябре 1979 г. состоялась театральная премьера «Сказок для детей» на сцене «Театра Даниэля Сорано». Режиссер — Клод Конфортес. (обратно)
10
Последние фрагменты воспоминаний Эжена Ионеско были опубликованы в виде отдельных статей в декабре 1993-го и феврале 1994 г. в «Le Figaro littéraire».Перевод печатается по публикации в журнале «Всемирное слово», 1996, № 9. (обратно)
11
Впервые книга французского писателя и литературного критика Клода Бонфуа «Беседы с Эженом Ионеско» вышла в 1966 г. (Claude Bonnefoy. Entretiens avec Eugene Ionesco. Paris, 1966). В дальнейшем переиздавалась под названием «Между жизнью и сновидением».Фрагменты книги печатаются по публикации в журнале «Иностранная литература», 1997, № 10. (обратно)

Последние комментарии
8 часов 29 минут назад
8 часов 31 минут назад
2 дней 14 часов назад
2 дней 19 часов назад
2 дней 21 часов назад
2 дней 22 часов назад