ДЕТЕКТИВ БЕЗ КРИМИНАЛА
Предисловие составителя
Александр Яковлевич Розенбаум не пишет прозу.
У него на это просто нет времени. Книга, которую Вы держите в руках, состоит из монологов — иногда приведенных полностью, иногда разбитых на отдельные цитаты, фрагментов газетных и телевизионных интервью, сделанных на протяжении более чем десятка лет, а также из наших бесед, проходивших большей частью у Александра Яковлевича дома осенью 1998 года.
Общаться с ним чрезвычайно сложно и удивительно легко. Главная и, наверное, единственная сложность в общении — это застать Александра Розенбаума дома или, в крайнем случае, в офисе.
И застать в тот момент, когда у него есть хотя бы тридцать минут для беседы. Такое случается очень редко, но все же случается. И если выпадают эти тридцать, шестьдесят, сто двадцать минут, то у Александра Розенбаума находится множество тем для разговора. Как и каждому человеку, ему есть что рассказать о себе. Но далеко не всякий может рассказать о своей жизни столько и так, как Александр Яковлевич.
Редким людям выпало это счастье — добиться своей цели в жизни исключительно своим трудом, упорством и талантом, ни перед кем не «прогибаясь» и не играя по чужим правилам; делать всю жизнь только то, что хотелось и казалось правильным; остаться честным перед собой и окружающими людьми; заслужить любовь и уважение миллионов, подняться (сейчас это можно сказать с уверенностью) на вершину популярности и остаться при этом открытым, добрым человеком, не испорченным и не запачкавшимся грязью, которой слишком много в современном отечественном шоу-бизнесе, как и вообще в любом бизнесе.
По динамике и насыщенности событиями его жизнь напоминает хорошо закрученный и острый детектив. И слухов о нем, самых невероятных, фантастических, ходило и ходит немало. Причем, по мере роста известности Александра Розенбаума и народной любви к нему, эти слухи приобретают чуть ли не планетарные масштабы.
Если раньше народная молва говорила о нем как об эмигранте, умершем в двадцатые годы в Канаде, о диссиденте и зеке, то теперь Александр Яковлевич Розенбаум — «глава еврейской мафии», «воротила теневой экономики», оперирующий нефтедолларами и вкладывающий миллионы этих долларов в игорный или в еще какой-то сомнительный бизнес. Александр Яковлевич, гласит молва, на пару с Иосифом Давыдовичем такие финансовые и криминальные дела вершит, что небу жарко делается.
Между тем молва не уточняет, как этот «воротила теневой экономики», «глава еврейской мафии» и «криминальный авторитет» Розенбаум умудряется давать по двадцать концертов в месяц, двести дней в году проводить в гастрольных поездках, записывать пластинки, число которых превысило два десятка, сниматься в кино, заниматься благотворительной деятельностью и постоянно писать — новые песни, новые стихи, новую музыку.
Человек, сделавший себя сам, во все времена и во всех странах был чем-то из ряда вон выходящим.
И их, таких людей, на самом деле не так много, по крайней мере, в нашей стране, и имена их всем известны. Конечно, если говорить только об артистах, то есть о людях, которые в силу самой своей профессии находятся на виду. Автор этих строк ни в коей мере не хочет обидеть или умалить роль и значение «состоявшихся людей» (по любимому выражению Александра Розенбаума) любых других профессий — от токарей и поваров до космонавтов и академиков. Они все достойны уважения в равной мере.
И сам Александр Яковлевич не делит профессии на более престижные и менее значимые, на модные и немодные: называя себя «рабочим человеком», «рабочим сцены», он не лицемерит и не кокетничает. Он вообще никогда не кокетничает. Чтобы убедиться в этом, достаточно сходить хотя бы на один его концерт и увидеть реакцию зрителей на стихотворение, которое Александр Яковлевич часто читает на своих больших концертах, стихотворение, заканчивающееся такими словами:
В себе желание давлю
Купить шале вблизи Парижа…
Я государство ненавижу,
Но очень Родину люблю.
Немного найдется в нашей стране артистов, которые после такого заявления вызывали бы в зале взрыв аплодисментов, искренний восторг публики, не ироничные замечания вроде таких, что, мол, конечно, загреб деньжищ, теперь шале ему подавай, да не где-нибудь, а под Парижем… А мы здесь гнить будем…
Реакция же на слова, произнесенные Розенбаумом, принципиально иная. Можно ведь, можно, своим трудом, своим горбом! Молодец, мужик, правильно, Саня, так держать! И мы будем… Работать, мужики, надо, и все у нас будет! Как у Яковлевича…
Эти четыре строчки стихотворения достойны отдельного упоминания и более пристального внимания. Ибо в них весь Розенбаум — прямой, жесткий, когда это нужно, по-мужски, по-настоящему бескомпромиссный, широкий, размашистый, легкий на подъем и на острое слово, способный быстро ответить ударом на удар и улыбкой на улыбку, неутомимый и неугомонный. Работяга, заработавший своим трудом, своим горлом столько, что о покупке шале под Парижем может думать как о совершенно реальной вещи. Каждый год по нескольку раз летающий в Америку, как к себе домой, объехавший почти весь земной шар, познакомившийся с генералом Пиночетом, останавливающий свою машину, чтобы оказать первую медицинскую (кстати, очень квалифицированную) помощь упавшему на улице незнакомому человеку. Впрочем, о последнем можно было бы и не упоминать, поскольку это для него — вещь совершенно естественная…
Построивший себе отличную квартиру, этакое уютное гнездышко, которое иногда, лежа в ванной, принимает, забывшись, за гостиничный номер и тоскует в преддверии того, что скоро это уютное гнездышко, эту классную гостиницу — в каком же она городе?.. — надо покидать. Настоящий «гражданин мира» и почетный гражданин Санкт-Петербурга, пожалованный баронским титулом, врач, моряк, охотник, боксер, солдат, трижды бывший на войне и видевший ее не сквозь объектив телекамеры или через экран телевизора, а ползая в окопах и перевязывая раненых…
Всю жизнь шедший «поперек потока» и в конце концов победивший этот поток, сломавший его, пробившийся сквозь тупость, хамство, трусость и ложь окружающего его, да и всех нас, мира. Начавший борьбу в одиночку и победивший, отвоевавший свой остров, свое место, с которого теперь сбить его не так-то просто. Да это и невозможно, скорее всего, потому что Александр Розенбаум всю свою жизнь строит, следуя американской поговорке «Чтобы стоять на месте, нужно очень быстро бежать».
А Александр Розенбаум даже не стоит на месте, а постоянно движется вперед, и нет конца этому бегу.
Кажется, слишком много комплиментов… Но это не комплименты, это реальность. Чтобы расставить все точки над «i» хочу сказать, что в жизни я не склонен к преувеличениям. И поэтому совершенно спокойно говорю в превосходной степени о качествах этого человека, настоящего артиста, доказавшего всей своей жизнью и творчеством, что никакой шоу-бизнес, никакие деньги и никакие протекции не смогут заменить настоящего таланта, что если у человека есть талант и трудолюбие, настоящее трудолюбие, увлеченность и уверенность в себе, то он способен достичь свой цели. А это очень важно. Можно сколь угодно долго рассуждать о коррупции в шоу-бизнесе, но какое отношение имеют к этому Аркадий Райкин, Михаил Жванецкий, Иосиф Кобзон, Валентин Гафт, Леонид Филатов, Александр Розенбаум?
Достойно мужчины — говорить правду в глаза.
Если правда горькая и обидная, это тяжело. Но, как выясняется, так же трудно и хвалить, не боясь показаться льстецом, говорить о заслугах и достоинствах, не думая о том, что это могут расценить как тонкий расчет на какую-то благодарность. Поэтому смею думать, что в данном случае я поступаю в достаточной степени по-мужски, говоря о том, что на самом деле восхищает меня в Александре Розенбауме и что в конечном счете послужило толчком к началу работы над этой книгой.
Много лет занимаясь рок-музыкой как непосредственно, так и в качестве музыкального обозревателя, являясь автором нескольких книг, я обратился к личности Александра Розенбаума не случайно. Ошибочно повешенный кем-то в давние времена на этого замечательного музыканта ярлык «автор-исполнитель» многих повергает в уныние и заставляет относиться к творчеству Розенбаума заведомо предвзято. Даже не само это определение «автор-исполнитель», а смысл, который оно с чьей-то — не скажу: легкой, скорее дурацкой руки, приобрело в нашей стране.
Автор совершенно уникального цикла песен, ставшего уже сейчас классическим, Розенбаум никаким, что называется, боком не соприкасается с певцами полян и костров (да простят меня эти самые «авторы-исполнители»). В отличие от них Розенбаум в первую (и главную) очередь музыкант очень высокого класса, композитор и исполнитель музыкальных произведений, поэт и певец. И уж никак не бард в нашем, отечественном, значении этого слова.
«Гоп-стоп». Если бы Розенбаум не написал больше ни строчки, то уже за одну эту песню он должен был бы стать (и стал бы) живым классиком нашей эстрады. Утверждаю это и как человек, который двадцать с лишним лет жизни посвятил популярной музыке, и как исполнитель, и как автор, и как слушатель-коллекционер.
Песня, имеющая столь разветвленные корни (уходящие, с одной стороны, в американскую кантри-музыку, с другой — в русский романс), написанная на блюзовой основе, является действительно народной (в самом хорошем значении), популярной песней, затрагивающей струны в душах людей самого разного культурного уровня и социальной принадлежности. А что до стихов, так только в последней фразе, выходящей за ритмическую структуру, ломающей ее, — «Ну вот и все, кончай ее, Семэн», — в этой фразе, если рассматривать ее в контексте всего произведения, литературы больше, чем во всех песнях членов КСП, вместе взятых.
И тут же «Вальс-бостон» — замечательная, прочувствованная джазовая композиция. Песни-монологи, песни-истории, насыщенные драматургией, сюжетные, динамичные. Использование в них самых разных музыкальных стилей, тембров — на концерте ясно прослеживается влияние и «Пинк Флойд», и «Битлз», и французского шансона, и, возвращаясь к вышесказанному, русского романса. Применение самых современных средств обработки звука, гитарных синтезаторов и цифровых преобразователей, сложные гармонии, насыщенные модуляциями!.. Какое отношение все это имеет к бардам? Да никакого!
Однако эта книга не является музыковедческой, равно как и не исследует литературные особенности творчества Александра Яковлевича Розенбаума. Не является она и биографической, анкетной.
Это просто разговоры, рассказы Александра Розенбаума о себе, о своей музыке, о людях, с которыми ему довелось общаться, дружить или просто встречаться в жизни, размышления о политике, о войне и мире, о бизнесе, об искусстве, о нашей жизни и о месте в ней творческого человека.
Возможно, что благодаря этим монологам читатель сможет поближе познакомиться, хоть и заочно, с Александром Яковлевичем и составить о нем более адекватное представление, и по-новому услышать некоторые из его песен, опровергнуть для себя нелепые слухи, и уйти от навешивания привычных ярлыков, чем особенно сильно грешат журналисты.
Как только не называют они Александра Розенбаума — и «черный ворон», и «одинокий волк»… Но если уж проводить параллели с животным миром, то скажу, что Александр Яковлевич Розенбаум — не черный ворон, не одинокий волк, он скорее бультерьер.
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ МЕДИЦИНЫ…
Попробую взглянуть на себя со стороны. Вернее, не со стороны, а с точки зрения медицины.
Я ведь врач и обязан чувствовать людей, «видеть» их. Насчет себя как «пациента» тоже могу кое-что сообщить.
Наверное, у этого человека есть талант, хотя немного боюсь слова «талант» — понятие это слишком многоплановое и в нашем мире затасканное, искаженное. Слава тебе господи, талантливых, людей много. Я вообще думаю, что каждый человек рождается в большей или меньшей степени талантливым. А дальше все зависит от развития.
Но вряд ли только у Александра Розенбаума были талантливые и интеллигентные мама и папа. Причем, папа из простой семьи, а мама — интеллигентных корней. Папа мой поступил в Военно-медицинскую академию, со второго курса его забрали на фронт. Он прошел войну, после фронта закончил медицинский институт и всю жизнь работал врачом. Родители не водили Александра в оперу, в филармонию, не давали специально читать Достоевского или Шекспира…
Так что элитарного воспитания Александр Розенбаум не получал: он — продукт обычной советской интеллигентной семьи.
Поэтому, возвращаясь к своему медицинскому и естественному образованию, я считаю, что Розенбаум — в чем-то Богом деланный человек. Иначе объяснить я это не могу. Написать «Гоп-стоп» в двадцать лет, создать «одесский цикл», суметь добиться перевоплощения в казаков (это было именно перевоплощение!)… Так же как и перевоплощение в «блатных», к которым Розенбаум никогда не имел никакого отношения, за исключением дворового общения с мальчишками, с отсидевшими или неотсидевшими мужиками. Это сейчас можно подумать, что я связан с «блатными». Нет, в жизни я не «блатной», просто я артист, знаю всяких людей, каких хочешь, и перевоплотился в блатаря тогда, когда слухом о них не слыхивал и духом не дыхивал. Но в свои двадцать лет я был абсолютно «блатной» в творчестве. Кроме как Господу этого никому не сделать. Одной начитанностью тут ничего не добиться. Разве я один читал «Одесские рассказы» Бабеля? Или я один смотрел фильм «Трактир на Пятницкой»?
Поэтому и склоняюсь к варианту, что все это Богом делано. Со мной так бывает, особенно в последнее время, я замечаю совершенно удивительные вещи: пишу песню, пишу, потом еще одну строчку написал, и вдруг вся песня переворачивается. Строчку эту, выходит, мне дал Бог.
Не знаю, как я написал свои «одесские» песни. Сейчас, с высоты своего возраста, жизненного опыта, с высоты моей профессии и того места, которое я в ней занимаю, я не могу понять, как мог этот парень в двадцать два-двадцать три года написать эти песни. Не могу я понять с высоты своего возраста и то, как я написал казачьи песни, как я влез в это дело. То же самое было и с Высоцким. Вот почему нас и сравнивают глупые люди.
Они, правда, не хотят раскинуть мозгами, не хотят понять, что подражать ему невозможно. Это можно либо пережить, либо тебя должны сделать Сверху.
Если ты этого не пережил, значит, тебя сделали Сверху.
Я пришел в поэзию чистым человеком, ребенком: до института не любил, не знал поэзию. Меня часто спрашивают: «Ваша мечта в творчестве? Чего вы хотите достичь?» А хочу я в школьной программе одно свое стихотворение иметь! Кстати, мне сказали, что в Киеве в школе изучают «Вальс-бостон», разбирают на уроках литературы. Я был счастлив.
Да, я был чистым, придя в поэзию. На меня никто из поэтов не оказывал влияния, и не потому, что я такой гордый, — просто на меня некому было в этом смысле его оказывать. Я научился читать в пять лет и прочел достаточно рано и много — от маминого учебника «Акушерство и гинекология» до Шекспира. А вот поэзию просто не знал и не любил — знал только «Блэк энд Уайт» Маяковского и «Бородино» Лермонтова, из школьной программы. Любил Маяковского как сильную личность — это было и двором воспитано, и мальчишескими отношениями.
Помню первый толчок к творчеству. В свои тринадцать-четырнадцать лет я учился в музыкальной школе очень неохотно — как все нормальные мальчишки. Меня привлекал двор, и ничего другого я знать не хотел. Музыкальную школу все же надо было заканчивать. Сейчас я благодарен маме за то, что она заставила меня сделать это.
Так вот, в свои тринадцать лет я отправился к бабушке на ее работу — в типографию газеты «На страже Родины»: у них там на танцах играл какой-то ансамбль. Как я понимаю сейчас, это был совершенно пятиразрядный, работающий на «чесе» ленконцертовский коллектив, который пригласили поиграть на танцах. Но тогда мне все это жутко понравилось. Я даже подсел к пианисту, и мы весь вечер вместе играли. Я был мальчишкой, но он меня милостиво пустил за клавиши, и мы с ним «чесали» в четыре руки. И тогда… я улетел в музыку. Изменил свое отрицательное отношение к этому занятию, уселся за рояль надолго, на всю жизнь…
Такой вот толчок. Видимо, Бог меня поцеловал в возрасте тринадцати лет. Шепнул: «Санек, пора работать! Ты созрел!» Он не целовал меня раньше — ни в шесть, ни в десять, ни в двенадцать. У меня тогда не было к нему никаких вопросов, а у него ко мне: наверное, он ко мне присматривался. А потом шепнул: «Хватит, Шурик, пора трудиться на благо самого себя и Отчизны, если получится».
Самые яркие картинки детства? Наверное, 12 апреля 1961 года. Я возвращался с урока английского языка, и вдруг в один момент весь город оказался заполненным людьми. Солнечнейший день — и ощущение, что вся страна вышла на улицы.
Из картинок домашней жизни вспоминаю, как мы с братом разбили зеркало, трюмо. Жили мы в коммунальной квартире, впятером в одной шестнадцатиметровой комнате. Все были на работе, и мы с братом хулиганили. Кончилось тем, что трюмо упало посреди комнаты — тыщ пять осколков!
Из школьной жизни помню случай, как я рассказал в классе анекдот про Хрущева одному мальчику, а тот, видимо, своему папе. Меня вызвали к директору. Вхожу к нему, а там сидит папа моего одноклассника Андрюши Волкова в кожаном плаще, этакий сталинский сокол. Смотрит на меня, как на подследственного в тридцать седьмом году. Пришел заложить меня, учащегося третьего класса, как врага народа. Единственное, что я спросил: «Маме с папой ничего за это не будет?» Страх был дикий.
Сыновья бывают «мамины», бывают «папины».
Я — «бабушкин», бабушки Анны Артуровны, маминой мамы, корректора, которой я с семи лет помогал проверять гранки. Родители никогда не были моими друзьями, моим другом была бабушка.
А родители всегда были Родителями. Она самый дорогой для меня человек в жизни.
Для меня друг — это другое понятие. Я бабушке мог рассказать намного больше, чем маме с папой.
Все, что я имею творческого, наверное, это все от нее. Она была замечательным человеком. Но если брать родительские гены, то я — отцовский, а Вова, брат, — мамин. У нас очень хорошо все распределилось.
Лет в двенадцать я посмотрел фильм по роману Диккенса «Большие надежды». Там была очень страшная сцена: герой фильма, мальчик-подросток, оказывается ночью на кладбище. Видит фигуру человека, распиливающего что-то (это оказались кандалы). Мальчик подходит, человек поворачивается к нему своим ужасным, обезображенным лицом…
После этого фильма меня буквально преследовала мысль об этом ужасном человеке. Я стал бояться темноты, но каждый вечер специально дожидался, когда стемнеет, и только после этого шел выносить мусор — это была моя домашняя обязанность. А двор у нас был глухой, темный… Шел и шептал себе: «Только не обернуться, только не обернуться!..»
Еще помню, как в Ленинграде впервые на экранах пошла «Великолепная семерка» и мы с другом Андрюшкой Дериным достали билеты на этот замечательный американский ковбойский фильм. А перед выходом из дома обнаружили бутылочку «Старки», плоскую такую и очень «ковбойскую». Взяли ее, расставили по-ковбойски ноги — и сделали по глотку. Пришел папа, увидел, что у него в бутылке граммов ста нет. Дальше была разборка, и в кино нас не пустили.
В юности, глядя на отца, я получил абсолютно четкое понятие — каким должен быть мужчина и чем он должен заниматься, хотя родители никогда мне об этом не говорили. Даже если бы и говорили, то я бы, наверное, не очень-то послушался. Так что я всегда был достаточно самостоятельным в выборе своих жизненных путей.
Я «торчал» от рок-н-ролла, от «Пингвинов», от «Черного кота». Шейк, «Твист-эгейн», битлы-роллинги, работал на ритм-гитаре. Когда надо было, играл соло, но никогда не был лидер-гитаристом. У меня своя, четкая школа — бас-ритм. Меня никто не учил: несколько аккордов показал сосед, Михаил Александрович Минин, который жил со мной в одной коммунальной квартире.
В свое время был дуэт «Минин и Крематат», они аккомпанировали Вере Паниной. Михаил Александрович и показал мне три-четыре аккорда, и на этом все мое гитарное образование закончилось. Вот я и начал сочинять песни. Учитывая, что у меня была абсолютно «голая» поэтическая база, сразу стал писать на русском языке, не на поэтическом.
Меня упрекали, особенно раньше, большие и маленькие поэты, что у меня не стихи, а кич. Это не кич — это мое видение поэзии. Я и тогда не рифмовал «дом-лом», «печь-течь», «крыша-мыша».
Я всегда рифмовал как-то не очень просто. Но всегда писал, как и Высоцкий, от первого лица, разговорной речью, без каких-то гребенщиковских «задвигов». Не потому, что гребенщиковский «задвиг» — это плохо. Просто я писал по-другому — писал живую, разговорную, человеческую речь.
Я счастлив, когда ко мне приходят записки: «Огромное вам спасибо за то, что вы так хорошо знаете русский язык».
Я был абсолютно самодеятельным человеком, хотя в то время, наверное, и думал, что я — большой артист. Впрочем, я никогда не выходил на сцену «контровой» походочкой: «Щас я вам устрою!» У меня никогда такого не было. И за все, что я наработал сейчас, — спасибо моим старшим товарищам, которые меня учили, пусть даже и не уча. Я сам все время смотрел, как они работали. Никогда не ставил свое «я» впереди всего остального и до сих пор не ставлю. Пусть это и избитая фраза, но учиться надо всему и до конца дней. Я и сегодня продолжаю учиться — у всех, кто со мной: у кого-то — сдержанности, у кого-то — эмоциональности, у кого-то — другим вещам.
Люди, которые меня окружают, — все мои учителя. А в музыке для меня с небосклона искусства светили особенно ярко — «Битлз» и Высоцкий.
У меня даже на зажигалке написано «Битлз». Это для меня Библия, да простит меня Господь. Джон Леннон ведь однажды говорил, что он известнее, чем Христос. В музыке «Битлз» для меня — святая книга, я бы так сказал. И потому в песне, написанной недавно, есть строчка: «Хочу, Господь, под битлов помереть». Конечно, не только «битлы» сформировали меня как музыканта, есть еще Чайковский, Моцарт, Бах… Но в рок-музыке, в популярной музыке «Битлз» — для меня основное.
Я закончил Первый Ленинградский медицинский институт имени академика Павлова и вечернее музыкальное училище в ДК имени Кирова. Учиться и там и там было интересно. Правда, музыкальное училище я заканчивал, уже работая врачом на «скорой помощи».
На первых двух курсах института я был далеко не примерным студентом. Когда человек вырывается из школы, когда ему уже не надо отвечать каждый день на уроках, то можно и лекцию прогулять, то есть человек самораспускается. Но через два года, нагулявшись, я уже понял, что надо дело делать, и все экзамены начал сдавать на «четыре» и «пять», а все госэкзамены сдал на «пятерки». Всегда говорю: «Я родился в халате». В доме врачей, учился на врача, работал врачом.
Есть такой штамп: «Раньше вы лечили тело, сейчас лечите душу». Любой человек, а уж тем более врач, — прежде всего психотерапевт. Если вы не найдете контакта с больным, можете его лечить всю жизнь и не вылечите. Хотя я по своей основной специальности — реаниматолог-анестезиолог, но мне на вызовах женщины рассказывали о своих бедах то, что своему гинекологу за двадцать лет не говорили. Или приходишь к бабушке больной: «Бабуль, чего у вас болит?» Она: «Там, здесь». Даешь ей таблеточку анальгина или чего-нибудь еще: «Потрясающее американское лекарство, бабуль, колоссальное!» Потом возьмешь за ручку: «Ну, как, бабуль? Как с внучкой? Как дед? Как зять — сволочь, наверное!» Поговоришь про то, про се… «Получше, бабуль?» — «А укол, сынок?» — «Какой укол, бабуль, все же хорошо!» Безынъекционный метод лечения — это же замечательно, чего шкуру-то дырявить?
Когда ты работаешь на «скорой помощи», то спасать людей — это обычное дело. Но однажды мое умение пригодилось и в необычных обстоятельствах. Мы летели из Ленинграда в Нью-Йорк, и внезапно стало плохо солисту Малого оперного театра Пищаеву: был он без сердцебиения, без дыхания. Но поскольку он, видимо, рефлекторно «остановился», то я его рефлекторно достаточно быстро «завел». Уже в Америке мы передали его врачам «скорой помощи».
Никогда не отказывался от своего медицинского прошлого, настоящего и будущего. Человек, единожды давший клятву Гиппократа, навсегда остается врачом, если он врач, а не «лепила». Я снял халат и положил фонендоскоп в 1980 году, когда Альберт Асадуллин пригласил меня в свой коллектив «Пульс»: я не хотел быть лучшим певцом среди врачей и лучшим врачом среди певцов. Поэтому и оставил врачебную практику. Но как был врачом, так им и остался.
Мне медицина очень помогает в творчестве. В том смысле, что я знаю человеческую психологию. Люди говорят: «То, что вы поете, это про меня». А всякие эстетствующие критики называют это конъюнктурой. Чушь собачья! «Вальс-бостон», или «Черный тюльпан», или «Казачья» — не конъюнктура, а знание человеческой души. Потому что даже самый отъявленный эстет любит точно так же, как последний алкаш у ларька. И ненависть в подкорке та же, что у писателя, лауреата Нобелевской премии, что у вора в законе, сидящего на зоне. С медицинской точки зрения я это очень хорошо понимаю.
Я старался быть полезным и тогда, до 1980 года, на «скорой», и сейчас. Делать свое дело хорошо я стремился всегда. Но это несравнимые вещи — сцена и хирургический стол. Очень сложно говорить о том, что полезнее: спасти трех людей от смерти или спеть тридцати миллионам. Думаю, что и то и то важно…
Я вообще всю жизнь воспринимаю с точки зрения врача. Это колоссальное удовольствие. За исключением одного: разговариваю с человеком — и через десять минут я его уже знаю. Но в творчестве это помогает — психотерапевтический эффект налицо. Однажды спел на заводе, а спустя какое-то время мне звонит директор: после моего выступления поднялась производительность труда…
Я и искусство воспринимаю с точки зрения медицины. К примеру, я — не поклонник Рубенса: я его не люблю, потому что у него на картинах все люди больные, у всех сердечная недостаточность третьей степени. Им надо ставить пиявки, делать кровопускание, давать сердечные гликозиды, снижать артериальное давление, лечить кожу, потому что она пастозная, отечная, да и печень увеличена наверняка пальцев на пять… А красивое тело для меня — Роден.
Мне не стыдно говорить, что я обожаю Шишкина, Айвазовского — вообще натуру, пейзажи. Очень люблю Левитана. Но люблю и Дали, и Босха, потому что в их картинах есть пища для ума.
Некоторые говорят мне: «Как ты можешь любить Шишкина? Ты, образованный человек? У тебя Шемякин дома, а ты любишь Шишкина…» Как он это делал? какой кисточкой и каким мазком? — меня совершенно не интересует, это дело людей, которые обучались в Академии художеств. Но я «торчу» от «Утра в сосновом бору», и не потому, что оно изображено на обертках конфет «Мишка косолапый». «Как ты можешь любить Айвазовского?» Да мне плевать, штамповал ли он свои картины, как говорят некоторые, по десять за ночь.
Мне просто нравится. Я знаю, что такое море, — я на нем служил. И оно у Айвазовского колоссально сделано.
Мы можем долго говорить по вопросу кича. Есть такое мнение у недоделанных людей, что Шишкин — это кич. Айвазовский — это кич. Розенбаум, «Гоп-стоп» — это тоже кич. Раньше я спорил, сейчас — нет. Кич так кич. Пусть.
А что такое кич? Это то, что любят миллионы людей. Почему ты считаешь, что миллионы — козлы, а ты один умный? А я, как доктор, могу сказать, что такое кич. Это то, что люди ноздрями чувствуют, инстинктом. Кора головного мозга у нас у всех разная — в силу образованности, в силу генотипа, в силу окружающей среды, воспитания и многих других вещей. Но инстинкты у нас у всех одинаковые. Боимся мы одинаково, любим мы одинаково — что вор в законе, что член-корреспондент Академии наук в области философских изысканий. Любовь к женщине с точки зрения инстинкта совершенно одинакова у всех. Это цветы мы дарим разные и по-разному — один с поклоном, другой с реверансом, третий просто в лицо сунет. Но есть нечто, что одно, и оно одинаково реагирует. Кич — это воздействие прежде всего на инстинкты, и они далеко не всегда низменные. Не надо наши инстинкты равнять с низменностью. Инстинкт — это страх, это любовь, это нормально, это здоровое ощущение человека. Хуже, когда у человека нет инстинктов, когда у него одна кора, а подкорки нет, — это плохо. Это уже не человек, а растение, по земле ходящее.
Поэтому для меня понятие кича — не обидное, а совершенно нормальное. Другое дело, что кич может быть более цивилизованный и менее цивилизованный, более интеллектуальный и менее интеллектуальный, — в зависимости от того, кто это сделал. Но это будут любить двести миллионов — вся страна… Они что, все болваны? Если певицу Линду любят неизмеримо меньше, это не значит, что певицу Линду не надо слушать. Это же можно сказать и про Махавишну, и про «Битлз», и про Шнитке, и про Моцарта…
Моцарта любит половина земного шара. А сколько умников говорят, что это кич? Примитивный, дескать, человек, любит Моцарта, Вивальди, Баха, «Лунную сонату», «К Элизе»… А вот я Шнитке слушаю. Хотя сам в Шнитке, как правило, ничего не понимает. Но это отдельная история — про снобов.
Как нормальный человек может не любить Моцарта? Нормальный человек не может себе позволить такой роскоши — не любить Моцарта. При этом, если он музыкант, он может и должен играть Шнитке, но не любить Моцарта невозможно.
Бах, Моцарт, Вивальди, Верди… Вагнера я могу слушать с напрягом, но мне это нужно для общего образования. Зато когда я слышу Верди, мне плевать, кич это или не кич, я просто купаюсь в этой музыке.
Понятия «кич», если это сделано талантливо, для меня нет. Слово это придумано для того, чтобы оправдать свою несостоятельность. Тот человек, который не состоялся, оправдывает себя тем, что состоявшегося называет кичевым. «Маяковский — это кич». Напиши ты хотя бы десятую часть того, что написал Маяковский, и так напиши. А человек, который сам ничего не может, называет это кичем.
Народ — сто миллионов дворников, академиков, учителей, студентов, врачей, бандитов, продавцов пива, шоферов, домохозяек, совершенно разных людей — это любит. Лишь человек, который не состоялся, будет говорить: «А-а, это все кич».
Сидит в зале секретарь обкома партии, сидит диссидент или сидит вор в законе, и все трое «тащатся» оттого, что им спели про любовь понятно, нормально, по-русски. Это что, кич? Пускай про меня говорят: «Он работает на всех. Конъюнктура». Да «он» работает не на всех — «он» работает для всех! Пусть «он» спел хоть двоим, — не очень-то интересуясь, кто из них вор, а кто академик. И если то, что я спел, попало обоим в душу, значит, это сделано правильно.
В медицине есть понятие рефлекса Ашнера-Гольца — нокаут при ударе в солнечное сплетение. На занятиях по физиологии на втором курсе мы брали лягушку, били ей пинцетиком по солнечному сплетению, и у нее останавливалось сердце на долю секунды. Если и человеку точно попасть — он тоже потеряет сознание. Вот и нужно иметь талант попасть в точку. Одним ремеслом этого не достичь. Талант нужен для того, чтобы что-то раскрыть.
И поэтому именно артист, а не ремесленник попадает в точку. Боксеру, впрочем, тоже без таланта не «открыть» противника.
В свое время мама отдала меня в секцию фигурного катания, но я сбежал с катка на ринг. В занятиях боксом я дошел до кандидата в мастера. Мой вес тогда был 67 кг. Я не считал, сколько боев провел, но, думаю, больше ста. Начал боксировать в дворовых баталиях. (В наших девяти совмещенных дворах не хулиганить было невозможно. Тем более в то время — в пятидесятые — начало шестидесятых…)
В 5-м классе я уже занимался в секции «Трудовых резервов» у Кусикьянца. Впоследствии выступал во втором среднем весе (до 75 кг) на первенствах Ленинграда и России. В этой категории слабаков нет. Старался поменьше пропускать и посильнее ударить. Удавалось с переменным успехом: однажды побывал в нокауте… Но бокс я бросил не из-за этого, хотя мог бы достичь и большего.
А оставил я ринг потому, что всегда считал так: либо спорт — либо медицина, либо медицина — либо песня. Отдаваться полностью надо чему-то одному, иначе везде останешься на нуле. Медицинский институт, куда я поступил, — специфический вуз: учась здесь, невозможно отвлекаться на длительные сборы, разъезды, тренировки. (Недаром среди медиков мало выдающихся спортсменов.) В медицинском институте была жесткая система «отработок» за каждое пропущенное занятие. Вот и пришлось выбирать: либо — спорт, либо — профессия врача. Но характер у меня остался спортивный: я «упертый», меня тяжело свалить.
Валерия Попенченко я еще застал на ринге. Сборную 60-х годов я до сих пор могу назвать без запинки. А вот нынешних чемпионов не успеваешь запомнить, как они исчезают. Тогда были личности, а сейчас, по-моему, почти нет боксеров, какими были Попенченко, Агеев, Туминьш или Таму-лис. За последние годы мне вспоминаются лишь Сергей Конакбаев, Руслан Тарамов и Игорь Высоцкий.
В свое время было какое-то идиотское предложение о запрете бокса. Глупость, просто полная глупость какая-то. Тогда надо запретить и хоккей, и футбол, и борьбу. По-моему, там в 2–3 раза больше травм, чем в боксе. Конечно, если будешь давать себя «молотить» по голове каждые пять секунд… Но коль ты боксер такого уровня, то лучше вообще не выходить на ринг. Многое еще зависит и от тренера, от его порядочности, профессиональной совести и компетентности.
Сейчас в спорт проникли медицинские препараты… Когда искусственно тормозят рост позвонков у юной гимнастки — это омерзительно! Когда накачивают мышцы за счет анаболиков в ущерб здоровью — это отвратительно! Помню, спросил одну известную спортсменку, установившую за год несколько рекордов, о том, как ей это удалось. «Кололась как никогда в. жизни», — ответила она.
Я за то, чтобы стоял рекорд Брумеля — 228 см, а не нынешние 243 см. И в толчке пусть будет не 270 кг, а 170 — своими мышцами поднятые килограммы. Пока спорт будет инструментом большой политики, пока есть люди, любой ценой желающие стать чемпионами, анаболики, увы, будут иметь хождение в спорте.
Считаю, что ежедневная физкультура может стать некоторой панацеей и начинать надо с детей.
У нас в школах каждый день занимаются русским языком, а физкультурой, которую дети любят, — всего два раза в неделю. Лично мне этого не хватало в школьные годы. Собственно, о каком здоровье нации может идти речь, если людей травят выхлопами и нитратами, скученностью в жилищах, магазинных очередях и в общественном транспорте?
Моя форма сейчас, если говорить о спортивной форме, — вес 88 кг при росте 180 см. Я всю жизнь был спортивным человеком, стараюсь и сейчас поддерживать форму. У нас есть конная база в Колтушах, а сборная Питера по конному спорту — это все мои друзья. Когда у меня раньше было получше со свободным временем, я часто проводил его верхом на лошади. Я сел на нее после бокса: когда стало не хватать дыхалки для боксирования, нужно было придумать что-то другое, что соответствовало бы возрасту. Ну а сейчас мой спорт — это мои концерты. Нагрузка такая, что хватает для поддержки формы: за концерт теряю до двух килограммов.
Год назад я, слава Богу, переехал в новую квартиру на Васильевский — просторную, где есть место для тренажеров. Теперь, когда бываю дома, час в день посвящаю им.
Спорт — это образ жизни. Я всю свою жизнь связан со спортом. И уважаю себя как мужчину. Мужчине необходима физическая сила, чтобы чувствовать себя в жизни уверенно. В моих глазах человек, распустивший свое тело, разжиревший, рыхлый, теряет не только внешнюю привлекательность, но и личностную. Не думайте только, что я поклонник грубой физической силы. Я говорю о единстве физической и духовной красоты. Такое единство было у Маяковского, у Баха…
Конечно, вовсе не значит, что хилый мужчина — не мужчина. Но если он имеет возможность поддерживать свою физическую форму, если имеет к этому данные, то он должен за собой следить. Тем более это необходимо артисту. Артист должен быть артистом, и быть на сцене хлюпиком мне не хочется. Хотя я очень люблю добрых, хороших, интеллигентных хлюпиков. Но, если можно не быть хлюпиком, зачем же им быть?
Но заниматься спортом с утра — ни за что. Вообще человек должен заниматься им в те часы, когда его организм готов к этому. Мне хвататься утром за тяжести — преступление для моего организма, а вот через два-три часа — пожалуйста. К тому же вечером меня ждет огромная физическая нагрузка — трехчасовой сольный концерт… Хотя я не бегаю по сцене, не прыгаю, не устраиваю шоу, но так сжигаешь себя, нервы тратишь, даже в весе теряешь…
Раза два взял теннисную ракетку — и все: не нуждаюсь в модных видах спорта ради приближения к президенту. То, что я стану к нему ближе на длину ракетки, меня не волнует. Меня вообще не волнует президент и его любимый вид спорта, так же как не волнует любимый вид спорта английской королевы.
Я мог бы выйти погонять мяч — за команду артистов. Один раз в году — мог бы. Но сделать это свой работой?!
Когда ко мне обратились с предложением стать президентом баскетбольного клуба «Спартак», я сразу сказал, что могу предложить ему только имя. Сегодняшние позиции клуба никого не устраивают, мне тоже хотелось бы, чтобы он занял достойное место, и я согласился стать президентом клуба.
Я взялся за это, потому что, во-первых, я — ленинградец, во-вторых, люблю спорт, в-третьих, очень горжусь и собираюсь всегда гордиться «Спартаком».
У меня до сих пор боксерская стойка, и на сцене я корпусом работаю. Закалился я, конечно, в боксе. Он, как любой спорт, формирует психологию, особенно психологию единоборства. Боксеры не дерутся на улицах, если они действительно серьезные люди, а не пропитые козлы. Часто возникает желание врезать кулаком. Но разве кулаки помогут нам в борьбе с глупостью и так называемыми перегибами?
ВОЗВРАЩЕНИЕ НА «АРГО»
Я помню шестьдесят третий год, когда у нас в стране появились записи «Битлз». Все удивлялись — что это за женщины запели?.. Таких высоких голосов не было на нашей эстраде — установка была другая: так петь было не принято. Хотя если сравнивать их сегодня с Пресняковым или «Би Джиз», то они просто баритоны. А тогда у народа было полное ощущение, что это женский вокал. Какая-то сумасшедшая, завораживающая музыка, сносящая все вокруг, поющаяся странными женскими голосами… Да, мир кончился, когда пришли «Битлз». Если смотреть с позиций сегодняшнего дня, то это был словно какой-то ломовой ветер.
Тогда ведь у нас не было абсолютно никакого доступа к мировой рок-музыке. Если «Тич Ин» на пластиночках серии «Вокруг света» воспринимался обалденно, то, когда появлялись пластинки настоящих коллективов — «Пинк Флойд», «Лед Зеппелин», все, что было тогда в конце шестидесятых — начале семидесятых, это было нечто. Распад «Битлз» мы застали в полном сознании, обсуждали, как они теперь будут торчать на студии, что будут делать и с кем работать…
Появились первые электрические гитары. Ребята стали делать «самопалы»: вырезали из досок корпуса гитар, мотали датчики… Я никогда этим сам не занимался, не умел, а они из простых досок резали гитары… Году в шестьдесят пятом — шестьдесят шестом появились первые заводские электрогитары. У меня в школе было два лучших друга — Вова Осташенков и Сережа Зайцев. И вот мы с Вовкой достали такие гитары, играли на школьных вечерах через магнитофон, который таскали из дома и обратно. Играли песни «Битлз»… Снимали по слуху голосовые раскладки, гитарные партии. С английским-то были еще не очень знакомы, поэтому просто фонетически копировали незнакомые слова. Записывали в тетрадку русскими буквами. Тогда были шлягеры «Дэвэй камала», например; «Апачи» — из «Шедоус».
Систем тогда не было вообще никаких — были неструганные доски, магнитофон «Днепр». Никаких тебе колонок и усилителей, с которыми стали потом играть отцы русского рока. Так что были только магнитофоны, которые включали на запись и рубили, как бог на душу положит.
Потом уже стали появляться первые «Фэндера». Их привозили разные люди. Самые крутые были тогда «Цветы» Стаса Намина (еще бы, дедушка — Микоян}. Вот и привозили этим парням. Другим привозили просто шофера-дальнобойщики, привозили «демократовские» группы. За клавишными инструментами мы могли ездить во Владивосток. Первый «Гибсон», который я увидел, купил Сенька Шнейдер — сумасшедшая гитара за бешеные деньги.
Я один из первых, кто начал играть на двенадцатиструнной гитаре: купил году в семьдесят втором за девяносто восемь рублей. Илюшка Мордовин просверлил деку и поставил мне на нее датчик. Самые крутые барабаны были «Тама».
Когда я учился в Первом медицинском, в то время у нас была прекрасная художественная самодеятельность. И как-то сразу сформировалась команда. Я играл на гитаре, как тогда говорили, «как король»… Играл все, что угодно: «Битлз», «Стоунз» в полный рост, рок-н-ролл, Высоцкого… Раннего Окуджаву играл гораздо реже, но тоже любил: «Последний троллейбус», «Смоленскую дорогу»…
Был у нас Женя Клейн. Он не еврей, он немец, давно уже живет в Германии. Тогда, на первом курсе, на гитаре играли он и я. Как гитарист, он был никакой, но он писал песни. А я был молодым человеком с честолюбивыми помыслами. И подумал: человек пишет песни, а я что же — не могу, что ли?
Ведь песни я начал писать еще в школе: первые штук сто были туристские, вполне подражательные. А тут я «сделал его» в два месяца. После этого Женя Клейн забросил сочинять. Законы рынка, так сказать, конкуренция.
Рынок я «взял», а мой однокурсник перекинулся на чеканку и на всякие поделки. Он тоже был Богом деланный человек. Вскоре Женя стал занимать первые места на разных конкурсах чеканки. Но я должен сказать ему «спасибо» и говорю это.
Друзья — они оттуда. Друзья только и могут быть из юности. Думаю, редко можно найти друга после тридцати лет, после же тридцати пяти — практически невозможно.
Я узнал «Аргонавтов» году в шестьдесят седьмом.
Чуть позже, когда Володя Осташенков поступил учиться в Военно-морское училище им. адмирала Макарова, его пригласили в эту группу пианистом. Пригласил Алик Тимошенко. Потом Володя ушел, и на его место пришел я. Потом ушел и Тимошенко, занялся своим «Орнаментом». В «Аргонавтах» остались Петька Жуков, Илюха Мордовии, Вова Калинин, Саша Глазатов. Когда ушел Саша, на его место пришел Федя Столяров. Нас было пять человек в семьдесят втором году. Играли мы очень много. Я потихонечку завоевал такие позиции, что половина программы состояла
из моих песен.
Пожалуй, мы были тогда ведущей группой в Ленинграде. Не было еще никакого рок-клуба, все это началось позже. У нас не было финансовых вопросов, конфликтов: все получали одинаково, а излишки отправляли, как правило, на аппаратуру, на колонки-провода. Илюшка и Петя сами клепали и паяли все это. Илюша Мордовин вообще был главным аппаратчиком современности в нашем городе. Он, по-моему, до сих пор по этой линии работает. Он делал все не только нам — многие ему заказывали.
Петя был фактическим руководителем коллектива, и они с Илюшей держали весь аппарат, являясь его владельцами, и решающее слово было за ними. Разговоры о профессионализме, о переходе в другое качество, конечно, были, но главным противником был Петя: он боялся неизвестности, в смысле репертуара. Он всегда был очень осторожным человеком и никогда не кидался в авантюры. Возможности уйти в профессионалы, конечно, были, но он просто боялся: вряд ли нам бы позволили тогда играть то, что мы играли, и перенести это на профессиональную сцену. А играть в ВИА никто из нас не хотел. Могли возникнуть проблемы с навязыванием чего угодно — солистов, репертуара, инструментов. Мы бы просто перестали быть самостоятельными.
Концерты-сейшены были крайне редкими. Мы играли в основном в институтах, причем далеко не во всех, в каких-то подвалах. Таскали на себе колонки, все наше барахло…
«Аргонавты» были из «Военмеха», поэтому это была у нас первая площадка. На наши выступления столько народу набивалось!.. Думаю, если завтра кинуть клич, что собрались «Аргонавты», зал снова набьется пожилыми уже людьми. Фанатство тогда цвело в полный рост: у каждой группы была своя команда фанов, которая ездила за ними по всем тусовкам, по всем сейшенам и гастролям.
Публика тогда была совершенно другая — не обкуренная, не обколотая, люди «торчали» от музыки и приходили слушать музыку. Ну разве что портвейн все пили, но это было не главным: приходили-то ради музыки.
Вообще то время, которое условно можно назвать «догребенщиковским», таких людей замечательных дало… Алик Тимошенко, Жеромский, Жуков, группа «Белые стрелы»… Андрюша Макаревич… Тот же «Интеграл» с Бари Каримовичем молодым… Ильченко — для того времени был уникальный гитарист. Да и сейчас он классный музыкант…
Очень много людей пошли на профессиональную сцену, например Володя Васильев. Бровко играл в «Аргонавтах», ушел в «Поющие гитары» и играл там «Орфея и Эвридику» двадцать восемь тысяч раз. Но они этого хотели, а мы нет: мы хотели быть такими, какими были.
Мы были настоящими друзьями. Дружба продолжилась, когда обзавелись девушками, потом и женами. До сих пор встречаемся. Да, мы были настоящей группой. Я уже стал работать на «скорой»… Был год 80-й. Ребята, группа требовали большого внимания, времени, а я не мог его уделять в прежнем объеме. И я ушел из медицины — тогда ведь начались и мои сольные дела, сольные проекты.
В Ленконцерте «на журнале»… Это сейчас странно звучит. А тогда там брали самодеятельных ребят (мы, «Аргонавты», тоже были «на журнале»), не лишенных профессиональных навыков. На худсовете артисты сдавали программу, и если она была принята и утверждена, то их могли «всобачить» в какой-нибудь концерт. И заплатить за это ставку. Загодя звонили домой и говорили — будет концерт. Это очень грело душу: мы считались уже Артистами. Правда, артистами мы были нештатными, но все равно… Очень грело, очень…
Я был тогда уже известным рок-человеком, рок-автором, «аргонавтским» человеком среди фанов питерских. И не только среди фанов: «Аргонавты» были тогда на слуху у всех.
И вот в восьмидесятом году мне позвонил Альберт Асадуллин, сказал, что ушел из «Поющих гитар», начал делать сольную программу со своей новой группой: «Вы не могли бы прийти и напеть несколько песен для нового репертуара?»
Я пришел и напел ему целую сторону магнитофонной ленты: все «аргонавтские» хиты, мною написанные. Через пару дней он снова позвонил, и я услышал по телефону следующее: «Саша, вы обязательно должны работать с нами!» Что делать? Мне 30 лет, я врач с шестилетним стажем, и, говорят, неплохой. Все бросить и уйти в музыку?
И я бросился как в омут головой. Тогда это было почти бессознательно, а сейчас понимаю, что я внутренне этого хотел. Мало того, я уже знал наперед, что могу сказать людям. В программе Асадуллина пел сначала одну вещь, потом две, три. Кончилось тем, что мы проводили концерт пополам, по десять песен на каждого. Длилось все это два с половиной года. Потом ансамбль Асадуллина распался. Я поработал с одной, другой группой — и с октября 1983 года стал существовать самостоятельно как солист Ленконцерта.
К публике приучался очень тяжело. Самодеятельная работа и профессиональная — вещи абсолютно разные. Выступать перед рабочими цеха № 3 совсем не то, что выступать перед теми, кто пришел тебя послушать, заплатив за билет. И этому надо учиться всю жизнь… Интересная деталь — в Ленконцерте я носил гитару в одеяле, потому что не было чехлов, а с заграницей у меня связей не имелось. Первый футляр для гитары мне привез приятель году в восемьдесят шестом.
В восемьдесят втором пришел ко мне Маклаков Сережа и спросил: «Не хотите ли записать свои “одесские” песни?» Я, конечно, ответил: «Почему бы и нет?»
Писать «одесские» песни я начал еще в институте, году, наверное, в 73—74-м… Они уже были известны: люди записывали их на квартирах, на вечеринках, где я пел для друзей. Эти пленки тоже, как говорится, «шли в народ», гуляли с магнитофона на магнитофон еще с середины семидесятых годов.
И вот я пришел в дом на Петроградской стороне — то ли на Зверинской улице, то ли на Пушкарской, вошел в квартиру на первом этаже. Комната была занавешена одеялами — для звукоизоляции, стояли два магнитофона «Акай». Мы выпили водки, записали эти песни. Мне еще заплатили за это, помню, двести рублей денег. Да-а… Двести рублей за песни, которые стоили, как потом выяснилось, наверное, несколько миллионов.
Через месяц я стал знаменит: эта пленка уже была всюду — от Владивостока до Калининграда. Это было потрясающе. Я даже не мог представить себе ничего подобного. Эти песни, видимо, было как раз то, что въехало во все инстинкты и во все мозги — и в кору и в подкорку граждан. Мои песни очень отличались от всего. И люди сразу подумали, что у нас такого быть не может, что я — эмигрант: как это, где, кто даст оркестр, студию?..
Если к 1982 году я был известен достаточно узкому кругу, который целенаправленно интересовался новинками культуры (это была вполне интеллектуальная среда), то после записи этой пленки я стал чуть ли не народным любимцем. Не в плане больших заслуг перед народом, а в плане того, что эти песни пришлись людям по сердцу. Учитывая еще и то, что в то время крутить в такси было нечего.
Покойный Аркаша Северный, обладая высоким исполнительским мастерством, все-таки не стал по большому счету народным человеком в силу разных причин, хотя и пел достаточно известные песни: «С одесского кичмана», «Мурка», «Таганка». Но это все мы слышали в разных исполнениях.
А в моих «одесских» песнях было что-то совершенно новое, совершенный свежак, да еще с оркестром. Играли, конечно, с большими, если честно, погрешностями, часто «лупили по соседям», но все же это был оркестр. Песни были сюжетные. Это было достаточно литературно, а не просто «блатное». Это было явно интеллигентно, это было жанрово, это было сценарно, это было видно и осязаемо. Даже сегодня приходится слышать все эти вопросы про «одесский цикл», что вся эта одесская история придумана молодым Шурой Розенбаумом под влиянием рассказов Бабеля или фильма «Трактир на Пятницкой». Да, лично мне Пашка-Америка очень нравится.
Разве Пашка-Америка — плохой человек? Мне безумно симпатичен и Беня Крик. Опять же — чем? Порядочностью своей, стилем. Разве все те, кто читал про Беню Крика, потом стали бандитами? А куда нам Робин Гуда девать? А Котовского с Камо?
Я много раз бывал в Одессе, но Бабеля-то читал в Ленинграде. И взрастила меня не Молдаванка, а мой родной ленинградский двор. Я рос во дворе среди самых разных людей, в том числе и бывших, и будущих преступников. Я читал книги, смотрел кинофильмы, я существовал в этой жизни, в которой далеко не каждый говорил «высоким штилем». У меня не было друзей — профессиональных воров, профессиональных убийц… Даже если бы они и были, то о них в песнях не рассказывалось бы так, как это сегодня делается. Друзья детства садились, конечно. К примеру, одно хулиганство закончилось трагически, убийством.
Было это так: ребята сдали выпускные экзамены в школе, поступили в Горный институт — на все «пятерки» сдали. Сидели в садике, играли на гитаре, пели песни, никого не обижали. Все шло нормально, но к ним пристал пьяный человек. Раз пристал, второй… Когда он пристал третий раз, они ему просто набили морду. Сережа Казов, чемпион города по борьбе, взял и надел ему урну на голову… Этот пьяный умер, а Сережу посадили на 15 лет. А ведь какой замечательный был парень! И вот он пропал, больше его никто не видел. Мой сосед с верхнего этажа Толик отсидел четыре года. Вышел совершенно опустившимся человеком и вскоре скончался.
Я глубоко убежден, что, когда я писал «одесские» песни, моей рукой кто-то водил. Я много раз об этом говорил в сотнях интервью. Скажу еще раз — я убежден, что в тот момент я был проводником Всевышнего. Я написал песню «Гоп-стоп» за двадцать минут, за тарелкой супа. Помню: сидел, одной рукой хлебал, а второй писал. И все те полтора-два года, когда я писал эти песни, я являлся чьим-то проводником. Я писал это запоем. «На улице Гороховой ажиотаж, Урицкий все ЧеКа вооружает…» Это само лилось. «Чух-чух пары… Кондуктор дал свисток. Последний поцелуй, стакан горилки. С Одессы-мамы, с моря дунул вей-ветерок до самой Петроградской пересылки».
Криминальная песня — это не просто дань юношеской романтике. Это люди, это огромный пласт людей, и не замечать их существования мы не имеем права. Это песни не конкретно о ворах, о заключенных — это песни о народе. Если лет через пятьсот такого понятия, как «уголовный элемент», не будет, не будет и таких песен. А поскольку этот «элемент» сейчас существует, то и пишутся о нем и песни, и книги, и снимаются кинофильмы. Со сцены я говорю не об уголовниках, а о нашей жизни, о том слое наших граждан, который с каждым годом становится все больше и больше.
Сейчас мне люди говорят, что «Гоп-стоп» — классика российской эстрады. А о «блатоте» могут говорить лишь недалекие или ленивые люди, не потрудившиеся вслушаться в эти песни, где столько юмора, тепла, благородства. В «одесских» песнях мои герои не делают никаких мерзостей и низостей. Если они «мочат», то только за предательство: «Что же ты, зараза, «хвост» нам привела, лучше бы ты сразу, падла, умерла». «Воры законные» — это песня не просто о криминале, это песня о порядке. Для меня в этой песне вор в законе — порядочный человек. Этих дедов осталось человек десять — пятнадцать на страну.
Да, они будут разбираться с должником, но они никогда в жизни не взорвут «Мерседес» у детского сада. Им в голову не придет воровать у вас ребенка или ставить вашей жене утюг на живот. Это была блатная героика нашего времени. А сегодня в «блатных» песнях все описывают от начала до конца: как приходят, стреляют, «мочат», потом уезжают за границу с чемоданами денег.
Мой герой Семэн не может позволить себе такого даже в страшном сне, за что и любим народом.
Я сейчас если и пишу «одесские» песни, то по одной в пять лет. Но хочу сделать сам себе заказ и написать «Похождения Семэна на Великой Отечественной войне». Мой Семэн не тырил бы в блокаду хлеб по булочным и в обороне Одессы поучаствовал бы.
Он убивал-то только за предательство. Почему мои песни уже 20 лет незабываемы народом? Да потому что они про благородство и порядочность. Мне гораздо ближе порядочный Семэн, нежели академик, которому аспиранты пишут диссертацию, а он затем подписывает ее своим именем.
Все эти мои «блатные» ребята, вместе взятые, очень благородные. Таких сейчас уже нет. Они не гопники, не бьют стаканами по голове. «Взяли Маню на кармане…» — это песня не про «блатной» карман, «мусоров» и даже не про Маню. Это про то, как женщина зазря отсидела восемь лет, своих не сдала, за любовь страдала, а ее предали. Примчалась она после тюрьмы к Лехе своему, а дверь открыла шмара в рыжем парике. Это человеческие отношения на особом литературном материале. Раньше из-за этого страшный шум поднимали, теперь, слава Богу, поняли, кажется, что есть разные пласты жизни.
Так что «блатные» песни — это один пласт жизни. А вот казачьи песни — это другое, это воля, традиции российской земли. Военные песни — это тоже я, «Афган» — это уже напрямую я. И поскольку я прежде всего музыкант, то разные пласты жизни я отражаю разным музыкальным языком: Семэн, донской казак, солдат афганской войны, романтик, влюбленный в невскую землю…
Мои песни на воровскую тематику — определенный возрастной кусок. Когда мы писали свои песни, то старались писать музыку, хорошую или плохую, но мы душу вкладывали. В этих песнях людей моего поколения наказывается предательство, ложь. «Гоп-стоп» и другие песни были ведь написаны после рок-н-ролла, который я тогда играл. Поэтому «Гоп-стоп» — не «блатная» песня. Она сделана на абсолютном знании рок-н-ролла, «Битлз» и всего остального. Она написана интеллектуальным человеком.
А сейчас совершенно обратная ситуация, зеркальная, странная: все стали вдруг писать свой какой-то дешевый «блатняк», ужасную попсу. Что это такое — «блатняк»? Там должны присутствовать какие-то обязательные вещи — мама, прокурор, воля, «малина» и так далее. Можно взять «воровской» словарь, зарифмовать, и получится, в общем, ничего, но там не будет литературы. Для того чтобы писать, в любом случае нужен интеллект. Без интеллекта ничего не получится.
Если бы передо мной стоял жесткий выбор, о ком писать — о преступниках или их жертвах, — конечно, я писал бы о жертвах. И сказал бы об этом так, чтобы преступникам стало страшно, чтобы даже им стало не по себе. Я спросил бы рецидивиста: «Представь, Вася, что это твою жену, твою любимую зверски изнасиловали. Хорошо бы тебе было после этого? Петя, у тебя есть добрая старенькая мама? Представь, что ее убили, — у такого же, как ты, поднялась на нее рука… Миша, у тебя есть ребенок — хорошенький мальчуган? Представь, что его увезли куда-то в неизвестном направлении…»
Я очень хочу об этом написать… Все мы ходим под Богом, и может так случиться, что какой-то подонок дотянется и до твоих близких… «Подумай, Вася, твои жертвы — они ведь тоже чьи-то близкие…»
Все мамы поют ласковые песни, помните: «Спи, моя радость, усни…» Думаю, что при воспитании человека важны не колыбельные песни, а то, что ребенок слышит, став старше. Я больше десяти лет шефствую над Колпинской колонией для несовершеннолетних преступников. Поэтому могу сказать так: я точно знаю, что в том, что дети вырастают в преступников, вина прежде всего родителей, а уж потом общества. Это просто нечестно — спрашивать у оступившегося подростка: «Почему ты такой вырос? Почему ты оказался способен сделать это?» Да ему просто трудно быть хорошим, если он рос, извините, при попойках отца или при неразборчивых связях своей матери. Как после этого можно обвинять только его одного в том, что с ним случилось?
Я проехал с концертами сорок девять зон и очень хорошо знаю тех людей, которые отбывают наказание. В первую свою поездку я напросился сам. Почему? Нет, не ради праздного интереса я поехал туда.
Как бы это объяснить? Люди там сидят, понимаете, люди. Среди них есть и оступившиеся, и отъявленные негодяи, и умственно неполноценные. Но есть и те, кто, например, досиживает за видеофильмы, за инициативу в хозяйствовании. Кроме того, есть и такие, которые вообще ни за что пострадали — за «Греческую смоковницу», например. Ныне порнуху везде показывают, а они за нее сидели, да и сейчас еще некоторые досиживают. В колониях содержатся самые различные люди, и к каждому из них нужно подобрать свой ключик. Одному достаточно отсидеть всего три недели, потому что и за этот срок он все поймет, а через 13 лет он может выйти оттуда моральным уродом. Другому же и трех «вышек» мало, а ему дают всего 10 лет.
Все зависит от интеллекта человека, который совершил зло. Есть те, кто раскаивается потом и выходит на правильную дорогу, а есть те, кто этого делать не хочет. Конечно, осудить себя сам должен каждый из них, но не у всех хватает на это интеллекта и желания.
Думаю, что нечестным или жестоким людям надо бояться смерти именно потому, что они виноваты перед другими людьми. Я не знаю, есть ли действительно на небесах чистилище, рай, ад, Бог, но я знаю, что никогда человеку не отмыть свою грязь, что принесенное им кому-то зло останется с ним на всю оставшуюся жизнь. И даже триста его хороших дел на весах совести не перевесят десять его плохих. Да и не думаю, что у заключенных количество хороших дел может оказаться больше, чем плохих.
Не знаю, способна ли музыка лечить, исцелять людей. Я противник этих сказок. А вот облегчать боль способна — вне всякого сомнения. Например, если пациенту в послеоперационный период ставить его любимую музыку, процесс заживления у него будет происходить легче.
Хотя наверняка знаю, что есть люди, которые пересчитывают награбленное и насвистывают при этом «Танец маленьких лебедей». Вероятно, и под мои песни кто-то что-то плохое делает. В конце концов я ведь не для себя пишу, а для людей, в том числе и для таких.
Для меня все люди — люди, я совершенно не делаю различия ни в социальном плане, ни в возрастном. С удовольствием пою и для десятилетних, и для восьмидесятилетних. На концертах в различных колониях я старался меньше петь так называемых «блатных» песен. Знаю, что настоящие «блатные» ребята их как раз не очень-то жалуют: ворам в законе ближе, оказывается, «Вальс-бостон». И даже исполняя такие песни, как «Гоп-стоп», «Ты помнишь, Белла…» и им подобные, я веду разговор не о ворах, а о человеческой порядочности, о доброте, совести, о том, что нельзя быть в этой жизни предателем.
У человека тысячи струн в душе, и у самого закоренелого преступника хотя бы одна, да есть здоровая струна. И музыкой можно ее зацепить. Я часто задаю себе этот вопрос: «Если не я, то кто?» И, когда не вижу другого выхода, все беру на себя. Заключенные мне верят больше, чем воспитателям, отрядному, товарищам по нарам. И если я им что-то скажу, они, может быть, послушают меня больше, чем кого-либо. В этом плане мое медицинское образование мне хорошее подспорье.
Музыка воздействует на лучшие струны человеческой души, в том числе и у людей, отбывающих наказание. Их очень много, и сбрасывать этих людей со счетов нельзя. И говорить о них о всех только как о неисправимых подонках ох как неправильно и ох как несправедливо…
У меня существует чувство какого-то… негативизма, из-за которого я всю жизнь опережал время. Вот когда «блатная» песня стала чуть ли не государственной, она мне стала абсолютно неинтересной. То же самое и с песнями о казачестве. Это была романтика, история Родины, ветер, степь, традиции вольной жизни. А сейчас я вижу на улицах мужичков с лампасами и с «Георгиями». В три часа дня они уже пьяные. Вместо того чтобы на работу идти, землю пахать, государству служить, они в своих клоунских нарядах маршируют. Поэтому теперь меня и на казачьи песни не тянет. Когда я им это говорю, то умные, настоящие казаки понимают, а клоуны обижаются. Не могу видеть, как секретарь обкома, который прежде кричал: «Слава КПСС!», сегодня работает атаманом и кричит: «Любо!»
Мои песни рождались по-разному: какие-то были навеяны рассказами Бабеля, какие-то — рассказами фронтовиков, личными ощущениями… Казачьи песни я написал быстро, без усилий. Значит, я к ним был внутренне подготовлен. Причем писал эти песни в Ленинграде, а когда довелось приехать на Дон, настоящие казаки приняли их как свои. Например, «Есаула» поют теперь многие на Дону, особенно песня популярна на семейных торжествах, свадьбах и на народных праздниках. (Недавно меня снова пытались принять в казаки — в какие-то уже другие. Казаки в каждом городе — свои. К сожалению, это уже стало лубочной игрой.) Почему мне так близка тема казачества? Потому что я россиянин.
Муза посещает в самое разное время, только надо трудиться, с Ней надо работать. Вдохновение не сваливается, как кирпич на голову, его нужно зарабатывать. Муза не придет к тебе сама. Ты должен звать ее: «Муза! Приди ко мне!» И звать ее нужно постоянным трудом. Мозг свой, как и мышцы, нужно тренировать все время. Даже когда гуляешь с собакой. Она идет, нюхает, у нее свои дела… А у меня своя жизнь: я иду, и соответственно котелок работает…
Когда я начинал сочинять и петь казачьи песни, меня за них выгоняли из городов. Как выгоняли и за песни о тридцать седьмом годе — в тысяча девятьсот восемьдесят четвертом. (Песню «Вальс 37-го года» я считаю личностной: в моей семье достаточное количество людей пострадало в ту пору. В этой песне я откликаюсь на боль моих родных, на боль других людей…)
Однажды во время гастрольной поездки по стране за кулисы пришел скуластенький человечек и, отрекомендовавшись инструктором обкома, руководителем местного отдела культуры, потребовал, чтобы я исключил из репертуара одну из своих песен. «Почему? — удивился я. — Она нравится слушателям. Да вы и сами были свидетелем, сколько аплодисментов выпало на ее долю…»
— И все же я вам петь ее не разрешаю, — категорически сказал визитер.
— Хорошо, я не буду петь эту песню. Но я сдал историю партии в высшем учебном заведении на пять баллов. И вроде помню, что XX съезд никто не отменял, что культ личности существовал и лагеря существовали.
— Да, но петь не надо.
— Пожалуйста, нет проблем! Вот вам бумага, авторучка. Будьте любезны, напишите: «Я, инструктор такой-то, запрещаю петь Александру Розенбауму такую-то песню по таким-то причинам».
— Ну, так я вопрос не ставил…
Он поспешно ретировался, и мы не виделись с тех пор. А я продолжал исполнять ту песню с еще большим чувством, чем прежде…
Я — РАБОЧИЙ СЦЕНЫ
Для чего живут композитор и поэт? Для того, чтобы их музыку, стихи исполняли, пели, читали.
Запросы и нужды слушателей всегда одинаковы, потому что их интересовал и интересует разговор на вечные темы. Меня не интересуют какие-то сиюминутные проблемы. А желание жить лучше, честнее, хорошо воспитывать детей я считаю вечными вопросами и мыслями, потому и выбираю темами своих песен то, что близко и дорого каждому человеку.
Конечно, в своем творчестве я хочу выразить себя. Но ублажать кого-то своими сокровенными мыслями я никогда не стремился. Другое дело — принести своим трудом радость и удовольствие людям. Архитектор, создавая проект дома, думает в первую очередь о людях, для которых он предназначен, а потом уже о воплощении своего «я». Так и я хочу, чтобы мои слушатели получали от меня что-то доброе для души, для сердца. А в том, что кто-то творит только для себя, я вижу проявление утилитарной, ремесленнической психологии. Я не понимаю тех актеров, которые могут сказать о своей публике: «Да мне наплевать, понравится им или нет то, что я делаю». Истинный художник так никогда не скажет.
В своем творчестве я абсолютно свободен. Если человек считает себя творческим, он должен говорить то, что думает. Или не то, что не думает, — но в этом случае от лица того или иного своего персонажа. Я стараюсь говорить не о проблемах общества в целом, а о проблемах конкретного индивида, человека. А проблемы общества — они ведь и вырастают из этих частных проблем.
Никогда не сомневался в том, стоит ли какая-то песня затраченного на нее времени. Любое творчество полезно. Песня может получиться или не получиться, но размышлять о том, стоит ли ее мне писать, — это то же самое, что женщине сомневаться в том, рожать ей или не рожать, когда она уже беременна.
Как судить по песням о моей жизни? Сложно ответить на этот вопрос определенно. Иногда, конечно, можно о ней судить, но именно иногда. Я ведь в одной песне могу что-то вспомнить из прожитого, в другой пофантазировать о том, что могло бы быть, а в третьей сказать о том, что происходит со мной сегодня…
Никогда не определял никаких «периодов». Пишу, как уже говорил, о том, что созвучно душе: может, завтра я напишу ноктюрн, а может, «блатную» песню.
Нет у меня и политических песен. Говорят — «гражданственная песня». А что это такое? Любовь — это гражданственное чувство? А спорт, архитектура? Афганистан — гражданственно? Если вы поете о гражданах, то все гражданственно. Поэтому как я могу пройти мимо того, что увидел в Ленине сегодня? Раньше ведь у меня не было о нем информации: в газетах-то писали только одно.
Я считаю Ленина самой гениальной личностью нынешнего века. Он — негодяй, но это же не отменяет его гениальности? И город, его именем названный, его городом и остался. Да какой он Петербург?! Ленинград! А санктпетербуржцев последних, вымирающих, я встречаю в Нью-Джерси, в одном городке под Парижем, в Канаде… Мальчик Пущин, потомок декабриста, писал моей дочери-девчонке: «Милостивая государыня Аннушка!» И в конце просил передать «Поклон Вашим маменьке и папеньке»… Вот где настоящие петербуржцы живут! А не тут, в ленинской «колыбели революции»…
Я пою о том, что Ильич оставил сиротами миллионы детей, потому что своих не имел. В детстве я был председателем районного штаба красных следопытов, и когда слышал в 12 часов ночи Гимн Советского Союза, то не мог не отдать честь. Только потом засыпал. И Ленин тогда для меня был, как и для многих десятки лет назад, почти богом. А потом я повзрослел, встал на ноги, поехал за границу, прочитал огромное количество мемуаров его современников. У Ленина было два любимых слова — «говно» и «расстрелять». Он говорил: «Расстрелять всех саратовских проституток, которые спаивают наших красноармейцев». Извините, но мне с таким человеком не по пути. Я написал одну песню о Ленине, а еще десять про казаков. Почему я не должен писать о том, что меня волнует?
Когда я работал реаниматологом, то точно знал, что я — реаниматолог, и занимался своей работой, которой меня учили. Если теперь мои песни помогают кому-то воспрять из пепла как птице Феникс, то я счастлив. Но если я начну сознательно «нести разумное, доброе, вечное» и говорить: «Я несу Вам вечное», то это будет то же самое, чем занимаются наши прославленные поп-музыканты. «Реанимируйтесь! Внимание! Я дарю вам искусство! Ешьте! Хавайте…» Уже послезавтра меня перестанут уважать.
Вот как наших эстрадных звездочек, которые вспыхнут и через год погаснут. Потому что они не уважают свою аудиторию. Хотя в каждой газете кричат, что уважают, любят. Врут. Ну, и публика их соответственно так же…
Все свои шлягеры я написал очень быстро. Только оговоримся, что под шлягером мы понимаем популярное произведение. Не люблю, когда это слово произносится с опенком дешевизны. «Страсти по Матфею» Баха — тоже шлягер. Так вот, шлягеры свои — «Гоп-стоп», «Утиную охоту» написал очень быстро, «Казачью» — за десять минут. Это момент, равнозначный удару яблока о голову Ньютона. То, что называется вдохновением, озарением. Только к этому успеху, молниеносному действу ты должен быть подготовлен многолетним тяжелым трудом. Закон всемирного тяготения с помощью одного яблока, упавшего на башку, не откроешь.
А самая «долгая» песня — «Бабий яр»: лет шесть писал ее. Откладывал, убирал, снова доставал. Шлягеры, которые делаются быстро, как правило, сразу уходят в народ. Но с точки зрения искусства песни, писанные тяжело, но в конце концов получившиеся, ценнее.
Психология? Зрители говорят, что «Глухари» — это про меня. «Утиная охота» — про меня, «Вальс-бостон» — про меня. И говорят это люди самого разного социального, образовательного уровня. А я не про кого-то конкретно пишу, а про всех нас. Страх, любовь, одиночество, детство в чистом виде все мы понимаем совершенно одинаково, хотя у каждого на этот счет есть свой опыт. Поэтому если качество моих песен условно принять за 100 процентов, то, не будь в моей жизни медицины, они бы выше 50–60 процентов не вытянули.
Есть злободневные темы, они должны быть, и они будут. И совершенно точно, что некоторые песни не останутся. А вот «Утиная охота» — она не злободневная, она актуальна всегда. И казачьи — они, уверен, всегда будут актуальными. И песни, посвященные Великой Отечественной войне, потому что это история, это память. Что касается, например, «Анафемы», то не знаю, это сегодняшняя песня? Но думаю, что и она еще довольно долгое время будет актуальной. Я не могу сказать, что пишу однодневки или даже десятидневки. Большинство песен у меня, несмотря на всю их внешнюю конкретность, все-таки общечеловеческие, значит, актуальные надолго. Мне, вообще-то, трудно об этом говорить. Это дело людей, которые просто слушают и просто поют.
Вот песня «Полем-полем» — мой суперхит, моя философия. Свой концерт не могу заканчивать развлекательным номером: не буду петь «Гоп-стоп» или «Санта-Клаус», даже если они будут замечательно проходить на публике. Не могу заканчивать и песней «Иерусалим», потому что я не в Израиле. Но случается такой кайфовый и веселый концерт, что я беру гитару и пою «Извозчика».
Конечно, это песни разные: и по возрасту (согласитесь, человек по-разному видит мир и реагирует на него в 25 лет и в 45), и по уровню творчества. Но мысли мои и чаяния, какими они были тогда, такими же и остались сегодня. Моя принципиальная жизненная позиция не изменилась, она все та же, что и много лет назад. Просто сегодня уже можно сказать о наличии приобретенного опыта.
Пожалуй, есть несколько песен, потребовавших от меня чего-то большего, чем обычно. Правда, отвагой я бы не стал это называть. Одна из них — «Черный тюльпан». Я был в Афганистане три раза и знаю, что такое потеря товарища, друга, знаю, каким бывает трупный запах. Как я там оказался? Мне хотелось проверить себя как человека на этой войне.
Да, почти по Хемингуэю… И то, что я увидел там, было страшно.
Военная тема для меня — это и воспоминания о прошлом, о доле народной, о его подвиге, и отрицание войны будущей. Все мальчики хотят проявить свою мужественность, поэтому в детстве играют в рыцарей, выстругивают себе деревянные мечи. Некоторые вещи им сразу не понять. Я вот лишь годам к восемнадцати понял, что такое двадцать миллионов погибших. Отец всю войну провоевал, человек он сильный, а я вижу каждый раз 9 Мая во время Минуты молчания слезы в его глазах.
Думаю, что искусство должно воздействовать не на прямое сознание, а на подкорку. Если спеть прямолинейно марш мира, то это не заденет (или заденет слабо), потому что острота восприятия лозунгов в песне давно притупилась. Я стремлюсь действовать по-другому — через шок, боль.
Я пою о том, что может быть в новой войне — твоих родителей уничтожат, жену обесчестят. Да, это страшные образы, но они работают, они действуют.
Концерт на Дворцовой площади 9 мая 1995 года — пока это был лучший и главный концерт моей жизни, все в нем переплелось. Мой отец — фронтовик, и военные песни я полюбил еще в раннем детстве, а писать о войне стал в восемнадцать-двадцать лет. Темы Великой Отечественной, блокады — главные и святые для меня, и выступление на Дворцовой площади в такой день — символ и мечта. Я счастлив, что пережил эти минуты, что был «в порядке», что оправдал надежды многих людей, что доставил радость фронтовикам, блокадникам и всем жителям и гостям нашего великого города.
Военные песни и песни о моем городе — это мои визитные карточки. Для меня Ленинград — это прежде всего старый город, старые дома, старые дворы. Мои песни — это еще и ностальгия по старым, хорошим, людским отношениям, коммунальным, дворовым. Но та доброта уходит, теряется… Когда же я услышал, как об этом сказал Дмитрий Сергеевич Лихачев, то аж в кресле подпрыгнул. Я о том же говорю в каждом концерте.
Люди стали обеспеченнее, живут в отдельных квартирах и одновременно стали более разъединенными, злыми. Каждый замкнулся в своей скорлупе: моя машина, моя квартира, мой телевизор. А я вспоминаю свое дворовое детство, наши игры в лапту, штандер, колдунчики, соловьи-разбойники. После детства прошло уже лет тридцать, а я все равно живу в том мире, мне его очень не хватает. И когда я вижу, что сегодняшние дети уже не играют ни в лапту, ни в штандер, ни даже просто в чижика — мне нехорошо. Дворы воспитывали коллективизм, дружбу. Конечно, были и шалости, и разбитые (о ужас!) футбольным мячом стекла, и даже настоящее хулиганство. Но были и верность, и дружба, и незыблемый кодекс чести. А сегодняшние дворы пустуют. Ребята даже в гости друг к другу редко ходят. Вот почему я так часто возвращаюсь в прошлое своего города. Мне хочется с помощью этой темы как-то расшевелить людей, сделать их лучше. Магнитофоны, видео, цветные телевизоры — все это я понимаю и не отвергаю. Но ведь нужно и еще что-то…
Когда говорят, что искусство неполитично, — это бред, потому что любое искусство политично. В той же степени, как и социально. При достаточном таланте и чувстве вы, конечно, влияете на человеческую душу. Популярный артист — это общественный деятель. Он не политический деятель, нравится это ему или нет, принимает он это или нет, но он общественный деятель. Потому что популярного артиста слушают и любят, я не боюсь этого слова, миллионы, особенно в нашей огромной стране.
Между словами «исполнять» и «петь» есть большая разница. Исполнять — это значит быть актером, это значит сопереживать тому, о чем ты говоришь людям в зале… Я стремлюсь к ощущению себя артистом, но не артистом с маленькой буквы, а Артистом с большой буквы. Артист с большой буквы — это больше чем профессия. Артист с большой буквы не с точки зрения самовосхваления, а с точки зрения овладевания профессией. Я не звезда, я не топ, я не символ, я артист, я рабочий сцены: тружусь честно и не думаю об успехе. Никто из нормальных людей не скажет, что я халтурю. Я — рабочий человек, я на сцене работаю и стараюсь делать честно свое дело.
Ведь все очень просто: кто-то футбольный тренер, кто-то токарь, кто-то учитель, а я — певец. Это моя работа. Когда мои близкие приходят на концерт и видят меня после выступления бледного и потного, то понимают, что моя работа, мой хлеб — тяжелые. За три часа концерта я с точки зрения эмоциональной и физической выкладки делаю то, что на лесоповале не могут сделать за 14 часов. Песня, моя песня — это очень серьезно.
Мое кредо — говорить простым языком, близким народному. Многие песни звучат у меня от первого лица: это я так понимаю жизнь. И наконец — я считаю себя гражданином.
Слава — это очень приятно. Терпеть не могу, когда артист говорит: «Ах, как я устал от славы, мне она не нужна!» Врет! Завтра я у него отключу телефон, не возьму ни одного автографа — и ему кранты будут. Но славу надо воспринимать как аванс от людей. У меня на протяжении многих лет — полные залы зрителей, и я постоянно пишу новые песни. Сейчас уже двадцать два диска, готов еще три записать, потому что я не могу не оправдать надежды, любви и уважения тысяч людей. Как только артист, выходя на сцену, начинает «дарить» свое «гениальное» искусство, он — конченый человек. К сожалению, сегодня такое дарение очень распространено, а «гениальное искусство» забывается всеми через два-три года и теряет смысл.
Российский зритель сейчас очень изменился… Я счастлив, что прошла мода на Розенбаума. Ко мне приходят теперь мои люди, знающие. Ходят не на скандал, а на песни. Когда несколько лет тому назад впервые появилась афиша с моим именем, значительная часть публики пришла с надеждой услышать «Гоп-стоп», «Нинку как картинку» и другие вещи из «одесской» серии. Теперь публика уже знает, на что идет. Мне думается — идет за мыслью. Сама эта мысль может приниматься или нет, это уже другое дело. Но слушатель знает, что он встретит.
Я люблю выступать в различных аудиториях, безотносительно к тому, двести там человек или двадцать тысяч. Управлять «стадионным» концертом нелегко, но если ты слышишь, как в паузе летает муха, а десять тысяч зрителей замерли — это греет сердце артиста. Хотя сами программы будут разными: для камерной аудитории будет один концерт, для массовой — совсем другой. Все зависит от того, что за город, какая площадка. Я часто выступаю в НИИ, вузах, в армии.
Последние пару лет я просто отдыхаю на концертах, глядя на публику. Раньше гораздо больше людей вопили: «“Гоп-стоп”! В натуре, Санек, давай! “Нинка как картинка”!» Сейчас я стал возвращаться к тому, с чего начал.
Больше того, две последние программы «Окна души» и «Транссибирская магистраль», организованные при поддержке культурного фонда «Артэс» и лично моего давнишнего товарища, талантливого организатора Александра Достмана, показали — публика достойна самого большого уважения, достойна хорошей работы и хорошего шоу. Два года подряд мы с Борисом Красновым делали из моих выступлений настоящий спектакль, с грандиозными декорациями. Это большие хлопоты и большие расходы. И я вижу — публика это ценит. Зал работает со мной, чувствуется отдача.
Народ не обманешь, как бы ты ни старался и сколько бы ты ни тратил на этот обман. Молодежь сегодня все-таки начала понимать то, что «юрочка-фигурочка, славочка-лавочка и два кусочека колбаски» — это не главное. Я рад, что молодняк начинает понемножечку сечь, на что обращать внимание и к чему идти. Если они пойдут на Штоколова, или на Образцову, или на Володю Мулявина, то меня это будет так же греть, как если бы пришли ко мне.
Раньше бывало такое: выходишь на сцену и не любишь публику, которая сидит в зале. Как правило, происходило это или в Союзе писателей, или в Союзе композиторов, или еще в каком-нибудь подобном месте. Там, где люди выпустили двадцать пять тысяч книжек, написали тридцать восемь тысяч сонат или двадцать тысяч опер, восемь тысяч балетов. Они же все гениальные, а их никто не знает. И тут к ним приходит какой-то Розенбаум, какой-то «Гоп-стоп» поет…
Я по натуре боец — люблю и умею побеждать. И если сидит их человек двести, то сто пятьдесят из них я точно перекую.
Но говорить о том, какая публика лучше или хуже, нельзя. Мне любая публика родная. Когда я выхожу на сцену, то к публике отношусь изначально уважительно. Люди, особенно сегодня, пришли на концерт, купили билеты за довольно-таки большие деньги…
Раньше-то ведь как было? «Пойду-ка я сегодня на Жванецкого, завтра — в цирк на карликов-лилипутов, послезавтра — в кукольный театр, а потом — на Пугачеву». Билеты стоили 2 рубля 50 копеек, 3 рубля… Сегодня люди ходят на концерт не ради любопытства, а к тому, кого они любят. Значит, ты изначально должен уважать свою публику за это.
У меня в песне «Одинокий волк» есть такие слова: «Ты владеешь миром, как будто и не стоишь в нем ничего». Нужно очень четко понимать, что ты ничем не лучше, чем классный пекарь, классная портниха и так далее, если не хуже. Моя публика для меня одинакова: что в Петербурге, что в Урюпинске, что в Сыктывкаре, Норильске или Москве. Другое дело, что в Питере публика довольно сложная и питерцы смотрят на меня как на свою собственность. Я точно знаю, что здесь ко мне относятся с гораздо большей требовательностью, чем в любом другом городе.
Я работал во всех городах страны, именуемой Советский Союз. И везде практически меня встречали так, словно готовы расстелить ковровую дорожку из аэропорта до любого помещения, которое я выберу. В любом городе, включая Москву. Но… не дома… Как объяснить это равнодушие, как объяснить, что на последние концерты в Питере ко мне не пришел ни один человек из городской газеты? В каждом городе — по двадцать пять журналистов, а в этом — не надо!
Меня спрашивал еще помощник Собчака: «Вы контактируете с комиссией по культуре?» Я бы контактировал, если бы кто-нибудь из депутатов пришел узнать, может, Александр Яковлевич чего-нибудь попросит или сам захочет помочь кому-нибудь? Например, певцу Анатолию Королеву, помните: «Опять от меня сбежала последняя электричка». Он стадионы собирал… а сейчас он без двух ног. Я ему машину выпрашивал. Сейчас он на хрен никому не нужен! Нет, в этом городе очень интересное кино происходит…
Я музыкант. Вчера я выступал с духовым оркестром, завтра выступлю с симфоническим, послезавтра — с рок-группой, и, поверьте, хорошо это сделаю. Если я не делал аранжировок и не выступал вместе с музыкантами раньше, то лишь потому, что не имел соответствующего положения и заработков, чтобы кормить их и их семьи. Я мог завтра захотеть сниматься в кино и уехать на несколько месяцев. Что тогда будут делать мои музыканты? Щелкать зубами? Я сам слишком долго был в их шкуре, чтобы теперь стать суперзвездой, плюющей на своих музыкантов.
Я люблю людей и считаю себя ответственным человеком. Я должен отвечать за людей, работающих со мной и питающихся благодаря мне. В прежние годы, сами понимаете, оркестр мне бы просто никто не дал, а чтобы взять оркестр сегодня, ему нужно платить огромные деньги из собственного кармана. У меня таких денег нет. Нужно оплатить монтаж декораций, аренду зала… Спасибо «Артэсу», они блестяще организовали мои московские гастроли, здорово помогли, и я им очень благодарен. Но в других местах, чтобы сделать такую сцену, мне нужно платить из собственного кармана. А декорации придется возить на собственном самолете: ни на чем другом довезти их невозможно.
Меня спрашивают: «Не хотите открыть свой театр песни?» В моем понимании театр — это несколько больших спектаклей. В одних спектаклях Розенбаум участвует, а в других меня нет. И чтобы люди пришли на спектакли, где меня нет, — для этого нужен большой бюджет. Миллионов десять долларов, если делать все по-хорошему — помещение, костюмы, постановка, реклама…
У меня таких денег нет опять же. Спонсоров же у меня нет, поскольку существует такое хорошее русское выражение «западло». Так вот, мне западло ходить по спонсорам. А сами они ко мне не ходят. Так что говорить о театре песни Розенбаума пока рано. Но назревает необходимость создать свою творческую мастерскую. Я собираюсь подтягивать к себе людей, которые смогут петь мои песни. Например, песню «Маруся завязала» со мной исполняет Татьяна Кабанова. Это известная исполнительница из Питера в жанре «русский шансон». Еще в одной песне «Ты любовь моя» у меня поют две ленинградские девочки, дуэт «Анима». С ними я планирую записывать новые песни. И так далее. Вообще, в Ленинграде у нас много интересных артистов, которых никто не знает, — до Москвы это дело не доходит. Я думаю, что именно из этих ребят буду создавать свою творческую мастерскую. Я писать не устал. А гастролировать, как сегодня гастролирую — бегаю по стране волком, уже тяжело. Мне не двадцать, и не тридцать. Скоро пятьдесят. Да и хочется развивать формы.
Конечно,
и я сталкиваюсь с разными сторонами шоу-бизнеса… Вы меня часто видите на телевидении, если меня не снимают на концертах? Потому что не платил, не плачу и платить не буду. Хотя реклама — двигатель торговли, нужно показываться… Но и тут однажды Тамара Максимова сделала мне козу на «Музыкальном ринге».
Сначала она хотела сделать мой «Ринг» сольным. Но я отказался. Как боксер, я знаю, что на ринге не может быть один боец — какой же это «Ринг»?! Тогда она предложила сделать поединок между Розенбаумом и Токаревым. Я снова отказался. Не потому что Вилли плохой человек, он замечательный человек, и у него замечательные куплеты, но я-то не куплетист! У меня другая история. Тогда устроили передачу вместе с исполнителями «русского шансона». Семь часов записи. И все семь часов из зала один и тот же вопрос: «Как вы могли писать “блатные” песни, да зачем этот “одесский цикл”?!» Я сто раз ответил вежливо, а на сто первый сорвался: «Ребята! Да хватит уже доставать меня этими “блатными” песнями!» Вот эта фраза прошла в эфир. Остальные вырезали. Получилось, что Розенбаум отрекся от своих песен. С тех пор, вот уже почти десять лет, приходится оправдываться, доказывать, что я совсем не то имел в виду!
Барды… Там масса отличных ребят, но эти аппаратчики от КСП… Они просто душат все, они сектанты: «Кто не с нами, тот против нас». Они — обком партии, чистый обком. Но это не про шестидесятников — они были все разные, физики-лирики. Но вот когда барды стали семидесятниками, то уже — бррр… отрыжка. А уж когда они в восьмидесятых стали свои «движения» проталкивать… И пошли у них комиссии по поиску молодых талантов, президенты, конкурсы, лауреаты…
Люди в шестидесятых годах собирались у костров, на полянах просто песни петь. Это было по времени. А когда это пролезло в восьмидесятые, это стало омерзительным.
Меня спрашивают: «Вы знаете Движение самодеятельной песни?» «Я? Движение самодеятельной песни? Да вы что, очумели, что ли? Я знаю движение за предоставление гражданских прав неграм Южной Африки. Но я не знаю движения любителей аквариумных рыбок. Я не знаю движения собирателей спичечных этикеток». Движение…
Ко мне приходят ребята и говорят: «Дядя Саша, что за ерунда? Мы приходим на слеты этих КСП-бардов, показываем песни, а нам говорят: «Это нам не надо, это розенбаумщина».
Ну не любите вы Розенбаума, но кому мешает нонсептаккорд? Кому помешала уменьшенная седьмая ступень, объясните мне?!
Однажды где-то на слете КСП жгли муляж Розенбаума. Меня обвиняли в том, что я ушел на профессиональную эстраду за деньгами. А моя ставка была тогда 5 рублей, в Клубе же самодеятельной песни мне давали за концерт 25.
Мне говорили: «Что вы там поете в залах, во дворцах спорта? Приходите к нам, пойте перед подготовленной публикой». Значит, академик, который меня слушает на концертах, офицер или Вася от ларька — публика неподготовленная, а они — просветители, элита, интеллектуалы. Поющие завлабы… Я не хочу их обижать. Но — всю жизнь в палатке? Всю жизнь в палатке?! С дырочкой в левом боку… Это при социализме имело смысл.
Сейчас полупрофессионалов отовсюду гонят. Инфантилы и импотенты не нужны миру, который стремится жить активно. Конечно, самих песен это не касается: их сочиняют, поют и будут любить. Я имею в виду другое: функционеры от авторской песни губят молодежь. Они — судят: это хорошо, годится для полянки, а это — не годится, это «эстрада»…
Некоторые умные, с поляны, говорят: «Ну что Антонов? «Вишневые, грушевые, тенистые, прохладные…» А Антонова вся страна любит. Значит, надо подумать — за что его любят? Да дай Бог им такие мелодии и такие слова, какие Антонов пишет.
Юра Антонов — он может нравиться, может не нравиться, но песни пишет народные, настоящие. «Под крышей дома твоего» — это образ такой, который близок каждому человеку, потому что у каждого человека есть крыша дома своего.
А «вишневые, грушевые, тенистые, прохладные» — у каждого они были. И каждый ходил по Липовой улице или хотел ходить. И каждый пойдет еще по этой тенистой улице жарким летом, и будут через зеленые кроны солнечные лучи греть его седую или стриженую мальчишескую голову. Это колоссальный образ. И тот, кто хочет найти в этом суперпоэзию, никогда ее не найдет. Потому что она уже есть, а он ее не видит, не слышит и никогда не услышит. Потому что это надо чувствовать.
А как они выходят петь эти свои песни? Свитер и кеды. Согласен — это образ. Но ты потертые кеды должен приносить на концерт как сценическую одежду, и свитер может быть рваный. Это твой имидж, твой сценический образ. Так и принеси его чистый, на вешалке. А для них норма — от костра сразу на сцену в той же самой одежде, потной и вонючей…
Я очень не люблю наших рокеров, которые со сцены поют про голые-босые ноги, потом садятся в шикарную тачку и едут домой. То же самое с этими бардами, только с другой стороны. Они всю жизнь претендовали на мессианство. Восемь человек сидят, гитара по кругу… А о том, что гитара строить должна, об этом ведь вообще речи нет. Вот и начинаются эти звуки… Да при этом все хотят, чтобы Мандельштам с Пастернаком звучали. Да не должны Мандельштам с Пастернаком в большом количестве звучать под музыку, потому что у них музыка уже внутри стиха заложена! Или вот такие строчки: «Не слышны в саду даже шорохи, все здесь замерло до утра. Если б знали вы, как мне дороги подмосковные вечера». Не Шекспир ведь, правда? А эта гениальная песня уже сколько держится! Барды говорят: «Эта Пахмутова! Ну что такое Пахмутова?» Да с точки зрения музыки им всем до Пахмутовой как до Луны.
Пастернак, Мандельштам, Цветаева, Ахматова… Они, наверное, уже сколько лет в могилах ворочаются от этих бардов, которые берут величайшую поэзию — и чешут.
Когда заходит речь о бардах, я всегда говорю: «Я вам сейчас спою бардовскую песню. Газета есть у кого-нибудь?» Мне дают газету. И я начинаю ее читать под музыку. Под их так называемую музыку…
Я не противопоставляю разные явления. В шестидесятых годах это было — класс, а сегодня — все, ребята! Сегодня нужно на гитаре уметь играть, чтобы людей брать за живое… Если этого не понять — так и будешь у костров сидеть. Они знают эту мою позицию и очень обижаются. И совершенно напрасно, потому что я к ним никакого зла не питаю. Просто хочу, чтобы каждый человек занимался своим делом профессионально.
Я бы не сказал, что совсем не люблю авторскую песню. Мне, например, очень нравится Высоцкий, ранний Окуджава. Но к остальному — равнодушен. В начале 70-х годов, когда я стал играть в ансамбле «Аргонавты», был гитаристом, клавишником и пел, то сочинял и сам песни бардовского типа. Но я певец, а не бард, хотя и пишу стихи (хорошие или плохие — не мне судить). Я не Булат Шальович Окуджава и не Городницкий.
Так что я никогда не был бардом. Не знаю, что это такое. Так же как Высоцкий не знал, что такое самодеятельная песня, и с иронией отвечал на вопросы подобного рода: «А пошли бы вы на прием к самодеятельному гинекологу?»
Я профессиональный артист и не имею никакого отношения к тем, которые поют хорошие или плохие стихи на большей частью никакую музыку, на перебор аккордов с одной и той же мелодией. Я композитор, аранжировщик, профессиональный пианист, все подтверждено дипломами.
Когда в середине семидесятых произошло засилие ВИА, когда все эти «Красные снегири на белом снегу», все эти «Самоцветы» стали цвести своими песнями, мне стало скучно и неинтересно, и я ушел от этих тем, ушел в совершенно другое — в свою рок-музыку.
Мое имя есть в нашей рок-энциклопедии, но я ненавижу понятие «русский рок». У меня нет никакого «русского рока», да и вообще его нет, он в природе не существует. Либо рок есть, либо его нет. Польский рок, французский рок — все это чушь. Рок — один.
Я равнодушен к нашему року — надоело. В свое время я очень много играл его, увлекался, а теперь — нет. Уж очень все похоже на то, что делается на Западе. У меня же есть мечта — вернуть на советскую эстраду песни нашей земли, те, что были очень популярны, а теперь утрачены: Утесова, Шульженко, Бернеса. Ритмы, конечно, будут иные. Меняются времена, а вместе с ними и музыкальные вкусы. Но суть должна оставаться — петь то, что родилось на нашей земле, то, что для нее органично и естественно.
Заканчивая затронутую выше тему, скажу: «Давайте не будем говорить о бардовской песне. Что это такое, определить трудно».
Если считать бардами всех, кто сам исполняет свои песни, то под эту категорию попадут и Пол Маккартни, и Майкл Джексон, и Денис Давыдов, и Андрей Макаревич… Иначе говоря, существует жанр музыкального творчества, который называется песней.
В нем различные течения — романсы, джазовые композиции, народные песни… Скажем, «Вальс-бостон» — это не бардовская песня, а джазовая композиция в песенном жанре. Могут быть песни и в стиле рок. Поэтому к песне я отношусь как к очень сложному и одному из самых серьезных жанров. Барды же нередко называют песнями мелодекламации, иногда хорошие, а иногда и не очень. И, заявляя о второстепенности музыки в песне, они порой «гробят» высочайшую поэзию.
Сам же я люблю все жанры и самые различные течения в музыке, если они созвучны моей душе. У меня есть совершенно разная музыка: писал рок-музыку, фольклорную стилизацию, городские романсы, попросту «блатные» песни. А иногда работаю только как композитор, пишу полифонические вещи. Написал музыку к фильмам «Чтобы выжить» и «Побег на край света», оперу «Блаженные картинки», которую музыканты уже знают.
Опера, точнее, «драматическая кантата» «Блаженные картинки» — мое первое произведение большой формы. Но пока исполнялись только фрагменты из этого спектакля.
У меня есть тяга к драматургии. Но я и в этом ищу свой стиль, свои формы. Могу провести концерт в любых условиях — на суше, в окопе, в поле — и сделать это достойно. Но в 1998 году я начал работать с Борисом Красновым, в этом году продолжил. И теперь мне без декораций на сцене немножко скучновато. Мне интересней работать, когда я вижу за собой видеоряд, который помогает людям понять суть происходящего, не отвлекает.
Высоцкого я тоже бардом не считаю — он выше их всех на голову… Высоцкий многим из нас открыл дорогу на профессиональную сцену. Он научил нас не только исполнять свои песни, а и бороться за них.
Один журналист задал мне очень хороший вопрос: «Почему сегодня реже слышен Высоцкий?» Я обожаю Высоцкого и преклоняюсь перед его творчеством, он один из тех, кто сформировал мою психологию. Но он и вправду сегодня звучит реже, потому что время сегодня другое.
Когда меня сравнивали с Высоцким, сначала было жутко больно. Можете себе представить ужас положения, когда я пришел на эстраду в восьмидесятом году? Я — музыкант, профессионал, сонаты Бетховена и Шопена играю, много лет рок-музыку играл. Но началось: «Какой-то хрипатый с гитарой покусился на нашего…» Больше всего вопили те, кто Высоцкому при жизни слова ласкового не сказал. Потом стали повторять: «Второй Высоцкий». А я всегда отвечал: «Я не второй Высоцкий, я первый Розенбаум». Сравнение с ним по гражданской позиции или по умению «проникать» и в шахтеров, и в волков за честь почту. Но по музыке, поэзии мы — абсолютно разные. И потребовалось семнадцать лет, чтобы это услышали.
Сходство между Розенбаумом и Высоцким болезненно ищут болезненные люди. Ни один человек из народа, который не имеет специальной или снобистской подготовки, никогда таким копанием заниматься не станет. Любой слышит — музыкально мы настолько разные, что и сравнивать нечего: я люблю вальсы, казачьи песни. И поэтически мы — разные: он публицист и сатирик, я больше трагик и лирик. И хрипота у нас совершенно разная. Да и нелепо всех хриплых людей равнять «под Высоцкого».
В чем я вижу одинаковость, параллели? Работа до конца на сцене, выдача на-гора всего себя. Очень много песен от первого лица, хотя мы никогда не копались, ни он, ни я, в самом себе. Пишем от имени людей, опираясь на жизнь людскую. Я хочу понять тех людей — добрых, не злых! — которые говорят о нашей какой-то похожести. Видимо, речь идет еще и о мужском начале — не просто поэтическом.
Думаю, сравнивать меня с Владимиром Семеновичем все-таки не нужно, каким бы лестным для меня не было такое сравнение. Может быть, нас с ним роднит то, что я, как и Высоцкий, «говорю» с людьми на простом, понятном всем языке о том, что мне близко. Искренне говорю, как мне кажется. Но я не стараюсь подражать Высоцкому, пишу и пою по-своему.
По правде говоря, мне не нравится, что теперь стало даже модно доказывать, как мы все любим Высоцкого. Ведь и много лет назад мы любили его не меньше, чем сейчас. Я считаю, что лучшим подарком всем нам и лучшей данью памяти Высоцкого могло бы стать издание его стихов таким тиражом, чтобы они были у каждого на книжной полке. Чтобы мы могли детей своих воспитывать на его песнях и стихотворениях.
Если уж до конца выяснять вопрос о жанре, в котором я выступаю, скажу, что считаю себя, скорее всего, последователем Александра Вертинского (я имею в виду мелодику песен).
Артистов, настоящих артистов мало. Хорошего не может быть много — в любом обществе, в любой стране. «МТУ» сегодня тоже просто невозможно смотреть: там такая же коммерциализация и дешевизация. Только у нас на «блатном» и «модернтокингсковом» уровне, а у них на рэпе и прочих коммерческих дешевых вещах. Музыки-то серьезной, настоящей там тоже мало. И Элтон Джон, Клэптон, Адамс, между прочим, ведут против этого настоящую войну.
И я, кстати, веду эту войну за качество в нашей стране своими силами. Постоянно. И не стесняюсь этого. Мне пеняют, что я не за цеховую солидарность! Я не хочу быть солидарным с цехом, который похож на полную телегу дерьма! Да, я веду войну и не стесняюсь этого.
Крупные имена время не смывает. Меняется мода, а слава неизменна. Вот остался же Кобзон, осталась Пьеха, остался Лещенко. Была, есть и останется легендой на эстраде Алла Пугачева — я сейчас говорю о своем «цехе». В другом жанре, но так же уверенно самобытен мой друг Володя Винокур. И это правильно, потому что высококлассным профессионалам перемена моды не страшна. Ее должны бояться бабочки-однодневки. Их, увы, всегда много не только среди тех, кто работает на сцене. Так уж в нашей сумасшедшей стране сложилось. Трудно найти хорошего профессионального врача, инженера, журналиста, артиста… Оттого и заполнили все «порнуха», «голубизна», духовное убожество, дилетантизм… Но профессионалы — дело другое. Кобзона можно осуждать за что-то, однако его высочайший профессионализм не боится перемены ветра в моде.
Иосиф Кобзон для меня и, должно быть, для народа прежде всего певец и артист. Он мой старший товарищ, видя которого на сцене я многому научился. Вот все, что я могу сказать по этому поводу. Дай Бог, чтобы все артисты были такими же профессионалами, как Иосиф Кобзон. Это не значит, что я постарел и ворчу на молодежь. Мне нравится сценическая молодежь, которая владеет профессией, имеет свой музыкальный стиль. Например, я с удовольствием слушаю группу «А-студио», мне очень нравится то, что делают Леонид Агутин и Анжелика Варум. Но я против такой молодежи, которая не может существовать на сцене без фонограммы. Они оправдывают себя тем, что не могут петь и скакать по сцене. Я отвечаю — не можешь скакать, не скачи! Сильные западные исполнители танцуют и поют вживую. Просто нужно поддерживать форму, заниматься, укреплять дыхательную мускулатуру. Но это трудно. Для «фанерных» исполнителей я даже придумал форму «фанера плюс три». Есть «фанера плюс один» — когда голос звучит под запись инструментов, есть «плюс два» — полная фанера, а будет «плюс три» — включаем магнитофон и уходим со сцены.
Я остался самим собой. Как меня не любили чиновники при власти — левые, правые, в полоску или в клеточку, — так и не любят: им со мной неудобно. Понимаю почему: я же вижу, что даже вчерашние демократы сегодня, извините за выражение, скурвились. Я вижу, что они нынче продали и предали то, о чем еще недавно вслух мечтали, ради чего выступали, звали за собой… Мне Зюганов понятнее: он хотя бы последователен. Ни в одной агитационной компании участия не принимал, за малым исключением. Поддерживал только Леонида Кучму на Украине, поскольку считаю, что его политика на пользу Украине и России. И выступал в поддержку своего друга генерала Бориса Громова, когда он баллотировался на пост губернатора Московской области. Для меня друг — это очень серьезное понятие. За друга отвечаю как за себя.
«Большим людям» по заказу не пою. Не пел, не пою и петь не собираюсь. Если поеду к «большому человеку» на дачу, но при этом он будет моим другом, вот тогда могу и петь, и танцевать, все, что угодно. Такие друзья сегодня у меня есть. Многие из них выросли на моих песнях, а теперь они большие начальники. Хотя… Как я пел в одной из песен: «Извините, что, как встарь, я не в фаворе у имущих власть влиятельных друзей…»
Если бы я выступал везде, куда меня приглашают… Нет, у меня есть четкие понятия, где я не буду выступать. Не пою на свадьбах и днях рождения, куда меня очень часто приглашают за очень большие деньги. Но могу спеть на свадьбе, если вы — моя подруга и выходите замуж. С удовольствием спою для вас песню, естественно, бесплатно, как подруге. Но петь там, куда меня приглашают бизнесмены или криминал, — никогда в жизни. Есть масса концертов, в которых не принимаю участия по разным причинам. Если вижу, что по составу это не мой концерт, я не буду на нем выступать.
Я всегда выставляю собственные требования в таких местах и, если они не выполняются, просто не работаю. А купить меня пытались много раз. Как я на это реагирую? Отвечаю: «Моя гитара не пьет чай», как известный скрипач Венявский сказал про свою скрипку. Ему однажды предложили: «Приходите к нам на чай и не забудьте взять скрипку». Он и ответил: «Моя скрипка не пьет чай».
Поэтому после концерта, даже если он в ночном клубе или ресторане, по столикам не хожу и звать меня за столик бесполезно. Отработал — и домой. Всего хорошего, спасибо за внимание. Но работаю я так же, как и на любой другой сцене, — с полной отдачей и до конца.
Я очень мало выступаю в ночных клубах. Приходится иногда, потому что нужно зарабатывать деньги. Бывает это крайне редко. В последнее время от подобных предложений практически всегда отказываюсь. Единственный клуб в Москве, где работаю охотно два раза в году, — «Манхэттен-Экспресс», объединивший моих поклонников. Здесь мы организовываем полноценный концерт, три часа, в двух отделениях. Это необычно для клубных выступлений. Там есть свои законы — развлекать публику не больше часа, чтобы не отвлекать от приятной беседы за столиком, и если соглашаешься на это — иди и работай. В этом нет ничего предосудительного: в увеселительных заведениях на Западе работают все звезды первой величины. Просто есть разница: публика на Западе покупает билет в клуб или ресторан на любимую звезду, а наши бизнесмены покупают звезду. И сидят они так, ладошками шелестят… Без году неделя, пару миллионов заработали, но считают, что могут купить артиста. А артиста, если он артист, купить нельзя.
Если увидите меня выступающим в ночном клубе, значит, что-то не так. Несколько лет назад я поработал в четырех-пяти московских клубах. У меня тогда была безысходка, очень сложное состояние души. Я зарылся в Москву — много писал. А чтобы не потерять форму, надо было себя чем-то занять — вот заодно и заработал. Когда выступаю в «Манхэттене», атмосфера напоминает мне студенческий сейшн 60-х — начала 70-х.
На Западе выступления профессионалов на эстраде ресторанов — это нормальная практика. С ресторана начинали да и продолжают там выступать великие люди. Стоит вспомнить Лайзу Миннелли, Элтона Джона, Майкла Джексона… Но если мне предлагают сделать концерт в ресторане, я, как правило, отказываюсь: не люблю. Хотя в принципе ничего плохого в этом нет.
Какой у меня сейчас этап? Очень много зарубежной работы. Но хочу дальше пойти. Один мудрый человек, Сол Юрок, говорил: «Если ты завоевал Европу, это еще не значит, что ты завоевал Америку, что ты завоевал Нью-Йорк. Если ты завоевал Нью-Йорк, это еще абсолютно не доказывает, что ты завоевал Бродвей. Но если ты завоевал Бродвей, ты завоевал весь мир».
Я по жизни спортсмен, и мне нужен весь шарик. Я был на пятилетием контракте с американской фирмой. Но если вам скажут, что Гребенщиков или Розенбаум завоевал Соединенные Штаты, а значит, и шарик, то все это чушь собачья — для этого нужно вложить как минимум миллион долларов. Я просто работал там — ну как Слава Фетисов в «Нью-Джерси Девилз».
Американский контракт — двадцать четыре страницы. Контракт написан по законам Штата Нью-Йорк. Он включал в себя обязательства о прокате артиста во всех крупных странах, кроме Советского Союза. Фирма обязуется провести два тура в год по миру с известными артистами. У меня сорвался концерт в Осло, где Горбачеву должны были вручать премию, а он не поехал. Были выбраны самые известные партнеры (иначе все теряет смысл) — Стрейзанд, Саймон, Тина Тернер… Меня там называли в газетах — «Русский Боб Дилан».
В Штатах принимают нормально. Тут главное не обманывать себя и других: мы работаем в основном для русскоязычной эмиграции. И когда читаешь, что какой-нибудь Пупкин или Тютькин вернулся после триумфальных гастролей в США, — все это бред собачий. А когда я слышу, что кто-то пел в «Карнеги-холл», то мне смешно, потому что все это так же снимается за деньги, как и концертный зал «Россия» в Москве. Мировое турне для русского эстрадного артиста — это бред сивой кобылы: в мировое турне у нас ездят только цирк медведей, ансамбль Моисеева, Кировский балет и Большой театр.
«Цена артиста Розенбаума» в Америке — она никакая сегодня для массового слушателя. Это все вранье и гнусность, когда люди говорят: «Мы завоевали Америку!» Повторяю, потому что это важно понять: никому мы в Америке не нужны до тех пор, пока не заплатим за рекламу. Вы можете быть четырежды гениальны и двадцатипятирежды талантливы, но если вы не внесете определенное количество денег, вы там никому на хрен не нужны! Хулио Иглесиас, единственный европеец, который въехал в Штаты на белом коне, внес три миллиона долларов на рекламу. Но они у него были!.. А поскольку у нас таких денег нет, то мы там ничего из себя не представляем…
Шоу-бизнесом в Америке заправляет такой же узкий круг известных продюсеров, как и здесь. У нас их по пальцам можно сосчитать: Крутой, Алибасов, Кобзон… Там то же самое. Только в их руках крутятся неизмеримо большие суммы, чем в России. Чтобы освоить американский рынок, нужно получить поддержку такого продюсера и вложить огромную сумму. Так что все громкие высказывания об экспансии русской попсы в США — это детский лепет.
Поэтому и Розенбаум нужен только тем людям, которые его слушали. А слушали пока — немногие. Я не имею в виду эмиграцию.
Эмиграция — это мизер. Все равно что я, к примеру, был бы татарином и меня знали бы сто пятьдесят тысяч татар в Петербурге — на пять с половиной миллионов населения. Эмигранты — это капля в море, песчинка в Америке. Они меня знают и очень любят, но меня интересуют не эмигранты. Я никого не обижаю, напротив, эмигрантов наших очень люблю — прошу это отметить! — люблю для них выступать, у меня там огромное количество знакомых и приятелей. Но это — не Запад.
А там ведь тоже люди, правда? Наши люди. Их много. И они хотят послушать мои песни так же, как жители Москвы и Новосибирска. Разве можно им в этом отказать? Да и встречают они прекрасно…
Но я ведь езжу не на Брайтон, а в Америку. А на Брайтоне стараюсь видеть только друзей, которые у меня там есть. Повторяю — я люблю живущих там людей, они мне близки.
Поймите меня правильно: поехать на Брайтон для меня то же, что поехать в Москве куда-нибудь в Строгино, и все. Я приезжаю туда, как на обычные гастроли в ту же Воркуту или Петропавловск-Камчатский.
Если кто-то скажет, что в Америку, на Брайтон, люди летают зарабатывать деньги, то это смешно! Сейчас в России можно получать значительно большие суммы, чем на Брайтоне. Поэтому-то все брайтонские ресторанные ребята сидят сегодня в России и на Украине, зарабатывая гораздо приличнее, чем у себя.
В Нью-Йорке у меня несколько иные интересы. Я вообще очень люблю этот город, с удовольствием туда приезжаю. Вот и в последней гастрольной поездке по Америке я отказался от девятнадцати городов и взял только Нью-Йорк и окрестности. Я был в Штатах раз двадцать и знаю эту страну не хуже наших эмигрантов, подолгу в ней живущих. Так что визиты туда — отнюдь не зарабатывание денег, а только дань уважения обитающим там сегодня соотечественникам. С такими же чувствами я гастролирую в Гамбурге, в Сиднее…
НАШУ СТРАНУ ПОГУБИЛИ ДИЛЕТАНТЫ…
Профессионал — это тот, кто хорошо делает свое дело и занимается только им. Я никогда не хотел, чтобы про меня говорили: «Розенбаум — лучший певец среди врачей». Или: «Он лучший врач среди певцов». Не выношу внештатных журналистов: любое внештатничество — это любительство, дилетантство. А дилетант не надежен и часто — злобен.
В человеке для меня ценны три вещи — доброта, профессионализм и отсутствие зависти.
Работай, делай свое дело классно, иди вперед.
И какая тут может быть зависть?
Для мужчины, я считаю, главное в жизни — не в семье, а в работе. Если мужик на работе не «кайфует», то никто ему не поможет. Как только он к юбке притрется, значит, все: он уже убогонький.
Мне часто говорят, что, мол, нельзя так яростно работать, ты себя убиваешь. Но я-то иначе не могу, работать так — мне в радость. Как это так — выйти и «отбыть» номер? Мне возражают: сорвешься, нельзя так много петь — по три часа с лишним подряд, еще и «живьем», не под «фанеру»… Но люди-то принимают эти мои три с половиною часа за тридцать минут! Невозможно показать все, что ты хочешь показать и сказать людям, за часик с четвертью… Сегодняшние «фонограммщики», конечно, не вспотеют за свои три концерта в день — ведь это не работа, а видимость ее: так не раскрываются — так прячутся. А мне от своих слушателей зачем прятаться? Песня — это и исповедь и проповедь. И то и другое.
Я снялся в двух художественных фильмах — «Побег на край света» и «Чтобы выжить». И в обоих — в главных ролях. Обе картины, на мой взгляд, интересные: первая — лирическая, очень свежая для нашего дня, вторая — боевик.
Начал я сниматься не по собственной инициативе, поскольку никогда не бегаю и не прошу никого: снимите меня в кино, возьмите у меня интервью. Очень приятно, конечно, когда тебе это предлагают, но проситься самому — это не в моих правилах. Меня пригласили, и это был сложный момент в моей жизни. Абы как сняться я не хотел: мне это не нужно, у меня есть свое дело, в каждом деле я люблю профессионалов. Мне и без того было чем заниматься. Поэтому я пошел к своему другу Лене Филатову и спросил, как он считает, нужно ли это делать?
Леня сказал: «Ты обязан». Если Леня сказал (а я ему верю безоговорочно, тем более там, где он является высочайшим профи), значит, так оно и есть. И я согласился.
Сняться в хорошем кино, как мне кажется, интересно всем, тем более артистам. А во-вторых, к этому времени уже существовали три фильма с моими песнями, а вот в драматических ролях я еще не выступал. Я попробовался, и профессионалы сказали, что получается хорошо. Мне, естественно, стало интересно. Интересно хотя бы уже потому, что это отдушина от музыки, возможность переключиться на что-то новое для себя.
Я ведь на сцене в любом случае артист, ибо исполняю достаточно драматические песни, сценарные, зримые, с определенным сюжетом. Я не просто пою — я вживаюсь в образ, будь то одессит с Молдаванки или образы из моих военных песен.
Когда мне принесли сценарий, я сначала несколько смутился: Джафар — человек, мягко говоря, нехороший… Но в фильме все определяет главное обстоятельство — гражданская война. Конечно, методы, которыми действует мой Джафар, жестоки, но в этом и суть: любая война — это кровь, грязь, резня. Война — это две равноправные правды, и у каждой стороны она своя. В преданности Джафара правде и правоте своих — его верность родине, его гражданское мужество. Жестокость и несправедливость моего героя — это прежде всего жестокость и несправедливость самой войны.
Джафар — не бандит. Джафар — человек, попавший в ситуацию гражданского противостояния. Мы же не можем осуждать ни Щорса, ни Деникина. С точки зрения психологии мой герой — замечательный человек. Когда я пришел к Ролану Антоновичу Быкову, то спросил: «Вам Мюллер нравится? А если я буду играть Джафара как Мюллера?..»
Конечно, я не проходил актерского класса, не занимался этюдами. Может быть, разобраться в этой роли мне помогли какие-то жизненные наблюдения. Я ведь за концерт пропеваю тридцать-тридцать пять песен, которые очень драматургичны и на каждую из которых можно снять не только клип, но и полнометражный фильм. Так что я за это время проживаю тридцать жизней. Не говоря о том, что как врач я видел множество людей в самых разных ситуациях.
За роль Джафара мне не стыдно. Картина прошла довольно широким экраном (что хорошо для сегодняшнего отечественного кинопроката) и получила хорошую критику. Я в кино дебютант и, повторяю, не хотел сниматься лишь для того, чтобы просто сняться. Мне хватает популярности и уважения зрителей в своем деле. Но поскольку у меня роль получалась и мне было интересно работать, то я снимался в картине «Чтобы выжить» с удовольствием.
Все трюки, которые проделывает в картине мой герой, исполнял я сам. Пришлось, конечно, потренироваться перед съемками… Риск очень люблю, но риск разумный. Готовясь к съемкам трюка, где нужно было на полном ходу с автомобиля забраться по веревочной лестнице на вертолет, я откровенно сказал главному каскадеру, что если хоть на секунду почувствую неуверенность в себе, то попрошу дублера.
Есть предложения продолжить работу в кино. Но я от ролей большей частью отказываюсь, потому что очень уважительно отношусь к этому труду и достаточно люблю себя (в хорошем смысле этого слова). И еще боюсь… продешевить: я не имею права на дешевизну. Многие сценарии мне присылают совершенно ясно для чего: Розенбаум в фильме — это определенная доля кассового успеха. Это относится к любому популярному артисту. Но если мне сценарий нравится и я чувствую, что смогу, да еще когда и другие мне говорят, что я смогу, то я с удовольствием отдаюсь этой работе. Работа это тяжелая, но для меня она словно смена декораций. Иногда хочется отвлечься от эстрады и погрузиться в другую, тоже тяжелую, но совершенно другую работу. Когда это получается, я очень рад.
И до нынешнего глухого застоя в кинематографе у меня были приглашения, от которых я большей частью отказывался. Конечно, на Гамлета не приглашали. Мне предлагали играть «мои» роли, в основном самого себя. Имелся в виду не я, Розенбаум, но люди, похожие на меня по внутреннему характеру, состоянию души. Было два очень приличных сценария. А сейчас такая ситуация в кино, что просто так ничего не предлагается. Что уж говорить о дилетанте киноэкрана Розенбауме, если Валентин Гафт без работы! Заслуженным артистам негде и не в чем сниматься!!!
Для клипа я выбрал именно «Вальс-бостон», потому что, когда я кому-то говорю название песни, мне сразу отвечают: «А-а!» Кроме того, эта песня — джазовая композиция, которая хорошо принимается слушателями разных стран. Музыка и настроение «Вальса-бостона» интернациональны.
Клип на «Вальс-бостон» — это и ностальгия: сама эта песня ностальгическая по духу. Для клипа я сделал новую аранжировку песни, отличную от концертного исполнения. Хотелось сделать то, что называется произведением искусства, то, что у костюмных дизайнеров называется «высокой модой». Конечно, можно было бы взять и снять «Вальс-бостон» во дворе, и зрители все равно бы плакали. Но это легкий путь, и я заранее сказал, что не хочу этого.
Мне нужен высокохудожественный клип, поэтому-то я работаю не с клип-мэйкерами — это не для меня. Почему? Потому что все они — подражатели, все их клипы — слабое подражание японскому, американскому, французскому… Я могу, к примеру, спеть блюз, но никогда не спою его так, как негр из Гарлема. Вот так и наши клип-мэйкеры. Они умные, талантливые ребята, но никогда они не сделают американского клипа, потому что они не американцы. А я работаю с «киношниками», профессионалами, которые сделают клип как хорошее советское кино.
У нашего кино есть свои замечательные традиции и свой стиль, что бы там ни говорили. Вот чего я хочу от этой истории. За четыре минуты, пока звучит песня, нужно прожить жизнь и должны смениться четыре времени года.
У меня нет людей, с которыми мне выгодно дружить. Хотя друзей, по большому счету, у меня раз-два и обчелся. Много хороших приятелей, товарищей… И не только по искусству. Я не устаю от общения: мне одинаково интересен и солдат, и маршал, и безымянный музыкант, и суперзвезда…
Настоящих же друзей у меня двое — это друзья еще по медицинскому институту. А вот хороших товарищей из мира искусства много. Это и Иосиф Кобзон (мы дружим давно, семьями, я с глубоким уважением отношусь и к его супруге Нелле), и Володя Винокур, и Ира Понаровская, и Леня Филатов, и Андрюша Макаревич, и Николай Расторгуев, и Лева Дуров. С Соней Ротару мы в прекрасных отношениях. С Аллой, Филиппом… Боюсь кого-то забыть: Ян Арлазоров, Лев Лещенко, Михаил Жванецкий, Сергей Шакуров, Николай Губенко, Виктория Токарева…
Дружба между большими артистами?.. Возможна! Особенно между звездами разных жанров. К тому же, мне кажется, дружить между собой могут только состоявшиеся артисты: им делить-то нечего! С моими товарищами по миру искусства мы можем, конечно, и покритиковать друг друга (кстати, не только вышеуказанные, но и другие звезды год от года приходят на концерты Розенбаума в московском зале «Россия»). Но я знаю, что если позову — они приедут, а если они позовут меня — отменю все и прилечу.
Постоянный и желанный гость на моих концертах Володя Винокур. Он приезжает специально и в Питер. Артист есть артист. Володя всегда готовит сюрприз. И его присутствие — это творческий подарок, шутка, анекдот, которым он со сцены радует публику на моих концертах. Может, кто-то назовет это клановостью, но он будет неправ, потому что состоявшиеся артисты все-таки борются в этой жизни в одиночку. Но тем приятней иногда собирать друзей.
С Леней Филатовым мы, слава Богу, знакомы лет сто. Познакомились году в 1981-м и сразу сблизились. Мы оказались очень похожи мыслями, образом жизни, взглядами. Такое ощущение, будто мы с одной грядки. Как раз тот случай, когда нашел друга в зрелом возрасте. Дело ведь не в том, чтобы, к примеру, достать человеку лекарство в Новой Зеландии. Это сделает, при возможности, любой порядочный человек. Друг — это нечто большее. Ты можешь не звонить ему год, но постоянно о нем думаешь и точно знаешь, что он о тебе тоже думает. О приятелях и товарищах вспоминаешь лишь изредка.
Алла Пугачева для меня всегда — это Артистка и Женщина с больших букв. Наша дружба образовывалась постепенно, так и не превратившись в роман. Но встречи и дружеское общение с ней для меня — это всегда толчок к творчеству. Обычный душевный разговор с Аллой — и в голове появляются новые идеи. Думаю, что и она испытывает подобные ощущения.
С Андреем Макаревичем мы не просто коллеги. После путешествия на Амазонку в начале 1999 года Андрей стал для меня настоящим другом. Две недели в дикой сельве, ночь в палатке под настоящим тропическим потопом, совместное выживание в местах, где вся цивилизация представлена двумя индейскими хижинами, — это, поверьте, хорошее испытание для сильных мужчин.
Валя Юдашкин — замечательный парень, беззлобный, душевный и весь в творчестве. Я одеваюсь у него. Вообще-то меня совершенно не волнует, от кого вещь — от Ферре, Дольче Габана или Васьки Иванова. Важно, чтобы это было красиво и соответствовало моей душе. У Вали есть такие вещи.
С Колей Расторгуевым мы столько захватывающих партий в биллиард сыграли! Он заядлый биллиардист, как и я. Совместно проводили много дней на «Кинотавре». Еще один бессменный участник нашей компании — Ян Арлазаров. Довольно мрачный с виду человек с уникально яркими мыслями.
Мне было лестно услышать добрые слова в свой адрес от Мстислава Ростроповича и Галины Вишневской. Мы познакомились, когда они приняли приглашение побывать на моем концерте. Я лишний раз убедился, что чем более люди состоялись в жизни, тем больше они доброжелательны. Это между несостоявшимися артистами, как правило, дружбы не бывает.
Мне довелось побывать на дне рождения Мстислава Леопольдовича в Америке. Между нами установились дружеские отношения. Конечно, мне бы хотелось помечтать о нашей совместной работе, тем более что у меня в планах есть проект записи своих песен с симфоническим оркестром. Еще один проект — альбом рок-н-роллов, который хочу записать с чернокожими музыкантами в Америке. А третий альбом — с еврейским хором Московской синагоги. Такие вот полюса.
Другом у мужика может быть только мужик. Или собака, конь, тигр. Женщина может быть самым близким человеком.
Но роль и помощь женщин трудно переоценить.
Вот, к примеру, Белла Михайловна Купсина для меня — как для «Битлз» Брайан Эпстайн.
Мы познакомились и подружились давным-давно, 13 октября 1983 года, на моем знаменитом концерте в ДК имени Дзержинского. Она работала там старшим администратором. До этого мы виделись в Ленконцерте, даже здоровались, но она не знала, что я — это я, хотя и прослушала мой «одесский» магнитофонный альбом.
Белла Михайловна, можно сказать, человек старой школы: воспитана Григорием Израилевичем Шубом, легендарным директором-распорядителем Ленконцерта. Представителей этой школы в работе с артистами отличали ответственность и профессионализм. Профессионализм складывается из мелочей: это значит, что надо такому-то артисту прислать «Волгу», а «Жигули» — такому-то. Но прислать обязательно. Это значит непременно встретить артиста на вокзале у поезда или в аэропорту. Это значит приехать во время репетиции и во время концерта и справиться у артиста о его самочувствии, настроении. Сегодня же все по-другому, нынче артиста покупают: прислали ему деньги, а там хоть трава не расти. Старая школа — это еще и абсолютная честность в отношениях продюсера с артистом, когда ни той, ни другой стороне непонятно, как вообще может возникнуть желание обмануть другого.
Конечно же, большое значение имеет обстоятельство, что она выросла и живет в семье, которая не особенно нуждается в деньгах. Белла зарабатывает хорошие деньги, но не это ставит во главу угла. Не побоюсь высоких слов, но работает она из любви к искусству, из любви к артисту.
Она женщина и при всех своих исключительно деловых качествах может проявить себя чисто по-женски, например, что-то запамятовать… Но это и хорошо, потому что она — не железная леди, а некоторые сложности ее характера с лихвой окупаются всеми плюсами, которые дает наша совместная деятельность.
Интересно, что, познакомившись и подружившись в 1983 году, мы начали «плотно» работать только с 1989 года. Эпизодически она помогала в моих питерских проектах, а с 1990 года мы с ней уже на контракте, который подписали между собой в штате Нью-Йорк.
Мне доводилось читать, что есть такие артисты, которым ни менеджер, ни продюсер не нужны. Это неправда. Я знаю только одного такого человека — Иосифа Давыдовича Кобзона, который уникальным образом совмещает в своей голове и бизнес, и творчество. Впрочем, даже Кобзону нужен преданный ему деловой человек. И мне нужен. Во-первых, мне не хватает времени, во-вторых, я не умею считать, договариваться, мне неудобно делать некоторые вещи, которых я просто не знаю. Да и вообще, когда артист начинает считать, доставать, уговаривать, выбивать, он теряет что-то и в творчестве, и в имидже. Его голова забита теми вещами, о которых ему думать как бы и не пристало… Если ты сам звонишь какому-то организатору концерта и разговариваешь о малозвездных делах, то как к тебе будут относиться?!
Артист должен быть артистом. К нему даже самые крутые бизнесмены должны подходить как к какой-то загадке, как к чему-то недосягаемому, а не решать с ним материальные проблемы. Артист должен находиться в другом измерении. Ну не может он лезть в проблемы колбасы с сыром — ему это должны принести, хотя он и знает, сколько это стоит, как тяжело берется. И не потому, что он такой крутой, а потому, что таким крутым он должен быть для людей. Как только артист будет сам стоять за бутербродами в очереди, к нему тут же люди начнут относиться немножко по-другому, хотя и хорошо: все эти проявления рубахи-парня не прибавляют ему популярности.
Я ненавижу модную иностранную терминологию — шопы, маркеты… Но в современном русском языке не вижу другого термина, как «продюсер». Администратор — это меньше, это в хорошем смысле слова человек-исполнитель. Продюсер — тот, кто может дать совет, определить стратегию, кто прорабатывает крупные проекты, отвечает за них, может сказать либо «да», либо «нет». И в какие-то моменты я должен подчиняться Белле Михайловне Купсиной, если доверяю своему продюсеру, его опыту, его интуиции. Продюсер — это человек, который зайдет и в Кремль, но может отправиться и в соседний магазин. Такое вот, на первый взгляд, странное сочетание.
Любой проект Розенбаума за эти прошедшие девять лет — наполовину мой и Беллы. Даже если я задумываю проект, то всем его исполнением занимается штат людей, помогающих Купсиной. Ее огромной удачей был мой концерт 9 мая 1995 года на Дворцовой площади. Ее замечательным продюсерским проектом было мое сорокалетие: приезд гостей, концерт, съемки. Если доживем до «полтинника», то устроим что-то сумасшедшее!
У талантливого продюсера должен быть не только необходимый набор определенных качеств, но и свой конек. У Беллы — это абсолютное попадание в цель при общении с людьми. Ее внешность (это замечено многими) либо сразу располагает, либо отталкивает людей. Середины не бывает! Вообще внешность продюсера — это безумно важно. Ее внешность — это ее козырь. Например, начиная какой-то проект, Белла приходит, заводит разговор, и «мужики сразу падают!». Ну а женщины по-разному реагируют: умные при этом все понимают и оценивают.
«Шубовская школа» учит еще и выдержанности. Вот я, к примеру, могу завестись и столько наговорить… Белла меня уберегла от многих вспышек. Она удивительно точно определяет, где ей быть: где стоять рядом, а где отойти чуть в сторону. И ничего зазорного тут нет: не потому, что я выше, а потому, что я артист. С артистом президент может общаться, а с продюсером, пока его не представит ему артист, не поспешит заговорить. Хотя некоторые нынешние модные продюсеры назойливо лезут вперед и по всем каналам
раскручивают свое имя.
Но старое администраторское правило гласит: артист главный! Если не будет артиста, то все остальные будут голодными. У нас многие понятия в нарождающемся шоу-бизнесе пока смещены: ну кто на Западе знает имена продюсеров? На наших же посмотришь — нет круче! Так и хочется сказать: «Ну кто вы такие? Я умру завтра — и до свидания, идите на кислород». Хотя я точно знаю и не устану повторять, что без своего продюсера и своей команды я потеряю многое… Если не все.
Белла не продюсер всех, она только мой продюсер. И когда я, неровен час, закончу с этим делом, она никогда не будет продюсировать другого артиста. Продюсер должен умереть в артисте! И если Беллы не будет со мной, я другого такого продюсера не найду.
Как для любого артиста, для меня очень серьезное испытание — концерты в Москве, в Государственном концертном зале «Россия». Осенью традиционно ежегодно я выступаю здесь с новой программой. В организации этих концертов и во многом другом, что не связано с творчеством, нам помогает руководитель культурного фонда «Артэс» Александр Достман. Его работа — это тоже искусство.
Я не считаю, что артист должен творить голодным. В один из моих приездов в Америку владелица корпорации, в которую входила и студия, где я напряженно записывался, предложила мне отдохнуть дней пять на ее вилле во Флориде. Чудесная вилла — 250 акров земли, на лужайке вертолетная площадка, бассейн и все прочее… Отдыхаю. Но она, настоящая американка, выписала мне туда прекрасный рояль: а вдруг я подойду к инструменту, начну сочинять? А это же будут и ее «бабки»! Мне действительно захотелось. Должен сказать, что такой музыки я не писал никогда, таких прекрасных гармоний я прежде просто не мог в себе расслышать. Так надо ли творцу быть голодным? Чушь! Да, мне удавалось кое-что сочинять: «Вальс-бостон», «Глухари», к примеру, тот же «Гоп-стоп» или «Только шашка казаку»… Но то, что я сочинял на том рояле… Нет, здесь это не услышится… Там думаешь о другом — не о быте, не о том, что надо то-то и то-то достать.
Вот маэстро Эрнескас говорит, что за песнями нужно ходить пешком, а не ездить на «Кадиллаке». Думаю, за песнями можно и на «Кадиллаке» ездить — не в способе передвижения дело. Кстати, наблюдать жизнь из «Кадиллака» приятнее, чем из автобуса, — больше видишь. Да, поэту, гораздо лучше смотреть на мир из «Кадиллака». А «Кадиллаком» — пусть он будет у каждого — все же сыт не будешь: из него надо и выходить, ножками среди людей топать. Тогда совесть зажиреть не позволит.
Почему я не жирею? Поглядите на наших политиков. Их, скажем так, физиономии уже в телевизор не влезают… А не так давно лица были! Это нормально? Для них — нормально. Но я в их «тусовках», где, как я недавно написал, «расстриги властвуют КПССные», не участвую.
Если у человека есть деньги, то сегодня, в период наступающего капитализма, они должны крутиться. Их нужно вкладывать — деньги не должны лежать в чулке. И у меня деньги в обороте.
Сам бизнесом я не занимаюсь, просто вложил средства в магазин и два ресторана: один — в Санкт-Петербурге, другой — в Нью-Йорке.
Вообще в Нью-Йорке в русские рестораны люди ходят по выходным. В будние дни плохо ходят, в будний день вообще почти никого не бывает. Это специфика русской публики, оттого что они тяжело и много работают. Регулярно мой партнер в Нью-Йорке мне сообщает, как в ресторане идут дела.
Ресторан мой особой прибыли не дает… Зато мы с вами можем там кофе попить, пообедать. И как бы ничего не заплатим. Некоторое ощущение самообмана: я вроде кушаю и вроде не плачу. Но в сотый раз напоминаю, что я всего лишь совладелец. Когда меня называют бизнесменом, прихожу в ярость. Или называют ресторатором. Какой же я — ресторатор? Ресторатор — человек, который занимается только этим. Разве Паваротти — ресторатор? А ведь у него шикарный ресторан в Майами. Или Миша Барышников, Роберт де Ниро, Алла Борисовна, еще масса людей… У меня просто в это дело вложены деньги, причем в очень малом проценте по сравнению с другими совладельцами. Мы счастливы, что он хоть не приносит нам убытков.
Никто не спрашивает у Паваротти, не мешают ли ему петь ресторан, в который он вложил деньги, и езда на супермашинах. И у Сталлоне с Брюсом Уиллисом и Шварценеггером не выясняют, не мешает ли им сниматься в кино сеть их ресторанов «Планета Голливуд». Когда меня спрашивают об этом серьезно, я завожусь: «Вы что же, считаете, что я за стойкой стою? Или пою зазывалой перед воротами своего ресторана, чтобы в него заходили?»
Я люблю комфорт в жизни, хотя нахожусь в нем очень редко. Потому что самый шикарный номер в гостинице — это не мой дом, а казенный. Езжу на «Кадиллаке» с водителем, потому что не было времени самому учиться. Заработал на машину своим горлом и купил ее на гонорар не за один концерт, к сожалению, хотя артист моего уровня на «диком» Западе с одного концерта может купить себе десять «Линкольнов» или «Кадиллаков». И еще сдача останется…
Здесь в ресторане знают мои вкусы: обожаю гречневую кашу с молоком — быстро, дешево и сердито. Раз в день могу ее съесть с удовольствием. Остальное — традиционно: жареная картошка, мясо, курица. Дома без фруктов не обхожусь: должен непременно съесть яблоко, грушу, гроздь винограда, причем жую, когда смотрю телевизор. По телевизору смотрю все. У меня «тарелка» на доме, двадцать четыре программы. Обожаю фильмы про животных, уже двадцать две кассеты с ними собрал. Это — мое самое любимое. Люблю кофе. Вообще олицетворяю собой классический тип мужика: когда голодный — раздражен, лицо мое неблагостное.
Правда, я уже стал гурманом — в этом отношении меня испортила гостиничная жизнь и заграница. Приходишь в гостиничный буфет и видишь неизменное «лангет — эскалоп — солянка — лапша…». Но ты же не можешь есть это постоянно, поневоле захочешь чего-нибудь необычного и вкусненького. А это получается редко, потому что у нас и в частных кафе, как правило, тоже один и тот же набор — поросенок, грибы, окрошка… Вот за границей с этим повеселее: хочешь — идешь в китайский ресторан, хочешь — в японский, хочешь — в португальский. Последнее время у нас тоже с этим дело налаживается.
Слава Богу, дома у меня хорошо готовят и слабости мои знают.
Деньги — это средство для достижения цели. Вот если деньги — цель, тогда туши свет. Мне нужно много-много денег, и мне их никогда не будет хватать. Чтобы осуществить сегодня мою мечту — записать пластинку в сопровождении симфонического оркестра, — нужно выложить как минимум полмиллиона долларов: на репетиции, аранжировки, запись. У меня их в помине нет. К спонсорам не хожу, поэтому я и должен зарабатывать в поте лица. Кому-то не хватает на колбасу, и для него деньги — тоже средство для достижения цели: прокормить семью. А кому-то не хватает десяти миллионов долларов на приобретение очередной нефтяной вышки.
На Западе есть поговорка «Благотворительность — удел богатых людей». Человек, которому самому нечего есть, не сможет никого накормить. Главное — это всегда оставаться человеком: если ты богат, поделись с теми, кто нуждается. На один концерт за деньги приходится дать десять благотворительных. За концерты в институтах, в милиции, армии, на флоте, в цехах, зонах денег не беру.
Милосердие должно быть не просто словом, лозунгом, оно должно быть делом. Мне рассказали о предпринимателе, который на тысячу долларов купил яблоки детям из спецдетдома. Этому человеку я хотел бы пожать руку. Поддержать больных детей хотя бы яблоками — это уже конкретное дело, это лучше, чем перечислять деньги в мифические фонды, из которых они неизвестно куда и на что уходят. Если бы каждый богатый человек мог конкретно помочь детям, это было бы хорошее дело.
Милостыню подаю всем, кому считаю нужным, — безногим, безруким инвалидам, пенсионерам, бабушкам сгорбленным и скрюченным. Но сразу вижу, кто «на работе», — здоровые краснощекие мальчики с веселыми глазами. Им я не подаю из принципиальнейших соображений, так как дармовые деньги развратят их еще больше.
Не надо много говорить о помощи, надо просто помогать. Тем более если вы можете дать бесплатный концерт. Мы не питаемся святым духом — артистам тоже нужны деньги. Но надо периодически выступать, не думая о них. Если ты действительно любишь людей, выйди, спой им… Потом заработаешь свои деньги. Например, уже несколько лет подряд 9 мая я устраиваю праздник ветеранам.
Мне понравилось, как кто-то сказал: «Я не новый русский, я старый еврей». А я не новый, не старый, а просто нормальный человек, профессионал, который волен распорядиться честно заработанными гонорарами. Захочу — куплю иномарку или построю студию звукозаписи. А могу и пожертвовать деньги на благое дело или выступить бесплатно. Кстати, вряд ли найдется другой артист, который дал больше трехсот благотворительных концертов — в колониях, тюрьмах, в воинских частях, на военных судах, погранзаставах. Может быть, только Иосиф.
Развитие и поддержка науки и культуры — это святая обязанность каждого человека. Полагаю, что заниматься этим — мой долг. Если каждый из нас начнет делиться, то мы бедность нашу переживем гораздо легче. Моя организация и я, в частности, чем можем, тем помогаем. Считаем своим долгом заниматься благотворительностью в Первом медицинском институте, который я закончил, и в одном из крупнейших вузов нашей страны — в университете.
Несколько лет назад при Академии МВД, которая у нас в Лигово, был основан общественный университет культуры. Ректором там был Кирилл Лавров, кафедру архитектуры вел покойный Аникушин, кафедру кинематографии — Елена Драпенко, а кафедру эстрадного искусства — ваш покорный слуга. Званий профессорских, конечно, не было. И лекций в буквальном понимании — тоже. Был просто разговор об эстраде, об искусстве, были вопросы… Шло нормальное общение. Не думайте, что все постовые — обязательно тупицы. Люди в Академии МВД по интеллекту и культуре — на зависть другим академиям.
То мое дело до недавнего времени называлось «общественная нагрузка». И я взял ее с удовольствием. А почему бы и нет? Мне тоже нужно, чтобы, грубо говоря, «мент» разбирался, что хорошо и что плохо в эстраде. Естественно, никаких денег я за это не получал, никаких льгот не поимел… И шинель милицейскую я тоже не надел. Организатором и душой всего этого был мой хороший приятель Саша Никитенко. Когда же он перешел в главк, он перенес свою идею на более высокий уровень.
В определенной мере я общественный деятель. Не просто вхожу в советы различных общественных организаций (например, в еврейское общество «Маккаби»), но еще и каждодневно общаюсь с людьми, веду переговоры, решая вопросы, подчас не имеющие отношения к моему творчеству. Я — вице-президент крупного петербургского акционерного общества «Великий город» по вопросам культуры.
Как вице-президент акционерного общества, я большей частью занят самим собой. Я же не занимаюсь промышленным бизнесом, чугуном или апельсинами — на это есть другие люди. У меня мой отдел, который называется «гастрольно-концертный». Иногда хожу на презентации — как артист, работающий вице-президентом. Но времени на это практически не бывает: сплошные гастроли.
Уезжаю из офиса обычно в 5–6 часов, а дома появляюсь в 9—10 вечера. Если нет выступления, стараюсь завернуть по дороге на петербургское «Русское радио», в студию «Ночное такси» к своему доброму приятелю Александру Фрумину. Почти все «домашние» дни стараюсь использовать для записи. Благодаря Александру Фрумину имею возможность приехать в студию в любое время дня и ночи и провести там столько часов, сколько душе угодно. У нас процесс безостановочный: заканчиваем работу над одним диском — начинаем запись следующего.
Домашние вечера посвящаю жене, дочке, собаке. С десяти вечера до трех ночи у меня — «личное время». Прихожу домой совершенно вымотанным. Я же имею дело с людьми, с проблемами, затрагивающими душу, сердце. Это гораздо тяжелее для состояния мозга и коронарных сосудов, чем тот же бизнес. Максимум, на что способен поздним вечером, — плотно поесть, погулять с собакой и улечься. Включаю какую-нибудь видеожвачку и под нее благополучно засыпаю. Если, конечно, у меня нет в этот момент «творческого зуда». Ну а если возник, могу до пяти утра просидеть.
Могут сказать, что я сейчас живу вполне благополучно. Да нет, просто сегодня гонения иные, меня никто не сажает в тюрьму, не отправляет в психушку. Но когда Женя Гинзбург снял про меня фильм «Утиная охота», на ТВ картина так и не появилась. Мне передали фразу одного клерка: «Фильм-то хороший — персона не та. Вот был бы кто-нибудь типа Добрынина, был бы и рейтинг». Ни в коем случае не подумайте, что жалуюсь. Но Розенбаума и сегодня надо пробивать так же, как и в старое доброе советское время. Человек независимый, имеющий собственное мнение, в нашей стране всегда находится под прессом. Но я такой, какой есть, таким и буду. А квартира, машина и дача — ей-богу, не главное, для нормального человека деньги — лишь один из атрибутов благополучия, причем не самый важный.
ВОЙНА В НАШЕЙ СТРАНЕ НИКОГДА НЕ ЗАКАНЧИВАЛАСЬ
Война все время висит над нами: в нашем государстве она, кажется, никогда и не заканчивалась.
Мы все время кровь льем — от участия в войне в Корее и до сегодняшнего дня. Если подсчитать количество убитых и раненых только за годы после перестройки, получится страшная цифра. В Таджикистане погибло и гибнет огромное число людей, уж про Чечню я не говорю…
…К взрывам, пулям, кишкам на проводах, к сожалению, привыкаешь. Обращаешь внимание уже на совершенно другие вещи. В Таджикистане — на то, как замечательный город Душанбе откатился на сто лет назад. В Афганистане приходилось с тоской глядеть в глаза людей, которые стали, нет, не убийцами, а убивающими, так точнее. Это нормальные люди, учившиеся в советских школах и к этому не привыкшие. Было очень много глаз, от боли в которых становилось не то что страшно, а нервы дергало.
До своей первой поездки в Афганистан я написал об этой войне лишь одну песню. Остальные родились после того, как я многое увидел своими глазами. И не писать об этом уже не мог. В моем сознании существуют как бы два Афганистана. Первый — это земля, где погибли тысячи молодых парней, это моя боль, изранившая душу. И второй Афганистан мне очень дорог — это Афганистан сильных и мужественных людей. Я далек от мысли, что там не было людей плохих, жалких. Были, куда они денутся, они есть везде. Но не они определяли облик нашей армии. И я еще буду писать о ней. И еще о женщинах — врачах и медсестрах, спасавших наших солдат… И о многом другом. Я пишу и буду писать об этом до конца. Это часть моей жизни, притом очень большой кусок.
Афганистан повлиял на меня как на актера. А как же иначе? Актер — это прежде всего человек. А Афганистан, как любая война, любая (как в одной моей песне сказано — «нечего вам объяснять, что такое война, если вы на ней не были»), она здоровых людей делает больными. Она очень многое ломает в человеке и очень много дает, как ни странно, хорошего. На войне нужно быть сильным человеком для того, чтобы хорошее впитать, а отрицательное не принять.
Я, в общем-то, в душе своей — человек военный, как это ни странно. Очень люблю армию, очень люблю оружие, может быть, потому, что я — пацан. А для мальчишки любить оружие, стрелять — это нормально. Я очень люблю погоны и очень уважительно к ним отношусь. Именно к погонам, а не ко всем, кто их носит. Это разные вещи — форма и то, что под этой формой. Я очень дружен с армией и флотом. Мало, наверное, осталось частей, где я не был.


Саше Розенбауму год. 1952 г

Саша, мама Софья Семеновна и младший брат Володя.

Жена Лена с дочкой Аней. 1977 г.

С дочерью и племянницей Машей (она слева).

В ночном с друзьями. 1986 г.

С однокурсниками-медиками.


Удачная рыбалка во время гастролей по приволжским городам. 1990 г.

Пикник под Самарой. 1992 г.

«Когда было получше со свободным временем, я часто проводил его верхом на лошади».

С медсестрой в больнице Екатеринбурга, где Александру однажды буквально спасли жизнь после тяжелейшего отравления. 1996 г.

В кабине самолета Л-39 на аэродроме Батайска. 1993 г.

На даче с «членом семьи», бультерьером Лаки. «Мы с ним бойцы».

«Езжу на «Кадиллаке»...

Новогодний поросенок. 1991 г.

Торт на 39-летии.1990 г.



С продюсером Беллой Купсиной, Владимиром Винокуром и Львом Лещенко в день 40-летия. 1991 г.

С Даниилом, сыном любимого продюсера. 1999 г.

С нанайцами.

«Я всю жизнь связан со спортом». В тренажерном зале. США, 1996 г.
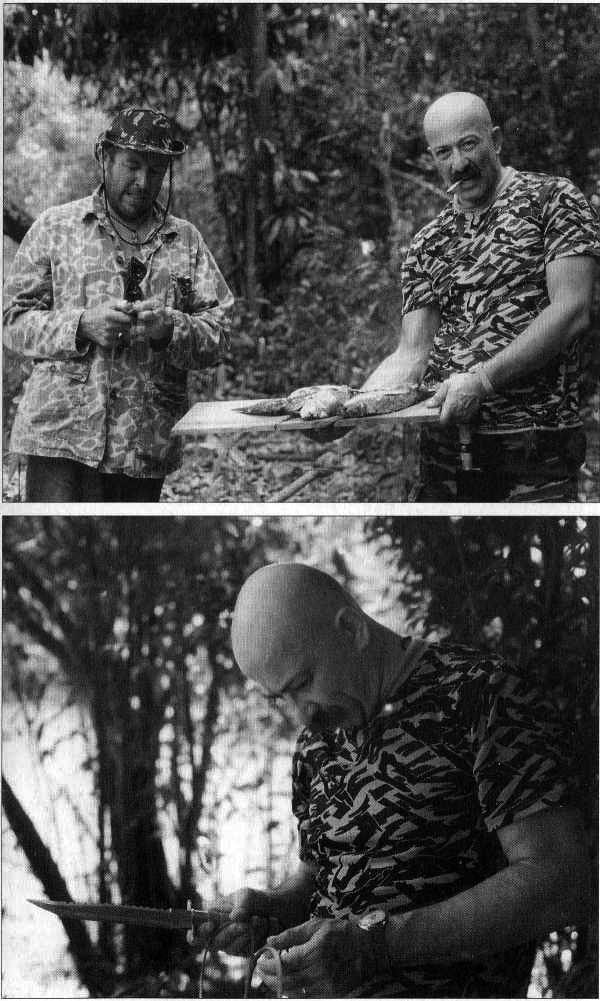
«После путешествия на Амазонку Андрей Макаревич стал для меня настоящим другом». Январь 1999 г.

Когда я писал песни про войну, еще не побывав в Афганистане, то писал переполняемый фантазиями. Помню, как один умник спросил меня: «Что вы про эту войну пишете? Что вы вообще в этом понимаете?» Я смолчал, а потом спросил: «Чем вы сейчас занимаетесь?» Мой собеседник, известный писатель, ответил: «Пишу роман о Древней Руси». «Интересное дело, — говорю, — для меня война раз в пятьсот ближе, чем для вас Древняя Русь. Почему же вы можете писать о Древней Руси, а я о войне — нет?»
В годы моего детства все было пропитано войной. Вся наша жизнь прошла в линейках, в «труба зовет», в «будь-готов — всегда готов!», в рассказах о молодогвардейцах.
Каждый из нас, из послевоенного поколения, примерял эти «роковые сороковые» и на себя. Я, конечно, слышал военные песни Высоцкого, но мои опыты — это вовсе не подражание ему. Если мне что-то и удается, то только потому, что мы оба достаточно начитанные люди, наделенные даром перевоплощения, хорошей фантазией.
Приезд любого человека из нашей страны для солдат и офицеров в Афганистане был праздником. Когда же приезжал артист, это был двойной праздник. Но я, собственно, был не только артистом-гастролером. Выделить меня среди военных можно было только по гитаре. Я не расставался с солдатами ни днем ни ночью. Садился с ними в бронетранспортеры, летал на самолетах и вертолетах. Без всего этого я ничего бы не написал.
Больше всего поразили гробы, которые грузили в самолет — солдаты там называли его «черным тюльпаном». Когда увидел эту картину, стало особенно тяжко. Потом, когда пришел в себя, написал об этом песню.
Кстати, в моем детстве отец мало рассказывал о войне. Я вообще заметил, что люди, хорошо знающие войну, о ней говорят мало, больше и охотнее рассказывают о войне штабисты, тыловики, политработники. А из фронтовиков надо буквально клещами вытаскивать, где, на каком фронте воевал, сколько друзей погибло и как. Обычно вспоминают веселые случаи.
Первый раз на военной песне я прокололся, потому что не видел войну афганскую и не представлял себе, что это совершенно разные войны. Я написал песню «В горах Афгана», когда еще в Афганистане не был. Она получалась — за исключением одной строчки, которая и похоронила для меня всю песню. У меня там такая фраза: «Когда хоронят товарища, равняйтесь на знамя». Это у меня получились полковые похороны сорок третьего года, с политруком. А в Афгане на знамя никто не равнялся… Какие там похороны? В вертолет — и до свидания. Никаких там знамен красных в атаку никто не поднимал.
Это к вопросу о том, что ты можешь, а чего ты не можешь. Великую Отечественную войну мы вполне достоверно знали и могли представить по книгам, рассказам родителей, кино. Но, все равно знаний о Второй мировой войне мне не хватило для фантазии о войне афганской. Потому те две строчки и похоронили всю песню. А вот когда я побывал в Афганистане несколько раз, лишь после этого написал «Черный тюльпан», «Караван» и «Дорога длиною в жизнь»… Это было уже мое ощущение войны.
Песню «В горах Афгана» потом я записал на пластинку. Я не переписываю уже написанное, и переписать в той песне одну строчку не захотелось. Почему — не знаю. Давно это было. Так она для меня и осталась историей.
Почему я поехал в Афганистан?.. Я — мужчина, я — гражданин, и мною двигала не политика… А все те люди, которые кричали: «Какой ты нехороший человек! Зачем ты поехал на эту неправую войну?» — потом извинялись передо мной. Я ведь ехал не на неправую войну — я ехал к людям, к чьим-то детям, которые чужой волей были брошены в Афганистан. И мне было все равно, правая или неправая эта война, — там были наши сыновья. Легче всего было рассуждать об этой «неправости» тем, кто «отмазал» своих сыновей от армии. Но простая тетя Маша не смогла этого сделать, и потому ее сынок по приказу был отправлен туда. И я не имел права лишать этих молодых парней общения. Эти идущие завтра под пули ребята могли рассчитывать на встречу с Александром Розенбаумом точно так же, как и благополучные их сверстники — москвичи, ленинградцы.
Тема Афгана была в то время запретной, о нем еще никто ничего не говорил и тем более не пел. Пленки с моими «афганскими» песнями не пропускали на границе: их отбирали у солдат и офицеров, едущих на Родину в отпуск. Тогда широко проводилась антиалкогольная кампания и стакан с водкой в «Черном тюльпане» принимался как криминал. Не могли понять те чиновники, что песня — это рассказ-помины… И становится больно, когда люди в ресторанах заказывают ансамблю исполнить ее.
А потом под нее танцуют, шуршат накрахмаленной салфеткой за воротником…
Как творческий человек, как мужчина, я хотел проверить себя на войне, посмотреть людей на войне. Потому что война — это наивысшая точка проявления человеческих чувств: радостных, горестных, садистских, всех. Война — это не только стрельба, трупы и все прочее. Это — жизнь. На войне играют свадьбы, на войне женятся, на войне целуются, на войне дни рождения справляют, шутят, смеются.
Ведь Вася Теркин объявился не где-нибудь — на войне. На самой страшной. В самых страшных обстоятельствах всегда находится время и другим чувствам человеческим. Поэтому неверно говорить о войне только как о трагедии, погибели, жути. О войне нужно говорить как о жизни в наивысшем звучании. Все чувства достигают здесь предельного накала, потому что завтра для тебя все может кончиться. Приехав с войны домой, я понял это совершенно четко. В «Караване» у меня есть такие строчки:
Там все ясно — там друг есть и враг,
А здесь же души людей не суметь
Разглядеть сквозь туман.
Мне теперь понятны чувства солдат Второй мировой войны, вернувшихся домой. Мне понятна трагедия вьетнамских ветеранов США. Для меня абсолютно родная трагедия ветеранов афганской войны — там был пик человеческой искренности, но и дерьмо там было как на ладони. Там все видно, все обнаруживается через пару деньков, там вообще ничего не спрятать. Поэтому-то эти люди и хотят на «свою» войну. Из ста процентов («вьетнамцев», «афганцев», кого угодно!) — минимум семьдесят хотят обратно. И не потому, что хотят убивать, — ни в коем случае! Человек не расположен к убийству, если он не моральный урод, не больной психически. Они хотят правды, честности, искренности. Враг — это враг, друг — это друг. И все!
Возвращаться с войны в мирную жизнь очень тяжело. Недаром же на войне год за три мирных считают. Это справедливо. Я бы и за пять считал, потому что парни в двадцать лет приходят с войны стариками.
Когда я вернулся из Афганистана, полгода не хотел ни с кем разговаривать, даже с женой. Беспричинно плакал. Был в глубоком шоке. Работал, писал песни. Тяжело возвращался… Я страдал от мысли, что из большого числа людей, которых я там встретил, многие погибнут… Так оно и вышло.
Возвратившись, я очень многих из них вспоминал… Тосковал по тем отношениям между людьми. Тосковал по тому, что там я не думал об аншлагах, потому что меня там ждали, мне был рад каждый батальонный пес. Я тосковал по ночным посиделкам и пьяным слезам своих товарищей, тосковал по кабульскому небу — бездонно-голубому, по своей спецназовской форме. Мне было совершенно наплевать, во что я одет, потому что знал, что на мне всегда будет один и тот же песок. У меня не было головной боли, в чем сегодня выйти в город, как на меня будут смотреть люди, — мы все там были в одной форме. Хотя я всегда был выглажен, вычищен, потому что девчонки из гостиницы, из медсанбата мне всегда все гладили.
Песни ребят-«афганцев» — это очень откровенные песни, я их люблю слушать. При этом считаю, что как-то неловко проводить всевозможные конкурсы таких песен, вручать за них призы, награды.
К тому же эти конкурсы, как правило, обставляются… танцами. Сам видел, как люди в пятнистой военной форме танцевали гопак. По-моему, это никуда не годится.
Во многом у нас отношение к «афганцам» неправильное, а то и просто бесчеловечное. По приезде домой ребята нередко встречались с равнодушием, порой с откровенной враждебностью. Меня такое отношение к ним возмущает до глубины души. Вы представьте себе, в каком состоянии они возвращались: они искалечены, измучены духовно. В их сознании еще грохочут взрывы, падают залитые кровью товарищи, еще живо страшное напряжение от близости смерти…
Они заслуживают милосердия, заслуживают — каждый! — чтобы мы вникли в их боль. Поверьте, все «афганцы» носят в себе боль. И уже совсем дико то, что инвалидам-«афганцам» предоставляют низкие пособия, то, что на работу их берут неохотно. Почему? Да потому, что, если взял бывшего воина на работу, ему положено дать квартиру. Да, в этой проблеме много такого, что вызывает возмущение. Ребята воспринимают все очень болезненно. Их судьба — это их горе. А между тем я уверен, что мы обязаны каждому «афганцу» за все…
Как-то я беседовал с одним бывшим солдатом — он рвался обратно в Афганистан. Нет, не на войну парень хотел вернуться, а к тем отношениям между людьми, которые сложились там. Там не было рутины, лизоблюдства, взяточничества… Там царила дружба — от товарища по взводу до командира. Идеал командира для меня — генерал-лейтенант Борис Всеволодович Громов.
Афганистан теперь уже стал историей, но раны этой войны еще, к сожалению, долго будут кровоточить. И вечно будет жить наша память о тех погибших, которые не должны были погибнуть…
Война — это трагедия, ужас, бомбежки, кровь… Но война — это и работа, это тяжелый труд. Это планерки, будни, расчет боеприпасов, разведка, отработка данных. Вот в «Черном тюльпане» есть строчка, для многих непонятная: «Пацан подвел потерей роту». Как это он подвел? А просто потери считались, и рота, имевшая наибольшее число потерь, ходила в неуспевающих. Это все рутина, но война — и рутина тоже. У генералов своя рутина, у младших чинов — своя. Когда в этой рутине погибает какой-нибудь разведчик — пошел и подорвался на мине, — то это безумное горе для матери, отца, для жены, для детей. И конечно, горе для командиров. Но это все вписывается в войну. Да, скажут, что это очень страшная точка зрения, но она существует — спросите у любого военного и воевавшего, и они подтвердят, что все так и есть. Война изначально подразумевает жертвы…
По ТВ я смотрю на это с содроганием… А находясь там, на войне, видишь все по-другому. Да и вообще сейчас все понятия смещены. Матери едут в Грозный на войну, чтобы вытаскивать своих детей обратно; лейтенант, профессионал, который подписку дал, что он единожды в жизни обязуется отдать ее, говорит: «Хочу домой, мне эта война что-то не нравится». Он офицер, ему на роду написано рисковать своей жизнью — во имя приказа, а не ради каких-то высоких целей. Я все понимаю, понимаю матерей, которые летят забирать своих детей, — сам отец взрослой дочери.
Но это все проявления больного общества. Это большой отдельный разговор, но в больном обществе и война-то больная — о ней вообще говорить не хочется.
Теперь «пересматривают» итоги Второй мировой войны — куда же мы катимся? Есть же вечные ценности — никакое изменение политического строя не может быть властно над ними. То, что сейчас происходит, — это страшно.
Мне очень часто задавали вопрос: «Значит, теперь в Чечню, выступать перед нашими ребятами?» — «Перед какими нашими? Чеченцы — это наши ребята или нет?»
Не поеду в Чечню. Кишки на проводах я видел — хемингуэевский комплекс у меня давно пропал. Я три раза был в Афгане, и был не просто артистом. Все это я уже видел, мне это неинтересно. Война — это в основе грязь и жуть. Мне видеть это не хочется. Я знаю себя на войне и знаю, что такое война.
Не поеду в Чечню, как не поехал в свое время в Карабах. Потому что в геоэтнографическом смысле я — советский человек. В Карабах я не поехал оттого, что в таком случае должен был бы поехать и в Ереван, и в Баку. А в Чечню не поеду, потому что должен петь и для чеченцев, и для мирного населения Грозного, и для наших ребят, имея в виду федеральные войска. Они для меня такие же, как и чеченцы.
Да, бандиты мне ненавистны в любой форме и без оной. Чеченские, еврейские, белорусские, украинские, французские, алжирские — какие угодно. А что касается Чечни, то вы прекрасно понимаете, что многих чеченцев мы иногда совершенно напрасно называем бандитами… Для них война — это месть, прежде всего. Я пишу сейчас песню, в которой есть такой куплет:
На войне правит месть и отчаяние,
Человек в большинстве своем слаб.
И не все наши военачальники
Объяснят, что такое анклав.
Спросите у тех ребят, за что они воюют? Они воюют за отрезанное ухо своего товарища — и те, и другие. Не за какую-то там высокополитическую идею «анклава» и прочих вещей… В Афганистане было другое дело. Там были чужие люди, чужая страна, и я ехал туда поддержать своих.
Я не вмешиваюсь в политику. И, завершая этот разговор о Чечне, скажу, что не поеду туда, потому что там — все мои братья, мои отцы и дети. И чеченцы, и белорусы… А может быть, ваша сестра замужем за чеченцем. Для меня все люди одинаковы. В Чечню я поеду только ко всем, а не только к нашим ребятам из федеральных войск. Они знают мое мнение на сей счет и в подавляющем их большинстве со мной согласны.
В госпиталь поехать?.. Для этого не надо ездить в Чечню, можно съездить в Моздок, пойти в Военномедицинскую академию или в институт Бурденко.
Туда, где лежат не «ветераны», как говорят, а жертвы этой войны. Больной человек — это совсем другое…
В Таджикистан я не смог не поехать, потому что там — мои люди моей страны. Я не мог не спеть нашим пацанам, охраняющим границу в Таджикистане. И понятия «правости» и «неправости» меня в данном случае не интересуют, хотя про это все прекрасно понимаю. Как и про тех умников, которые вопят о неправости, но при этом не бегут в Государственную Думу и не требуют забрать наших ребят из «горячих точек».
Перед поездкой в Таджикистан я зашел в военкомат своего Приморского района узнать, сколько наших питерцев служит там. Оказалось, девятнадцать пацанов! И я повез им привет от родителей, родного района, от райвоенкомата, пусть даже им на него плевать. И это — мой долг как человека. Я и сам — военнообязанный, вкалывал начальником медслужбы на корабле, и звание «подполковник медицинской службы», мне присвоенное, — не профанация. Состою на учете в военкомате как медик и, не дай Бог, ракетная атака — никаких агитбригад, пойду на «коробку», где мне быть положено.
Но вообще-то армейские дела — это не музыка. И мне не с руки оценивать. Хотя существуют и общепонятные вещи. По-моему, сегодня важно создать костяк из людей, любящих военное дело и подготовленных к нему. И набирать контрактников не так, как это делают, собирая по военкоматам тех, кто остался не у дел. Пусть командир дивизии сам наберет себе офицеров. Ему с ними служить, и он не возьмет тунеядца по блату. Кроме того, профессионалам следует хорошо платить.
Я НИКОГДА НЕ БЫЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОМ
Да, я никогда не был интернационалистом. Вообще, это слово — для меня ругательное. Его придумали нехорошие люди — для того, чтобы оправдать свои противоправные действия по отношению к другим. Людь или нелюдь — вот что для меня существует на этой земле. И все. И я понимаю, почему те же русские люди не прощают, когда еврей кричит на всю Ивановскую, что он — русский. И они, по-моему, тут правы.
Мне задают один и тот же вопрос, постоянно, много лет: «Как это человек с фамилией Розенбаум, никогда не отказывающийся от своей национальности, сумел пробиться в застойные годы?..
Да просто джинн выскочил из бутылки. Когда я только начинал профессионально работать на сцене, мне довелось выступать на сцене ДК имени Дзержинского. Там все решали сами — репертуар подбирался без согласования с Управлением культуры. И мне разрешили спеть на трех концертах по пять песен. Ладно, ответил я, но предупредил, что могут быть неприятности…
Напечатали афиши. Народ дивился: магнитофонные записи моих песен уже ходили по стране, но все думали, что Розенбаум — эмигрант, померший в двадцатые годы не то в Париже, не то в Австралии… А тут — вот он! Такую толпу я видел раньше только в кино. Размолотили двери, выбили окна… Аншлаг!
Мне к тому времени исполнилось уже 33, я уже пять лет отработал врачом «скорой помощи», и мозги были уже не набекрень. Я хоть и обрадовался, что людям мои песни нужны, но к себе-то относился уже трезво… Короче, на следующий день разрешили спеть пятнадцать песен — тут-то джинн и вылетел из бутылочки, обратно его туда не затолкаешь.
Хотя после этого концерта я еще в течение пяти лет пел при «глухой» афише: объявлялись «авторы-исполнители на эстраде», но фамилий не указывали. А публика быстро догадалась: раз афиша «глухая», значит, Розенбаум. Потом все пошло, как у всех: концерты отменяли, меня арестовывали, пластинки не пускали, то ОБХСС, то КГБ… К слову, однажды как раз ленинградские «комитетчики» меня от тюрьмы и спасли — объяснили, где надо, что я не вор и не враг народа…
Почему я не менял фамилию? Не стал, к примеру, Александровым или Яковлевым… Сам сейчас гадаю: а как бы я поступил, если бы тогдашние начальники пообещали мне разрешение на концертную деятельность — в обмен на смену фамилии? Не знаю… Не уверен, что там же плюнул бы им в лицо и ушел бы. И гордо замолчал бы… А кому такая гордость нужна? Нет, не знаю, как бы себя повел. Но и предложения такого не поступало. А может быть, и согласился бы: какой ты певец, если молчишь? Да, не очень благородно, киньте в меня камнем…
Вообще-то об антисемитизме я знал, но на себе его не ощущал — ни в школе, ни во дворе. А в детстве я был абсолютно дворовым, там у нас нравы были простые. А если и были какие-то единичные случаи, если я слышал в свой адрес «жидовская морда», то в морду же и бил. Дрался, кстати, я неплохо, все-таки уже был кандидат в мастера спорта по боксу…
А потом вдруг еврей Розенбаум стал еще и казаком, причем казаком из Кубанской первой сотни. Меня туда не партия и правительство назначило, меня туда, в свои ряды, приняли простые люди. Чем и горжусь. А если мои песни — про казаков или про евреев — рождают отклик у эстонской или русской, у таджикской или американской публики, то потому, что я никогда не был выкрестом, не отказывался от своей еврейской крови.
Самое страшное в жизни — это предательство. И еще зависть. Но они взаимосвязаны. Я не предавал ни своей национальности, ни своей Родины. Примечательно, что как раз эмигранты меня и не очень жалуют — хоть в Штатах, хоть в Израиле… Хотя те же мои соплеменники, по-моему, должны мне памятник поставить — за то, что меня казахи любят. Потому что и благодаря мне они дышат чуть свободнее, чем могли бы без розенбаумовских песен. И казах, и русский, и литовец, и украинец видят, что я — нормальный еврей. Такой же, как он — нормальный казах, нормальный русский, литовец, украинец… То есть человек.
Ненавижу тех, кто берет псевдонимы и кричит, например: «Я русский!» — будучи, допустим, евреем. Другое дело, что я говорю: «Я — российский еврей…» Что скажет народ, возьми я, например, фамилию Розов, Яковлев или Александров? Выкрестов не любят нигде.
Если бы я родился в Грузии, я бы писал «Сулико» — и был бы грузинским евреем, а родившись в Молдавии, писал бы для ансамбля «Жок» — и был бы молдавским евреем. Но я — абсолютно российский человек еврейской национальности. Я не целовал землю в тель-авивском аэропорту Бен-Гурион — не на ней я родился, — но у Стены плача сердце вздрогнуло… И все же я пошел бы защищать Израиль, эту страну моих далеких предков. Как помню и то, что приносил присягу, как военнообязанный, на верность СССР.
Там, на Земле обетованной, меня спросили, воевал бы я за свободу Израиля с автоматом Калашникова или с «узи»? Но это спрашивал, наверное, какой-то опупевший от дешевой пропаганды человек, к тому же не слишком грамотный в военном деле. И я — майор медицинской службы в запасе — ответил, что «узи» хорош только в ближнем бою, а на дистанции против Калашникова — палка. Так нет же, им нужно, чтобы я в любом бою работал с «узи», пусть бы погиб из-за него, никакой пользы не принеся, но зато как верный патриот… Я не таков. И вот что интересно: мою песню «Черный тюльпан» из времен афганской войны нормальные люди везде слушают, затаив дыхание. Потому что народ — он везде народ: его на дешевке не проведешь. Может, оттого и с фамилией у меня — вот так?
Кстати: мне смешно, когда антисемиты все наши российские беды сваливают на еврейские головы:
Сейчас во всем винят жидомассонов.
О Господи, какая ерунда!
Сто человек надули миллионы?
Так что же за народ вы, господа?
Звезду Давида ношу на груди. Это связано с тем, что я — еврей. Это не кич, а дань уважения народу и символ принадлежности к моим родителям. Не понимаю, когда евреи надевают на себя кресты, а русские — звезду Давида или полумесяц. Хотите носить — носите на груди. Я так и делаю. Просто когда рубашка расстегнута, выглядит как будто напоказ. А вообще-то, это все не суть важно.
И Христос, и Будда, и Аллах проповедуют схожие истины: не убивай, не насилуй, не грабь… Я верую в заповеди, которые писаны давным-давно. И прежде всего я верую во всепобеждающую силу добра. Добро в любом случае победит, как и правда всегда победит ложь. Я верю в это. И пусть никто не надеется на то, что сделанное ими зло к нему не вернется впоследствии. Вернется! Я в этом убежден.
Я всегда подчеркиваю, что национального деления для меня, например, не существует. Есть люди и нелюди — больше ничего. Поэтому я жертвую деньги как в синагоги, так и в православные храмы, и в мечети. Я уважаю любую религию и с пониманием отношусь к людям всех вероисповеданий.
Для меня вера, религия и церковь — три совершенно разные вещи. Я верующий человек, но очень скептически отношусь к церкви, к любой, вернее, к священнослужителям. Кроме разве что монахов, иноков, отшельников, потому что ко всем остальным, да простят меня ребята, веры у меня не очень много. И в нашей стране, да и в других тоже. Раввины в Израиле застигнуты на поедании свинины, наши церковнослужители бьются за приходы, то есть за деньги, и так далее. Все это церковь, а религия — это совсем другое. И к любой религии, будь то ислам, иудаизм, христианство, католицизм и тому подобное, я отношусь с глубочайшим уважением.
Религия входит в тебя либо с молоком матери, либо к ней можно идти долгие-долгие годы, и совершенно не обязательно, чтобы еврей стал иудаистом, совершенно не обязательно, чтобы христианин стал православным… Я знаю в Иерусалиме целую деревню русских людей, которые двести лет исповедуют иудаизм. Я, например, к этому еще не пришел, но я, абсолютно чистый иудей, склоняюсь к христианству: тянет. Иудаизм для меня — совершенно чуждая религия, а христианство мне ближе: я вырос на этой земле, я впитал ее в себя. Но я никогда не говорю, что я — русский. Ненавижу, когда грузин или татарин говорит: «Я вырос на русской земле и считаю себя русским». Не надо себя считать. Ты — еврей, ты — татарин, ты — грузин…
На концертах я не устаю повторять о том, что песня «Долгая дорога лета», посвященная евреям, жертвам гитлеровского геноцида, — предупреждение всем тем, у кого еще осталась в голове какая-то националистическая мысль. Пусть помнят, что в мире, устроенном на основе таких мыслей, они сами могут оказаться в этой колонне, идущей из гетто на расстрел, если кому-то не понравится их национальное происхождение.
Еврейскую музыку я начал писать совсем недавно, потому что только недавно начал слушать ее. Те мои песенки как бы из еврейского быта — лишь стилизации, подлинно еврейского там не так уж и много. Хотя и их люблю, считаю своей удачей. Даром что написал их в двадцать один год, мальчишкой. Бог, что ли, водил тогда моей рукой? Или ангел стоял за спиной?.. Но я с моим музучилищным образованием только теперь стал понимать, что «Семь сорок» или «Хава нагила» — не еврейская музыка. Настоящая же еврейская музыка — это сложно: это синагогальная, канторальная музыка. Чтобы ее сочинять, надо сначала многому научиться.
Я сегодня впервые чувствую себя Рахманиновым, Шаляпиным и в чем-то даже Алексеем Максимовичем Горьким — конечно же, не благодаря писательскому дару и музыкальным способностям. Просто теперь я лучше понимаю, почему им однажды до боли сердечной надоело жить в этой стране. Мне грех жаловаться: я не бедствую, как многие вокруг, но я устал смотреть на наш народ, который продолжает выбирать горлопанов и слушать тех, кому на народ плевать. Им нужна власть любой ценой — даже если ради этого надо вытащить на свет старый жупел…
На моей памяти не было такой оголтелой кампании против какой-то отдельно взятой национальности, как это было во времена «дела врачей». Тогда
мой папа вынужден был уехать со своим красным дипломом в Восточно-Казахстанскую область. На себе я никогда не ощущал открытого антисемитизма как государственной политики. Да, прижимали меня, афишу с моей фамилией не печатали… Но сегодняшнее положение иначе как кампанией не назовешь — от плакатов с призывами: «Выключить тель-авидение» до гнусных высказываний депутата Макашова про «хороших евреев» и «плохих жидов».
Это, увы, слишком характерно не только для генералитета, но и является позорным атавизмом российского сознания в целом.
Все это напоминает скверный анекдот про «хорошего негра». С этой терминологией пора покончить раз и навсегда. Почему, когда во Франции Ле Пэн только лишь заикнулся о том, что «газовые камеры — это эпизод из жизни», как туг же вылетел из Страсбурга, получил «на полную катушку» от собственного парламента и от немцев! Потому что мимо такой фразы пройти невозможно в цивилизованной стране. А генерал Макашов предлагает возвести в ранг государственной политики деление «на чистых и не чистых», всерьез говорит о «квотировании»… Интересно, каким образом он собирается это делать и кто ему поможет в этом — не сам ли Иисус Христос?
Я не прошу, чтобы меня, еврея, любили — как, впрочем, нормальный русский не просит, чтобы любили его. Он — русский, и все тут. Но я хочу, чтобы государство на деле защищало в равной степени права всех наций. А так мне хочется спросить, чем москаль Макашов лучше жида Розенбаума? И вообще, кто он — хороший русский или плохой москаль? И кому в Киеве он доверит это определить? Я не призываю сажать Макашова в тюрьму, но Государственная Дума, парламент страны, должна была резко отреагировать на выступление своего товарища по палате и закрыть этот вопрос навсегда, а не затыкать рот депутату Кобзону: мол, этого нет в повестке. Думе нужно было незамедлительно заявить свою официальную позицию. Личную позицию можешь дома сублимировать как тебе угодно: купи портрет еврея Розенбаума и пали в него из духового ружья. А на людях бранить — права не имеешь, если называешь свою страну демократической.
А наша независимая пресса? Ни одна газета, когда Макашов в первый раз рот открыл, не напечатала об этом крупными буквами. Телевидение только тогда, когда в верхах дали отмашку, впало в заказную истерику. И это настолько распалило общественное мнение, разведя его по полюсам, настолько заострило национальный вопрос, что у еврейского населения автоматически включилась генная память и оно всерьез стало опасаться новой волны погромов. А где же вы были раньше, злые вы наши Доренко с Киселевым? Ведь у вас два хозяина-еврея — Гусинский с Березовским. Что же вы за них сразу-то не вступились? Беда не в отдельно взятом Макашове (больные люди есть везде), беда в том, что сегодня наш социум тяжело болен и нуждается в скорой неотложной помощи. Это я как врач говорю.
Что происходит со страной, которая наплевала в лицо не только своему народу, но и всему миру, отказавшись платить по счетам? Когда летом 1998 года «обвалился» наш экономический курс, я был в Лос-Анджелесе и каждый день сгорал от стыда, общаясь с американцами. Однажды в универсаме две бабушки, заслышав русскую речь, сказали одна другой: «Может, и милые люди эти русские, но все-таки они такие негодяи!»
И все это по вине кучки людей, занятых обслуживанием здоровья президента. Как будто в стране больше заняться нечем?! Да, это плохо — иметь больного президента, но, когда я слышу этого осатанелого Илюхина, который, добиваясь импичмента, изъясняется как последний жлоб, мне хочется защищать президента, хотя я, может быть, отношусь к нему хуже, чем сам Илюхин.
Каждый человек имеет право жить там, где он хочет. Это прекрасно, что сейчас люди получили возможность свободно выезжать. Но я живу здесь и никуда уезжать не хочу. Я езжу везде, но всегда возвращаюсь домой. А тем, кто доведен до отчаяния, скажу: «Стоит немного побороться со своими чувствами. Там мы все равно чужие».
Меня никто не гонит из моей страны, но мне надоело каждый день слышать ложь, видеть этих ублюдков, которые готовы перегрызть друг другу глотку, чтобы скорее сесть в высокое кресло и урвать еще кусок от хозяйского пирога. Мне надоело смотреть на народ, который вместо того, чтобы отозвать бесполезного депутата, садится на рельсы. Я могу понять крайнюю степень их безысходности, но, между прочим, по этим рельсам везут топливо и медикаменты, едут люди по делам или в законный отпуск. А шахтеры, которые за профсоюзные деньги бацали о мостовую касками? Чем они-то лучше других бюджетников — врачей, учителей, журналистов нецентральных изданий?..
Повторяю: я в этой стране сыт, обут, одет и почитаем. Но нет сил больше жить в полном незнании, что же будет завтра. Сейчас законы пишут малообразованные люди. Прежние хоть Маркса с Энгельсом читали, знали Гегеля, Фурье и Оуэна. А нынешние и фамилий-то таких вряд ли слышали. Махровым цветом процветает великорусский шовинизм. Меня недавно в очередной раз спросили, что я думаю о возрождении России. И я ответил: «Россия возродится тогда, когда все мы признаем, что «Спартак» — очень средняя команда». А пока мы проигрываем всем подряд, но при этом кричим, что наш футбол — лучший в мире, а поражение — только несчастный случай.
Могу сказать: если наш народ не избавится от зависти, ничего хорошего не будет. На нашей земле поговорку «Ешь — потей, работай — мерзни» придумал не я. И поговорка «Пусть моя корова сдохнет, лишь бы твоя не отелилась» — тоже российская. «Красного петуха» барину подкладывали при Ярославе Мудром, Малюте Скуратове, Николае Палкине, Владимире Ульянове, а при Иосифе Джугашвили действовали путем доносов: «Вот он купил себе приемник, а я нет». И сегодня это будет, и завтра, и послезавтра.
А знаете, как там у «них»? У Джона есть «Мерседес», у Билла только «Фольксваген». Если и Билл захочет «Мерседес», то его психология такова: «Что я должен для этого сделать? Еще больше работать!» А как у нас? У Васьки — «Волга», у Петьки — «Запорожец». Петька завидует: «А хрен с ним, что у меня «Запорожец», лишь бы у него «Волга» сгорела!» Пока это существует в наших генах, никакие политические реформы ни к чему не приведут. И никакая система, никакой президент ничего тут не поделают.
Что пишет человек, только что научившийся писать? Нормальный человек, научившись писать, напишет на доске: «Я люблю маму» или то, что давно хотел написать, но не умел: «Петька — дурак», или «Леночка, я тебя люблю», или «Я люблю свою собаку».
А что писали мы в детстве? «Мы не рабы, рабы не мы». Не рабу это и в голову не придет писать. Свободному человеку не придет в голову кричать на весь мир, что он — не раб. Только раб может написать «Мы — не рабы»…
Нам нужно гены наши переделывать, иначе ничего не выйдет. Вот ведь на каких сказках мы воспитаны? Два старших брата корячатся: один — в поле, другой — в лесу. Они — полные болваны! А Иванушка-дурак берет стрелу, натягивает тетиву — и получает царевну-лягушку и богатство. Или Емеля, устав от сидения на печи и безделья, вытаскивает вдруг щуку, которая исполняет все желания.
Для того чтобы с нашими малолетками было все нормально, надо забыть некоторые русские народные сказки. И поговорки. И объяснить детям, что Золушка до того, как примерила туфельку, перемыла горы посуды и перестирала тонны белья. А у нас тунеядец, дурак всегда на халяву счастье себе берет. И поэтому Леня Голубков, на рекламу которого три четверти населения попалось, национальный герой был. Как все просто: можно закопать четыре рубля в поле чудес в Стране дураков, вырастет двадцать. Никто не хочет вдуматься, что такие проценты, которые нам обещали эти общества, дает торговля либо наркотой, либо — оружием. На Западе если ты сегодня обещаешь больше семи процентов годовых, завтра к тебе в контору придет ФБР. А у нас вся страна захотела хватануть по 30, 40, 50 процентов. А потом все это лопалось. Значит, у нас можно безнаказанно жулить? Где Мавроди? Где они все? Они не сидят — они откупятся. Когда убили Листьева, я через полторы секунды сказал: «Ну, ребята, это бабки…» Другой причины нет. Кому он был нужен, наш корреспондент, хороший парень? Дай Бог ему вечной памяти и спокойной земли. Вы «бабки» ищите.
Или вижу по телевизору здоровенного бомжа, который заявляет: «Имею я право на милостыню?» Наш человек рождается с тем, что имеет право не на труд — на милостыню.
Он хочет ни черта не делать и хочет при этом пользоваться благами, как Ротшильд. Но как же так — ничего не делать, только воровать?! И при этом, как в «Собачьем сердце» у Булгакова, «все поделить»! А праздник находит где угодно! С первого по десятое мая ничего не делать! Десять дней подряд праздники празднуют. Правильно Михаил Задорнов сказал: «Новый год, Рождество православное, Рождество католическое…» Мало того что просто Новый год, так еще «Старый Новый год!» Одного мало! Может быть, еще «Старое седьмое ноября»?.. Уму непостижимо!
Это уникальный народ. И я его люблю. И всем говорю, что я, еврей, русее миллионов русских.
Как мы жили прежде? Получали свое, дарованное государством: получали по сто двадцать рэ в месяц, грели свои телеса на одном и том же пляже в Сочи — один человек на полквадратных метра… Неужели вы не хотите, чтобы ваши дети ездили отдыхать в Грецию или туда, куда им захочется? Чтоб ехали куда хотели, чтобы слушали что хотели? Неужели вы хотите опять в лагерь? За железный занавес? Ходить в голубых панталонах с начесом? Вы не хотите слушать Хосе Каррераса и Пласидо Доминго?
Вы не хотите ходить на концерт «Битлз» или на Алисию Алонсо? Вы хотите в лагерь, где всем дают на завтрак перловку, на обед картошку, на ужин — селедку и не надо думать о том, где их покупать? Вы хотите в лагерь?
Если вы хотите в лагерь, значит, вы — рабы.
А я хочу быть свободным. Стремиться обратно — никогда в жизни! Но свое, духовное должно быть при нас. Для нас знаменем страны был красный флаг.
Помню, в детстве у меня была книжка-раскладушка со всеми флагами мира, и там я первым делом отыскивал наш. Или шел на демонстрацию, в одной руке — раскидайчик на резиночке, в другой — красный флажок. Мы гордились, когда в честь победы нашей сборной по хоккею поднималось красное полотнище, — и все вставали. И в этом смысле «не было лучшего флага».
Остается только одно: любить эту страну, которая является родиной, и играть в ее игры с придуманными нами же самими законами. Мы никогда не будем Америкой, Францией, Германией, Японией. И было бы глупо стремиться быть тридцать восьмой Америкой, тридцать девятой Японией. Как говорится в одном моем стихотворении:
Читаю Бернса и слушаю Россини.
Искусство дешево, но дорогого стоит.
Сейчас все заняты спасением России.
Оставим, может, матушку в покое?
Она сама с себя снимала камень,
Ей лишь бы горлопаны не мешали.
Победа, господа, будет за нами,
Как говорил родной товарищ Сталин.
За выродка не отвечать родне,
Гнилое яблоко не портит урожая,
Так пусть нам женщины еще детей рожают.
Там разберемся, прав я или нет.
Для меня самое важное — уверенность, что я защищен государством, что мне не лгут, не считают за дурака и что меня уважают. Государство не должно быть вражьим по отношению к своим гражданам. А что у нас даже в мелочах? Захожу в аэропорт — из двадцати двух дверей открыта даже не одна, а только половинка, чтобы двести человек в нее лезли. Я никогда не стану спокойным и уверенным, если буду вынужден проходить через половинчатую дверь.
Ну разве сегодня можно так жить в большом мире? Великая страна — это та страна, которая уважает свой многонациональный народ. А великий народ — тот, кто уважает законы страны, которая его уважает. Территория и население у нас и правда — великие, а вот остальные величины — так себе, ниже среднего. Коммунисты обманывали нас, прикрываясь идеей. Нынешние обманывают, не прикрываясь ничем. Из Анатолия Собчака сделали чудовище. Да Собчак — октябренок по сравнению с любым московским чиновником! Они его притягивают к суду за однокомнатную квартиру для племянницы, а у самих особняки в Подмосковье, которые стоят столько, что надо десять жизней работать на чиновничьей зарплате.
Что же делать? Уехать — самый примитивный выход. Идти во власть, чтобы все переменить, — нет команды. Да и тошнит меня от предвыборных кампаний. Постараюсь делать, что могу, на своем месте — изменять эту жизнь потихоньку. Хочу при жизни увидеть результаты собственного труда. Сегодня же я не узнаю народ, для которого пел столько лет.
Всю жизнь мне казалось, что он меня понимает, разделяет мою боль и любовь. Сегодня я в этом уже не уверен.
Но мне приятна благодарность людей за то, что я живу здесь. Я — российский человек, моя земля — Россия, и никакой другой быть не может. Хотя теперь я очень хорошо понимаю Стравинского, Рахманинова, Бунина, Шаляпина, бесконечно русских и бесконечно честных людей, которые любили свою землю не меньше нас с вами. Но когда народ выбирает такую жизнь, которую ему предлагают различные политические деятели сомнительного толка…
Я не понимаю людей из далеких стран, ратующих за обустройство России, но я понимаю тех, кто не захотел жить в сумасшедшем доме.
И все же я, наверное, не уеду никогда. Помирать собираюсь на ленинградской земле.
Я родился здесь, в северном городе, жил в приличной атмосфере. Пацаны, девчонки — никого из нас не волновало, кто татарин, кто русский, кто узбек. Но в каждом народе есть свои, скажем так, «национал-патриоты», которые ничего, кроме ублюдков, собой не представляют.
Некоторые пеняют мне: «Как это ты можешь говорить, что хорошо относишься к «Памяти»?!» Да не к «Памяти» я хорошо отношусь, вернее, не к ее выразителям национал-патриотических идей, а к тем, кто, будучи членом «Памяти», хочет русскому народу вернуть исконно русские вещи. Я точно так же пойду с «Памятью» восстанавливать русские православные храмы, как с мусульманином — мечети, с евреями — синагоги. Я говорю это к тому, что есть разные люди. Есть, например, Сычев. Тогда при чем здесь русский народ, какие-то его ценности? При чем здесь жидомасоны или сионисты?
Надо хотя бы знать, что такое сионизм, который долгое время преподносили у нас как фашизм. А это лишь стремление объединить евреев в одно государство. И что же в этом плохого? А кричать о жидомасонстве, что, дескать, евреи пьют кровь русских младенцев, так об этом может кричать только ублюдок. Причем свои ублюдки есть и у евреев, и у татар, и у якутов — у всех. Кричат, что народ Якутии требует суверенитета, когда там живут и русские, и якуты. И в большинстве своем это люди нормальные?
Я также не согласен, когда бываю, допустим, в Израиле (хотя понимаю, что и там огромный клубок проблем), с теми, кто оправдывает изгнание палестинцев с земли, на которой жили их прапрапрадеды. А как могут литовцы требовать, чтобы русские люди, родившиеся и выросшие там, убирались из Литвы? Разве нормальные люди могут этого требовать? Я ненавижу Ленина и Дзержинского, так же как Троцкого и Свердлова. И мне стыдно, что последние — евреи. Но они и им подобные — еще не весь народ. А сколько евреев помогало «белому движению» из-за границы? А многие ли знают, что полштаба батьки Махно было еврейским?.. Вот почему подводить все эти дела к национальному знаменателю — глупо, если не сказать больше.
И жаль, что к нелюдям, которые играют на этом, прислушивается так много людей.
Когда мне скучно, я в Питере развлекаюсь так — подъезжаю к месту, где у нас всегда торгуют газетой «Завтра» (в прошлом «День»). Естественно, меня все узнают. Подхожу к какому-нибудь борцу за идею освобождения России и говорю: «Ну, что тут о нас пишут? Сколько литров крови невинных младенцев мы выпили на этот раз?» Они не знают, куда деваться: ведь я же автор казачьих песен, меня уважают! Я скупаю все их газеты и смеюсь всласть…
Как общество «Память» ко мне относится, я понятия не имею. Думаю, по-разному, потому что в «Памяти» люди разные — есть и экстремисты, есть и действительно искренние патриоты, которые хотят хранить традиции русского народа. Если это общество, хранящее традиции народа, то я запишусь в него первый, потому что знаю традиции этого народа не хуже, а даже, уверен, лучше, чем гражданин Васильев. Но если это общество националистически-шовинистическое, то я первый пойду против этого общества.
Я за плюрализм и демократию, за свободу совести и вероисповедания. Но есть такие вещи, за которые государство все-таки должно наказывать: такие, как пропаганда национальной розни, как пропаганда насилия. А вместе это уже фашизм, это наказуемые вещи.
Я выключаю телевизор на болтовне. Газеты читаю — «Комсомолку», «Известия», «Аргументы и факты». Хотя и они иногда перебарщивают с демократией. Надо бы к ним пару правых человек посадить, чтобы они не были такими чересчур левыми. В общем, стараюсь по-центристски… с этаким левым уклоном смотреть на происходящее, хотя в определенных ситуациях, бывает, превращаюсь из левого в правого. Но — с левыми задатками… А еще я сегодня сторонник сильной руки… Так что в курсе событий стараюсь быть, потому что если я живу в этой стране, то должен знать, чем она дышит. А как же иначе?
ПЕРВЫЙ ШАГ ЗА ЧЕРТУ
Первый шаг на заграничную территорию был крайне интересным. Хотя, строго говоря, первым шагом был Афганистан, но то была не «заграничная территория» — я ехал на войну, к своим. После Афганистана, это был 1986 год, у меня раздался звонок: «Здравствуйте, с вами говорят из Общества дружбы… Мы хотели бы вас пригласить на Дни Ленинграда в Гамбург, в Федеративную Республику Германии…»
Я повесил трубку, потому что до этого я не был ни в Болгарии, ни в Польше — обязательных «проверочных» странах. Какая уж тут Германия?.. Что за шутки глупые? В 1986 году меня достаточно сильно душили, я считался неблагонадежным гражданином — и вдруг сразу в ФРГ, без Польши, без Болгарии, без Монголии…
Мне перезвонили и попросили: «Не вешайте трубку, мы серьезно». Я понял, что это серьезно, пришел в Общество дружбы… И неожиданно для самого себя выехал.
Почему я так легко туда отправился? Думаю, властям надо было показать, что у нас перестройка, что у нас жизнь меняется и даже таких исполнителей, как Розенбаум, теперь тоже выпускают за границу.
В делегации были депутаты Верховного Совета, другие представители властных структур, ученые мужи. Я оказался один такой живой. В ФРГ капиталистическая система меня сразила именно тем, чем я и ожидал. Во мне очень сильно развито чувство собственного достоинства, конкретно чувство достоинства гражданина своей страны. Чувство это настоящее, а не ура-патриотическое и никакое другое.
За границей наши деятели, сейчас я уже могу об этом сказать, проявляются очень интересно. Мне рассказывали, как один такой гулял по Таиланду, водили его по гротам с вырезанными из скалы Буддами, которым уже по две тысячи лет. Ходил там этот наш деятель, ходил, смотрел, смотрел, и единственной фразой, которой он отреагировал на окружающее его великолепие, была: «О, жить умели!» Его не интересовало, как, какими трудами это было выбито в скале, не интересовало, что это произведение искусства. Он отреагировал только этим: «Вот это жизнь!..»
Членам нашей делегации выдали на две недели примерно по сто двадцать марок — это очень маленькие деньги. Помню, как нам предложили на выбор — обедать в гостинице или получить «обеденные» суммы деньгами. Конечно, все выбрали деньгами: всего получилось по сто шестьдесят — сто семьдесят марок.
На следующий день две трети группы купили себе по «Шарпу», чтобы оправдать поездку. Купить себе «Шарп» и потом его в Ленинграде выгодно продать — покрыть затраты да еще и заработать чуток: «Не впустую съездил…»
Я, вместо того чтобы покупать себе «Шарп», тратил все деньги на пиво и на буклеты о городах. Купил, конечно, какие-то маленькие подарки близким, но не «Шарпы»…
Было очень смешно наблюдать, как депутат Верховного Совета вместе с членом ЦК справляли нужду в общественном туалете. Там есть такие будочки на улице — заходишь, закрываешь дверь, делаешь свое дело, а потом, чтобы выйти, нужно бросить одну марку. Так вот один из наших палец в двери держал, чтобы не захлопнулась, а второй там писал. Потом они поменялись местами. Сэкономили по марке. Вот это, пожалуй, и стало самым ярким впечатлением о моей первой поездке за рубеж.
Я был готов к тому, что я увидел в Гамбурге. Я не скулил у витрин (никогда этого не делал и не делаю), хотя мне все в этих витринах безумно нравилось.
Меня всегда интересуют более глубинные вещи.
Меня больше интересовали лица людей, которые ходят по улицам «западного мира», нежели то, в чем они ходят. Хотя и это тоже очень интересно, но это, как говорится, прикладная точка зрения, а меня занимала духовная.
Ну а потом было очень много поездок по разным странам…
В Чили я поехал по двум причинам. Во-первых, к тому времени исколесил весь мир, а в Южной Америке ни разу не был. Во-вторых, представилась возможность увидеть и пообщаться с моим любимым «сказочным героем» доном Аугусто Пиночетом.
По ходу дела я познакомился и подружился с послом России в Чили Василием Громовым, чья жена, кстати, ленинградка. У него большие связи в Южной Америке, и это он предложил мне совершить гастрольный тур по Чили, Аргентине, Уругваю. Посол вообще стремился установить мост «Сантьяго — Санкт-Петербург», мечтал, чтобы наши города стали побратимами, и предложил все это начать с моих гастролей.
Чили — превосходная страна, страна крепкого среднего класса. При первом знакомстве с Сантьяго бросается в глаза, что там много карабинеров. Но вскоре понимаешь, что они вышколены, «вычищены», ни к кому не пристают. И невольно возникает ощущение, что за ними ты как за каменной стеной. Меня это устраивает: если наши «омоновцы» каждую машину будут «трясти» ночью, но делать это вежливо, честно, без хамства, без намеков на вымогательство, то я за такое отношение.
В глаза бросилось и безумное количество целующихся. Больше, чем в Париже! Сантьяго — чистый город, аккуратный. Таковы и окраины, таковы и фермерские хозяйства. Все это сделал дон Аугусто Пиночет. Когда мы въехали в Сантьяго, то проезжали район типа наших «хрущевок», построенных при Альенде. А дальше пошли такие же дома по этажности, по размерам, но из кирпича, построенные при Пиночете. Если бы Альенде поправил страной подольше, это была бы сегодняшняя Куба. А так люди ходят довольные, красивые, счастливые…
Нам рассказали, сколько людей погибло при событиях осени 1973 года. Жертвы были, но стреляли в тех, кто был обнаружен с оружием в руках и сопротивлялся Пиночету. Конечно, под горячую руку попали невиновные — как в любой стране. У нас у Белого дома под горячую руку тоже попали люди…
Народ Чили в большинстве своем относится к генералу уважительно. Он первый открыто пошел против коммунизма. И даже внешне генерал Пиночет чрезвычайно приятен, четко мыслит, контролирует ситуацию. Вообще, он напоминал мне этакого старого голенастого бойцового петуха. На наше приглашение приехать в Россию дипломатично ответил пространными рассуждениями о церкви, подарил фотографии.
Мы хотели пригласить дона Аугусто в Ленинград, это не получилось. Я имел возможность, как творческий человек, окунуться в историю переворота. Нормально, объективно оценить все, что сделал генерал Аугусто Пиночет для Чили. А сделал он невозможное. Он вернул свою страну в правильную жизнь.
За что ему Чили очень благодарна.
Я рад, что не ошибся в Пиночете. Сколько писали: сатрап, диктатор и прочее… А мне он давно казался сказочным героем, еще до развала коммунизма.
Певец Виктор Хара? Это обычный уличный музыкант, попавший под «молотки», вполне вероятно, случайно погибший. Такое опять же может случиться в любой стране. У нашего Белого дома тоже крутилось множество музыкантов и с ними все могло случиться.
И если вдруг с кем-нибудь из наших ребят произошла бы трагедия — это был бы символ! Ведь тогда любого могли бы подстрелить, а дальше — дали бы посмертно орден, воспели, вознесли, разнесли бы весть по всему миру…
Для меня знакомство с любой страной — это еще и познание ее музыкальной культуры. В Чили я убедился в том, что мы вообще не знаем латиноамериканской музыки. То, что считаем латино, — это продукт американизированной культуры. Боже мой, какая там музыка — умопомрачительная! Оказывается, замба и самба — это совершенно разные вещи! Самба — в Бразилии, замба — в Аргентине. Сумасшедшая музыка! В латиноамериканских странах много индейцев, а их музыка — это вообще какой-то рок-н-ролл. Это вам не Боб Марли со своими раскачивающимися в такт жопастыми девчонками, это не Эстебан с абсолютно американизированными песнями.
Я поехал в Чили без гитары, знал, что там куплю инструмент. И купил бразильскую гитару. Теперь общаюсь с ней, слушаю записи, вспоминаю нашу поездку и, кто знает, может быть, напишу что-нибудь в стиле подлинного латино.
Самое приятное во всех моих заграничных вояжах — это чувство полной защищенности человека от произвола государства. Я долго думал об этом, и только сейчас, в последние два-три года, мне это открылось по-настоящему — почему же я хотел бы там жить? Почему же, как говорил так же сетующий классик, «угораздило меня родиться в России, да еще с умом и талантом»?.. Почему?
Да не потому, что там денег много и витрины ломятся от продуктов и модных шмоток. А потому что там чувствуешь себя абсолютно спокойным, уверенным в завтрашнем дне человеком. Правда, если ты хочешь работать, если у тебя есть руки ноги, голова. Если у тебя есть работа, то ты точно знаешь, что тебе все будет удаваться так, как должно быть. Знаешь, что если тебя не увольняют с работы, если ты хочешь трудиться, то ты всегда будешь сыт, одет, обут, что ты защищен от многого такого, о чем мы и думать не можем.
Там в этом и многом другом есть глубинный смысл: если, к примеру, муж-пьяница мешает нормально жить жене, то суд делает так, что этот самый муж-пьяница не может к ней подойти ближе чем на двести метров. Мелочь, а приятно.
Когда наш советский мир кричит: «Ах, какая смешная и позорная страна Америка: рассматривают сперму на платье у Моники Левински! Делать им больше нечего!», то с одной стороны, это действительно непонятно и неприятно. Но с другой, если знать это общество, чувствовать его, то понимаешь, что они в очередной раз доказывают, что могут притянуть за проступки даже президента. И себе и миру сказать, что президент такой же человек, как и все. Мы, может, и его простим за это, но мы знаем и доказываем, что у нас любой человек отвечает по нашим законам одинаково, а не просто копаемся в грязном белье. Просто в очередной раз Америка показала самой себе и всему миру, что у них жизнь государственного человека подотчетна, и она, эта жизнь, на виду.
У нас же люди у власти воруют, убивают и никто за это никогда не несет никакой ответственности.
Поэтому для меня Запад — это не хлебное место, для меня это прежде всего — место морального отдыха. Я никогда не ездил и не езжу на Запад для того, чтобы покупать себе какие-то особые штаны или что-то еще. Конечно, я куплю в Париже хорошие штаны, но если в Ростове-на-Дону будут хорошие брюки, то я их куплю и там. Для меня не это имеет значение, поскольку я езжу на Запад не одеваться, а потому что я получаю там заряд радости за тех людей, которые там чувствуют себя нормально.
Когда недавно я был на гастролях по Прибалтике, то постоянно писал в гостевых книгах: «Да здравствует ваша гостиница и независимость Эстонии!» И я искренне рад за эстонцев, литовцев и латышей, которые сбросили ярмо русского имперского мышления, которое тянуло их назад. Сейчас, как только мы отпустили свою руку на их шее, они ушли от нас уже на тридцать лет вперед, туда, где они и были, где должны были быть.
Про нас еще двести лет назад было сказано: «Воруют». Пьют, поджигают барина, воруют и завидуют.
И сейчас ничего не изменилось. Завидуют богатой Америке и при этом говорят: «Американцы — таки тупые!» Я много раз это слышал.
Конечно, тупые. Они совершенно не понимают, как это можно — разбавить бензин водой, не понимают, как можно разбавить молоко. Они не могут из копейки сделать десять. Ну скажите, кто в Америке даст сто процентов годовых?
Но эта тупая нация запускает человека на Луну.
Билл Гейтс — тоже тупица. Весь мир объял своими компьютерами — кто он? Тупица, конечно. Все американские художники, поэты, писатели — полные кретины. Американский рабочий, который делает какие-то невозможные технические вещи, — кто он? Тупица. С этой точки зрения американский патриотизм — патриотизм тупых людей. Лучшие спортсмены в мире — абсолютно тупые люди. Лифты, которые взлетают на двухсотэтажные небоскребы, сделаны абсолютно тупыми людьми…
Но зато наш жлоб, ходящий по Америке, говорит с полным осознанием своего собственного жлобского превосходства: «Боже мой, они такие тупые!..» Я слышал это много раз и буду слышать до конца дней своих, потому что для нашего человека нет никого умнее и талантливее его самого. В этом и есть самая главная мировая тупость, которая только существует на свете.
Америка — очень сложная страна, очень сложная и для многих непонятная. Однажды я видел телепередачу — ток-шоу с американскими девушками. Когда их спросили о столице штата Нью-Джерси, они сказали: «Нью-Йорк». (На самом деле столица штата — город Трентон.) Когда им задавали вопросы вроде: «Как называется вторая планета солнечной системы?» — они посчитали, что на такие идиотские вопросы ответить просто невозможно. Когда же они ответили на вопрос о том, кто сочинил книгу о Гекльберри Финне, счастье было такое, будто они воспроизвели цитату с пятой страницы четвертого тома Конфуция. Да, это у них есть, но до определенной поры. Так что никогда не нужно лезть в их калашный ряд со свиным рылом, как, впрочем, и мы в свой не просим никого лезть. Например, те же самые американцы сегодня делают фильмы и, снимая наших воинов, до сих пор не могут на них правильную форму надеть, хотя можно приехать к нам и купить хоть сто комплектов самой разной формы. Это давно уже ни для кого не секрет и не военная тайна. По крайней мере, им по силам прислать своих режиссеров или художников, чтобы они одели в фильме своего Шварценеггера в нашу нормальную шинель.
Конечно, говорить, что они тупые, можно, но нельзя становиться на эту точку зрения сознательно. Лучше говорить: «Они такие». Европейцы тоже не очень любят американцев, считают себя более просвещенными, но почему-то им до Америки как до Луны. Американцы такие. И не надо их осуждать, судить. Как и мы не просим, чтобы они нас судили. И говорить «мы умные, а они дураки» — это самая идиотская точка зрения. Мы такие, а они — такие. Наш слон — не самый большой в мире. Он наш, отличный от других слон в ряду таких же слонов. И что это за совковая, жлобская, шовинистическая манера кричать о своем «самом талантливом»… «Мы блоху подкуем…» Да у них Левшей в сто раз больше, чем у нас. А у нас один такой оказался, и его, беднягу, затаскали так, что уже тошно. А при этом наше автомобилестроение — самое смешное в мире.
Меняет русла рек, срывает горы
И в Арктике выращивает сад
Страна вечнозеленых помидоров
И родина асфальтовых заплат.
Вся эта наша левшовость показушная. Да, мы делаем ракеты и покорили Енисей, но у нас при этом народ до сих пор живет в девятнадцатом веке.
Я очень люблю русскую деревню: там много красивых, настоящих людей, хотя и много убогих, никчемных пьяниц, А какая у нас природа колоссальная! Я уж не говорю о том, что страна наша богатейшая. Но такой она создана Господом Богом.
Все наш достижения показушны, сделаны благодаря гонке вооружений в «холодной войне» или на страхе, на том же самом кнуте. Сталин все время чесал этим кнутом, и на этом только все и держалось. А убрали кнут — и все! Кто теперь будет работать без кнута? Сам для себя?
Мы рождены для милостыни, считаем, что нам обязаны. Сейчас вся страна работает как чистый рэкетир. Пугаем: «У нас ядерная дубина, так вы нам пшеницы не дадите?» «Вы нам кредиты не дадите? Иначе мы вам гражданскую войну устроим, мы вам вот еще что-нибудь заделаем». Мы сегодня — страна-рэкетир, дешевый, наглый, накачанный, базарный бык.
Что мы сегодня собой представляем? Мышцы, загривок, пальцы веером и вечное «дайте». «У вас все есть? Давайте-ка, поделитесь!» Чемпионат мира провести, Олимпиаду для детей в Москве, полтора миллиона французам выложить, когда вся Россия в говне… Это и есть психология того самого рэкетира, который себе покупает галстуки по триста баксов за штуку.
Трудиться… Но на сегодняшний день как можно трудиться творчески я вообще не представляю… Просто призываю каждого человека обеспечить себя, своих родных и близких, не причиняя при этом никому зла. Государство на тебя сегодня наплевало, тебе нужно сегодня выжить самому и помочь выжить своим близким. Не причиняя при этом никому вреда. Жить надо надеждой и трудом. Трудиться на своем месте и иметь надежду, что сегодня — тяжело, но завтра будет гораздо лучше. Потому что не может такая хорошая большая страна с таким хорошим великим народом превратиться в дерьмо, погибнуть.
«Я ГОСУДАРСТВО НЕНАВИЖУ, НО ОЧЕНЬ РОДИНУ ЛЮБЛЮ…»
Не знаю я такого государства — СНГ. Более того — и знать не хочу. Я убежден, что большое государство вернется. За исключением, пожалуй, Прибалтийских. стран: они, по большому счету, нам чужие. Или отойдет глубокая Азия. Но Украина, Беларусь, Россия, Северный Казахстан — это, как дважды два — четыре, одно государство. Это очевидно для всех, кроме ребят, которые хотят стать президентами. Ну кому нужна суверенная Республика Саха?
Я тут пообщался кое с кем из Якутска и понял: один там хочет стать президентом, другой министром иностранных дел, чтобы иметь представительства в Париже и Лондоне и летать туда за государственный счет. Третий хочет ртать министром обороны и защищать ее, например, одним танком от Хакасии. Всем остальным людям такие «государства» даром не нужны.
Недавно мне позвонили и попросили дать в синагоге концерт, посвященный Дню независимости Израиля. Я сказал: «Ребята, вы что? Я — гражданин России. Я мог бы дать концерт на Дне независимости Израиля, но в Израиле». Они есть везде — те самые, которые кричат о великорусскости, о великоказахскости, о великоеврейскости и так далее, — болтуны, которые хотят дешевого политического капитала.
Я по-прежнему живу в СССР. Дело не в аббревиатуре, не в этих четырех буквах. Расшифровывайте их как хотите, меня это не волнует. Я считаю — осталась эта великая страна как единое геополитическое пространство. Никто никуда не делся, не уплыл за океан, и все эти игры в суверенитет — нечто надуманное, фальшивое. И я по-прежнему живу в Ленинграде. Город этот — велик, и Петербург — лишь часть его… Красивейшая, центральная, главная — но часть. Я питерский в четвертом колене — по линии матери. История города — это история и нашей семьи. Мои родные были тут в блокаду: кто пережил ее, а кого и на Пискаревку свезли.
О так называемых странах «ближнего зарубежья»… В Киеве на концерте я сказал: «Ну, наконец-то я за границей!» И весь зал засмеялся как сумасшедший. Какая тут может быть заграница — для народа это просто цирк. Любой человек, даже не филолог, вам в течение минуты придумает множество вариантов расшифровки СССР — Содружество Свободных Суверенных Республик, Союз Стихийных Сексуальных Реформ… Так и с СНГ. Эс-Эн-Гхе! — хочется сказать одно слово.
Я никогда не верил политикам. Никогда я не был и «шестидесятником»: мне было четырнадцать лет, когда они цвели. Конечно, все их песни я знаю, сам пел, но осознанным, идеологическим «шестидесятником» я не был никогда. Я не Буковский и не Новодворская. Не могу сказать, что я «сильно окреп государственным умом» и в семидесятые годы, потому что тогда еще учился в институте, жил обычной жизнью.
Но могу сказать, что я полностью созрел для понимания своей страны в начале восьмидесятых. Когда в восемьдесят пятом году Горбачев приехал в Ленинград и, выйдя на улицу у Московского вокзала, начал свое: «Ну, понимаете, как дела? Надо, понимаете, трудиться, да. Нужно это делать так, понимаете, потому что это так и сказано и нужно так и делать, понимаете… И мы для этого перестраивались, понимаете…»
Тут-то я четко понял — все, кранты. Все — то же самое. И когда пришел Ельцин, я знал, что он — продукт той же системы. Я к тому времени уже давно был врачом и знал, что если человек на протяжении многих лет гробил религию, а на пятьдесят шестом году начинает вдруг креститься, то… Я знал, что так не бывает. Член ЦК партии, первый секретарь Московского городского комитета партии, бывший секретарь обкома Свердловского, человек, разрушивший Ипатьевский дом, снеся его в одну ночь, вдруг становится лучшим другом семьи Романовых…
Я не склонен происшедшие в стране изменения ставить в заслугу Горбачеву. Это, скорее, заслуга времени. Хрущев был по уши в той же крови, что и Сталин. Но пришло время, и ему просто некуда было деваться — Сталина надо было развенчивать. Похожее произошло и с Горбачевым — он оказался ко времени. Был бы Сидоров, может быть, плюс-минус год, два, но все равно бы это свершилось. Потому что даже хулиганить нельзя бесконечно. Помните, как в «Двенадцати стульях» Васисуалия Лоханкина высекли его соседи по коммуналке за то, что тот не выключил после себя свет? Терпели, терпели, а потом взяли и отстегали.
Поэтому у меня никогда не было никакого ажиотажа ни от этой свободы, ни от этих благих дел.
А тройка этих ребят — вечная им память, — погибших у Белого дома… Но погибли они по неосторожности — бах, трах, толпа, танк башню крутанул… Они не совершали подвига Александра Матросова… А этих несчастных ребят, погибших при массовых беспорядках, взяли, вознесли. И тут же, тут же забыли, естественно. Это настолько наше, родное, советско-российское, коммунистическое… Как вознесли Пашу Ангелину в свое время, как вознесли Стаханова. Так же и этих несчастных парней… Да простят меня их родители, мне очень жалко этих ребят — вечная им память и царствие им небесное, — но никакие они не герои. На их месте могли оказаться сотни других. Раввин молитву пропел, православный священник панихиду отслужил — все в демократических рамках.
Так что 21 августа 1991 года не был самым радостным днем в моей жизни. У меня было два радостных, по-настоящему радостных дня. Второй — это когда родилась моя день. А первая эйфория была 12 апреля 1961 года, когда полетел Юрий Алексеевич Гагарин. И я участвовал в огромном всенародном празднике. Мне было тогда десять лет, и я помню, как огромные толпы людей сразу выскочили на улицу. Наш в космосе! Советский Союз — первый!.. Это был класс!
Я старше стал. Никакого слюнтяйства по отношению к прошедшим временам во мне нет. Но приятно детство вспомнить — в нем было хорошо. Потрясающее это время было: абсолютная вера, абсолютная беззаботность, абсолютно ясный завтрашний день. Мы ходили в школу, знали, что летом будет пионерский лагерь, что у нас счастливое детство: кружки авиамодельные, судостроительные, кружки иностранных языков, секции бокса…
Испытываю ностальгию по той поре и по тогдашним мечтам тоже. По отношениям между простыми, рядовыми людьми, которые тогда были. По времени, когда можно было гулять и ничего не бояться: мальчишка максимум мог схлопотать по роже — и то до первой крови. По огромному количеству детей во дворах, по каткам, горкам, на которых прошло все детство. По утренникам в кинотеатрах, на которые спозаранку каждое воскресенье летел, хотя в школу вставал очень тяжело. По сбору металлолома, по «дням здоровья», когда всей школой ехали на корабле в Сосновку, по урокам географии и литературы, которые я очень любил…
«Те» времена — оцениваю их и лучше, и хуже. Так же, как и сегодняшние. Говорят, мы плохо живем! Да на улицах машин стало в 3–4 раза больше. Очереди стоят в фирменные магазины, где товаров дешевле 200 баксов просто не бывает. И стоит в этих очередях средний класс, поскольку богатым все на дом возят.
Я уже не говорю о том, что сейчас не проехать по улице. Все «хреново» живут, а студенты в университет через одного на машинах подъезжают. Сколько машин стоит у любого учебного заведения? Раньше пара профессоров на тачках приезжали. А сейчас? Во дворах от машин некуда деваться, по улице не проехать. Что, их владельцы — все бандюганы? Да половина рабочих заводских — служащие, инженеры — на машинах.
Так что не надо себя и других обманывать. Все гораздо лучше, чем они вопят. Они снова хотят «железную руку»?
В моральном смысле нужно иначе. Это мораль в стране нужно восстанавливать железной рукой, порядок, власть в стране нужно устанавливать, потому что сейчас мы страна безвластная.
Но все это нужно делать по-умному, спокойно.
А то, что сегодня происходит, вся эта агитация за правых и за левых — это пустые хлопоты. Да, надо спорить с теми, кто хочет возврата в прошлое. Но спорить надо умным людям, с умными по-умному.
Всегда говорю, что в нашем времени есть и масса хорошего. Но сегодня деньги победили все. И мораль соответственно опустилась ниже нулевой отметки. Разговорами тут не поможешь. Я, как артист, могу лишь частично изменить подвластную мне аудиторию, по крайней мере, сдерживать ее. А ход событий можно изменить, ужесточив информационную политику, прекратив восхвалять и романтизировать дешевый криминал, хотя дорогого-то и не бывает. Тогда, по крайней мере, дети перестанут играть в киллеров и настраиваться на эту престижную ныне профессию.
И еще надо работать. Я девять месяцев в году при своем кажущемся благополучии нахожусь вне дома — на гастролях, в поездках. Девять месяцев в году! Приезжаю домой, захожу в свою красивую ванную и думаю: «Какой номер красивый! Задержаться бы здесь еще на пару дней…» Клянусь, ловил себя на этой мысли.
Мои друзья-врачи, которые стараются жить прилично, работают на пяти работах. А те, кто хотят обратно в лагерь, не желают работать. Они хотят иметь пятичасовой рабочий день, пять дней в неделю. Из этих пяти часов рабочего времени два часа устраивать перекур, три часа пить кофе. И ездить отдыхать на Гавайские острова.
В прежнем нашем с вами советском бытии существовало огромное количество приличных людей. Я вовсе не тоскую о пустых прилавках, запретах на зарубежный выезд, об идиотских вывертах коммунистов всех мастей — у меня ностальгия по человеческой морали, которая сегодня отсутствует. Наша страна скатилась на жутчайший уровень неуважения к себе, ведь нас бьют, а мы еще больше подставляемся.
Кто выбрал теперешнее руководство
государства? Сами и выбрали. И еще навыбирают. Повторю Михаила Жванецкого: «Каждый народ имеет то правительство, которое его имеет». Так что ищи виноватого в зеркале. Голова мыслить должна, а уже потом служить вешалкой для шапки. Ну откуда эта дурь — всяческие суверенитеты, развал единой великой страны? Даже Благовещенск, я слышал, хотят «отделить», «освободить»… На Урале собирались вводить какие-то «свои» деньги…
Мое мнение — все это задумали несостоявшиеся люди в погоне за дешевой популярностью. И что характерно: все эти горлопаны и рвутся к власти, раздают направо и налево пустые обещания. А вы лучше мастеров ищите. Тех, кто на своем месте честно, без взяток, делает свою работу…
Имеем же право избирать достойных, профессионалов. В общем, всем подумать надо. Не бросаться из крайности в крайность. Помнить имя свое, историю своей страны. И спрашивать за все прежде всего с себя! Мол, чья эта дурь, как не моя? И не надо лезть с косой и секирой на рядом стоящего человека только потому, что тебя дурят власть имущие, которых ты же сам и выбрал.
Надо выждать, какой-то переходный период перетерпеть. Я уверен — все пройдет. Надо трудиться, хотя с каждым днем все тяжелее это делать, с каждым днем все тяжелее верить обществу за окнами.
Все тяжелее надеяться на этих людей.
Что касается молодого поколения, то я не знаю плохой молодежи. Я знаю негодяев — негодяев и среди молодежи, и среди зрелых мужчин, и среди стариков. Молодежь всегда была прогрессивная, ищущая. Это чепуха насчет проблемы отцов и детей.
Мне очень хочется, чтобы молодежь ощущала свою ответственность за будущее страны. Ни больше, ни меньше.
Я начал ощущать эту ответственность тогда, когда понял, что могу уже что-то конкретное сделать. А свою значимость для будущего я осознал после второго курса института. Первые два года я занимался тем, о чем уже сказал, — бегаешь, хулиганишь, пропускаешь лекции… А потом понял: медицинское будущее страны зависит от того, как я буду лечить людей, которые обратятся ко мне за помощью. Я должен был учиться, учиться и учиться, чтобы приехать к вам и поставить правильный диагноз: у вас не инфаркт миокарда, а опоясывающий лишай.
Всю мои близкие родственники — врачи, поэтому даже если бы я не хотел отслеживать изменения в нашем здравоохранении, мне пришлось бы это делать. У меня есть в этом отношении некоторые свои мысли.
Говоря о медицине вообще и о «скорой помощи» в частности, я опять коснусь темы государства.
То, что сегодня делает с врачами наше государство, — это чистое преступление. Я даже не знаю, как это назвать, это за гранью добра и зла. Врач получает у нас двадцать долларов в месяц. Так возможно ли с него спрашивать? Можно спрашивать только с его души.
Огромное число наших врачей работают за идею. Вообще, я считаю, что наши врачи в смысле человечности — лучшие в мире. Я не беру всю массу медицинского персонала, я говорю о тех, кого называю докторами. Доктора у нас — лучшие в мире.
Но поскольку мораль, как мы видим, у нас на чрезвычайно низком уровне, то это касается и медработников. Они тоже люди, и падение морали точно так же задело их. Кора, подкорка, инстинкты ведь у всех одинаковые. Но, к чести огромного количества врачей, могу сказать, что, несмотря на эти самые двадцать долларов в месяц, они стоят у операционных столов. Они не настолько медицински криминализовались.
Большинство врачей на Западе только за прием берет триста долларов и выписывает тебе аспирин.
У нас медицина все-таки пока человечна, и я очень боюсь, что она может стать по-настоящему западной в моральном смысле.
Положение медиков и учителей в нашей стране просто ужасно. Гаишник, который тоже «бюджетник», тот хоть может просто заниматься поборами (что он и делает) — повышай ему зарплату, не повышай. А врачу или учителю что делать? Но люди, однако, живут. И когда я начинаю об этом думать, то упираюсь в чистый «беспросвет», из которого нет выхода. А что происходит с лекарствами? Катастрофа! Лекарств огромное количество, но сколько они стоят?
О медицине говорить сейчас очень сложно — можно говорить только о голом энтузиазме. Хотя уже появилось это жуткое рвачество… Сегодня если ты не будешь брать какие-то левые деньги или заниматься рвачеством, то ты просто ничего не заработаешь.
Вот что ужасно.
Но как, как иначе врачу заработать те деньги, которых он достоин? Которые хотя бы помогают ему вести нормальное существование, существование которого он достоин. Не дай Бог нашим врачам превратиться во врачей западного типа. Несмотря на высокие знания, технический и научный потенциал, там практическая медицина для многих рядовых граждан — бандитская в прямом смысле. Едва ли не главная цель врачей — вытягивание денег из кармана больного. Рецепты — деньги, лекарства — деньги, посещение врача — бешеные деньги… Да, там есть страховая медицина, это уже стало частью экономики. Но медицина на Западе во многом потеряла человечность. По сравнению с ними мы гораздо более гуманны. Поэтому я не хочу, чтобы в моральном плане наша медицина приблизилась к западной.
Если у нас медицина становится платной (а частично она в обязательном порядке должна быть платной), то врачи должны понимать, что, если я плачу деньги, со мной нужно разговаривать уважительно, а не бежать домой, потому что кончился рабочий день и прием. Врач должен понимать, что его коллега на Западе «пашет» 24 часа в сутки.
Я очень осторожно отношусь к идее создания у нас офисов врачей общей практики. Все здесь зависит от честности врача, от его профессиональных способностей, от его таланта, от отсутствия алчности. Надо учитывать то, что абсолютно порядочных людей, к сожалению, меньшинство. При желании непорядочный врач «обдерет» больного в любом случае. В обычной поликлинике врач находится «под колпаком» у главного врача, у начмеда, у старшей сестры. В офисе он сидит один, здесь его труднее контролировать. Но в то же время нужен семейный врач. Такими врачами практически были и остаются участковые терапевты. Люди, отработавшие на одном участке более пяти лет, обычно оставались на них пожизненно. Они знали не только как зовут каждого человека на участке, но и как зовут их домашних животных.
Все нужно, и страховая медицина, и семейные врачи, но мы все равно будем возвращаться к основанию человеческих отношений, к социально-экономическим вопросам и человеческой порядочности медицинского работника.
Когда я работал врачом, все было проще. Зарплата, впрочем, тоже была мизерная. Мы «не производили материальные ценности» — по советской формулировке. Для того чтобы узаконить рабское положение, как их сегодня называют, «бюджетников», была придумана эта красивая формулировка, что мы, врачи, вместе с учителями, работниками райсобесов и другими не производим материальных ценностей. Рабочий — вот он голова всему, он производит. А мы — нет.
Правда, если мы перестанем лечить и учить, то материальные ценности просто некому будет делать.
И этот чудовищный обман, прикрытый непонятной фразой, работает до сих пор.
Но все-таки тогда, работая на «скорой» через сутки, я мог заработать двести рублей. Тогда это были деньги. Я колотил на две ставки и в перерывах между этим еще и халтурил — делал курсные уколы. Благо, было кому: больные любили, доверяли, давали пятерочки. Мы могли совмещать, подменять… КЗОТ, в общем-то, закрывал глаза на эти «нарушения трудовой дисциплины», смотрел сквозь пальцы.
Если я во многих бедах виню гены, а не коммунистов, то в одном вопросе все-таки коммунисты впереди генов. Это они приучили народ думать, что медицина обязана лечить рабочий класс. Поэтому рабочий люд и имел обыкновение нажраться и требовать, чтобы эта хамская, с его точки зрения, интеллигентская прослойка обращала на него, напившегося, особое внимание. Все это идет от сознания исключительности и безнаказанности рабочего класса в советское время.
Раньше, еще до того как я начал работать врачом, в этом смысле было все-таки немножко получше.
Я помню, когда во двор к кому-нибудь приезжала «скорая помощь», то все знали — к кому и почему.
Тогда к «скорой» относились еще с уважением, а потом — потом нас просто стали гонять, как такси. Смешных эпизодов была масса. Приезжаешь по вызову в четыре утра — самая жуткая по самочувствию пора — к бабушке какой-нибудь, а та: «Доктор, мне делать завтра в поликлинике УВЧ на ногу?» За советом пригласила! Или еще вызов: «Доктор, клопы совсем заели, помогите справиться!» Да вам любой врач «скорой помощи» такое вспомнит!
А «скорая» должна была выезжать в общественные места на заболевания и травмы, домой же — только на травмы или случае каких-то терминальных состоянии. На все остальное существует участковый врач и неотложная помощь. Кончалось же все тем, что «скорая» ездила чуть ли не на насморки — на все что угодно. Сейчас понемногу все возвращается на круги своя, но это тоже палка о двух концах. Теперь люди ждут «неотложку», и только она, в свою очередь, может вызвать «скорую».
Я не хочу обвинять всех в несознательности: ведь обыкновенному человеку порой трудно разобраться — нужна ли ему «скорая помощь», или ему просто нужно похмелиться, принять сто граммов. Но вообще-то в школах хорошо бы проводить определенные занятия — уроки совести. Чтобы люди с детства знали, когда надо вызывать «скорую помощь», зачем и сколько это стоит. Дело даже не в последнем — просто нужно понимать, что если десять машин «скорой помощи» заняты лечением десяти головных болей, то к четырем людям, попавшим в аварию, «скорые» не приедут, потому что они на вызовах у молодых людей, которые вчера изволили перебрать, а сегодня им плохо. Да, им плохо, но на улицах ждут люди, попавшие под колеса…
Как разобраться по телефону — у человека обычное похмелье или кровоизлияние в мозг? Не дай Бог, проглядишь…
Однажды один молодой человек задохнулся во время ангины. Так потом и ездили реанимационные машины на все ангины… На все ангины. Был ведь прецедент.
Сегодня требовать много с врачей, конечно, невозможно. У кого рука поднимется, у кого язык повернется? Можно только сказать: «Ты же врач, ты же давал клятву Гиппократа, ты же знаешь, что жизнь человека — это святое…» Только на этом уровне и можно требовать, но никакими административными методами действовать нельзя. У большинства врачей совесть есть, а если она есть, она никуда не денется и будет работать.
Неправильно и, более того, вредно, стыдно перед обществом шахтерам платить такие-то деньги, а врачам в пятьдесят раз меньше. И только лишь потому что они не рубят уголь или не варят сталь. И громогласно обсуждая проблемы шахтеров, спокойно при этом молчать о врачах — это позор.
А свою работу на «скорой» я не забыл. Если недели две-три сейчас потренируюсь, то завтра выйду на линию совершенно спокойно. И возьмут меня совершенно спокойно. Именно по профессиональным качествам.
Я человек добрый, я выскакиваю из машины, если вижу, что дерутся люди. Не зная, кто прав, кто виноват, я никогда бить не буду, просто разниму. Я удержал две банды по 50 человек, каждая с «пушками» и «перьями», потому что они меня очень уважали. Я сказал им: «Стоять, я Розенбаум». Нельзя проходить мимо такого.
Сегодня проезжаем, видим — ящик лежит на дороге вторые сутки. Его бы взять одной рукой и выбросить в кусты. Нетрудно же, но ни у кого рука не поднимается. Равнодушие — это страшно. А если обижают женщину, то как же можно не заступиться? Многие проходят мимо, мол, это их личные проблемы. Поэтому — я, Розенбаум, ящик уберу, за женщину вступлюсь, а они проходят мимо.
И за Ленинград я буду биться с кем угодно — пусть это будет всем известно. Что касается событий, связанных со сносом здания гостиницы «Англетер», то считаю, что увековечивание места, в котором человек влез в петлю, — это не самое благородное дело. Возможно увековечивание места дуэли, расстрела или естественной смерти…
Историю своей страны храню прежде всего песнями. Хочу в них ставить важнейшие, наболевшие вопросы. Для меня, как для ленинградца, гораздо большее значение имеет то, что Музей декабристов открылся в Москве, а не у нас. Это ли не была пощечина нам? У нас морской город, а кроме «Стерегущего», кроме Гаванского торпедного катера, нет ни одного памятника морякам. Это тоже моя боль. Как и то, о чем сложились стихи: «Как-то кто-то, звать их некто, когда в городе уснули и мосты застыли сонно над Невой, в горло Невскому проспекту шестигранный штык воткнули и пустили кровь по мостовой». Хотелось тогда спросить у Аникушина: «Вы же подарили людям памятник Пушкину — это же творение ваших рук! Но что же вы с этими скульпторами сделали? Зодчие, бедняги, мечут железобетонную икру». Никто не имел права посягать на Невский проспект. И чем? Стелой, которых немало стоит в любом городе. Память о войне священна, но достойна ли нашей боли и нашей памяти эта стела?
Если бы я стал мэром, то всего лишь для одного деяния — хочу убрать стелу Восстания. Чего стоит на сегодняшние деньги снять ее? Я бы сказал горожанам: «Мы хотим вернуть скверик? Тогда, товарищи, господа, дамы, давайте уберем стелу. Пришлите по десять рублей (проверять можете по моему личному телефону) — это уже 50 миллионов. Я лично 500 тысяч сразу бы «отстегнул» на это святое дело. А эту стелу можно перенести в другое место, если уж она представляет архитектурную ценность как памятник погибшим. У нас в городе есть немало площадей в районах новостроек». И все уберут в неделю. Уверен, что миллиона два петербуржцев сразу ответят деньгами. Не надо будет и трех остальных миллионов, которым вообще на все наплевать.
Мои друзья по политике совершили ошибку: посчитали меня за марионетку. Я много слышал о закулисных играх в большой политике, но продолжаю надеяться, что нравственные принципы и там первостепенны.
Знатокам криминального фольклора известно слово «постановка». Именно это и произошло в случае со мной.
Раздался телефонный звонок, и мне предложили обсудить вопрос о моем возможном вхождении в список кандидатов в депутаты от левоцентристского блока Ивана Рыбкина. Подобные предложения поступали и раньше и в большом количестве: «правые» и «левые» фланги тянут к себе известных людей из «болота». Но в данном случае имена Громова, Шаталина, Кобзона заставили меня задуматься. Да и Рыбкин, человек по воспитанию советский (в лучшем смысле этого слова), знающий аппаратную работу (что немаловажно в свете сегодняшнего пустопорожнего горлопанства), мне импонирует больше других. «Подумаю. Через несколько дней созвонимся», — сказал я в телефонную трубку.
А буквально на следующий день все каналы ТВ, радио, выпуски новостей объявили о том, что Розенбаум — кандидат в депутаты в блоке Рыбкина. Вот и все дела… Вперед, во власть! Программы блока я не знал, ни одного слова из Москвы от лидеров блока не слышал, в общем, «ни здрасьте, ни до свидания».
Было от чего опешить. Я всегда знал, что средства и методы политической борьбы, как правило, не то чтобы грязные, но даже цвета к ним не подобрать. Так что я с такими «большими политиками» в серьезные игры не играю (кстати, в несерьезные тоже).
Знаю одно: артистов гораздо легче унизить, чем возвысить. На головы многих из них льется столько помоев, сколько они за всю прежнюю жизнь не получали. Хотя по морально-этическим и интеллектуальным качествам, своей прошлой и настоящей общественной деятельности Губенко, Михалков, Басилашвили, Зыкина, Ножкин, Кобзон и другие мои коллеги заслуживают уважения избирателей.
У меня есть на что тратить силы: сцена от меня не остыла, принципам своим изменять не собираюсь. А отдельные дворняги из «желтого» журналистского корпуса пусть ищут отбросы на моем дворе. Имея множество планов, все оставляю по-старому: пишу, гастролирую, пою и встречаюсь с милой моему сердцу публикой. А в микрофоны на думских трибунах пусть говорят те, за кого проголосует народ.
НЕ ЛЮБЛЮ ЧУЖИЕ РУКИ НА СВОЕЙ СОБАКЕ
Мне нравится немного циничная американская поговорка: «Чем ближе я узнаю людей, тем больше я люблю свою собаку». Братья наши меньшие по этой жизни, клянусь, гораздо честнее, порядочнее, добрее нас.
Когда спрашивают, сколько у меня детей, я отвечаю: «Двое. Аня и Лаки». «Что за имя такое?» — «Да бультерьер потому что». Для меня это — сын. Я всю жизнь, с тех пор как в школе прочитал рассказ Льва Толстого «Булька», хотел завести бульдога. Только не французского, а английского, бойцовую собаку.
Вывез я Лаки из Западного Берлина, а родился он в Париже — фон-барон, что называется. Вывели бультерьеров для забавы — боев с быками, так что это типичный бойцовый пес.
Мой пес — это член моей семьи, так что я к Нему отношусь как к родному сыну. Жена может быть чем-то недовольна, дочь может быть занята или расстроена, мама с папой могут быть в обиде на что-то. Но вот ты открываешь дверь в квартиру — пес всегда тебя целует. С собакой душа отдыхает больше, да простят меня члены моей семьи.
Мы с ним бойцы. Я всегда говорю: жаль, что Он не разговаривает. Если бы мы побеседовали, у нас было бы о чем потолковать. Это очень сильная собака и очень любвеобильная. Любвеобильных много, сильных много, а преданных — меньше. Он во мне чувствует друга и хозяина и в игре никогда не укусит. У меня, правда, от Него на ноге восемь шрамов и на пальце четыре, но это я его разнимал в драках с собаками. В драке Он не понимает, где папа, где мама. Потом Он три дня ходил передо мной извиняться, вернее, вообще не подходил — знал, что обидел. Спал около жены. Вообще-то Он со мной спит, в ногах. Повторяю, что Он для меня многое значит: потому что жена может быть недовольна, дочка — не в настроении, а этот всегда рад.
Я чувствителен к боли. Пониженная болевая чувствительность у меня только тогда, когда дерусь. Это не потому, что я боли не чувствую, а потому, что меня «переклинивает». Я занимался боксом и считаю, что если можно не драться, то лучше не надо. Но если драться — то до конца и честно. И Лаки такой же — Он же не хитрый. Поэтому-то бультерьеры часто гибнут на кабанах — они всегда идут напролом, прямо.
Драться приходилось. И в последнее время тоже… Потому что дураков много, а я человек вспыльчивый. Например, бывало так: подходят подвыпившие незнакомые люди и говорят: «Саша, пойдем к нам выпьем! Мы так тебя любим!» «Я по столам не хожу, — говорю, — давай выпьем здесь». — «Пойдем к нам…» — «Ты что, русского языка не понимаешь?» — «А, Розенбаум, мы думали, ты — человек, а ты —…» Тут я обычно вставал и бил сразу. А что делать?
И Лаки в чем-то похожий. Насколько Он бывает спокойный и ласковый, настолько же Он ненавидит все, что движется. Кроме щенят и сук, женщин и детей — все враги, причем смертельные. У Него характер настоящего мужчины. Он хватает все, что под зубами, все, что можно грызть, — мотылька, лошадь, бронетранспортер, козу. В Кисловодске на гастролях овцу загрыз, а пять кавказских овчарок, притравленных на волков, стояли в отдалении и Его облаивали. Я этих овчарок понимаю. Представьте такой вариант: идешь по улице, мимо нормальные люди ходят. И вдруг появляется один — с узким лбом, с глубоко посаженными глазами, рожа совершенно непонятная, короткие ноги. Ты же автоматически перейдешь на другую сторону — зачем тебе эти неприятности? Так, видно, и они, собаки, думали. А Его и спускать не надо — Он сразу в атаку. Причем не лает никогда. У Него какой-то вампирный вой. Тут кровь, порода.
По молодости Лаки ездил со мной на гастроли.
С двухмесячного возраста Он гостиничный человек. Входим в номер, Он выберет в люксе из двух кроватей свою: прыгнет с одной на другую, потом ляжет на одну из них. И все.
Когда я ухожу на концерт, Он ложится на мою сумку и спит, пока я не приду.
Характер у Него в общем мой. Очень трудно поддается дрессировке. Мы «фас» не знаем. Это нам не нужно.
У Сетона-Томпсона есть рассказ «Снап». Про бультерьера. Добрейший пес. Он бойцовая собака и ни на что больше не годен — только на любовь и бои.
У него — одна извилина. Но если ее направить на нелюбовь к человеку, то и гулять с ним вы не сможете.
Лаки уже тринадцать лет, совсем пожилой. Мы мыслями обмениваемся, по часу можем так говорить. Он скучает по мне. Я для Него — Бог, царь, отец, мать, брат. Я для Него — жизнь. А для меня Лаки — сын, ближайший мой человек. И моя семья тут меня прощает.
Мало кто из принимающих меня отказывал, возражал, чтобы я приехал с Лаки. Но теперь я оставляю Его дома. Он пожилой парень, пенсионер. Когда возвращаюсь, начинает твориться что-то безумное: Он прыгает от счастья до потолка. Светопреставление… Это продолжается в течение минут пяти, а потом Он устает и идет пить воду. А я иду общаться с семьей.
«Дружба» — это значит «Ты у меня есть». А любовь — абсолютное понимание и прощение. Если друг, допустим, может отреагировать на вспыльчивость и не разговаривать с тобой три часа, то любящим людям позволительно обидеться минуты на три, максимум.
Кстати, за женой я долго не ухаживал. Я ничего не делаю долго. Лена всю жизнь работала, я не возражал. Она была вынуждена сидеть дома, только когда ребенок был маленький, тяжело болел. Я никогда не считал, что женщина не должна работать. Просто она не должна находиться на службе «от звонка до звонка». Пусть работает, четыре-пять часов в день, этого достаточно.
Когда я говорю, что женщина не должна работать, я не имею в виду, что она вообще не должна работать. Просто ни в коем случае не нужно приковывать ее наручниками к батарее рядом с плитой. Пусть она работает для того, чтобы на других посмотреть и себя показать. Но женщина не должна «гореть» на работе. В противном случае у нее совершенно не остается времени на дом. А что же это за женщина, если у нее нет времени на семью? Но это мое мнение. Я говорю за себя, а не за всех мужчин и женщин. Но «горящая» на работе женщина — не моя женщина.
А какой она должна быть, чтобы мне понравиться, — это уже совсем другой вопрос. Она должна быть милой. Есть такой образ — «милая женщина».
При этом совершенно необязательно быть длинноногой блондинкой. Она не должна быть самовлюбленной. От нее должно пахнуть женщиной. Я должен ощущать, что это самка.
Есть такое понятие — «зовущая женщина». Это очень сложно объяснить. От нее должно исходить ощущение пола. Как от мужчины должно пахнуть мужчиной. Токарь может у станка стоять, и от него будет идти ощущение мужчины. А капитан первого ранга может оказаться тряпкой, человеком непонятного пола.
Я себя не переоцениваю и не возвышаю над животными. Да, мы животные, и не нужно этого стесняться. Просто мы более высокоорганизованные животные, с гораздо большим количеством и более развитым серым веществом. Но инстинкты у нас те же самые. Я человек из класса млекопитающих.
И ноздри у меня так же реагируют на самку, как у любого другого самца. И я никогда не сужу о женщине по ее положению, классовой принадлежности.
Меня не это интересует.
Давайте расставим все на свои места — я за самцовость и самковость. Я считаю, что мы не должны высокомерно отделяться от животных. Мы себя слишком высоко ценим, когда называем их братьями нашими меньшими. Мы нормальные млекопитающие.
Я в мужчине уважаю самца, в женщине — самку. Основные обязанности самца — охранять логово и тащить туда добычу, самки — воспитывать детенышей и облизывать самца…
«Шлюха» для меня понятие более моральное, чем физиологическое. Она может жить с одним мужчиной и быть шлюхой. Шлюха — это женщина, которая не уважает любовь к ней близкого человека, топчет ее в грязи. Я не видел нормальных женщин, которые бегают от одного мужчины к другому. Если они «ищут» таким образом любовь, то так искать могут либо шлюхи, либо больные.
Я признаю, что женщина может быть лишь в физиологическом смысле «женщиной», а в душе оставаться девушкой. Но все же женщина должна целомудренно относиться к своему телу. Это не значит, что она должна ходить в поясе верности. Целомудрие означает многое, в том числе и секс, но не абы с кем. А отдаваться за деньги — это грязь.
Но сейчас женщинам дай Бог найти нормального мужика. Ведь импотенция сейчас — серьезная проблема. Она идет от безысходности, от поголовного пьянства, которое тоже результат безысходности. И проникновение всяких «затейников» тоже вредно воздействует на психику: наши мужики стали сравнивать себя с западными образцами. Чтобы удовлетворить женщину с богатым воображением, да после всех видеофильмов, нужно обязательно на уши вставать. А русский мужик неприспособлен к этому по своему генотипу: перед встречей с подобной женщиной он начинает комплексовать. Нельзя русского человека сделать французом, показав ему «Эмманюэль», он может напугаться на всю жизнь.
Кроме того, мужчину отпугивает повышенная самостоятельность женщины, не дающей ему почувствовать, что она в его подчинении. Посмотрите на животных — у них самочка и прижимается, и заигрывает. А если и убегает, то так, чтобы ее догнали.
А наша идет гордой павой, вся из себя самодостаточная — это бьет по физиологии мужчин. Недаром в селах, где женщина играет свою изначальную роль самки, мужики гораздо закаленнее в сексуальном смысле, чем рафинированные городские жители.
Секс нужен, это я как доктор говорю, и искусственные половые члены нужны массе неудовлетворенных женщин, и резиновые куклы необходимы мужикам, которые страдают робостью по отношению к женщинам. Но только в секс-шопах. Нельзя продавать все это вместе со сникерсами, с солнечными очками. Среди педерастов есть замечательные люди, но голая мужская задница на первом канале в три часа дня мне претит. Я за законопослушный секс.
Распускал ли я хвост перед женщинами? Ну а как же! Что ж я, не мужчина, что ли? Я же в миру живу…
А женщин люблю разных… Но они прежде всего должны быть женщинами. Повторяю — я жутчайший противник эмансипации, противник даже политической партии «Женщины России». Считаю, что их место на кухне, а не в Государственной Думе, потому что они вешают на мужей заботу о своих детях. Я считаю, что женщина — это очаг, а выход на работу — «для общения». Вот такие женщины мне нравятся.
А если она еще и симпатичная — это же прекрасно!
«Я вас люблю» я говорил всего два-три раза в жизни. Совсем не обязательно мужчине говорить «Я тебя люблю» женщине, с которой он раз переспал. Все нормально, пока в этом не появится грязь.
Грязь — это когда мужики после сорока пяти бегают, «сшибают» молодых девчонок. Это непристойно.
Каждый имеет право на курортный роман в любом возрасте, но именно на роман.
Женский успех? Дешевых поклонниц у меня нет, пожалуй, и раньше не было, на лоскуты с меня одежду не рвали. Есть, правда, пара-тройка сумасшедших, но я же доктор по первой профессии, понимаю…
Что до отношения к женщине, то оно должно быть уважительным. Нет, я не кричу: «Вступиться за честь женщины — рыцарство!» Не надо этих разговоров о средних веках. Все это очень мило: дуэль, по морде, перчатку в лицо. Слишком круто. Ты можешь любить женщину, можешь не любить — это твои проблемы. Но относиться к женщине нужно уважительно, поскольку это мать, жена, любимая. Это вообще слабый пол.
У меня отношения с женщинами — это отношения нормального мужчины: я люблю слабую половину человечества. Но это вовсе не значит, что я бегаю и снимаю телок на панели. Есть вопрос очень личный. На пути любого мужчины, как, наверное, и большинства женщин (хотя тут в силу физиологии все сложнее), за долгую жизнь случаются романы, увлечения — минутные, трагические, комические. А во что это переходит… Не знаю, у меня к исламу с его многоженством есть некоторая симпатия.
Что касается «Love stories», тут я не герой. У меня было, у меня есть, у меня, может быть, будет. Но это наше — мужское. Я нормальный физиологически функционирующий мужской организм, но никогда не выставлял себя героем по этой части. У меня отец — уролог, брат — тоже врач, но ни с отцом, ни с братом за всю свою жизнь у нас не было ни одного разговора «о бабах». Ни одного…
Я своих женщин никогда не подсчитывал и, если бы их подсчитал, никогда бы об этом не сказал.
Выше я среднего мужчины или ниже?.. Пусть об этом думают мои женщины. Пусть они об этом рассказывают! Но не я. Вот тогда будет по-мужски. Я знаю: когда женщины утратят интерес ко мне — это конец.
И не только потому, что я артист: всякий мужчина должен чувствовать на себе женские взгляды. Иначе он не мужчина…
И жена моя, кажется, думает так же. Она ведь со мною — и тоже живет в моей профессии. Мы прожили с Леной больше двадцати лет. Думаю, это говорит само за себя. Надо делать так, чтобы твоя женщина не старела. Но на своем организме бег времени я ощущаю. Бороться с этим бесполезно, иногда лекарства пожрешь для поддержания состояния.
Я доктор, знаю, что смерть неотвратима. Нет, я не кокетничаю, дескать, приходи ко мне, костлявая, мне без разницы. Ни в коем случае! Чем позже это случится, тем лучше. Истинно верующим, наверное, легче — они знают, что их ждет там. А нам непонятен этот переход и поэтому страшно: как это — я жил, и вдруг меня не будет. Но в принципе я к этому готов. Единственное, чего хочу: «если смерти — то мгновенной, если раны — небольшой».
Но вообще-то я себя чувствую нормально. У меня взрослая дочь и дедушкой могу стать уже совершенно спокойно. Моя бабушка говаривала в одних ситуациях: «Саша, тебе уже шестнадцать лет», а в других: «Саша, тебе еще шестнадцать…» Диалектика… Так же могу сейчас сказать о себе. Мне уже, и мне еще!..
А свадьба дочери была очень хорошая, на «Голубой даче» — есть у нас в Ленинграде такой особнячок, который может снять любой человек при наличии денежных знаков. Из «пышностей» закатил Ане фейерверк: нанял пиротехника, и он все это организовал на зимнем воздухе. Стол был хороший, еда вкусная. Гостей собралось человек сто, были только родственники и друзья: не считать же «свадебными генералами» Кобзона с Громовым! Иосиф и Боря — мои друзья, приехали после заседания Думы поздравить и вечером же уехали. Подарил Ане на свадьбу песню и еще комплект — сережки, колечко и тоненькое жемчужное ожерелье, достаточно скромное для моего положения.
Ее муж — венгр из Румынии, уже пять лет живущий в Израиле. Неимущий студент физкультурной академии, работает в бассейне тренером по плаванию, чтобы содержать неработающую маму, младшего брата и дедушку. В бассейне они с Аней и познакомились, когда мы были на гастролях в Израиле. Они познакомились, и он понятия не имел, кто я такой. Мы с Аней счастливы, что он полюбил ее, а не мою известность. И женился на ней, а не на дочери Розенбаума. Вообще он хороший парень. Отец — венгр, мать — еврейка, жили в Румынии, эмигрировали в Израиль. Мальчик — замечательный.
Где они будут жить — это сложный вопрос, я хочу, чтобы они жили там, где им будет хорошо. Не имею права указывать детям. Пусть поищут себя. Пока жив, буду им помогать. Уверен в одном — моя дочь никогда не потеряет России. И еще знаю, что я буду жить здесь. Следовательно, достаточное время здесь будет проводить и моя дочь.
В дни перед свадьбой дочери был невероятно спокоен: видимо, из-за ответственности за проводимое мероприятие. Мне было и очень тяжело — такое ощущение, будто кусок плоти от меня оторвали. На следующее утро я улетел на гастроли.
Но праздничное настроение испортило чужое жлобство, несправедливость, грязь, хамство, вся эта газетная шумиха со свадьбой Ани. Писали о кавалькадах правительственных авто с высокопоставленными гостями. На самом деле Иосиф Кобзон и Борис Громов приехали из Москвы прямо с думского заседания и поздно вечером улетели обратно. Естественно, что они из аэропорта приехали на машинах. Вот и весь длиннющий «кортеж». Или: «Невеста вышла в шикарном белом платье». А что, она в ватнике должна была быть? И почему бы не в шикарном платье? У меня единственная дочь. Имею право купить ей свадебное платье. Зарабатываю.
Хамство — это очень сложный вопрос. Хотя я научился владеть собой, но иногда очень хочется съездить по морде за гадости.
В творчестве мечтаю о двух вещах. Первое — работа с нашими выдающимися классическими музыкантами, но это — на подходе. Еще очень хочу, чтобы наступило время, когда я смогу давать в десять раз меньше концертов за те же деньги: об этом мечтает каждый среди нашей братии.
Есть мечты и по жизни: поселиться за городом, устроить свой небольшой зоопарк и общаться с животными. По-черному завидую Брижит Бардо, которая может себе это позволить. Если бы я сегодня имел финансовую возможность, быстро бы возвел себе домик недалеко от Ленинграда, завел пару-троечку коней, построил псарню, взял конюхов, пару ребят для собак. И разводил бы хороших псов.
И еще: мое — это лошади, охота.
Но на охоте я с год уже не был, не до этого, хотя раньше хаживал часто.
На охоте я уже не убиваю. Могу сейчас застрелить разве что кабана. У него глазки маленькие, глубоко посаженные и ничего не выражающие. Или, на худой конец, птицу. Олени плачут, зайцы кричат — не могу. А уж волков — никогда в жизни.
Волк — очень интересное животное. У него есть свои отрицательные свойства, он может быть очень коварен. Но он сильный, смелый, решительный, стадный в хорошем смысле этого слова, мужественный.
Собака — друг человека. А лошадь нам наверняка еще ближе — умная и очень верная. Вообще, животные лучше, чем люди, потому что они абсолютно честные. Если у той же собаки загривок дыбом, вы понимаете: что-то ей не нравится. Если где-то появился медведь-людоед — о нем вся страна знает. А мы жрем друг друга на протяжении всей человеческой истории. И при этом говорим, что звери — звери, а мы — люди.
МЕЧТАЮ О ХУДСОВЕТЕ
Есть два вида конъюнктуры. Плохая, каковой является вся наша сегодняшняя попсовая эстрада. Я бы даже назвал ее омерзительной конъюнктурой, потакающей самым примитивным запросам публики. И есть другая конъюнктура — то, что нужно людям сегодня. Те, кто прежде говорил, что мои «афганские» песни — конъюнктура, сейчас приходят ко мне и извиняются. Потому что я писал их для людей, которые хотели слышать о своих погибших детях, друзьях. Я пел про Афганистан, когда этого не делал никто, когда ничего, кроме тюрьмы, заработать на этих песнях было нельзя.
Да, это была конъюнктура, но в хорошем смысле этого слова — нужная. Так что не стоит пугаться этого понятия. Если я пишу о ворах, то я так хочу, если о казаках — так чувствую, если «Вальс-бостон» — так желаю.
А вот когда конъюнктура для денег — тут совсем другое. У меня никогда не было имиджмейкеров, редакторов, режиссеров, советчиков всяких. Делаю то, что думаю, пою и живу, как чувствую, говорю, как слышу и как хочется сказать.
Эстрадное искусство сейчас выглядит… среднеполым, так будет точнее. Не всем дано быть с мышцами, с какой-то физической аурой. Для меня Валерий Леонтьев — мужчина. Потому что Валера делает свое дело профессионально, по-мужски. Или Мулявин в «Песнярах» — просто замечательный мужчина. А сегодняшняя среднеполость — от желания, для мужчины совершенно чуждого, нравиться всем девочкам без разбору, к тому же недорослям. Каждая самка выбирает самца. А когда самец старается понравиться всем самкам, он не самец, а нарцисс, который всегда с «голубизной». Нарцисс всегда — среднеполый.
Куда вы ни плюньте — попадете сегодня в секссимвол. Главное — плюньте. Когда один из популярных сегодня эстрадных исполнителей, щенок, юнец, публикует список своих женщин в газетах и подсчитывает их количество прилюдно — это катастрофа для мужественности. И хотя мышцы у него могут быть как у Шварценеггера, он уже не мужчина. Настоящие мужчины себя так не ведут. Вот, к примеру, Гафт — хоть раз он крикнул, что он — секс-символ? Хотя Валентин Иосифович — мужчина из мужчин.
Богдана Титомира очень любят (и слава тебе, Господи) дети 16–20 лет: они видят в нем сильного мужчину. А я сильного мужчину вижу совершенно по-другому. Мне эти «дела» Богдана Титомира даром не нужны. Я предпочитаю делать их у себя в постели со своей собственной женщиной. И еще скажу вам как врач: чаще всего о своих сексуальных подвигах кричат импотенты.
Я люблю общаться с интересными людьми. А вот с этой попсовой тусней мне нечего делать. И это совсем не потому, что они плохие, нет. Просто мне не интересно — ходить с серьгой в ухе или называть себя во всех газетах «секс-символом»… Есть дань жизни, но не времени. Я другой человек. Я врач «внутри», я поэт и композитор, у меня есть чем заниматься. У меня совершенно другие заботы.
Да, я мечтаю о худсовете. И все время об этом говорю, рискуя навлечь на себя брань крайне левых, беспредельно раскрепощенных людей. Я не хочу смотреть в три часа дня по первому каналу голые задницы. Я не желаю, чтобы мои дети слушали: «Я на тебе, как на войне». Я не против такого искусства — каждый имеет право выбирать развлечение по своему уму и уровню. Но мы живем в православном христианском государстве, среди людей, которые на протяжении многих поколений привыкли к определенным моральным ценностям. И я хочу, чтобы эти моральные ценности соблюдались.
Я, как врач, нормально отношусь к гомосексуализму, но хочу, чтобы гомосексуализм показывали по платному каналу в определенное время суток.
И чтобы были «чипы», закрывающие этот канал от детей. Основная ошибка государства — это то, что сегодня позволительно писать (и соответственно читать) все, что угодно. Когда я, Розенбаум, мечтаю сегодня о цензуре, то я не об идеологической цензуре мечтаю. Идеологическая цензура — это плохо, а общечеловеческая цензура — это хорошо. Ведь все это дети читают, слушают. Без государства ничего с этой проблемой не сделать.
А запретный плод? Он сладок, да. В свое время и мы порнуху искали. У нас, правда, не было тогда видеомагнитофонов, поэтому мы искали фотографии. Признаюсь, я сам искал фотографии голых баб у мамы в учебнике по акушерству и гинекологии. Это было нормальное мужское взросление. Но в нас не впихивали это в таком количестве, как сейчас.
На каждом книжном развале продается Геббельс, Гитлер… Я не против того, чтобы мы прочитали «Майн Кампф». Кому-то это надо для работы, для знания исторических, военных проблем. Тогда, пожалуйста, иди в публичную библиотеку и бери по специальному запросу. Но разве можно в стране, которой столько горя принес фашизм, продавать эти книги на каждом шагу?!
Предательство — это всегда плохо. Особенно предательство человека в погонах. У господина Резуна-Суворова (это автор книги «Аквариум», бывший офицер Главного разведывательного управления МО СССР, сбежавший на Запад), оказывается, есть свои какие-то идеологические мысли. Да задери тебя комар, ты можешь думать все, что тебе хочется, хочешь уехать из этой страны и раскрыть ее секреты — дело твое. Но тогда сними с себя погоны. Мелкий же предатель оказался… А мы продаем его книги, в которых он рассказывает, как героически боролся с тоталитарным режимом.
И читает молодой курсант Военно-морского училища имени Дзержинского книги полюбившегося ему господина Резуна и думает — вот как надо поступать! Вот пример для подражания!
Да, дедовщина — это плохо. А в каком государстве, какая армия без «деда» существует? Да ни одна армия не держалась на генералах, всегда — на старослужащих. Но дедовщина бывает разная. Мы разрешаем людям жениться в 18 лет, но при этом же мама отправляет сына в армию, как в детский сад ведет. И вот он лишь получил лычку ефрейторскую, начинает заставлять пацана гальюн драить зубной щеткой. Это он — «дед»? Он говно, а не «дед».
У нас по ТВ, в прессе — романтизация преступности, причем романтизация робингудовская. Я мальчишкой никогда не видел на экране по 28 тысяч убийств за день. А нынешние дети видят… Тут огромная вина средств массовой информации, современной литературы, кино. Ведь раньше у нас всегда, если мы говорили о детективных историях, бандит был наказан, всегда пойман. А сегодня появилось огромное количество героизированных персонажей, начиная от какого-нибудь Васи Тютькина и кончая киллером Солоником. И симпатии публики все больше склоняются на сторону отрицательного персонажа.
И оружие сейчас имеют все, кроме тех, кому это надо. Я мечтаю получить себе ствол, потому что я никогда не хожу с охраной, она мне на хрен не нужна. Если меня захотят завалить — завалят. Но чтобы ствол получить, сколько мне придется разговаривать со своими друзьями из органов… А другие идут, покупают спокойно стволы, и вроде бы все нормально. Сделают себе разрешение быстренько, в два дня.
Я не могу покупать оружие на черном рынке — я же законопослушный человек. Мне совали такое количество стволов в Афгане, такого оружия, что можно было чуть с ума не сойти — и от кайфа и от соблазна. Но я знал, что если вдруг что-нибудь где-нибудь… И будет так неудобно, некрасиво…
Из оружия у меня есть только зарегистрированное охотничье ружье. Есть еще две милицейские дубинки, подаренные мне Министерством внутренних дел.
Я никогда не буду пользоваться стволом в преступных целях — у меня есть какие-то тормоза в душе и были всегда. Они и у всех у нас были, а сейчас без тормозов оказалась вся страна.
За преступления нужно наказывать, чтобы люди железно это усвоили. Поэтому я против отмены смертной казни: она обязательно нужна по отношению к выродкам. Только выродок способен ставить ребенку раскаленный утюг на живот в присутствии матери. Он не должен жить, так же как и тот, кто убил сознательно. Это же дико — позволять Чикатило после всего содеянного им еще подавать на помилование. Таких нужно расстреливать сразу же после выяснения всех обстоятельств его гнусных дел. И казнить принародно, чтобы все остальные видели, какая смерть ожидает подонка.
Так что я за смертную казнь и с заместителем министра МВД Колесниковым согласен в этом на 100 процентов. Я работал на «скорой помощи» и видел девочку четырех лет с разрывом промежности и ожогами 40 процентов тела. Это только один случай из моей практики, только один… А сколько я видел подобного?..
Мы угробили 150 тысяч человек в Чечне. И кто за это ответил? Один виновник президентом работает, второй виновник заседает в какой-то Думе… Все они — депутаты, сенаторы. В 1993 году убили в Белом доме больше сотни человек. И что? Один виновник — президент, второй — губернатор Курской области, третий по-прежнему живет в брежневской квартире…
Раньше была целая история, чтобы взять на поруки какого-нибудь хулигана, который вам рожу набил… А сейчас стреляют, убивают — и никто не несет ответственности. Я считаю так: убил — получи за совершенное!
Осознает преступник грядущее наказание, не осознает — это никого не волнует! Надо парням сказать сразу: хочешь играть в подобные игрушки, знай, что эти игрушки стоят пятнадцать лет. Возмездие должно наступать неотвратимо.
Последние десятилетия научили наших людей считать чужие деньги при неумении делать
свои. Когда филармония не заинтересована ни в чем, когда она не имеет никаких возможностей для того, чтобы заинтересовать артиста, когда в итоге все выливается в уравниловку, то нечего и ждать хороших результатов.
Деньги нужны для того, чтобы развивать искусство, а не для того, чтобы его переиначивать. Не надо кормить меня безголосыми и утверждать, что это лучшее. Много раз уже говорил, что все рейтинги проданы. Знаю, что сегодня можно купить любое место в любом рейтинге. Если деньги так правят шоу-бизнесом (не люблю это слово, предпочитаю другое — искусство), то мне эти деньги не нужны.
Убежден, что многие журналисты слушают дома Паваротти, Стравинского, Уитни Хьюстон, а мне в своих средствах информации говорят, что «Ногу свело» — лучшая группа мира, и помещают ее в один ряд с «Пинк Флойд». Для этого надо быть или больным человеком, или тебе очень хорошо заплатили, или тебе надо поднять тираж своей скандальной газеты. Нельзя ставить на одну доску или в один хитпарад Александра Розенбаума и Эрика Клэптона. Он — человек планеты, в отличие от вашего покорного слуги.
Меня просто не устраивает то, чем живет и чем занимается сегодня российская эстрада, — на 95 процентов не устраивает. Поэтому не хочу иметь ничего общего ни с этим 95-процентным искусством, ни с 95-процентными артистами, которые его исповедуют. Ненавижу всю эту эстрадную тусовку, артистов, которые строят из себя мальчиков и девочек до седых волос. Я не хочу обидеть своих коллег, но дружба дружбой, а служба службой. Нормальные артисты не обидятся.
Можно с ходу назвать настоящих музыкантов, по которым видно, что они не с улицы пришли: Володя Пресняков, Дима Маликов, Андрей Мисин, Анжелика Варум, группа «Браво», Андрей Макаревич с «Машиной времени»…
И тут же вспоминаю, что была «Овация» — этакий семейный междусобойчик, который поставил все с ног на голову.
Нормальным людям это режет ухо, уверяю вас! Просто выросло поколение, для которых классика — «Модерн Токинг», после которого в нашей поп-музыке десять лет не менялись аранжировки, тональности и тексты. Пятнадцатилетние ничего другого и не слышали — и все по вине людей, которые в силу профессии должны следить за качеством популярной музыки. Я говорю, в частности, о телевизионных редакторах. Им потому попса не режет ухо, что они — у «кормушки», им «бабки» в клювике носят те, кто отсутствие таланта компенсирует деньгами.
Если дело и дальше так пойдет, то о качественной, мирового класса музыке на отечественной эстраде можно забыть на ближайшее время. Искусство потерялось за красивым словом «шоу-бизнес». Но если там, откуда это слово пришло, бизнес делается для шоу, то у нас любое шоу нужно для бизнеса. И все мероприятия вроде «Овации», все эти хит-парады в газетах и на телевидении лгут и оболванивают слушателей с единственной и очень обидной целью — обмануть, чтобы сделать на этом деньги. И поэтому нечего удивляться, что звезд сегодня делают из кого угодно: из администраторов гостиниц, из пэтэушниц, из мальчиков со двора.
С небольшим слухом, комариным голоском можно, заплатив деньги, выпустить пластинку, снять клип у Хлебородова или Бондарчука, «засветиться» за соответствующую плату в какой-нибудь телепередаче, даже арендовать центральные площадки страны… У меня есть четверостишие: «Я перерос обидчивость амбиций, но предо мной стоит вопрос «Кем быть?» Тогда талантам было не пробиться, сейчас талантам нечем заплатить». В конфликте денег и таланта сегодня деньги побеждают.
Я не за себя переживаю. Я просто-напросто переживаю за дело, которым я занимаюсь. А там все куплено и продано на корню, власть там сегодня захватила кучка нуворишей, выскочек, не имеющих на нее никакого права, подменивших собой и Союз композиторов, и общественное мнение. Я всегда говорю: «Ребята, только не называйте себя музыкантами, признайтесь честно, что вы — коммерсанты от музыки!» Мне жалко талантливую молодежь, которую сегодня приучили к этой жути, вранью. Ведь сейчас в порядке вещей — вставить в произведение сто пятьдесят тактов из супермирового шлягера и сказать: «Мое!» Да если раньше кто-то обнаруживал у себя, скажем, два такта из Пятой симфонии Шостаковича — тут же переделывал то, что написал. И Пятую симфонию при этом еще и знать надо было.
Причина моих редких появлений на ТВ проста: чтобы звучать по телевидению, на нем нужно проводить определенное время. А его у меня нет — гастроли, поездки по стране и за рубежом. Так что у меня не очень много этого эфира. Я свою популярность зарабатывал не благодаря телевидению и даже вопреки ему, поэтому могу оставаться без эфира, и все равно концертов не убавится.
Но, думаю, что причина прежде всего во мне. Для меня встречаться с людьми на концертах гораздо важнее. Что же касается, «желают меня — не желают»… Знаете, я никогда не стремился нравиться всем, оттого, может, кто-то и «не желает». Я на них за это не обижаюсь. А те, кто желает — звонят. Но я не всегда приехать могу. Да чего там — я когда снялся в фильме, так озвучивать пришлось Виктору Проскурину, поскольку у меня на это совершенно не было времени. Так что дело во мне. Конечно, я человек сложный и достаточно неудобный для многих на телевидении.
Мои прокатчики, люди, которые занимаются организацией гастролей, заставили сделать клип: реклама есть реклама. Стоит это плюс-минус двадцать тысяч долларов. Выяснилось, что я же за один прокат по «ящику» должен еще заплатить энную сумму баксов. Не мне, как это принято во всем мире, а я!
Или мне предложили снять про меня большой телефильм — за пятьдесят тысяч долларов. Это — не мой гонорар, это я должен оплатить все расходы по производству, гонорары, эфирное время… Бред! Не буду этого делать, мне неприятно. Ротару не появляется на телевидении, думаю, потому, что ему, телевидению, не платит. И не потому что у нее, может быть, денег нет — ей это делать противно. Но таких людей, которые «добровольно» откажутся от эфира, не очень много. Нет, я — не белая ворона, или уж никак не черный ворон. Просто ничего общего не хочу иметь с попсой, что лезет из всех ТВ-щелей…
«Уясните себе с детства, графоманы-лопухи, у поэтов нету текстов, у поэтов есть стихи». Вот этим, видно, я отличаюсь, в этом мой жанр. Как вы считаете, вхожу я в номинацию «поэт-песенник»? Поэтами-песенниками у нас любят называть себя текстовики, которые о жизни имеют весьма смутное представление. Но дело не в терминах и номинациях — просто я честно тружусь в жанре песни.
Смотрю как-то телевизор, и вдруг у меня глаза вылезают на лоб: с экрана Малинин поет мой романс генерала Черноты «Но, господа, как хочется стреляться…» Песню знает каждая собака, она записана на пластинке много лет назад, но на экране титр: «Стихи и музыка М. Звездинского». Звоню жене Звездинского и говорю: «Вы что там, с ума все сошли?» А Малинин просто не знал, чья это песня. Короче, ему объяснили… Но чем думали эти телевизионные редакторы, эти «профессиональные» люди?
Недавно вижу книжечку Михаила Шуфутинского «За милых дам». Открываю — в книге тридцать моих песен, одиннадцать без подписи. Начинаю поднимать всех на ноги. Оказалось, выходные данные книги — левые. Никто ничего не знает, и сам Михаил Захарович не в курсе.
Михаил Шуфутинский спел огромное количество моих песен, и все это не было оформлено так, как должно. Многие люди долго не знали, что три четверти его самых лучших песен написаны мною. Теперь ситуация наконец-то выправилась, и он нормально оформил все отношения со студией звукозаписи и со мной.
Что сказать о журналистах? Я им самим все про них рассказываю, у меня в этом смысле нет ни от кого никаких тайн. Работа журналиста — работа очень ответственная, а поскольку в нашей стране ответственных людей не очень много, то мы и здесь имеем то, что имеем. Сейчас вообще наблюдается резкое омоложение: сегодня средний возраст журналиста — двадцать один год. Я же считаю, что люди в двадцать один, в двадцать два или в двадцать три года не могут быть настоящими журналистами. За редким исключением, конечно.
Они приходят в профессию малограмотными, не имея никакого жизненного опыта и опыта общения с людьми. Идет какая-то вселенская игра — в звезды и в папарацци. Я уже много раз говорил, грубо, но, на мой взгляд, верно: «Звезд сегодня до… артистов нет».
То же самое с журналистами: папарацци — до черта, а настоящих журналистов, репортеров единицы. Все считают, что нужно смаковать «клубнику». Но как не понимают наши звезды, все эти звездуны, что кроме внешнего понта — двадцати шести человек в охране и двадцати семи перстней, тридцати восьми крестов — нужно еще и песни петь, музыку играть. Можно надеть на шею двадцать восемь цепей, можно менять ботинки с метровыми каблуками и при этом исполнять отвратительную попсу. Тогда зачем же ты напяливаешь атрибутику рок-музыки, если ты понятия не имеешь, что это такое?
Так и журналисты. Все их вопросы, все их, так сказать, репортажи, все их проблемы заключаются только в том, чтобы показать, что «мы не хуже американцев. Мы такие же крутые репортеры, как они».
Но они не понимают основного, что при этом нужно хорошо знать русский язык, иначе толково работать в журналистике невозможно; что нужно умные книжки читать, чтобы в некоторой мере быть литератором; что вообще нужно «отвечать за базар» и знать, что если ты напишешь что-то не то, то тебя могут привлечь к суду. С последним у нас сложно: никто еще толком, как положено не ответил.
Я очень уважаю эту профессию, как и любую другую, но в ней сейчас очень мало профессионалов. В нее приходят люди не о других рассказать, а себя показать, показать за счет какого-то скандала, за счет какого-то конфликта с известным человеком, за счет какой-нибудь гнусности. Двадцатилетний щенок охаивает семидесятилетнего мужа, у которого за плечами двадцать восемь тысяч книг, тридцать восемь тысяч опер, четырнадцать тысяч балетов, оперен или еще чего-то, а необразованный жлоб обращается к нему на «ты»… Все обесценилось…
Приходят ко мне, к примеру, такие репортеры, которые, закончив Сельскохозяйственную академию, говорят со мной о музыке, о песнях. Я даю каждому человеку осуществить право на собственное восприятие искусства, но надо же и совесть иметь!
Когда мне говорит Мстислав Ростропович: «Знаешь, Саша, я здесь вместо до-минора взял бы ля-бемоль-мажор…» — я прислушиваюсь, потому что этот человек — в своей профессии. Я могу согласиться или не согласиться, но я прислушиваюсь.
Когда мне говорит какой-нибудь гопник из Института стали и сплавов: «Эта песня крутая, а эта — говно…», то даже это я прощаю. Но когда он начинает говорить: «Я на вашем месте сделал бы по-другому», — я сразу говорю: «Уходи». Я просто сползаю с кресла, когда это слышу.
Один жлоб сказал мне: «Вы не пытались петь тише?..» Он бы еще Плисецкую попросил сплясать гопака. Думаю, что у Майи Михайловны это получится, только она не пляшет гопака. Она — Плисецкая.
А я — Розенбаум. Где надо, я шепну, но если я пою мощно, то, значит, мне это нужно. Вы хотите, чтобы я стал Дольским? Тогда сделайте Дольского Высоцким. Совершенно идиотские вещи происходят именно от малограмотности, от неовладения профессией. «Почему вы не хрипите?..» Никто же не просит Нэша и Янга петь как Стиви Уандер.
Я не избегаю журналистов, наоборот, общаюсь с ними много. Телевидение предоставляет мне мало возможности общаться с аудиторией, поэтому я общаюсь с многомиллионной аудиторией через прессу.
Но бывает и тут очень грустно. И грубо.
Скандалы мне не нужны: я человек не скандальный, не думаю об этом и не провоцирую их. Мне не нужна дешевая реклама, и я не считаю себя американской звездой. У нас сегодня звезд до черта, а артистов нет. Мне всегда смешно слышать: «Артист такой-то сегодня прошелся по улице с артисткой такой-то…» И вся страна обсуждает… А-ля Америка. Мне смешно.
Что же касается каких-то слухов-сплетен, то думаю, что журналисты уже наслышаны о моем нраве. Я не советую им писать обо мне какую-то грязь, потому что я-то разбираться буду с теми, которые оскорбят меня или близких мне людей, без всяких судов и следствий.
Если человек меня уж очень сильно выводит из себя и задает совершенно гнусные и грязные вопросы, я просто говорю: «Покиньте помещение. Пожалуйста». «Вон отсюда» — это самое резкое, что я могу сказать.
В концерте я открываюсь зрителям на сто процентов. На сцене я «раздеваюсь догола», и это естественно. А в разговорах я раскрываюсь настолько, насколько способен меня раскрыть собеседник. Ко мне нужен особый подход. Мне не надо врать, я моментально чувствую ложь и фальшь. Если собеседник хочет копнуть глубже обычного, задеть мое самолюбие, он должен делать это не из желания порыться в чужом белье, а из стремления понять меня.
О моем творчестве можете писать все, что угодно, — нравится, не нравится, омерзительно, восхитительно, потрясающе… Дело вкуса. Но о моей личной жизни и о моих друзьях если кто-то напишет грязно — никаких судов, просто приеду в редакцию и набью физиономию. Вот и все.
Если почувствую в человеке недоброжелательность и злость, то вполне могу… Не нагрубить, но сказать по-мужски и прямо. Бывало, я открывал душу, а потом получал камень в спину. Но в последнее время меня, слава Богу, обходят собеседники, падкие на «клубничку» и светскую лабуду.
Я пришел на передачу «Акулы пера», и мне потом, после нее, редактор сказал: «Как вы вели себя с ними! Так хорошо, спокойно…» А я себя с ними никак не вел. Пришел в студию и увидел шестнадцать невоспитанных детей, глупых, не глупых — это отдельная история. Я просто увидел шестнадцать маловоспитанных молодых людей. Я с ними и разговаривал как отец с маловоспитанными детьми, и никак больше.
Один молодой человек, есть там один, специальной направленности, спросил меня: «А почему вы носите такой имидж… Мужской такой, ой-ой-ой…»
Я говорю: «Не знаю, вам виднее, мужской он или не мужской…» И все заржали. Ну а что мне еще было ответить на это? Совершенно хамский, идиотский вопрос от человека, который, наверное, считает себя умным. И его считают умным, раз пускают в студию задавать мне вопросы. Паноптикум, да и только.
Я не раз говорил о том, что над прессой необходим контроль. На это некоторые действительно умные люди мне отвечали: «А кто будет этот контроль осуществлять?»
Так что я — за цензуру, но не политическую, не идеологическую, а общеморальную и профессиональную. Еще раз тот же вопрос: «Кто этот контроль будет осуществлять?» Если я скажу: «Я», то это будет звучать самонадеянно. И совершенно не обязательно, что в качестве этакого судьи я буду прав, потому что я тут же запру огромное количество произведений искусства на замок — просто не пущу. Или я буду пускать этих, с позволения сказать, артистов в отдельные каналы и в определенное время. Скажу им: «Я вас как доктор понимаю, но, пожалуйста, с часу ночи и по отдельной платной программе. А пока у нас такого канала нету, я вас выгоняю».
Мы живем в православной христианской стране, и то, что показывают на ТВ, неприемлемо для нас. Но, с другой стороны, запрет на это — это ущемление прав, свобод, это надо решать на парламентском уровне. Это очень сложная проблема.
И всю эту дешевую, поганую попсу я бы тоже такой же поганой метлой выгнал. Но эта дешевая попса нравится четырнадцатилетним, они ее смотрят. Значит, нам нужно сделать девяносто шесть каналов, как в Америке. Но мы их пока не имеем.
Еще бы я совершенно железно освободил пару-тройку каналов от рекламы. А как? Реклама — с прокладками, с прыщами, со всеми этими поносами («с облегчением вас!»)… Такое ощущение, что у нас вся страна (судя по рекламе) в угрях, в поносе, в менструациях, не моется, блюет и вся поголовно с грязными зубами. Омерзительно! Но как, как это убрать с экранов? Запретить? Опять же только через парламент. Так что я — за цензуру общечеловеческую и общеморальную. Но все это будет упираться — не в меня и даже не в самого главного начальника телевидения. Это будет упираться в законодательство.
Но я не складываю оружия, стараюсь кричать со своей колокольни. Я это говорил раньше, говорю сейчас и буду говорить впредь всем журналистам, с экрана, по радио: «Господа коммерсанты от музыки! Скажите один раз, что вы не музыканты, и я от вас отстану. Вы же дома слушаете Стиви Уандера и Шостаковича, Бетховина и кантри, как же вы можете слушать то, что вы предлагаете людям с экрана.
Скажите, хоть один раз скажите: «Простите нас, ребята! Наши старые рокеры и панки, простите нас великодушно. Нам хавать нечего, и мы играем это дерьмо, потому что сегодня за это нам платят бабки». Извинитесь передо мной и перед моими товарищами, которые знают, что почем на телевидении».
Нет, они и не подумают так сделать. Но если вы играете такую музыку, если вы считаете себя музыкантами, то я буду на вас всегда катить бочку. А если вы завтра честно скажете, что вы не музыканты, коммерсанты… Что ж, каждый человек волен зарабатывать деньги… Но не причиняя другим вреда. А ваша работа все-таки лучше, чем морду в подворотне бить, лучше, чем воровать.
Я поддерживаю Иосифа Кобзона и его законопроект о введении запрета на фонограмму. Есть ситуации, когда фонограмма по техническим причинам необходима: на телевидении, в кино, на огромных стадионах. Но в залах на тысячу мест, где от артиста до зрителя в первом ряду два шага, петь под фонограмму — это жульничество, преступление. Нужно ввести законодательную норму: хочешь работать под фонограмму — пожалуйста. Но тогда в рекламе, в билетах, в программах нужно писать: «в концерте используется фонограмма» или «в концерте иногда используется фонограмма» — пусть зритель следит и гадает, вживую поет артист или «под фанеру», если, конечно, купит билет на концерт.
Я теперь человек битый. Раньше меня все это злило. А сейчас смотрю на все, как на нормальное проявление клинической болезни, которая называется «шизофрения». Да, прежде я семь лет работал без афиши, был просто «автор-исполнитель». Да, меня арестовывали в Киеве, этим делом занимался комитет.
Мне инкриминировали все, что угодно: после одного концерта в зале киевской городской больницы, который сняли люди из клуба песни, появилась публикация о пьяной оргии и Розенбауме, танцевавшем на операционном столе. Автору этого пасквиля в голову не пришло даже мысли, что ни одна медицинская сестра в операционную постороннего никогда бы не впустила! Или была статья в «Волжской коммуне», на всю жизнь ее запомнил: «Вот у Розенбаума песня «Камикадзе». Это кого же он прославляет? Японских фашистов? Услышали бы наши деды, они бы этому Розенбауму шею свернули…»
И так было постоянно. Только тогда было более агрессивно, а сегодня эти дети, которые оккупировали эфир и которые росли на моих песнях, ведут себя просто нагло. Когда раньше Союз композиторов узурпировал музыкальную эстраду, то хоть можно было все свалить на диктатуру коммунистической партии. Но среди его членов были высокопоставленные профессионалы — Серафим Туликов, Александра Николаевна Пахмутова… Можно было любить или не любить Флярковского, Эшпая, Тухманова — членов Союза композиторов того времени. Но они имели право, потому что они были профессионалами. Глубочайшими профессионалами.
Сегодняшняя тусня, которая полностью забила эфир собой, делает из себя Союз композиторов. Не пускает никого из посторонних, потому что они не платят деньги — я не хочу говорить конкретные цифры, их многие и так знают. Сегодня — та же мафия, только бездарная, самонадеянная, имеющая, как сама считает, весь мир в ладонях. Но они не останутся в истории.
«ВЫСОТА ОДИНОЧЕСТВА»
Спрашивают о моей песне «Высота одиночества». Не хочется ли, дескать, иногда спуститься на полянку? Нет… Хочется полянку притащить на высоту. Но удается очень редко.
Говорят, что артисты — «люди без кожи». Да артиста «с кожей» и быть не может. Вообще, толстокожие — не самые лучшие люди, наверное.
Хотя меня считают сильным человеком — я не без слабостей: я человек тонкокожий. Сила же моя в том, что я стараюсь никому этого не показывать. Жизнь научила, да и занятие спортом и знание медицины помогают мне владеть собой.
Секунды слабости случаются, но они — мои.
Знать о них никому не дозволено, и никто их никогда не видит. Это нормально. Но и сильный человек хочет приласкаться, чтобы ему погладили за ухом, почесали спинку… Так что я человек ранимый. Но сегодня мне легче: трезвый ум и здоровый образ жизни помогают как-то быстренько склеивать нанесенную рану, хотя все равно она кровоточит даже под пластырем.
Я — человек черно-белый. Конечно, я воспринимаю оттенки: серый, зеленый, коричневый. Но люблю черное и белое: в кардинальные моменты моей жизни для меня опенков не существует. Если я вижу, что, Вы хороший человек, значит Вы — хороший человек, а если он плохой, значит, он — плохой. Постараюсь из плохого сделать хорошего, насколько смогу.
Я — доктор, и мне это очень помогает. Потому что когда я смотрю человеку в глаза, то вижу, когда он лжет, а когда говорит правду, когда ему хочется выпендриться, а когда — посплетничать, позлословить. Я чувствую это кожей и подкоркой. Как врач я должен быстро узнавать человека, понимать его сущность. Очень хорошо могу расслышать фальшивую ноту в чьем-то голосе. И думаю, что правоохранительные органы многое потеряли, не пригласив меня к себе.
Но все равно в жизни я обжигался. И обжигаюсь, и буду обжигаться. Каждый, кто открывает душу, должен знать, что может нарваться на неприятности. А уж если вы распахиваете душу залу в тысячу человек, должны понимать, что при самом лучшем раскладе один обязательно туда плюнет. Но я знаю, что на этот ядовитый плевок найдется как минимум семьсот противоядий. И я буду ими спасен.
Могу простить физическую трусость. Бывает, идет один, а на него — восемь… Далеко не каждый может пойти против восьмерых, зная, что он очень сильно получит. Не каждый выдержит. Я человек достаточно сильный и попадал в подобные ситуации. Но я дрался на улице не очень много — мне хватало спорта. Тренеры учили нас не драться на улице, не для этого нас готовили на ринге. Это нынешние тренеры учат своих ребят для уличной драки, а раньше нам просто это запрещали, потому что сильный человек должен прежде всего договориться с другим человеком. Если договориться не получается, только тогда включать свои мышцы.
А сегодня учат, как морду набить во дворе.
Мне давно хочется написать песню о том, как десять человек бьют одного ногами — я до сих пор не могу понять такую психологию.
Так что я могу простить физическую слабость. Наблюдать за такими вещами, конечно, не очень приятно, но это понимаемо. Могу простить человеку и грубость, сказанную в запале. Но никогда не могу простить хамство. Потому что хамство — это внутреннее, это суть. А если ляпнет: «Да иди ты!..» — это можно понять. Могу простить, наверное, маленькие подлянки — ну пошла любимая женщина без тебя в кино, а сказала, что не ходила. А я этот фильм очень хотел посмотреть… Подляночка маленькая, ну, что делать… Но простить предательство? У меня такое было два раза в жизни.
Когда близкий человек предает, это страшно…
Так два близких человека у меня «выпали». Я никогда не ожидал от себя такой прыти. Они меня предали, скажем, двадцать восьмого числа, а двадцать девятого они «выпали» из моей жизни, как из шкафа, — как будто их и не было. Я никогда от себя такого не ожидал. Это ужасно, когда человек, тебя предавший, просто уходит из жизни и никогда не возвращается. А на злопыхателей стараюсь смотреть как врач на больных, которых нужно лечить и о которых нужно заботиться.
Я осознаю свою ответственность перед людьми: знаю, что не имею права на какие-то необдуманные слова, легкомысленные поступки, потому что на меня смотрят… Мне приходит очень много, писем, и среди них такие, на которые я не могу не ответить. А я не успеваю отвечать: у меня нет времени. И очень страдаю от этого. Когда-нибудь напишу песню, в которой отвечу всем сразу.
Кого можно назвать наиболее верными поклонниками? Об этом мне сложно сказать. Думаю, что у меня есть верные люди и среди пенсионеров, и среди подростков. Мне приятней выступать перед аудиторией, которая имеет свою позицию. Я вообще люблю людей, которые имеют свою позицию.
Пикетов поклонниц у подъезда нет, хотя поклонниц и поклонников у меня много. У них даже клуб в Ленинграде свой есть, но… Дело в том, что мы с ними раз и навсегда решили: у моего парадного они никогда не будут дежурить, за исключением разве что дня рождения.
Я ведь пишу песни не для публики, скажем, «Ласкового мая». Те девчонки и мальчишки, которые тянутся к песням дяди Саши (они меня так называют), понимают человеческий язык, с ними всегда можно договориться.
Никогда не считал себя пророком. Понятия не имею, что это такое, думать о том, что ты пророк, что ты — великий… Можно завтра уходить на пенсию, если вы сегодня об этом думаете. Я не люблю людей, которые делают из себя носителей истины в последней инстанции. Когда человек начинает вещать что-нибудь с таким видом, что он обладает абсолютным знанием, он для меня перестает существовать: не люблю дутых.
«Комплекс полноценности» — удел либо пациентов психиатрической больницы, либо нуворишей с одной извилиной. Нормальный человек постоянно собой неудовлетворен. Это не значит, что при встрече с трудностями у него все должно опускаться, как у закомплексованного мужика при красивой женщине. Просто перед человеком всегда должна проявляться новая вершина, на которую нужно лезть. Олимп — он для богов. А мы не боги, мы простые смертные. И для нас есть только постоянный путь наверх. Совершенно неинтересно сидеть на одном плоскогорье и уж тем более неинтересно спускаться, побывав на верхней точке.
Я никогда не слушаю себя, как птица, закрыв глаза. Такое бывает со мной, пожалуй, только на записях в студии. Но делаю это не для того, чтобы получить удовольствие от собственного пения, а чтобы услышать погрешности. Я не страдаю нарциссизмом и не сумасшедший, чтобы собой заслушиваться, — такого, слава Богу, со мной еще не было.
Я требователен и к себе и к другим. Не люблю тунеядцев, несостоявшихся людей, вопящих, как им плохо и ничего не делающих для других. Когда человек идет на митинг, вместо того чтобы обеспечить деньгами свою жену и ребенка, или пустословит и при этом считает себя мужиком — такого я не люблю. Мужик должен работать, чтобы обеспечить свою семью. Никто в клюве и на подносе деньги не принесет, и очень грустно, что сейчас так много альфонсов.
Если человек здоровый — с руками, с ногами, головой, — не пойму, как это он не может найти работу. Да я, если что, будучи сегодняшним Розенбаумом, завтра пойду чистить улицы. Если, не дай Бог, связки рухнут или голова откажет, ящики пойду грузить в гастроном, на поденную работу наймусь. Наверняка в одном месте сто заплатят, в другом — сто пятьдесят. Но милостыню просить не стану.
Считаю, что могу рекламировать спортивные товары, с удовольствием отрекламирую хорошие книги. Я отрекламировал хорошую мужскую парфюмерию, хорошую одежду. Пожалуйста, отрекламирую все, если это совпадает с моими принципами, вкусами. И потом, я же получаю за это деньги. Но я не буду рекламировать шоколадные батончики или средства для похудения и тому подобное. Ни при каких условиях и ни за какие деньги.
В отличие от прежних времен сейчас я делаю свою судьбу сам, разумеется, в пределах, определенных финансами. Я и раньше не особо обращал внимание на «инстанции», но все же жизнь они мне попортили. А теперь уж и подавно — все в своей жизни определяю сам. Единственное, что меня сейчас ограничивает, — это материальные возможности, как у всех у нас.
Я курю зверски, и моему голосу это не нравится, но курить бросать не собираюсь, потому что не хочу.
У меня никогда не было тенора, а что касается «окраса» голоса, так я тренируюсь. И потом, уже несколько лет веду образ жизни, который связкам гораздо полезнее с чисто медицинской точки зрения. У нас ведь уважение людей идет исключительно через бутылку — на Руси веселие есть питие. И каждый популярный актер в это влезает. Для себя ничего постыдного я тут не вижу: такой «алкоголик», как я, у нас через одного человека. Но когда критично посмотрел на себя со стороны и понял, что алкоголь мешает работе, решил с этим порвать. Пить бросил. Надоело.
В психиатрии есть понятие чувства критики по отношению к самому себе. Когда человек лишается этого чувства — он болен. Меня Бог миловал. Поэтому, когда понял, что заболеваю… Всю жизнь спорил с психиатрами, что нет такой болезни — хронический алкоголизм. А тут увидел на себе ее начало. После этого стиснул зубы, и — все. Далось очень тяжело… Зато сегодня я себя чувствую гораздо тверже.
Раза два было такое, что голос не слушался моей воли, — когда я болел. Но вообще я владею своим организмом и живу с самим собой без разногласий.
Конечно, я сегодня увереннее. Но не самовлюблен нее и не самонадеяннее. Я стал старше и не отказываю себе в удовольствии умнеть с годами и уметь признавать свои ошибки.
Я себе нравлюсь и не нравлюсь и тогдашним, и сегодняшним, и завтрашним. Непримиримость мне в себе нравится. В себе больше всего ценю целеустремленность, независтливость, ожесточенность в достижении цели, в отстаивании своей позиции, которую я никогда не продам и не отдам.
В других людях ценю в первую очередь профессионализм, особенно в мужчине. Когда человек профессионален — он состоявшийся человек. А когда он состоявшийся, он независтлив, не зол: ему некогда завидовать, ему надо делом заниматься.
Гитара — не лучший музыкальный инструмент.
Как профессиональный музыкант, я с глубоким уважением и симпатией отношусь и к скрипке, и к флейте, и к гобою, тромбону, к другим инструментам. Но мне наиболее дорог тот инструмент, на котором играю. Это гитара и фортепиано, потому что это моя работа, мой хлеб, моя жизнь.
Мою гитару зовут… гитара. Она у меня не поэтичная — она рабочая лошадь. А вообще-то это очень хрупкое родное существо. И она всегда со мной. Одна моя гитара уже лет пять висит в Хард-рок-кафе, в одном ряду с гитарами больших музыкантов. Конечно, я рад такому окончанию истории ее пребывания у меня…
Любимой гитары как таковой у меня нет. Любимые все. Когда покупаю гитары, я их люблю. Есть одна новая, я к ней еще не готов. Но как только пойму, что на ней надо сыграть, полюблю так же.
Я работаю с «Овэйшенами». В принципе гитары я меняю не часто, играю на них долго. Вторая гитара у меня — «Тэйлор», тоже очень хорошая. Но в основном играю на «Овэйшен». Все аксессуары — струны, крутилки и все остальное — покупаю в Америке. Я бываю там два раза в год и поэтому все закупаю впрок там.
С пятью — десятью хитами вполне можно всю жизнь ездить по концертам. Пой себе песни, которые давно сочинил. С «Утиной охотой», «Глухарями», «Вальсом-бостоном» да «Казачьей» можно обеспечить себя гастролями до конца жизни — страна-то огромная. Как говорится, на мой век хватит! Но ведь это так скучно! К тому же я профессиональный музыкант и никогда об этом не забываю. Я бы не мог, работая врачом, лечить всю жизнь двух-трех больных. Не случайно же после окончания института я пошел врачом на «скорую помощь». Та же ситуация и в творчестве.
Тяжело все время мотаться по разным городам. Таблетки иногда приходится жрать, когда плоховато бывает. Ведь если раньше ты мог сидеть в Чите шесть дней, в Иркутске — неделю, в Новосибирске давать по два концерта в день, и дворец спорта бывал до крыши полон, сейчас приезжаешь — концерт, максимум два — и дальше. Однажды дал за восемнадцать дней концерты в десяти городах!
Одни переезды выматывают и убивают. А разница во времени! Ныряешь из шести часов в два, из двух — в четыре, потом опять в шесть. Но никуда не денешься.
В провинции (хотя я не принимаю этого слова «провинция») публика более горячая, более отзывчивая и доверительная, чем в столицах. Ведь начинал я с выступлений в сельских клубах, на фермах, это уж потом пришла ко мне известность.
А вообще-то я люблю петь в небольших городах.
Но люблю и Москву — прежде всего за ее коренных жителей. Это замечательные люди, как и любые коренные — туляки, пензенцы и так далее.
Мне очень нравится слышать «булошная», «конешно», «прянишная» — это прекрасный московский говор.
Обожаю Москву за ее маленькие церквушки, бережно сохраняемые: таких нет больше нигде. Мне нравится, что Москва строится, нравится ее коммерциализация. Город стал западным в лучшем смысле этого слова, и тут я отдаю дань Лужкову.
Но вот за размашистые празднества, за понты я Москву не люблю.
Москву я увидел сам — меня по ней специально не катали. Потом, когда я стал здесь чаще бывать, появилось большое количество приятелей, товарищей. Они меня водят по разным переулкам, закоулкам. Очень люблю Бульварное кольцо и все, что рядышком с ним.
В Москве мне хорошо пишется. Думаю, потому, что я здесь в гораздо большей степени предоставлен самому себе, чем дома. В Болдино мне не выехать, нет у меня такого владения. И заменяет мне его номер в гостинице «Россия». В других городах я не засиживаюсь по нескольку дней, а здесь живу достаточно часто: на одном и том же этаже, в одних и тех же номерах. Ко мне не пускают никого, и если я не хочу никого видеть, до меня и не добраться. Здесь я сижу и спокойно работаю.
Новые, только что написанные песни я пою тем, кто первый оказался рядом со мной: семья, служащие. Кому повезло. Или не повезло… Меня окружают близкие люди, которые помогают мне делать мое дело. Они меня не правят и никогда править не будут. Мной править не может никто. Поправлять — это да. Если поправляют, советуют Белла Купсина, Игорь Портков, Раиса Симонова, моя команда, тогда соглашаюсь, но опять же, если вижу в этом резон.
Критику воспринимаю замечательно, если она сделана умным человеком. Ведь каждый имеет право на восприятие искусства, литературы, солнечного света и плохой погоды. И когда мое творчество критикует состоявшийся человек, я расцениваю это как помощь. Например, критику Мстислава Ростроповича воспринимаю как советы мудрого, вникающего в проблему человека, прислушиваюсь к ней, потому что ему не надо самоутверждаться за счет меня. Есть ведь огромное число людей, возвышающих себя за счет того, что «проезжают» по известному человеку. На это сразу обращают внимание: «Ух, как он по нему прошелся! Вот молодец!» Меня эти не интересуют.
Очень благодарен «Советской культуре» за одну из ее публикаций. Среди портретов профессиональных музыкантов — Рождественского, Чекасина — она поместила и мою фотографию. Это аванс. А авансы нужно отрабатывать, совершенствоваться, чтобы не оставаться на одном и том же уровне.
Были и более неожиданные выражения интереса к моим песням. После моего концерта в Бруклине мы большой компанией зашли поужинать в итальянский ресторанчик. Заняли единственный свободный столик в глубине зала. Сидим, разговариваем, веселимся. Вдруг ко мне подходит незнакомец и представляется: «Моя фамилия Окунь, я полномочный представитель Соединенных Штатов в ООН. Мой товарищ за тем столиком очень хочет с вами познакомиться, ему нравятся ваши песни».
Подходим. Я редко чему-нибудь сильно удивляюсь, и ноги у меня от изумления не подкашиваются. Но тут испытал что-то подобное: за столиком сидели Роберт Де Ниро, Джереми Айронс и две девушки. Оказывается, Де Ниро услышал в Москве мои песни и даже накупил пластинок. Мы с Бобби просидели всю ночь, вместе пели, выпили прилично. Расставаясь часов в 6 утра, сфотографировались вдвоем. На этой фотографии Бобби вряд ли кто-нибудь узнает: вместо его замечательных больших глаз — узенькие щелочки, следствие нашего интенсивного общения.
К тому, что другие артисты исполняют мои песни, отношусь нормально. Нормально, если они предварительно со мной советуются. А ведь бывает: то гармония не та, то вообще слова переврут.
Мы хорошо поработали с Иосифом Кобзоном. Леве Лещенко я тоже песню нашел, а вот Шуфутинскому посоветовал пока не исполнять мои новые песни… Он воспринял это вполне нормально, и мы по-прежнему с ним в хороших отношениях. Подарил песню Пугачевой. Она ее очень хорошо записала.
Бывает такое: уже завершенную песню иногда хочется сделать по-другому, и это даже с теми, которые я пою уже 10–15 лет. Выход здесь один: либо переделать песню очень хорошо, либо совсем ее не трогать. А вообще каждому возрасту — свои песни.
Я знаю, что люди должны услышать в песне то, что услышал я. Есть песни, которые слушаются с первого раза, есть такие, которые можно понять только после нескольких прослушиваний. Но я уверен: желающие услышать — услышат.
Имеющий уши да услышит. В каждой моей песне есть любовь — любовь к лошади, к городу, к человеку, который прошел через жизненные испытания. А писать о мягких женских волосах, о нежных глазах и белозубой улыбке я не умею.
Как-то выкроил полчаса для прогулки в Таврическом саду. Был очень сильный мороз. Я пробежался, похлопал себя по рукам, щекам, ушам, ногам, но хоть подышал немножко свежим воздухом. Иногда просто нет времени остановить свою машину и пройтись по улице. А когда удается погулять, то обязательно напорешься на журналиста.
Один такой написал однажды, что Розенбаум выходит на Невский, чтобы раздавать автографы. Журналисты любят спрашивать: «Вы часто спускаетесь в метро?» С таким подтекстом, что я, мол, зажирел. Да у меня времени нет туда спускаться, а потом еще скажут: Розенбаум совсем очумел — в метро лезет. Я придумал недавно фразу: «Уважение народа не зависит от количества поездок на метро».
Знаю, зазнайство для меня — абсолютно чуждая вещь. И потом, я заслужил право общаться с теми людьми, которые меня любят. И мне наплевать, покажется это кому-то самоуверенным или нет.
Я артист, поэтому познакомиться могу с кем угодно. Со мной тоже многие ищут знакомства. Среди моих знакомых разные люди — есть и криминогенные элементы. Единственно, с кем пытаюсь не общаться, так это с «шелупонью», людьми с одной извилиной. Свое мнение на этот счет я высказал в песне «Воры в законе». Я не собираюсь садиться за один стол с людьми, которые меня не любят. Это им может быть интересно, чтобы потом меня уделать. Мол, сидел рядом с Розенбаумом, он полное дерьмо. Но я им не дам такой возможности.
Никогда не обращаю внимания на придурков, которые считают, что если человек поет про родину, то он пафосный какой-то. А если кто-то голодный, в дырявых валенках повесился в городском парке — то он наш, прогрессивный, за правду умер. Чушь собачья. Родина у любого человека, бедного и богатого, либо есть, либо ее нет. Для меня она — мой дом, город, моя страна, люди, друзья.
К врагам у меня отношение следующее: я нормально отношусь к их наличию, но только если они мне не делают гадостей. Ладно, если человек меня просто тихо ненавидит. Но есть враги, которые ударяют меня по левой щеке. И тут я совершенно не согласен с Иисусом Христом — я тут же заверну ударившему по правой. А потом прощу. То есть не то чтобы прощу — мы просто разойдемся. Но тот, кто мне сделает большую гадость, — этот без прощения. Но таких мало, к счастью.
Артисту совершенно не обязательно быть голодным. Это глупая совковая, завистливая точка зрения. Мол, художник обязательно должен быть голодным и повеситься в парке от несчастной жизни или нажраться в стельку и свалиться где-нибудь под ларьком. Вот тогда он — наш! И начнутся посвящения «на смерть поэта».
Оставим такие драмы театрам. Человек в обычной жизни должен чувствовать себя нормально. Это совесть у него должна быть больная и голодная. Когда у художника больная и голодная совесть, он нормально работает.
Вот, к примеру, я квартирой хорошей обзавелся поздно — не было денег: родители — врачи, сам — артист на ставке в восемь рублей, которая потом повысилась до двенадцати и восемнадцати рублей. Прилично зарабатывать стал только в последние годы. Нет, я не плачусь: сегодня я очень обеспеченный человек, у меня нет проблем с тем, куда поехать или какие штаны себе купить. Хотя в сравнении с нынешними «ребятами» все равно выгляжу абсолютно голым. Мне никто не дает взяток, не приносит деньги «в клюве» или на блюдечке с золотой каемочкой. Мне платят только за концертную работу, за гастроли, которые выматывают страшно. Я с удовольствием имел бы парочку заводов, получал бы от них прибыль и делал не двадцать концертов в месяц, а четыре. И сохранял бы здоровье, сидел бы дома за «пушкинской» конторкой и сочинял новью строчки. Но я пишу их в самолете или в поезде.
Меня жутко ранит всяческая печатная грязь. Противно было прочитать на титульном листе одного журнала: «Александр Розенбаум скупает в Питере антиквариат». Журналисты и раньше-то писали больше о моих рыжеватых усах, теперь пишут о мужественном образе, силе, о мускулатуре, крутизне, цепи на груди, бычьей шее. О чем угодно, кроме моих песен, из которых по меньшей мере двадцать стали народными. Но написать вот это… «Семикомнатные двухэтажные хоромы на Каменном острове…» Да до Каменного острова еще ни один наикрутейший «новый» русский не добрался: там — курортно-санаторная зона. На самом деле я купил на Васильевском острове, который является таким же питерским районом, как любой иной, две двухкомнатные квартиры, одну над другой. Соединил их — и получилась четырехкомнатная. Из холла сделал пятую комнату, из кухни — тренажерный зал. У меня это — первая «моя» квартира, до этого двадцать два года прожил у тещи.
Получилась квартира очень теплой, «нежирной», без всякой «дворцовости» и «офисности», как и положено быть квартире творческого человека. Купил туда несколько антикварных предметов, например конторку — почти как та, что в доме Александра Сергеевича Пушкина на Мойке. Поставил рояль с декой из карельской березы, который четыре года назад приобрел на ленинградской фабрике «Красный Октябрь». В маленьком холле поместил трехрожковый уличный фонарь, рядом будет чугунная скамейка, которую студенты притащили. И получится «улица, фонарь, аптека» — «чистый» Блок, Петербург. Еще купил совершенно ломовое чучело рыси и хочу из офиса притаранить домой чучело волка, которого когда-то подстрелил. В своей квартире знаю каждый гвоздь — ведь сам все придумал, включая интерьеры. А рисовал их молодой парень, выпускник Академии художеств. Теперь у меня в небольшом кабинете на потолке — такой вот «Вальс-бостон» с гитарой, нотами, листьями. Сидишь, торчишь! Очень хочу, чтобы у меня в квартире было чисто, уютно, чтобы я себя чувствовал там достаточно комфортно.
Моя теща очень любит свою дочь. Ее дочери — хорошо, поэтому мать очень уважает зятя. Скандалов у нас нет, хотя по молодости бывали. Когда мы жили в одной квартире. А сейчас существуем на одной лестничной площадке. Это не мешает мне не заходить к ней, а ей не заходить к нам, когда мы в этом не
нуждаемся. В общем, теща не вмешивается в мою жизнь, и это очень мудро.
Рассуждать о том, что для меня важнее — семья или работа, просто негуманно… Тогда надо ставить вопрос жестче — либо я бросаю работу и выбираю семью, либо наоборот. Так вот, я бы выбрал второе… Я считаю, что мужское счастье — в работе. Семья может помочь в этом или не помочь. Но если ты в работе несчастлив, мужику кранты…
Люди моего возраста лучше понимают своих родителей. В юности стараешься скорее убежать из дома, не думая, как на это отреагирует мама или папа. А сейчас сам знаешь, что они переживали, когда тебя не было двое суток. Я человек достаточно дерганый — это наследственное, от отца.
Мне нужно знать, здорова ли дочь, в порядке ли она, где находится, — и тогда я спокойно делаю свои дела. Но если Аня пару дней в отъезде и от нее нет весточки, начинаю беспокоиться, не случилось ли чего. Я очень люблю дочь. Хотя сейчас хотел бы еще и сына. Считаю, что самое несостоявшееся в моей жизни — это нерождение второго и третьего ребенка.
С дочерью у меня были отцовские разговоры.
Когда она смотрит на маму, на папу, видит определенное отношение к жизни (и к женщинам со стороны папы), она это впитывает. Я ее специально не воспитывал: вот, Анечка, надо быть такой, ходить туда-то, дружить с тем-то. Какие-то свои женские вопросы она, естественно, обсуждает с мамой. Со мной же случались стратегические беседы на темы семьи и брака, о взаимоотношениях юношей и девушек. Я ей должен был объяснить, что есть мужчина. И я ей рассказывал, что такое мужские фортели, мужские характеры, мужские интересы.
Сейчас я мечтаю о том, чтобы дочь моя счастливо жила со своим мужем, чтобы у нее были хорошие дети, которые будут любить своего дедушку.
Г-н Брумель из Российского монархического общества пожаловал мне титул барона. Барон Розенбаум из Санкт-Петербурга Ленинградской области. Ничего себе, да?
В нашем городе создается первая в своем роде «Золотая книга Санкт-Петербурга», где имя Розенбаума будет вписано не только в главу «Артисты», но и в раздел «Защитники Отечества». Это, по-моему, выше любого звания, любого ордена.
Но нового Александра Розенбаума не будет: каким я был, таким остался. Я могу расти или падать в творчестве, но убеждения остаются те же. Какие они были в двадцать лет, такие и в сорок. Я просто поумнел, повзрослел, набрался жизненного опыта. От этого что-то меняется в мастерстве. Сегодня я бы не написал, как в «Вальсе-бостоне», — «Листья падают вниз». А куда им еще падать?
Когда дело не касается принципов, былой горячности уже нет. Дело даже не в возрасте, а в том, что я устал кричать в пустоту. «Устав от бесконечной боли, порвав аорту, я уезжаю на гастроли по царству мертвых». Я устал от этой страны. Очень. Пожалуй, как никогда. Мы уже привыкли, что вокруг убивают, взрывают машины, квартиры, кладбища, что нормальные люди, прикоснувшись к деньгам и власти, впадают вдруг в какую-то истерику. Устал, чувствуя, что правда мало кому нужна. Скажут: «Вот, сумасшедший!» Не хочу казаться параноиком. Слава Богу, я психически здоров.
Иногда в песнях, в альбоме «Вялотекущая шизофрения», например, я говорю не о тех шизофрениках, которые лежат в больницах или ходят блаженными. Я говорю о коллективном сумасшествии. Я говорю о сумасшедших системах, которые персонифицируются сумасшедшими лидерами.
Они вводят массы людей в экзальтацию, в сумеречное состояние сознания, заражают шизофренией, прививают идеологию, которая есть мистический культ. Они — это Ленин, которому «чем больше расстреляет этой гидры, тем лучше». Был одержимый, Сталин — сумасшедший, Хрущев с его кукурузоманией до сумасшествия… И отрыжки этой шизофрении продолжаются в том, что делается сейчас.
Мы почему-то очень неуважительно относимся к собственному языку. И это при нашем-то великорусском шовинизме. Но млеем от всего иностранного.
Порой говорю себе: ну, плюнь ты, подумаешь, «шоп» написано по-русски или «говорящие головы» на телеэкране играют в игрушки типа «саммит», «консенсус». Но я помню, как эти типы обвиняли меня в западнопоклонничестве, когда я носил джинсы или жевал жевательную резинку. А теперь сами не понимают, что делают, и называют себя при этом россиянами. Какие они, к черту, россияне! «Не устаю за власть свою радеть — она сидит, родная, в “Белом доме”. Представь, американский президент поставил себе Кремль в Вашингтоне!»
Кто ударился в «иностранщину»? Тупоголовые обыватели. Они всегда были, всегда есть и всегда будут. Это они «шопы» развели — там, где и не надо. Представьте в Нью-Йорке русскую вывеску: «Гастроном»! А у нас, похоже, целая генерация определилась — генетические «Иваны, не помнящие родства». Как-то иду по Томску и вижу — на киоске русскими буквами написано: «АЙС КРИМ».
Если бы этот киоск был в гостинице «Интурист», то и тогда сверху надо было написать «Мороженое», а уж ниже, под ним, «Ice cream» — для иностранцев.
А журналистика? Она направлена только на то, чтобы всех уделать… Журналисты ведь должны понимать, что к чему. А то когда читаешь газеты, то такое ощущение, что у нас ничего, кроме говна, не осталось, что в стране нет ничего хорошего!
Времени читать книги очень мало: огромное количество периодической печати. Водитель мне привозит газеты, в машине я их прочитываю. Книги же читать удается в самолете, в поезде…
Я бы с удовольствием читал серьезную литературу, но, честно говоря, я не встречал молодых толковых писателей. Поэтому перечитываю рассказы Чехова или «Войну и мир». А в самолетах и поездах читаю в основном мемуарную литературу, которой сейчас появилось во множестве и тоже очень разного качества. Люблю фантастику: от Кларка просто дурею, Саймак, Шекли — любимые авторы. Детективы мне читать тяжело. В свое время в самиздате, в конце восьмидесятых, начитался Чейза: читал запоем все, что появлялось, до полной пресыщенности. Мне этого вполне хватило.
Сейчас в литературе меня в большей степени интересует момент познания. На жвачку жаль времени, так что предпочитаю факты, цифры, события, впечатления. Люблю Радзинского — он пишет красиво, говорит красиво, мыслит красиво. А Диккенс остается Диккенсом, Куприн остается Куприным…
Те же отношения и с видео. Покупаю документальные фильмы, практически все, что касается «National geographic». Боевики смотрю крайне редко, зато фантастику — с удовольствием. Очень люблю спецэффекты, интересные съемки.
Современное русское кино? От этого же можно с ума сойти… Тем более что я посещаю все эти «Кинотавры»… Мне нравится «Ермак», «Окно в Париж», «Утомленные солнцем» — это кино. Что еще? В фильме «Вор» сыграл мальчик хороший… Сейчас ведь если в кино где-то умный взгляд проскользнул, тут же на «Оскара» тащат — настолько это необычно. Где такие картины, как «Коммунист» или «Белое солнце пустыни»? В тоталитарном государстве хотя бы эзопов язык совершенствовался, а сейчас что совершенствуется?
Мы абсолютно теряем национальные корни, люди делают слепо подражательные картины. Нам никогда не угнаться за тем же Голливудом в определенных вещах. «Не валяй дурака» — это милый, добрый фильм про наших родных мужиков, «Окно в Париж» — это наша жизнь, это наше национальное кино. А все эти боевики с несуществующими в реальной жизни вымученными типажами — куда им до ухоженного, мощного и реального Брюса Уиллиса?
Дома музыку слушаю не часто. В основном — в машине. Домой прихожу поздно: весь день на колесах или в офисе, или в концертном зале… А слушаю ту музыку, в которой присутствует мелодическая мысль. Это вовсе не значит, что авангардный джаз — плохо. Нет, это замечательно, но это не мое. И это не значит, что Ник Кейв — это ужасно. Наверное, это замечательно, но тоже не мое. Когда поет Лагутенко, он у меня вызывает не просто неприятие, а крайнюю степень отторжения. Мумий-Тролль… Это тот же Ник Кейв, с той только разницей, что Кейв много лет сидел на героине, а потом перешел на водку, а Лагутенко — здоровый человек с нормальной психикой. Но делает почему-то тоже самое. Для будущего — они несостоятельны. Они, может быть, не однодневки, пусть — трехдневки. Они модные, и не более того. Если музыка не имеет мелодии, она не имеет смысла.
Поэтому я всегда слушаю то, что мелодично: от традиционного диксиленда до… «Ленин всегда живой». Эта песня обладает фантастической мелодикой.
К сожалению, в машине я не вожу классические диски, а по радио ее не передают. И очень жаль — ведь популярная классика всегда слушается с удовольствием.
Очень люблю Морриконе. Из машины его диск просто не вынимается. Стинг, Клэптон, «Битлз»… Очень люблю звучание виниловых дисков. Недавно купил коробку «Битлз» с переизданиями всех альбомов.
На Элтона Джона в Москву специально поехал. Посмотрел, послушал… Интересно, что вся аппаратура на концерте была московская — ни одного ящика Элтона Джона не стояло. И все это звучало так мощно, плотно, чисто, что все наши рокеры-попперы, народные и какие угодные звезды должны повесить свои инструменты на гвоздь и никогда больше их не трогать. Все, ребята! Отдыхайте все! Руками, пальцами и ушами не вышли!
У наших музыкантов сегодня есть инструменты не хуже, а звука нет! Потому что и голова не та, и сердце не то, не говоря уже о руках, пальцах. Недаром Поль Мориа скрипачей брал наших, трубачей — из другой страны, ударников — из третьей… Если мне надо будет записать что-то с симфоническим оркестром, я возьму российских музыкантов, но рок-музыку с нашими записывать не буду никогда. Они просто по своему генотипу не сыграют так, как американцы или англичане.
Пришло время, когда захотелось отчитаться за истекший период. За то творчество, которое было неизвестно широким массам населения. Хорошо это получилось или нет, нужно было это тогда делать или не нужно?.. Можно задавать эти вопросы, но я должен был это сделать так, как это было. Раньше мы бы не смогли сделать в любом случае — для этого потребовалось бы огромное количество времени и сил, репетиций.
Может быть, когда-нибудь я возьму старые записи и попытаюсь их восстановить, отреставрировать. Сейчас же я взял свои любимые, лучшие песни того периода — «Карлик», «Спокойной ночи»…
Проблема была с живыми барабанами, потому что на это не было времени: нужно было засесть на месяц в студии. Для меня тогда это было делом нереальным. Поэтому сделали клавишную ритм-секцию.
Я обязательно буду делать альбом — свои сегодняшние рок-песни, которые на концертах исполняются сейчас с мощной электронной обработкой, с дилэями… У меня написано очень много рок-музыки, и все это я буду записывать «вживую», с живыми барабанами, как надо.
Конечно, было бы прекрасно снова всех собрать, но Витя с Николаем по двадцать часов сидят в студии, работают, а старые мои товарищи давно отошли от активных занятий музыкой.
Я издал альбом своих старых песен в новой аранжировке, так называемые ремиксы — «Горячая десятка», а также сделал альбом ремиксов — «Аргонавты» — сыграли достаточно современно, по-сегодняшнему. Выяснилось, что те песни — они из сегодняшнего дня, хотя и написаны 20–25 лет назад.
Песня вообще вне времени, если она Песня. Я не могу, конечно, говорить, что на «Арго» все песни — вечного звучания, но они живые, имеющие право на жизнь и сегодня. Если эта пластинка понравится людям, то буду очень рад.
За все ведь приходится платить. За свой дар — тоже. Плачу с болью, когда плата — здоровье близких. О себе сожалений нет абсолютно. Знаю, что должен заплатить за все, что взял у судьбы.
Один раз я уже умер — в прямом смысле этого слова — на гастролях в Австралии, когда остановилось сердце, и спасла только сверхрасторопность местных врачей… Поэтому сейчас смерти уже не боюсь. Хотя умирать достаточно неприятно. Я бы не хотел умереть в тяжелых мучениях. Я не боюсь смерти от пули, мгновенной смерти, а вот предсмертных мучений боюсь, как и любой нормальный человек.
А вообще-то я сделал для своей страны достаточно, чтобы чувствовать себя в этом смысле спокойно. Кто-то усмехнется, а кто-то поймет меня правильно, но я глубоко убежден, что могу уйти с чувством выполненного долга перед Отечеством.
Самое нелюбимое время суток — раннее утро.
А времени года нелюбимого нет. Я не люблю плохую погоду в любое время года. Хотя для питерца это, сами понимаете, понятие куда более растяжимое, чем для остальных.
По своей первой работе скучаю частенько. А жалеть не могу. Чего ж теперь жалеть? Врачей много, а я — один.
Гороскопы не читаю: мое высшее образование вредит в понимании гороскопов.
Я верю в Высшее. С верой в Бога сложней из-за того же медицинского образования и атеистического воспитания. Однако в Высшее я всегда верил.
Я разговорюсь — не остановишь, но в душу свою никого не пускаю, она моя. Прозу не пытаюсь писать — рано. Пока. А дальше — посмотрим.
От автора-составителя
Автор-составитель Алексей Рыбин считает своим долгом выразить благодарность своим коллегам-журналистам, чьи интервью с Александром Розенбаумом использованы при подготовке этой книги:
С. Абрамову, М. Антонову, Д. Берлин, Е. Богучаве, С. Васильевой, А. Веревкиной, А. Горбачевой, С. Гурарий, Д. Злодее-ву, Н. Ивановой, Т. Исканцевой, Н. Коваленко, В. Козлову, Н. Купской, А. Левину, М. Марголису, В. Мекперу, И. Начаро-вой, С. Носову, А. Павлову, А. Петрову, С. Петрову, А. Романову, И. Романовой, Л. Русовой, М. Садчикову, В. Семисалову, В. Соколову, Л. Терентьевой, С. Териоки, В. Фатигарову, Т. Фирсовой, Н. Фохту, Т. Чернышовой, А. Шмакову.
Интервью были опубликованы в изданиях:
“Амурский комсомолец”, “Амурская правда", “Аргументы и факты”, “Асток”, “Афродита”, “Век", “Вечерний клуб”, “Дамский угодникъ”, “Известия", “Кадр", “Калейдоскоп”, “Комсомольская правда", “Красная звезда", “Куранты”, “Курьер — Нижний Новгород”, “Ленинская смена”, “Мир Билайн”, “МегаполисЭкспресс”, “Медицинское обозрение”, “Молодой ленинец” (Волгоград), “Надежда” (Дзержинск), “Натали", “Невское время”, “Неделя", “Новое время”, “Огонек", “Петербург на Невском”, “Петербургский телезритель”, “Петербург-Экспресс”, “Петровский курьер”, “Привет. Журнал для обычной семьи”, “Российская газета”, “Российские вести”, “Сегодня”, “Семья", “Смена”, “Спид-Инфо”, “Труд”, “Час пик".
Оглавление
ДЕТЕКТИВ БЕЗ КРИМИНАЛА
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ МЕДИЦИНЫ…
ВОЗВРАЩЕНИЕ НА «АРГО»
Я — РАБОЧИЙ СЦЕНЫ
НАШУ СТРАНУ ПОГУБИЛИ ДИЛЕТАНТЫ…
ВОЙНА В НАШЕЙ СТРАНЕ НИКОГДА НЕ ЗАКАНЧИВАЛАСЬ
Я НИКОГДА НЕ БЫЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОМ
ПЕРВЫЙ ШАГ ЗА ЧЕРТУ
«Я ГОСУДАРСТВО НЕНАВИЖУ, НО ОЧЕНЬ РОДИНУ ЛЮБЛЮ…»
НЕ ЛЮБЛЮ ЧУЖИЕ РУКИ НА СВОЕЙ СОБАКЕ
МЕЧТАЮ О ХУДСОВЕТЕ
«ВЫСОТА ОДИНОЧЕСТВА»
От автора-составителя

 Саша, мама Софья Семеновна и младший брат Володя.
Саша, мама Софья Семеновна и младший брат Володя.
 Жена Лена с дочкой Аней. 1977 г.
Жена Лена с дочкой Аней. 1977 г.
 С дочерью и племянницей Машей (она слева).
С дочерью и племянницей Машей (она слева).
 В ночном с друзьями. 1986 г.
В ночном с друзьями. 1986 г.
 С однокурсниками-медиками.
С однокурсниками-медиками.

 Удачная рыбалка во время гастролей по приволжским городам. 1990 г.
Удачная рыбалка во время гастролей по приволжским городам. 1990 г.
 Пикник под Самарой. 1992 г.
Пикник под Самарой. 1992 г.
 «Когда было получше со свободным временем, я часто проводил его верхом на лошади».
«Когда было получше со свободным временем, я часто проводил его верхом на лошади».
 С медсестрой в больнице Екатеринбурга, где Александру однажды буквально спасли жизнь после тяжелейшего отравления. 1996 г.
С медсестрой в больнице Екатеринбурга, где Александру однажды буквально спасли жизнь после тяжелейшего отравления. 1996 г.
 В кабине самолета Л-39 на аэродроме Батайска. 1993 г.
В кабине самолета Л-39 на аэродроме Батайска. 1993 г.
 На даче с «членом семьи», бультерьером Лаки. «Мы с ним бойцы».
На даче с «членом семьи», бультерьером Лаки. «Мы с ним бойцы».
 «Езжу на «Кадиллаке»...
«Езжу на «Кадиллаке»...
 Новогодний поросенок. 1991 г.
Новогодний поросенок. 1991 г.
 Торт на 39-летии.1990 г.
Торт на 39-летии.1990 г.


 С продюсером Беллой Купсиной, Владимиром Винокуром и Львом Лещенко в день 40-летия. 1991 г.
С продюсером Беллой Купсиной, Владимиром Винокуром и Львом Лещенко в день 40-летия. 1991 г.
 С Даниилом, сыном любимого продюсера. 1999 г.
С Даниилом, сыном любимого продюсера. 1999 г.
 С нанайцами.
С нанайцами.
 «Я всю жизнь связан со спортом». В тренажерном зале. США, 1996 г.
«Я всю жизнь связан со спортом». В тренажерном зале. США, 1996 г.
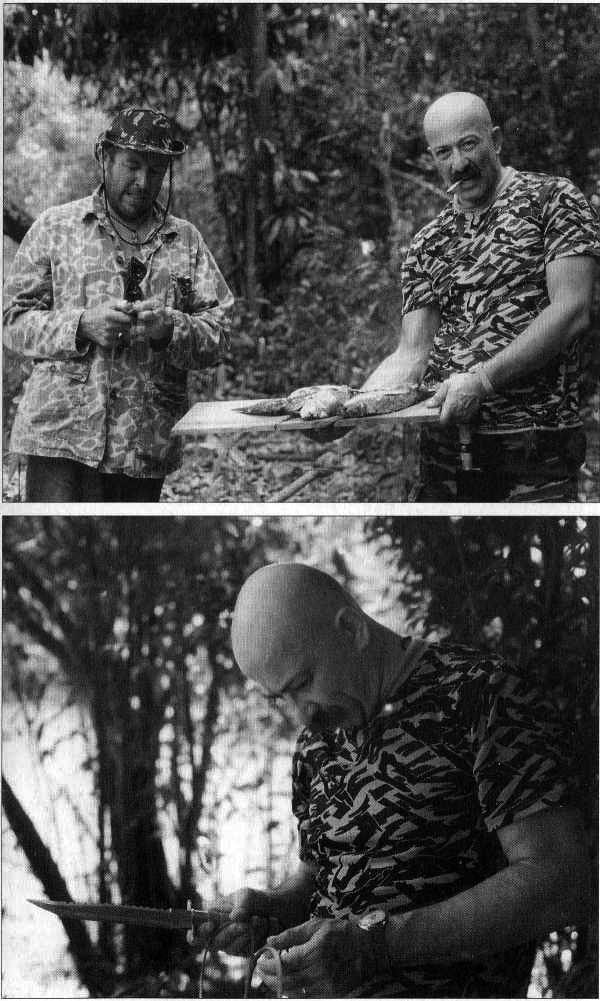 «После путешествия на Амазонку Андрей Макаревич стал для меня настоящим другом». Январь 1999 г.
«После путешествия на Амазонку Андрей Макаревич стал для меня настоящим другом». Январь 1999 г.


Последние комментарии
1 час 32 минут назад
1 час 45 минут назад
2 часов 18 минут назад
2 часов 51 минут назад
18 часов 21 минут назад
18 часов 30 минут назад