Живописный номинализм. Марсель Дюшан, живопись и современность [Терри де Дюв] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]

Thierry de Duve
Nominalisme pictural
Marcel Duchamp, la peinture et la modernité
LES ÉDITIONS DE MINUIT 1984
Тьерри де Дюв
Живописный номинализм
Марсель Дюшан, живопись и современность
Перевод с французского Алексея Шестакова
Предметом книги известного искусствоведа и художественного критика, куратора ряда важнейших международных выставок 1990-2000-х годов Тьерри де Дюва (род. 1944) является одно из ключевых событий в истории новейшего искусства — переход Марселя Дюшана от живописи к реди-мейду, демонстрации в качестве произведений искусства выбранных художником готовых вещей. Прослеживая и интерпретируя причины, приведшие Дюшана к этому решению, де Дюв предлагает читателю одновременно психоаналитическую версию эволюции художника, введение в систему его взглядов, проницательную характеристику европейской художественной сцены рубежа 1900-1910-х годов и, наконец, элементы новаторской теории искусства, основанной на процедуре именования.
Искусство и психоанализ — опять?

Должен сказать, что психоаналитическая литература представляет собой, некоторым образом, готовый1 бред.
Жак Лакан
СО ВРЕМЕН Фрейда искусство сплошь и рядом исследуется по образцу симптома, фантазма или сновидения. Сегодняшние авторы, восходя от явного содержания к скрытому, дабы обнаружить таимый творением художника автобиографический секрет, или выявляя работу сгущения, смещения, изображения в качестве пластического эквивалента работы сновидения, единодушно трактуют произведение искусства — подобно сну в толковании Фрейда — как сакральный текст. То, что произведение читаемо — или нечитаемо — в качестве текста, является ныне общепринятым мнением. Мнение же о том, что оно подлежит прочтению в качестве текста сакрального, еще, быть может, дожидается своей парадоксальным образом оскверняющей интерпретации. Кое-что в произведении обнаруживается, но, возможно, не столько языковая жертва, принесенная ради него автором и превращающая его в текст, и не столько скрываемая его явным содержанием симптоматическая истина, сколько условия его собственного возникновения, которые выявляет работа скрытого над явным.
Опыт эвристического параллелизма
Такова, во всяком случае, рабочая гипотеза, относящаяся не к прикладному психоанализу и не к психоаналитической эстетике, а к области — стоит обозначить место, откуда ведется речь,—истории искусства. Поскольку едва ли возможна история искусства без интерпретации, вопрос сводится к следующему: какую пользу может принести психоаналитическая интерпретация построению исторического «рассказа» об искусстве? И теперь, в свою очередь, стоит обозначить уже не место, а время, откуда звучит этот вопрос: сегодня. Иными словами: авторы с готовностью обращаются к сочинениям Фрейда и к их приложениям в ряде эстетических теорий аналитической направленности; они сознательно обращаются к «трассировке» фрейдовского текста, который в силу простой исторической дистанции и благодаря его обновленным прочтениям, предложенным за прошедшее время в достаточном количестве,—для нас главным из них будет прочтение Лакана,—всякого убеждает в том, что отношение искусство/психоанализ сегодня уже не то, каким было, допустим, пятнадцать лет назад. Например: в конце небольшой статьи 1969 года, написанной в ответ на предложение проследить «Основные современные тенденции психоаналитических исследований искусства и литературы», Жан-Франсуа Лиотар суммирует эти тенденции, говоря о том, что они составляют картину, которая проходит шестью этапами от «прочтения произведения искусства как выражения влечений (автора или персонажа), то есть как симптома» до «размышлений о функции истины в литературе и искусстве, а также о возможной роли пространства, в котором разворачиваются художественные произведения, в самом формировании психоанализа»2.
Хотя эта картина суммирует «основные современные тенденции психоаналитических исследований» искусства, перечисление упомянутых тенденций внушает мысль о диахронии и даже о прогрессе. В самом деле, связанные с ними имена (по порядку: Шнайдер, Кауфман, Крис, Кляйн, Эренцвейг, Грин) следуют grosso modo3 той же хронологии, что и смена пристрастий самого Лиотара. Его собственные работы начала 1970-х годов, связанные с психоанализом, обнаруживают непосредственную связь с последней из указанных им тенденций4.
Надо полагать, что все названные Лиотаром авторы почерпнули что-то из сочинений Фрейда. И даже если они обращались к разным текстам, несколько важнейших работ психоаналитика — в частности, «Толкование сновидений» и «Психопатология обыденной жизни»,—а также его эссе об искусстве являются непременными источниками для всех постфрейдистских эстетиков. Поэтому простая историческая дистанция, постоянно удлиняясь, при-
дает наследию Фрейда в его связи с искусством силу трассировки, с которой и связано появление новых, с каждым разом все более суженных, интерпретаций этой связи. Разумеется, эта историческая дистанция не является нейтральной; она активна и пронизана всеми веяниями истории. В области психоанализа она характеризуется последовательным падением очагов сопротивления ему, усложнением и диверсификацией аналитического знания и, в последнее время, его критикой с самых разных сторон. А в области искусства подобная трассировка, ведомая сменяющими друг друга художественными авангардами и исключительно чуткая к актуальным проблемам, переосмысливает сегодня судьбу живописи с тех пор, как пионеры модернизма —в первую очередь, Мане и Сезанн—направили ее на новые пути.
Пятнадцать лет отделяют нас от выхода статьи Лиотара, и трассировка фрейдовского текста еще не закончена. Трассировка наследия Сезанна —тоже. Толкование и переосмысление живописного модернизма самой живописью продолжается. Две дистанции, две «отсрочки» или, как сказал бы Дюшан, две «задержки» проливают свет друг на друга. Что это за свет? Какую пользу можно извлечь сегодня из взаимосвязи психоанализа с искусством? Средствами какого из двух этих корпусов следует интерпретировать другой? Надо ли интерпретировать, подобно самому отцу психоанализа, «Леонардо да Винчи по Фрейду» или, наоборот, подобно Лиотару, «Фрейда по Сезанну»? Окажется ли однажды искусство всех времен подвластным одному теоретическому подходу, если допустить, что подход этот будет извлечен раз и навсегда из фрейдовской доктрины? Или, наоборот, всякую фрейдистскую эстетику будут считать в скором времени развенчанной, преодоленной практикой более «современного», чем она, искусства?
Такая постановка проблемы означает, что мы спрашиваем себя о том, какова в искусстве и в психоанализе доля идеологии, представляя себе идеологию как образ, меняющийся в обратной пропорции к их функциям истины. В этом случае единственным выходом было бы попеременно основывать симптоматическое прочтение искусства на идеологии/теории Фрейда и симптоматическое прочтение Фрейда — на идеологических сдвигах, о которых (помимо прочего) свидетельствует искусство5.
Подобная диалектика обязывает того, кто говорит как историк искусства, к неопределенной, весьма стесняющей эпистемологии. Теоретический статус психоанализа как метода рискует оказаться бесповоротно скомпрометированным в ее рамках. Обмен ролей между интерпретирующим и интерпретируемым корпусами ведет лишь к бесконечному — и совсем не обязательно продуктивному —труду взаимной деконструкции.
Но какова альтернатива? Показательно, что единственные произведения изобразительного искусства, которые анализировал Фрейд,—«Мадонна со святой Анной» Леонардо и «Моисей» Микеланджело — относятся к периоду зарождения живописного и эпистемологического строя, всецело подчиненного Представлению и в период деятельности Фрейда переживавшего глубокий кризис; в разрушение этого строя ученый сам внес определенный вклад. Его симптоматическое прочтение, восходящее от явного изображения к скрытому (фантазм, воспоминание детства и т.п.), оправдывается как раз тем, что эти произведения основаны на эпистемологии Представления, тем более важной оттого, что она присутствует в них в начальном6 и, следовательно, формообразующем состоянии.
Не менее показательно, что такого рода симптоматическое прочтение, основанное, по крайней мере имплицитно, на отношениях представления, то и дело терпит неудачу в работе с модернистским искусством — причем не только с так называемым абстракционизмом, который уклоняется от него уже при определении явных изобразительных элементов, но и с некоторыми «фигуративными» направлениями (например, поп-арт или гиперреализм), когда оно ошибочно усматривает некую скрытую функцию за изобразительной поверхностью их произведений. Единственным течением модернизма, которое кажется подвластным симптоматическому прочтению — поэтому психоаналитики обычно и отдают ему свои симпатии,— является ортодоксальный сюрреализм.
Однако это иллюзия: стоит ли удивляться тому, что сюрреализм, который чаще всего действовал путем более или менее механического приложения к живописи фрейдистской доктрины, дает видимость эффективности симптоматического подхода? Его интерпретируют «в обратном направлении», прочитывая в произведении живописный прием, истоком которого было первоначально само это прочтение. На самом деле симптоматический подход не может принести истории искусства какое бы то ни было знание, если он прилагается к исторически более позднему по отношению к нему произведению, то есть к любому произведению, на которое уже не распространяется теория представления, еще служившая опорной точкой фрейдовской мысли. И это ни в коей мере не преуменьшает ценности работ Фрейда применительно к искусству, так как то, чему мы можем научиться у него сегодня, не имеет— или уже не имеет — отношения к идеологии. По-
с языковыми формами значение употребляемого следом прилагательного «формообразующий». — Прим. пер.
H
этому нет смысла бесконечно критиковать рассуждения о закрытости «идеологии представления» и о ее прорыве. Будем последовательны: если симптоматическое прочтение не работает применительно к искусству после Фрейда, то мы не выйдем из этого круга, просто развернув тот же подход против Фрейда. Его неудача — но и его успех по отношению к Леонардо и Микеланджело — говорят совсем о другом: возможный пересмотр вопроса о связи между искусством и психоанализом требует сегодня сопоставления фрейдовской теории с искусством, которое было ей современным, и ни с каким другим. Это связь эвристического параллелизма, а не идеологического противоречия.
Поэтому оставим малообоснованные сближения и предпочтем альтернативе «Леонардо по Фрей-ду»/«Фрейд по Сезанну» скромный параллелизм. Лиотар усматривал у Сезанна позицию желания, аналогичную той, исходя из которой говорит Фрейд, но как раз поэтому совершенно отличную от той, о которой он говорит. Сегодня можно перейти от аналогии к прямому сравнению. Искусство и психоанализ — это практики и субъективные, и интерпретативные, которые подразумевают тем самым и «позиции желания», и их теоретическую разработку. Их развитие во времени приносит познания— в этом и состоит смысл трассировки, о которой говорилось выше. Оставить малообоснованные сближения — значит, таким образом, рассмотреть хронологические линии искусства и психоанализа в их параллелизме, с учетом взаимной импликации. Если эта импликация откроет теоретическую «истину», то последняя будет не окончательной, всегда — с отсрочкой до завершения трассировки, и вместе с тем наверняка различной для теоретика искусства и для психоаналитика. Важно, следовательно, не зафиксировать эту «истину», а сохранить чуткость к «функции истины», которая действует на двух полях и ме-
жду ними: как истина, выявляемая произведениями в поле, определенном как психоаналитическое, и как истина, выявляемая психоанализом в поле, определенном как эстетическое. Будем рассматривать эти истины как открывающиеся с обеих сторон условия их собственного возникновения: с одной стороны — условия трансформации в практике и в понятии искусства; с другой — условия теоретического прогресса в познании бессознательного.
Наш метод останется при этом простым параллелизмом; забота о возможном пересечении параллельных серий возлагается на «функцию истины». Серии, в свою очередь, будут хронологическими, но не синхронными, и кроме того основанными на двойной шкале: ключевых моментов истории модернизма и ключевых моментов разработки теории психоанализа.
Этим подразумевается некоторый «переворот» в обычаях: считается, что весь понятийный и теоретический аппарат анализа — окрашенный, конечно, интерпретацией того, кто его использует, — прилагается к некоему произведению (или корпусу произведений, который называют творчеством, школой, стилем) и выявляет жизненные значения, вложенные в него индивидуальным или коллективным субъектом, художником или «эпохой». Наш призыв к параллелизму хронологий сводится к иному. Речь вовсе не идет о том, что «прогрессу» мысли Фрейда соответствует «эволюция» модернизма. Но очевидно, что, как только мы беремся сопоставить психоаналитическую теорию с современным ей искусством, эта теория перестает быть тем монолитным корпусом, который — при всех его противоречиях в идеологическом и даже научном плане — мы привыкли понимать под термином «психоанализ». Она должна рассматриваться и в своей диахронии, как последовательная разработка знания и как поиск истины, какой она была для Фрейда.
Речь, таким образом, идет о сочленении двух на первый взгляд несоизмеримых историй: с одной стороны, двух историй искусства — той, что разделяется между множеством соседствующих и следующих друг за другом индивидов, и той, что действует силами немногих решающих произведений, определяющих для современности, которая лежит в основе исторического понятия авангарда; с другой — двух историй разработки психоанализа —той, что совпадает (на первой своей стадии) с биографией одного человека, Фрейда, и той, которая периодически обращается к ряду фундаментальных догадок, являющихся для нее как точками сдерживания, так и зонами преобразования.
Разумеется, это сочленение нельзя назвать невинным: выбор сильных долей, то есть решающих произведений, в истории искусства — это выбор на основании случайных суждений, вынесенных апостериори, игнорировать которые невозможно. Подобным образом при выборе сильных долей в истории разработки Фрейдом психоанализа нельзя игнорировать современные интерпретации фрейдистской доктрины. Мы имеем дело с двумя трассировками и должны как можно точнее заявить место и время, откуда мы говорим. После этого никакое соотнесение двух историй не является обязательным — ни синхрония, ни единство ритмов. Поэтому дистанция аккомодации, позволяющая нам рассматривать их в качестве параллельных, ни в коей мере не требует постоянства; не исключено, что одну историю надо рассматривать в замедленном темпе, а другую —в ускоренном. В них обоих есть задержки и прорывы, «первичные сцены» и «последействия», как раз и образующие историю, не сводящуюся ни к прогрессу, ни к эволюции. И обе они имеют отношение к особого рода интемпоральности, присущей бессознательному. Параллельное рассмотрение сильных долей модернизма и фрейдов-
Ч
ской теории вовсе не подразумевает, таким образом, однозначного соответствия. В истории искусства сильные доли могут быть разнесены по достаточно длительному периоду или, наоборот, сосредоточены в одном произведении или серии. Те же, которыми отмечена разработка психоанализа, всецело обязаны своим появлением и упорствованием тому, что они вышли из самоанализа Фрейда.
Но какой может быть наиболее плодотворная область для эвристического параллелизма между искусством и формированием психоанализа в том, что касается их функций истины? Может ли основываться этот параллелизм на уверенности в том, что он принесет пользу познанию? Искусство и психоанализ, как кажется, разделяют то особое поле легитимации, которое для искусства предусматривал уже Кант и которое усилиями Фрейда проложило себе путь в практику «науки». Это не то поле, что подведомственно эпистемологии наук: правил внутренней связности и внешней соотносительности недостаточно, чтобы подкрепить как художественные, так и аналитические высказывания. Невзирая на все стремление Фрейда к научности, его основной вклад в знание заключается, возможно, в извлечении познавательного эффекта из особого рода высказываний (как, например, свободная ассоциация или рассказ сновидения), которые не подчиняются никаким априорным критериям, позволяющим специфицировать «вполне определенное выражение», но тем не менее порождают и выявляют подобные критерии апостериори, посредством приложения их к себе самим. Так, высказывание сновидения «вполне определенно», приемлемо для теории, если оно повинуется «правилам» сгущения и смещения, которые могли быть извлечены только из самого анализа сновидений. Такова же и формальная работа художника: она не может подчиняться предустановленным правилам, но и не обходится без правил. Она устанавливает правила тем самым движением, которым ставит эти правила под вопрос.
Кроме того, аналитические высказывания, в отличие от научных, не могут быть легитимированы существованием внешнего, эмпирического или экспериментального референта, который мог бы подтвердить их. Предмет анализа — называют ли его желанием или как-то иначе — по определению недоступен и не может быть привязан ни к какой реальности. И тем не менее именно по отношению к нему значимы высказывания анализанта в том смысле, в каком понимает их аналитик. Он выводится лишь из самого опыта субъекта или из той особой интерсубъектности, которая именуется трансфером. И опять-таки то же самое можно сказать о художественном опыте: его «реальность» субъективна и транс-ферентна, она всегда предъявляется (в том смысле, в каком предъявляют удостоверение личности) посредством рефлексивной операции, какою является эстетическое суждение.
Это измерение автореферентности — как в плане референтности, так и в плане связности,—аналитическое в смысле Фрейда и критическое в смысле Канта, и лежит для меня в основе параллелизма, предпринять который я попытаюсь на этих страницах. Оно же позволяет сказать (с некоторой неловкостью), что Фрейд изобрел психоанализ хотя бы уже постольку, поскольку не открыл его, и что в силу исключительности предмета его исследований либиди-нальные нагрузки его работы — это нагрузки творца. И в то же время (с такой же неловкостью) оно, быть может, позволяет сказать, что настоящий художник предпринимает в своем творчестве своего рода самоанализ, равно как и история искусства, устремляющаяся от художника к художнику и от произведения к произведению. Таким образом, местом параллелизма искусства и психоанализа являются не эстетические работы Фрейда и даже не великие теоретические выкладки, в которых он определяет последовательные стадии аналитического знания и его приложений; этим «местом» (которое не есть место) является канва, пронизывающая все наиболее творческие тексты отца психоанализа, и практика, результаты которой в них вошли,—это самоанализ Фрейда.
Искусство и сновидение: Дюшан и Фрейд
Итак, сравнение произведения искусства со сновидением—дело обычное. Попробуем же углубить это сравнение на отдельном примере до точки возможного обнаружения соответствующих двум этим терминам «функций истины». Речь идет, со стороны искусства, о корпусе произведений, составляющих «мюнхенский период» Марселя Дюшана, и, со стороны сновидения, об одном сне Фрейда. Чем объясняется это конкретное сравнение? Почему бы не проанализировать какую-нибудь работу Дюшана, как если бы она была сновидением (сновидением вообще), применив в этом анализе все, чему нас научил о сновидении вообще Фрейд? Потому что если историк искусства заимствует у другой дисциплины — которой не занимается и в которой никоим образом не может считаться специалистом — методологию или даже часть теории, находящейся еще в процессе трассировки, то он не может априори считать эту дисциплину пригодной в своей области, а эту теорию — корректной за пределами ее истории. Он сочленяет две истории вместе. Произведения искусства — это не сырые факты, предоставленные решетке прочтения, пользующейся всеми выгодами стабильности законченной теории. Это факты уже истолкованные, постоянно толкуемые вновь их особой историей и предоставляющиеся в качестве опытного поля теории, которую ряд критических разработок также подверг и продолжает подвергать по сей день периодическим переистолкованиям. Для историка искусства метод параллелизма, который я попробую применить, имеет над прикладным психоанализом то значительное преимущество, что он не предполагает априори принадлежности к фрейдистской доктрине, а над психоаналитической эстетикой —то симметричное преимущество, что он не навлекает на себя (опять-таки априори) критического подозрения. Предлагаемый мною метод порывает с обычаем взаимной деконструкции, характерным для предпоследнего этапа двойной трассировки искусства/психоанализа. Если он приносит результаты, то они должны оставаться приемлемыми и после того, как последующая трассировка наследия Фрейда приведет связь между искусством и психоанализом к еще неведомым берегам, даже в том случае, если однажды весь психоанализ целиком придется отбросить как мифотворчество или протонауку.
Сколь бы ни было мое прочтение «параллельным», я, конечно же, не смогу обойтись без применения к Дюшану фрейдистских (или других, в частности лакановских) понятий на правах инструментов. Это значит лишь, что сегодня они достаточно действенны для такого использования, и вовсе не значит, что их надо принять раз и навсегда. Они нужны мне ради их эвристических достоинств. Выгода, которой я жду от них, состоит не в подвластном объективизации познании — цена чаемой объективности была бы не большей, чем в интерпретациях Дюшана средствами алхимии (Ульф Линде, Артуро Шварц, Маури-цио Кальвези), таро (Николас Калас), Каббалы (Джек Бернэм) или русселевской параграмматики (Элиана Формаентелли, Андре Жерве)7. Я надеюсь на эпистемологическую выгоду, на нечто вроде частичной археологии эпистемы, присущей определенному месту (Западу) и времени (нашему веку)8. И в этом смысле наибольшее затруднение связано с тем, что «археолог» принадлежит к той самой культурной формации, которую он берется описать. Исключительно в свете этого затруднения следует понимать мои предосторожности в отношении психоанализа: он будет использоваться мною не как «наука» и не как «идея в духе времени», но в соответствии с тем значительным местом, которое фактически принадлежит ему в нашей культурной формации — в формации или эпистеме, историческая временность которой ныне вполне ощутима.
Алхимические и каббалистические прочтения Дюшана не лишены оттенка мистификации, поскольку их интерпретативные системы не просто базируются на архаических типах знания, предшествующих системе интерпретируемой, но выступают по отношению к ней чем-то наподобие пятен проекционного теста. То же самое можно сказать о некоторых псевдоклинических прочтениях Дюшана в свете психоанализа (я имею в виду работы того же Шварца или д-ра Эльда9). Дело не только в том, что не бывает психоанализа в отсутствие пациента, в конце концов, сам Фрейд прибегал к подобным опытам. Дело прежде всего в том, что этот психоанализ исторически — и эпистемологически — предшествует анализируемым произведениям искусства. Строгая практика Дюшана подвергается расшифровке с помощью символистских решеток, куда более расплывчатых по сравнению с ней и, как следствие, не вызывающих какого-либо доверия. Опровержения на опыте подобные интерпретации не предполагают, так же как и бесконечная игра означающих, в которой усматривают суть искусства Дюшана Элиана Форментелли и особенно Андре Жерве. В этих исследованиях нет и намека на «научную истину», которая непременно допускает опытную проверку и является опровержимой. И все-таки, в отличие от каббалистических и алхимических интерпретаций, они весьма поучительны в отношении функции истины, которую обнаруживает прочитываемое таким образом дюшановское творчество. Их подход к тексту Дюшана подобен отношению русселевского «Как я работал над моими книгами» к «Африканским впечатлениям» и «Locus Solus». Мы никогда не узнаем, насколько эти прочтения корректны: в отличие от Русселя, не Дюшан является автором книги Жерве. Но калейдоскопическая интерпретация последнего, то и дело напоминающая русселевско-дюшановский бред, делает более чем правдоподобной гипотезу значимости для Дюшана анаграмматической механики в духе Русселя. Количество внутренних текстуальных пересечений в корпусе дюшановских работ, доказательства которых, представляемые Жерве, вполне убедительны, не допускает обратной точки зрения. Особую силу придает этому правдоподобию внешний резонанс, в который понятая таким образом дюшановская механика вступает с другими художественными, литературными и теоретическими практиками. Прежде всего, резонанс с более или менее современными ей явлениями: Дюшан в книгах Русселя, Руссель в книгах Джойса, Дюшан в книгах Джойса и т.д. Затем резонанс между практикой и теорией, которая может приступать к трассировке сколь угодно позднее: скажем, Дюшан в диссеминационной семиологии. И, наконец, за всеми этими резонансами слышен голос Лакана, который более, чем кто-либо другой, способствовал признанию такого рода прочтения и заложил его основу —если не научную, то по крайней мере эпистемологическую.
Именно на это и направлен мой интерес в этой книге. Вскоре станет понятно, насколько значительное место я отвожу в предлагаемом параллелизме Лакану. Но прежде я хотел бы объяснить, почему интерпретативный «бред» Жерве, на мой взгляд, приемлем и плодотворен, тогда как прочтения Кальвези и Бернема лишены смысла и пользы. Жерве и Дюшан исходят из одной и той же эпистемы (в смысле Фуко) — скрытой, то есть творчески действующей изнутри, в искусстве Дюшана и явной, то есть теоретически осмысляющей саму себя, в работах Жерве.
Об основательности интерпретаций судит история — история как эпистемология или эпистемология как история, не суть важно. Я имею в виду под этим, что непростительно стремиться интерпретировать творческую практику, которая вносит изменения в эпистему, с помощью решетки, соответствующая которой эпистемология еще не подверглась равноценной трансформации. Приведу пример, связанный с Дюшаном: что может означать поиск «глубинных мотиваций» его — как автора своих решений и выборов — творчества, если речь идет об «авторе», который решительно ввел в искусство неопределенность, оказавшись современником по эпистеме Де Фриса, Корренса и Чермака, открывших генетическую мутацию, Гейзенберга, сформулировавшего принцип недостоверности, и Фрейда, различившего в обычной промашке вторжение бессознательного? Он означает обреченность на безнадежное непонимание этого творчества. Вот почему работа, подобная работе Жерве, имеет эпистемологическую ценность, пусть она и не приносит объективируемого результата и на первый взгляд кажется основанным на вымысле бредом, столь же «проекционным», как и у Кальвези или Бернема. Последние выступают с позиции желающих интерпретировать принцип неопределенности с точки зрения аристотелевской причинности или космогонию Эйнштейна —с точки зрения лапласова облака. А Жерве неустанно переводит Дюшана на его же, Дюшана, язык, то есть читает его на языке эпистемы, которую мы с некоторых пор считаем нашей и которая, как доказывает Жерве —в этом-то и состоит действенность его прочтения, —уже была своей для Дюшана. В рамках этой эпистемы Witz10 и означающего Фрейду — прежде всего при посредстве Лакана—принадлежит почетное место.
Именно эта эпистемологическая общность оправдывает параллель между искусством и сновидением, которую я попытаюсь провести. Нетрудно понять, что такое решение вовсе не требует от меня прямой принадлежности к психоаналитической доктрине, как лакановской, так и фрейдовской. Как уже показал Жерве, Дюшан и Фрейд эпистемологически переводимы на языки друг друга, и для начала моего предприятия этого более чем достаточно. К тому же иной подход был бы самонадеянным, особенно если вспомнить картину трассировки фрейдовской теории, нарисованную Лиотаром, о которой я уже упоминал: перечисляемые в ней авторы — психоаналитики, и скорость устаревания их концепций связи между искусством и психоанализом очевидна. Поэтому я — человек посторонний, выступающий от имени истории искусства, предпочитаю воздержаться от каких-либо теоретических предпочтений в этой области: поскольку я не могу оценить психоаналитическое знание изнутри, такого рода предпочтение неизбежно было бы в моем случае проявлением веры, с точки зрения интеллекта непростительным.
В свете сказанного эпистемологическая общность, оправдывающая параллель, которую я попытаюсь провести, не оправдывает ничего, кроме самой этой параллели. Вопрошать произведение искусства подобно сновидению, изучать его так же, как изучают сновидение, значило бы уверовать в теорию в отрыве от метода. Сравнивать же тот или иной корпус произведений с тем или иным сновидением почленно значит свободно использовать все предоставляемые методом возможности, а к теории обращаться лишь в качестве катализатора. По окончании «химической реакции», сослужив свою службу, она в неприкосновенности удаляется восвояси.
Отсюда следуют два непосредственных вывода: важно, чтобы сновидение, которое будет почленно сравниваться с работой Дюшана мюнхенского периода, было сновидением Фрейда. Мои или ваши сны лишены всякого эвристического значения в рамках этого параллелизма, который с обеих сторон затрагивает «функцию истины», исполняемую искусством и сновидением в общей для них эпистеме. Этим значением обладают только сны Фрейда и только те из них, которые он взял на себя труд истолковать. Кроме того, это должно быть такое сновидение Фрейда — сновидение об инъекции Ирме, сновидение из сновидений, по словам Лакана,—эвристическое значение которого для фрейдовских исследований и стратегически важное место, занимаемое им в самоанализе великого психиатра, не нуждались бы в доказательстве.
Итак, мы последуем обычаю сравнивать искусство со сновидением — конкретное искусство с конкретным сновидением, произведения Дюшана, созданные в Мюнхене летом igi2 года, со сновидением об инъекции Ирме, приснившимся Фрейду ночью с 23 на 24 июля 1895 года и проанализированным в главе II «Толкования сновидений»11.
Наше прочтение этого сновидения будет трижды опосредованным. Во-первых, самим Фрейдом, который нам его сообщает — не его само, конечно, а рассказ о нем, этот единственный материал, с которым работало когда-либо толкование сновидений. Во-вто-рых, толкованием, которое Фрейд дает ему в главе II и к которому он возвращается позднее, чтобы извлечь из него некоторые теоретические выводы,—в частности, в главе IV, при обосновании сгущения. И, наконец, в-третьих, комментарием к этому сновидению, которое дает Лакан, завершая трассировку, имевшую для него смысл возврата к Фрейду, и которое под названием «Сновидение об инъекции Ирме» фигурирует во второй книге его «Семинаров»12.
Собственно говоря, именно последнее опосредование, по порядку являющееся пятым (самым первым была ночь, когда Фрейду приснился этот сон), будет для нас определяющим, поскольку оно по-новому прочитывает в наш исторический момент (или почти: ведь тексту Лакана вскоре исполнится тридцать лет) теоретические уроки предыдущих.
«Не будем продолжать толкование там, где прервал его Фрейд,—пишет Лакан,—но возьмем в совокупности сновидение и его интерпретацию. Тогда наша позиция будет отличной от позиции Фрейда»13.
Что же касается нас, то наша позиция отлична и от позиции Фрейда, и от позиции Лакана как в пространстве (я говорю как историк искусства), так и во времени (прошло тридцать лет14).
Рассказы
Прежде чем приступить к рассказу сновидения, за которым последует его анализ, Фрейд обычно делает предварительное сообщение о непосредственном биографическом контексте, содержащем указания на происхождение некоторых явных элементов сновидения. Таким же образом напрашивается и «предуведомление» к мюнхенскому периоду творчества Дюшана. Однако при сравнении художественной практики со сновидением очень нелегко решить, где кончается «предуведомление» и начинается «рассказ». Как я сказал, мое сравнение будет относиться к мюнхенскому периоду Дюшана. Выбор этого периода продиктован не методологией параллельного рассмотрения, а его стратегическим положением не только в жизни и творчестве Дюшана, но и шире в судьбе живописного модернизма; он подразумевает свободу варьирования дистанции по отношению к рассматриваемому материалу. Нужно будет, с одной стороны, принять в расчет весь «кубистский» период Дюшана, с другой — выделить в мюнхенском периоде ключевую, суммирующую его картину: «Переход от девственницы к новобрачной». Вот почему я не хочу проводить четкую границу между «предуведомлением» и «рассказом сновидения». Чтобы со всей строгостью следовать предпринятому мной почленному сравнению, надо признать, что мы не располагаем ни тем, ни другим. Должно ли «предуведомление» состоять исключительно из внеживописных элементов? Если да, то как получить доступ к ним, зная, что весьма опрометчиво доверяться биографиям, автором которых не является сам художник? Что же касается произведений, то к чему они, mutatis mutandis15, ближе — к «сновидениям», к «рассказам» (сновидений) или к «рассказам» уже истолкованным? Твердо разрешить эти вопросы невозможно ни теоретически, ни даже методологически. Но можно избрать прагматическую позицию, исходя из результатов, которые мы надеемся получить. Фрейд предлагает нам предуведомление уже с оглядкой на рассказ о сновидении и на истолкование, которое за ним последует. Предуведомление—это уже отобранная материалом сновидения часть автобиографии. И Дюшан тоже предоставляет нам подобные автобиографические фрагменты, отобранные его творчеством: я имею в виду интервью и комментарии, данные им о самом себе16. Разумеется, мы будем часто к ним обращаться, не отворачиваясь, впрочем, и от других источников, в первую очередь—от произведений. Ведь если трудно представить себе, чтобы одно сновидение толковало другое (хотя это и не исключается), то произведение искусства, напротив, всегда является интерпретацией как минимум одного другого произведения —того же художника или иного. Это обстоятельство делает историю искусства историей, которая толкует сама себя. Поэтому мы не будем проводить четкого различия между «предуведомлением» и «рассказом сновидения». Но начнем с восстановления — под общим заголовком «Рассказы» — краткой, одновременно событийной и интерпретативной, «пластической биографии», уже подвергнутой отбору параллельным рассмотрением «Перехода от девственницы к новобрачной» и сновидения об инъекции Ирме, которое будет проведено затем.
i6. Каноническим примером таковых является лекция Дюшана под названием «A propos of myself» («О себе»), прочитанная 24 ноября 1964 года в Сент-Луисе. См. ее французский перевод в кн.: Duchamp du Signe. Paris: Flammarion, 1975 (далее —DDS). P. 217-229.
Хотя Дюшан начал заниматься живописью довольно рано (первая известная нам его картина датирована 1902 годом, когда художнику было пятнадцать лет), лишь в 1911 году, когда он познакомился с кубизмом, эти занятия приобрели для него серьезное значение. До того он, как все, находился под влиянием импрессионизма и фовизма и относился к живописи с такой же беспечностью, как и к занятиям карикатурой или даже игре в бильярд. В 1910 году, на три года позже по сравнению с кубистами, он открывает для себя Сезанна и воздает ему дань восхищения, которая отразится в его творчестве лишь после того, как он за год — в 1911-1912 — пройдет через кубизм. Этой данью является «Портрет отца», подлинное, хотя и наивное, приношение Сезанну, а также портрет братьев, изображенных с женами в картине «Партия в шахматы».
В начале 1911 года художник приступает к картине «Соната», посвященной женской половине семейства Дюшанов: его матери и младшим сестрам Ивонне, Магдалене и (на заднем плане) Сюзанне —любимой сестре Марселя, на два года младше его. 24 августа того же года Сюзанна выходит замуж за фармацевта Шарля Демара, и вскоре Дюшан перерабатывает «Сонату» в стиле и колорите, впервые в его творчестве напрямую отсылающих к кубизму. Таким образом, «Соната» — поворотное произведение, особое место которого в «семейном романе» Дюшана придает ему решающую роль и в его карьере живописца. Вообще, рассматривая «кубистский» период Дюшана, нельзя не отметить, что он целиком и полностью является семейным делом, которое непременно должно касаться так или иначе воображаемого места, уделяемого художником себе между его отцом, провинциальным нотариусом, и матерью, дочерью живописца и художницей-любительницей, а также в кругу Двух его старших братьев (быстро снискавших признание художников-кубистов) и трех младших сестер, особенно Сюзанны, наиболее близкой к нему и тоже ставшей впоследствии художницей.
В сентябре 1911 года Дюшан приобщается к кубизму в четырех картинах, трактующих женскую фигуру: «Соната», «Дульсинея», «Расколотые Ивонна и Магдалена» и «О младшей сестре». За вычетом «Дульси-неи», где героиней является прохожая, встреченная на улице и, несомненно, желанная, все эти картины посвящены матери и сестрам художника; по-кубистски «раскалываясь», они, однако, начисто лишены стремления к пространственному анализу, характерного для Брака и Пикассо, равно как и дорогих Глезу и Метценже теоретических подтекстов. То, что Дюшан пришел к кубизму через женскую фигуру, а не через натюрморт или пейзаж, делает его случай уникальным и наводит на мысль о том, что этот этап его творчества связан с кубизмом лишь по видимости.
В октябре — декабре 1911 года художник переходит к своим братьям, которых пишет играющими в шахматы, по образцу «Партии в шахматы» 1910-го. Предваренные пятью этюдами углем, тушью и акварелью, картины «Игроки в шахматы» и особенно «Портрет игроков в шахматы» свидетельствуют о тенденции к уклонению от кубистских правил игры, в которой смешиваются оттенки неловкости и порока. Дюшан словно бы искренне тянется к кубизму, но некая невольная злонамеренность уводит его от проповедуемой кубистами-ортодоксами объектной пластичности. Решенный в зеленоватом свете газовой лампы—чтобы «простым приемом, ослаблением тонов, получить гризайль»15,—его «Портрет игроков в шахматы» кажется цитатой, уже готовой и не лишенной иронии, из странным образом выхолощенного художником кубизма.
Написанные в декабре 1911 года картины «Обнаженная, спускающаяся по лестнице, №1» и «Грустный молодой человек в поезде», а также «Обнаженная, спускающаяся по лестнице, №2» (январь 1912), являются автопортретами16. Хотя нет ничего более далекого духу кубизма, чем автопортрет, собственные изображения Дюшана лишены сходства и с интроспективными автопортретами Сезанна или Ван Гога. Подчеркивая, что в «Грустном молодом человеке» он ввел в кубистскую живопись идею движения, Дюшан представляет это движение —называемое им «элементарный параллелизм» и подсказанное ему хронофотографиями Марея — как технику субъективного отстранения, несовместимую как с погружением в себя, так и с кубистской (или футуристской) объективацией: «Сначала — идея движения поезда, затем — идея грустного молодого человека, который сидит внутри и едет; таким образом, есть два соответствующих друг другу параллельных движения»17. Чтобы прочесть эту картину как автопортрет, необходимо учесть раздвоение персонажа Дюшана, ничуть не похожее на зеркальное или самоуглубленное всматривание в себя. Во-первых, есть молодой художник, грустный, быть может, оттого, что он сел в уже идущий поезд кубизма, и движущийся параллельно этому авангардному движению и внутри него (о том, совпадают их направления или они противоположны, история умалчивает). Во-вторых, есть другой Дюшан, который портретирует относительное движение первого и, надо полагать, стоит на склоне горы или на набережной — в любом случае за пределами поезда, как неподвижный наблюдатель. В ортодоксальном кубизме художник воображаемо перемещает свою точку зрения вокруг объекта и работает с этим перемещением. В «Грустном молодом человеке» никакой работы с перемещением нет: движение молодого художника, севшего в кубистский поезд, будучи и объектом, и сюжетом картины, дано готовым и словно бы в законченном прошедшем времени для самого этого художника —не столь, быть может, молодого наблюдателя и комментатора кубистского движения, которое увлекло его за собой. Дюшан будто бы пишет свой ретроспективный портрет в предвосхищении: он был кубистом раньше, он больше не кубист. «Обнаженная №2» знаменует собою поворот, автором которого сам Дюшан не является, но который вернется к нему как справедливое возмездие тех, кто управляет кубистским поездом. Этот поворот заключен не в стиле картины, фактура и колорит которой по-прежнему тяготеют к кубизму. Он сводится к расхождению между стилем и названием, между кубистскими чертами картины и очевидностью ее названия («Обнаженная, спускающаяся по лестнице»), написанного прописными буквами прямо на лицевой стороне. Именно это расхождение счел недопустимым выставочный комитет зала кубизма Салона независимых 1912 года, отказавшийся вывешивать «Обнаженную»: «Прежде чем представить картину в 1913 году в нью-йоркском Армори Шоу, я в феврале 1912 года посылал ее в Салон независимых, но моим друзь-ям-художникам она не понравилась, и онипопросили хотя бы изменить ее название»18. Наконец, именно это расхождение — место предугаданного теоретического раскола —Дюшан позднее назовет, размышляя о нем уже отдельно от исторических обстоятельств, своего рода живописным номинализмом.
В марте — мае 1912 года в Нейи исполнена серия из четырех подготовительных рисунков к картине «Король и королева в окружении быстрых обнаженных», объединяющей на правах шахматных фигур мужские и женские фигуры, с которыми Дюшан приобщился к кубизму. Кубистская страница еще не перевернута, однако в символистской тематике и в фактуре этих работ содержится уже лишь кубизм, цитируемый в перспективе расхождения, обозначенного сочетанием таинственной иконографии и нелепого названия. Задача интерпретировать изображение, удерживающееся в рамках названия не дольше мгновения, выпадает отныне на долю зрителя. Неузнаваемые, король и королева обозначены именами слева и справа от бесформенной плазмы, блуждающей в центре картины и соответствующей быстрым обнаженным. Изображение написано и сказано, и кубистское письмо демонстрирует рассеяние фигур, подсказываемое их именем. Но ни изображение, ни имя не приобретают стабильного положения вокруг некоего общего референта. Слово «быстрые», адъективированное наречие, которому в надлежащее время ответит известное «так же» — ставшее наречием прилагательное19,—указывает на то, что изображение и имя теряют свое соотнесение в поэтическом измерении, замыкающем эффекты языка на его собственные законы. Дюшан демонстрирует таким образом стремление на высокой скорости преодолеть закон кубистского языка, его «сетчаточную» регламентацию и семейственную сверхопределенность. Рисунок под названием «Обнаженные на скорости минуют короля и королеву», в котором штрих отнюдь не раз-
графляет пространство, как у Пикассо, а словно бы фиксирует исчезающий след стремительного процесса, заявленного в названии, обозначает, как кажется, также и кубизм, быстро преодоленный в качестве техники, которая позволила превратить обнаженную натуру как живописный жанр и либидинальную нагрузку в простой материал: выражение «обнаженные на скорости» звучит как «стихотворение в прозе»,
или как «плевательница из серебра», или как... «за-
22
держка в стекле» .
18 июня 1912 года Дюшан отправляется на поезде в Мюнхен, откуда он вернется ю октября с двумя тонированными (один — акварелью, другой — сепией) рисунками под названием «Девственница №2» и «Новобрачная, раздетая холостяками», с двумя картинами «Переход от девственницы к новобрачной» и «Новобрачная» и, наконец, с сепией под названием «Аэроплан» (рисунок «Девственница №1» был прислан из Мюнхена на открывшийся 1 октября Осенний салон). Причины этого внезапного отъезда навсегда останутся неясными, равно как и подробности пребывания Дюшана в столице Баварии. Достоверно одно: произведения, созданные там,—завершающие «кубистский» период его творчества,—явились поворотными как для художнической карьеры Дюшана, так и для его личной жизни. По возвращении в Париж его девизом будет: «Довольно живописи, Марсель. Пора искать работу!»23. Действительно, к этому моменту относится первый отказ Дюшана от живописи. Впрочем, он тут же признается, что следовал этому девизу недолго: «И я принялся искать место,
22. «Использовать „задержку" вместо картины или живописи; [...] —
задержка в стекле, так же как говорят „стихотворение в прозе" или „плевательница из серебра41» (Из «Зеленой коробки».— См.: DDS. Р.41).
23. Из интервью с Дж.Дж.Суини.— См.: DDS. Р. 179.
Зб
которое позволяло бы мне заниматься живописью
для себя2*»-
Писать для себя, писать о себе— значит ли это перестать писать? «Пребывание в Мюнхене послужило поводом для моего полного освобождения»,—говорит о себе Дюшан20. Освобождения от чего? Результаты мюнхенского периода нам известны: это не только иконография «Новобрачной», но и проект «Большого стекла», созревший очень рано, и параллельно, следом за «Музыкальной опечаткой» и «Образцами для штопки», случайные встречи с готовыми художественными объектами. Но что оказалось преодолено, что Дюшан оставил в прошлом, по видимости отказавшись от живописи, во всяком случае от живописи кубистской? Социальное стремление реализоваться в качестве живописца в рамках исторического авангарда, все еще связанного с кубизмом? Всю живопись вообще? Только профессию живописца, его делание, сместившееся в сторону скорее умозрительной, нежели ремесленной практики? Или, наконец, он просто-напросто оставил в обратном поезде «грустного молодого человека»? Несомненно, мюнхенское «освобождение» произвело на него терапевтическое действие и как на человека, и как на художника. Более того, оно имело смысл самоанализа, открытия, которое вызывает расхождение, регистрирует его и затем работает над ним. Из Мюнхена вышла «игра между мной и мной», персональная терапия и художественная стратегия расхождения между «страдающим человеком» и «творящим духом», слышимые в грамматической изощренности заметки из «Короб-ки 1914 года»: «Учитывая, что...; если я допускаю, что являюсь человеком, много страдающим...»21.
Короче говоря — переход, «зеркальный» и ритуальный обмен между обличьями Нарцисса, когда он назначает себе в качестве объекта и субъекта, сюжета, живописи переход от жизни художника к обычной жизни, спуск с небес на землю. «Соната» явилась ритуальным посвящением Дюшана в кубистский авангард, «Переход от девственницы к новобрачной» столь же ритуально вывел его оттуда.
Шесть мюнхенских работ Дюшана, и прежде всего «Переход от девственницы к новобрачной», составят «рассказ сновидения», который мы попытаемся почленно сравнить средствами эвристического параллелизма с фрейдовским сновидением об инъекции Ирме. Почему именно «Переход от девственницы к новобрачной»? На сей раз вопрос касается уже не «теоретического» оправдания определенного метода работы, а мотивировки его приложения к конкретному случаю. Было бы, впрочем, недостаточно говорить о «приложении», имея в виду метод, который еще не был опробован, который будет применен, скорее всего, лишь единожды, который подразумевает критическое рассмотрение его собственной исторической случайности и который, возможно, будет оправдан исключительно результатами, принесенными им за пределами его собственной области. Нужно напомнить точку зрения, избранную этой книгой, заявить ее задачу и признать содержащуюся в ней уловку. Ее точка зрения — время и место, из которых она выстраивается как «рассказ»,—это точка зрения истории искусства. Это значит, что она адресует определенному моменту нашего культурного прошлого вопрос об истолковании (или переистолковании), способном организовать (или реорганизовать) определенную совокупность фактов в связный «рассказ». И еще — что эта точка зрения не вольна отрешиться от того, что она _ точка зрения; другими словами, историк искусства сам обременен историей и вправе по-новому истолковывать прошлое лишь в меру сознания своей обязанности говорить в настоящем (обращаться к присутствующим). А потребности сегодняшнего дНЯ _ те, в частности, о которых свидетельствует владеющее умами слово «постмодернизм»,—заставляют историка обратить взор на 1912 год и на те решающие для художественного модернизма перемены, которые тогда произошли. Это год, когда сразу несколько живописцев в относительной независимости друг от друга перешли или решили перейти к абстракции. Это год, когда вышел из так называемой герметичной стадии кубизм Брака и Пикассо; когда наклеенная бумага ввела в живопись инородный элемент, впоследствии перевернувший ее отношения со скульптурой и с искусством в целом; когда тот же кубизм одержал институциональный триумф в Салоне независимых и вышла в свет книга Глеза и Метценже «О кубизме» — первое теоретическое и вместе с тем академическое обоснование движения. Это год начала кампании футуристических проповедей, когда, несомненно, впервые (хотя неочевидный стратегический прецедент создали в этой области Курбе и Мане) авангардистское движение претворило идею авангарда, характеризующуюся отрицанием прошлого и устремленностью в будущее, в осознанную и ясную эстетическую идеологию. И, наконец, это год, когда некто Марсель Дюшан, которому никто не мог предсказать исключительной славы, признанной за ним последующими модернистами и «постмодернистами», отказался от живописи.
Интерпретация этого отказа и является задачей моей книги. Она имеет две стороны, и обе они касаются как Дюшана в частности, так и истории в целом. Первая сторона — это сам отказ, смысл этого слова и весь спектр его субъективных оттенков. Чтобы понять, что в точности значит «больше не заниматься живописью», надо не только знать, что значит «заниматься живописью», но и уловить подразумеваемое словами «занимался живописью раньше». Нельзя говорить об отказе нейтрально, не опираясь на общее, теоретическое определение предмета отказа. Однако притязание на подобную опору тщетно — не только потому, что, само собой, ремесло живописца с течением истории изменилось, но и потому, что в каждый момент этой истории оно само было своим собственным определением, воплощенным в конкретной и субъективной практике тех, кто им занимался. Несомненно, что «отказ» от живописи отдельного человека по имени Марсель Дюшан возымело глубокий исторический резонанс и что этот сугубо личный поворот его карьеры оказался нагружен, причем неоднократно, истолкованиями, которые присваивали ему некое общее значение. В нем видели предвестие или удостоверение смерти живописи, ее умышленное убийство или, не менее часто, подтверждение гегелевского пророчества о конце искусства. Эти истолкования актуальны и сейчас, когда художественная среда кажется расколотой на два лагеря: одни под знаменами трансавангарда, неоэкспрессионизма и «постмодернизма» возвещают триумфальный возврат живописи, тогда как другие —то от имени того же «постмодернизма», только в диаметрально противоположном значении, то во имя верности модернизму исторических авангардов —объявляют ее окончательно себя изжившей. Эти истолкования как раз и мешают сегодня целостному пониманию истории модернизма, задачей которого является, помимо прочего, объяснить жизнеспособность живописной практики у ее лучших нынешних представителей, вместе с тем удостоверив как исторический факт смертный приговор ремеслу живописца. Необходимо, таким образом, переистолковать «отказ» от живописи человека по имени Марсель Дюшан, что возможно, лишь если отвлечься от значения, которое — сознательно или бессознательно — могло иметь для него то, что он был или чувствовал себя живописцем.
Бросая живопись, Дюшан, очевидно, отказывался от своего статуса живописца в пользу статуса художника, антихудожника или, по его собственным словам, анартиста. Если же судить опять-таки по его последующей славе, то эту репутацию анартиста принес ему прежде всего реди-мейд. «Изобретение» реди-мейда является другой стороной отказа от живописи и второй половиной задачи моей книги. О самом реди-мейде, о множестве объектов, которые Дюшан окрестил этим именем, и о том, что принято понимать под этим необычным термином, речи в ней почти не будет. Именно потому, что прежде требуется предпринять археологию реди-мейда. Так же или даже больше, чем «Большое стекло», с которым он поддерживает отношение, близкое к компенсаторному, реди-мейд является продуктом «отказа» от живописи, который расходится, разрывает преемственную связь с нею, но парадоксальным образом оставляет себе ее наследие. Он является самим актом регистрации отказа от живописи; без него последний был бы лишь прекращением деятельности, которое история никогда не взяла бы на себя труд утвердить. Таким образом, реди-мейд — это акт в смысле действия: в самом деле, он оказал и продолжает оказывать воздействие на историю искусства. Но в то же время его можно назвать и актом удостоверяющим, так как он подтверждает, что получил историю, которая ему предшествовала и которая является историей живописи. В случае «смерти живописи» реди-мейд является припиской к ее завещанию. А где завещание, там и наследство: передача полномочий и переход традиции к живым. История живописи не завершилась с ее «смертью», и живопись не умерла с появлением реди-мейда; она живет и умирает в каждой передаче полномочий.
Теперь, полагаю, уловка моей книги очевидна. Ее реальным предметом является традиция, та особая традиция, которая снискала имя современного искусства, модерна или модернизма, которая обладает всеми признаками антитрадиции и которую на страницах этой книги я попытаюсь «сфотографировать» в решающее мгновение, когда обнаруживается то, что она передает,—имя, имя «живопись». Событие этого откровения должно быть застигнуто в двух аспектах, или в двух фазах. «Отказ» от живописи — это переход, в процессе которого ее имя отделяется от особого ремесла, которое придавало ему законность. «Изобретение» реди-мейда — это передача, посредством которой имя живописи, утратив свою специфицированную законность, тем не менее приходит к родовому имени искусства. Эти переход и передача являются заслугой не одного человека, а целой культуры, которую творчество этого человека открывает ей самой и которую оно открывает, прежде всего, давая им имя. «Переход от девственницы к новобрачной»—так назвал Дюшан в августе 1912 года картину, которая через месяц привела его к решению оставить живопись. «Передача» —это название журнала, на обложке которого четверть века спустя Дюшан поместил фоторепродукцию одного из своих реди-мей-дов, «Расчески» (1916), название которой отражает смысл осуществленного «Переходом»22. Моя книга, в свою очередь, попытается истолковать засвидетельствованное откровение «Перехода от девственницы к новобрачной» в его историческом резонансе, с точки зрения культуры по сей день отзывающейся на совершенную Дюшаном передачу полномочий. Чем обширнее ее цель, тем четче должен быть ее объект. Чем более общей является ее задача, тем точнее должно быть направлено исследование. Чем более показательное значение имеет судьба отдельного человека тем уже должно быть внимание к уникальному в этом показательном образце. Парадокс искусства заключается в том, что каждое произведение в своей уникальности претендует на универсальность, а соответствующий парадокс истории искусства — в том, что «прилагая» некую теорию или метод исследования, она должна приспособить ее к исключительности анализируемого случая. Поскольку бесспорно то, что судьба модернизма пересеклась в августе 1912 года в Мюнхене с TriebschicksaP8 отдельного человека, а, может быть, даже с эстетической судьбой одной картины, я не мог не привлечь к делу психоанализ, являющийся на сегодняшний день самым общим дискурсом субъективности и вместе с тем самым сильным средством проникновения в субъективность частную. Подобно тому как уловка «элементарного параллелизма» позволила Дюшану приобщиться к кубизму, не став кубистом, для нас эвристический параллелизм между искусством и психоанализом, Дюшаном и Фрейдом, двумя «рассказами сновидения», послужит уловкой, которая, возможно, позволит вывести из индивидуального случая как нельзя более общую цель (прежде чем приступать к ее истолкованию).
28. Велением судьбы (кем.). — Прим. пер.
Переходы
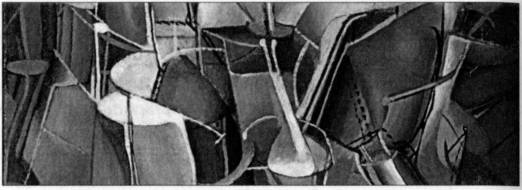
«Теперь, чтобы облегчить переход от этой схемы психического аппарата к той, что подразумевается дальнейшим ходом мысли Фрейда, то есть к схеме, сфокусированной на теории нарциссизма, я хочу предложить вам сегодня одно маленькое испытание»1.
ТАКИМИ словами Лакан предваряет свой комментарий к фрейдовскому сновидению об инъекции Ирме. Переход, о котором идет речь, ведет от схемы психического аппарата, описанной в главе VII «Толкования сновидений», к той «маленькой игре» между идеальным я и идеалом я, которая проходит красной нитью через «Zur Einführung des Narzissismus»2. Иными словами, он ведет от одного теоретического представления к другому, но в то же время соединяет два решающих момента в жизни Фрейда — в его жизни изобретателя психоанализа. Два момента, ко-
1. Лакан Ж. Семинары. Книга 2. Цит. соч. С. 211
2. «Введение в нарциссизм» (нем.). — Прим. пер.
гда учитывая объект и сюжет его работы (в 1900 году это’было сновидение, а в 1914-м —нарциссизм), Фрейд не мог не прислушиваться с особым вниманием к самому себе в надежде на то, что его собственное бессознательное, выплески которого он фиксировал в процессе самоанализа, прольет свет на бессознательное вообще.
Переход, связанный с жизнью Дюшана в Мюнхене проливает, так сказать, параллельный свет. Вот молодой художник весьма эклектичных до сих пор устремлений, который в августе 1911 года «сочетается» с ремеслом живописи, приобщаясь к кубизму. Год спустя он запечатлевает эту «свадьбу» в картине под названием «Переход от девственницы к новобрачной», сам в это время —как живописец —считая подходящей для себя жизнь холостяка. В переходе Дюшана от двух «Девственниц» июля к «Новобрачной» августа заключена та же сила изобретения и, возможно, тот же компонент самоанализа, что и в пути, проделанном в 1900-1914 годах Фрейдом. И его урок имеет подобные фрейдовскому условия и аналогичные следствия. Условия: художник, уклоняясь от нормативного давления художественной среды, доверяется безоговорочной диктовке своей субъективности. Следствия: ему открывается нечто такое, что касается живописи вообще и что в дальнейшем позволит назвать ее невозможной, или бесполезной, или возможной несмотря ни на что.
Wunsch aus München 3
Мюнхенская решимость (нем.).—Прим. пер.
Теперь это сновидение — сновидение об инъекции Ирме — позволяет провести параллель с мюнхенским периодом творчества Дюшана. Глава, в которой Фрейд предпринимает его анализ, завершается центральным для «Толкования сновидений» открытием: «Согласно произведенному нами анализу, сновидение является осуществлением желания»23.
О каком желании идет речь в сновидении об Ирме? О желании Фрейда доказать свою невиновность в неудаче ее лечения. Согласно аргументам в стиле «дырявой кастрюли», с Фрейда снимается ответственность за болезнь Ирмы, так как, во-первых, Ирма виновата сама, ибо не приняла его «решения»; во-вторых, так как ее болезнь обнаруживает органические симптомы, не имеющие ничего общего с психической этиологией; и, в-третьих, так как в ее болезни виноват Отто, который сделал ей инъекцию грязным шприцем24.
Обратимся теперь к Дюшану. То, что практика живописи является для того, кто ею занимается, воображаемым (порождающим образы) осуществлением желания, не подлежит сомнению. Оставим на время за скобками, как делает и Фрейд в этой части «Толкования», вопрос о том, достаточно ли для этого сознательного желания. Подобно тому как Фрейд сознательно (или предсознательно) желает объяснить неудачу лечения Ирмы вмешательством третьего лица (согласно предуведомлению, это постоянно заботит его в состоянии бодрствования), молодой амбициозный художник может испытывать сознательное или предсознательное желание снять с себя ответственность за неуспех своей живописи.
Живописную практику Дюшана в 1911-1912 годах, равно как и ее неуспех, следует рассматривать в двойном историческом контексте авангарда и кубизма.
Под авангардом я понимаю встреченную живописью в определенный момент ее истории — после Курбе и Бодлера — необходимость обновляться для того, чтобы сохранять свое значение. Что же касается кубизма, то он в 1911-1912 годах является обязательным для авангарда путем развития. Импрессионизм уже достаточно давно к тому времени утратил свою энергию и приобрел черты академической практики, которую передовые живописцы упрекали в недостаточной конструктивности и склонности к поверхностным декоративным эффектам. Аналогичной критике подвергались художники группы «Наби» и фовисты. Наконец, символизм (исключая, разве что, символизм Гогена) всегда был более литературным, нежели живописным, движением и так и не выработал в себе чуткость к авангардистским устремлениям. Оспаривать у кубизма монополию на авангард мог в это время только итальянский футуризм. Известно, однако, что, в отличие от кубизма, футуризм практически не оказал влияния на Дюшана. Манифест Маринетти был опубликован в газете «Фигаро» в феврале 1909 года, но Дюшан всякий раз утверждал, что не интересовался тогда этим движением25. Его внимание привлекла к футуризму картина Баллы «Собака на сворке», которая, по его словам, фигурировала на первой футуристической выставке в Париже, состоявшейся 5-24 февраля 1912 года в галерее Бернхейма-младшего26. Если это так, то Дюшан видел «Динамизм собаки на сворке» до того, как послал «Обнаженную, спускающуюся по лестнице, №2» в Салон независимых, но все равно после того, как ее окончил. Таким образом, то, что футуристическое влияние на Дюшана не имело места, несомненно. Наоборот, замеченное им движение футуристов по пути, параллельному его собственному, вполне могло ускорить осуществление его стратегических замыслов и побудить его к спешке, которая ощущается в тех особых надеждах, которые он возлагал на попадание «Обнаженной» в Салон Независимых. Эти надежды, как мы знаем, ожидало жестокое разочарование, с лихвой, впрочем, возмещенное впоследствии, так как отсутствие картины, отвергнутой самими авангардистами, в Салоне принесло ей куда большую славу, нежели та, которой можно было ожидать от ее присутствия. Мне кажется, что Дюшан понял это очень быстро и что именно с живописностратегической точки зрения следует рассматривать его творчество 1911-1912 годов в контексте двойственного влияния авангарда и кубизма.
«Портрет игроков в шахматы», «Грустный молодой человек» и «Обнаженная №2» при всем расстоянии, отделяющем их от кубизма, имели тем не менее в психической структуре притязаний Дюшана значение потребности, а именно потребности полного признания в качестве живописца-авангар-диста со стороны кубистов, тогдашних обладателей монополии на само это понятие. Не стоит слишком доверять ставшему легендарным образу Дюшана — беспечного дилетанта. Наоборот, стоит представить его молодым человеком, который, приобщившись к живописи — и к карикатуре, так же как и его брат Гастон,—благодаря, скажем так, семейному призванию, отрывочно поучившись в 1904-1905 годах в Акаже, в Берлине или Мюнхене, где та же выставка прошла после Парижа.
демии Жюлиана, решил последовать примеру своих братьев и избрать для себя карьеру художника. Карьеру, которая началась с неудачи — вполне безобидной и, как выяснится позже, скорее лестной, и все же тяжело переживавшейся как провал: в 1905 году Марсель провалился на вступительных экзаменах в Школу изящных искусств27. Уместно предположить, что эта неудача, отзвуком которой стал отказ Салона Независимых принять «Обнаженную», сыграла роль легкой «первичной травмы», очень скоро «забытой» и все-таки достаточной, чтобы поддерживать тревогу Дюшана по поводу его качеств живописца и, как бы в отместку, укреплять его решимость стать живописцем несмотря ни на что. Эти два фактора — позор, который надо стереть, и тревога по поводу его признания в качестве живописца — побудят художника уйти от прямого общения с Браком и Пикассо, предпочтя им менее требовательную компанию Метцен-же и «математика» кубизма Пренсё. Отметим противоречие: кубистский авангард, который в 1911 году вершит историю,—это прежде всего Пикассо и Брак. Грис присоединится к ним только в 1912-м, когда в Салоне Независимых будет выставлено его «Приношение Пикассо», и войдет в ряд авангардистов лишь после того, как, оставив галерею «Золотое сечение», подпишет эксклюзивный контракт с Кан-вейлером и прекратит, подобно Пикассо и Браку, выставляться публично. Именно этот авангард оказывает влияние на Дюшана, он признавал это сам, вспоминая, что открыл для себя кубизм в галерее Канвейлера28. Однако он не общается ни с Браком, ни с Пикассо, ни с Делоне и едва знаком с Леже. Он посещает собрания по вторникам у Глеза в Курбевуа и воскресные вечера у своих братьев, где знакомится с членами «группы Пюто»29 —художниками второго ряда, которые, сознавая, что они не являются пионерами движения, делают его в полном смысле слова «движением», подкрепляя теоретическим обоснованием и связной идеологической подкладкой30. Это стремление «примкнуть к группе» кажется столь непохожим на Дюшана, что на нем стоит остановиться. Найти ему объяснение можно лишь признав, ч.то Дюшан — менее беспечный и более амбициозный, чем кажется на первый взгляд,— бессознательно приписывает своим «кубистским» произведениям 1911-1912 годов значение потребности. Потребности, обращенной, как мы увидим, к группе, в которую братья могут ввести его без каких-либо предварительных испытаний; а через эту группу —ко всему тому более или менее институциализированному миру искусства, который составляет тогдашнюю художественную жизнь; и, наконец, в еще большем обобщении — к истории живописи, воплощенной в передовом кубизме Брака и Пикассо.
Вот, следовательно, какова субъективная позиция Дюшана в двойственном контексте авангарда и кубизма: он амбициозен и в достаточной степени является живописцем, чтобы понимать, что истинный живописец-авангардист добивается заметного обновления, если ему удается преподнести чувству своей эпохи живопись, ранее неведомую, но вместе с тем доказывающую, что, разойдясь с историей, он вобрал ее в себя. И он достаточно трезв по отношению к себе, чтобы понимать, что таким живописцем он никогда не станет, что он никогда не станет Пикассо. В 1902-1910 годах его эволюция характеризуется странной смесью отстраненного подражания и кропотливой технической тщательности, а что особенно важно,— весьма малой изобретательностью; Дюшан пробует себя в это время во всех авангардистских стилях, то в манере импрессионистов, то в манере Сезанна или Матисса, но никогда не доходит до живописных проблем, которые однажды становятся препятствием на пути любого молодого художника.
Для того кто «приобщается к кубизму», эти живописные проблемы являются достаточно определенными. Это проблемы, поставленные в 1908 году в «Авиньонских девицах» Пикассо и в «Купальщице» Брака и с тех пор систематически разрабатывавшиеся первым в Рю-де-Буа, а вторым — в Эстаке. Они касаются возможности сохранения иллюзионизма после отказа от старого перспективного кода. Редукция живописности к картинной плоскости в духе Мориса Дени не получила развития. Возникла потребность вновь утвердить в качестве фундаментального противоречия живописного искусства необходимость показать третье измерение на двумерной плоскости. Однако довольствоваться обращением к старой перспективе, линейной или воздушной, как равно и моделировать пространство и предмет исключительно цветом, было уже нельзя. Никто в 1911 году не мог игнорировать эту определенную Сезанном потребность и эти установленные им же запреты. Ни Сёра, ни Гоген не смогли в той мере, в какой это удалось Сезанну, связать историю живописи — и, следовательно, авангард в его функции исторической преемственности — с этим осознанным как ключевое противоречием. И никто не предложил лучшего, чем Сезанн, его «решения», тоже неизбывно противоречивого: я имею в виду его знаменитое пространство, вогнутое и выпуклое одновременно, которое порождают вокруг себя его мазок, его окрашенная плоскость и его, сезанновский, предмет. Кубизм был интерпретацией Сезанна, обязательной переработкой тех живописных проблем, которым живопись Сезанна присвоила силу закона. И если для всех кубистов от Брака до Метцен-же, а также для Матисса, Дерена или Вламинка Сезанн воплощал в решающие моменты их эволюции «закон отца», то Дюшан обходит его, как избегает и открытого — то есть интерпретированного средствами живописи — нарушения нового, сезанновского, «правильного построения». Когда он отвечает Пьеру Кабанну на вопрос об открытии им Сезанна: «Нет, не Сезанн»,—эта прямота отрицания звучит так, словно Дюшан открещивается31. Он с долей эклектизма выбирал для себя в период ученичества различных временных «отцов», в глубине отрицая их закон и тем самым не оставляя своей живописи возможности быть узаконенной историческим движением авангарда — этим новым путем, первопроходцем которого выступил Сезанн. Он приобщился к кубизму слишком поздно: молодой человек вскочил в поезд на ходу, изобрести кубизм в 1911 году уже не было возможности. Но если для изобретения было слишком поздно, то путь подражания быстро стал казаться ему бесплодным. Когда кубизм, вызвавший фурор в Салоне Независимых 1911 года, начал приобретать черты магистрального пути современности, надо было что-то делать, и его самолюбие уже не позволяло ему писать в кубистской манере так, как прежде, беспечный ученик, он писал в стиле импрессионизма или фовизма. Что же до присоединения к движению, к идеологии движения, то это было не в его характере. К тому же, если бы ему понадобилось, он без труда нашел бы вокруг себя примеры академической рутины кубизма второго поколения, писавшего скорее чтобы оправдать историю, чем чтобы ее вершить: Глез, Метценже, его собственные братья. Их теоретические разглагольствования быстро разубедили бы его в пользе приобщения к доктрине.
Оставалось уклонение, или даже увертка: надо было преодолеть кубизм побыстрее. А это проще сказать, чем сделать; во всяком случае проще констатировать это нам, знающим благодаря историческому разрыву, что более плодотворными оказались усилия тех авангардистов, которые в 1912-1913 годах прошли через кубизм, на нем не остановившись,— как Мондриан, Малевич, как в некотором смысле сами Брак и Пикассо с их наклеенной бумагой,—чем в свое время Дюшану, стоявшему, не зная, куда идти, перед необходимостью быть кубистом и таковым не оставаться. В контексте этих противоречий «кубистская» практика Дюшана как раз и приобретает значение потребности, желания, решимости. Потребность в признании авангардом, внутри авангарда; желание нагнать историю и проложить по-другому упущенный путь, ведущий к кубизму через Сезанна; и решимость, Wunsch, освободиться от ответственности за «упущенную возможность» кубизма, за пропуск этого обязательного этапа.
В сновидении Фрейда осуществлялось желание психиатра освободиться от ответственности за неудачу с Ирмой; живопись Дюшана 1911-1912 годов осуществляет его желание оправдать свою неудачу по отношению к истории искусства. Сразу после оскорбления, нанесенного ему собратьями-авангардистами, Дюшан отходит от группы и удаляется в Нейи, где начинает разрабатывать неудачу, шах, шахматы32 как тему быстрого, «на скорости», преодоления. Образное осуществление желания обогнать (кубистское) движение приходит на смену его разложению средствами «элементарного параллелизма», отвергнутому вместе с «Обнаженной». И в скором времени, словно чтобы развернуть свою потребность, заставить себя желать, «раскладывая сожаления по дальним ящикам», Дюшан уезжает в Мюнхен, где вдали от всяких группировок и соревнований он сможет дать ход живописному осуществлению своего решения.
Стратегии
Лакан напоминает, что Фрейд в этот период еще «склонялся [...] к мысли, что когда бессознательный смысл базового невротического конфликта становится ясен, остается лишь предложить его самому субъекту, который либо примет это объяснение, либо не примет»33. Перефразируем: Дюшан в этот период еще склоняется к мысли, что, выяснив смысл конфликта, вызвавшего поворот в развитии живописи (эдиповского конфликта кубизма с Сезанном), остается лишь предложить его Истории живописи (воплощаемой авангардом текущего момента), которая либо примет его, либо не примет. Этот парафраз требует соблюдения трех условий.
Во-первых, Дюшан должен был предвидеть ожидавший кубизм тупик. Хотя он и сам пытался избежать эдиповского конфликта с Сезанном, он наверняка очень рано понял, что кубистская попытка его разрешить не расслышала, в свою очередь, истинного урока Сезанна, который касается, как мы увидим, не столько статуса изображаемого объекта в живописи, сколько субъективного статуса в ней живописца. Когда Сезанн говорит о своем стремлении ввести в живопись «серое вещество», вовсе не нужно видеть в этом проявление интеллектуализма, тем более — рационализма. Наоборот, это ортодоксальные кубисты — как они сами повторяли — взялись вернуть в цветовой хаос импрессионизма умозрительный, рациональный порядок. И когда Сезанн возлагает на Курбе ответственность за пагубный поворот истории живописи к раздражению сетчатки, это суждение, вне сомнения, несправедливое для Курбе, является в то же время точной интерпретацией кубистского тупика: кубизм так и остается реализмом, каковым живопись Сезанна уже не была. Сезанновская критика живописи для сетчатки — это критика реализма, а не зрительной сути живописи; его слова о сером веществе — это призыв к эпистемологической функции живописи, а вовсе не защита картин на литературные, символические или умозрительные сюжеты, даже если они берутся из мифологии четвертого измерения. Эти два пункта позволяют понять его восхищение Матиссом, ничем иным не объяснимое.
Во-вторых, «кубистская» живопись Дюшана —это живопись-комментарий. Сначала («О младшей сестре») — комментарий к сюжету, в иконологическом смысле слова; затем («Портрет игроков в шахматы») — комментарий к стилю, в ироническом смысле используемой историками искусства категории; затем, наконец («Грустный молодой человек в поезде», «Король и королева в окружении быстрых обнаженных» и все мюнхенские картины), — комментарий к сюжету, на сей раз в психологическом смысле слова, со стороны самого этого сюжета-субъекта (субъекта-живописца, «творящего разума»). Три эти следующие одна за другой формы живописного комментария позволяют пересмотреть проблему автореферентности в живописи: да, модернистское искусство комментирует свою собственную историю как искусство об искусстве, но также оно комментирует историю художника как искусство à propos of myself5. Эти комментарии составляют единое целое — такова особенность искусства, способного означать. Вот в чем причина перехода Дюшана с одной прота-гонистской позиции на другую —того перехода, который позволил ему очень рано понять, что, даже если его живопись выглядит по-кубистски, он не кубист. Он уже — другой, ибо он предлагает истории искусства, «которая может согласиться или не согласиться с ним», интерпретацию-цитирование кубизма, призванную выявить лежащий в его основе конфликт и ложное разрешение этого конфликта.
И в-третьих, в «Обнаженной, спускающейся по лестнице, № 2» Дюшан представил текущей истории искусства — то есть кубистскому авангарду, который был тогда ее воплощением,— свой, некубистский, выход из кубистского тупика. Или, точнее, его предложение «Обнаженной» в Салон Независимых поставило кубистский истеблишмент перед необходимостью принять или не принять его «решение». Как известно, принято оно не было. Непринятая потребность, обманутое желание, решимость, разбившаяся о принцип реальности, то есть в данном случае об историю искусства как институт, но затем осуществилась в продолжении истории, в практике автобиографии — в живописи для себя и о себе.
Сновидение имеет стратегический характер: желание, чтобы заставить себя услышать и добиться своего воображаемого осуществления, должно обмануть цензуру и сопротивление субъекта. Когда вас зовут Фрейд и вы на пути к изобретению психоанализа, вам снятся до странности стратегические сны. Например, о том, что лечение, в реальности не имевшее успеха, удается, или что оно не удается по внешним причинам, которые не ставят под сомнение теорию, или что теория оказывается под вопросом, но сам этот вопрос приводит к ответу — внезапному и неизбежному, как формула. В рамках этой стратегии «дырявой кастрюли» желание исполняется за счет всевозможных уловок. И тем не менее она побеждает, невзирая на уловки, поскольку в конце концов обнаруживает в теоретической реальности их истину уловок, их истину желания, их стратегическую истину. Та же стратегия «дырявой кастрюли» у Дюшана: я берусь излечить Живопись от кубистской «болезни», показав ей, что я постиг смысл бессознательного конфликта, который ее мучает, но которого она не понимает. Живопись примет мое решение. Но она его не приняла. На чем бы ни был основан ее отказ, моя неудача — это на самом деле ее неудача: во-пер-вых, я не виноват в том, что мое искусство не отвечало требованиям времени, я был еще слишком молод и слишком беспечен; во-вторых, я принадлежу к этому искусству и преуспеваю в нем, по крайней мере, не меньше вас, я пишу «по-кубистски»; и, наконец, в-третьих, не заблуждайтесь: я уже не кубист, я пошел дальше. Каждое из этих оправданий в отдельности объясняло бы неудачу его живописи; вместе они безосновательны. И тем не менее в этой неудаче, притязание которой на успех прибегает ко всем уловкам непоследовательной стратегии, заявляет о себе нечто такое, что выскажется в полную силу спустя время, но что уже вписано, как некая лишенная смысла формула, в отказ Салона Независимых выставить «Обнаженную».
Чтобы понять это, надо обратиться к понятию авангарда. Выше я определял его через необходимость модернистской живописи обновляться, чтобы иметь значение. К этому следует добавить, что обновление ни в коем случае не является эпифеноменом по отношению к модернизму. Оно — не фатальное тавтологическое следствие художественного изобретения или творчества. Оно — необходимость, условие, которого парадоксальным образом требует выживание живописной традиции, со всех сторон осаждаемой современным миром — индустриализацией вообще и индустриализацией ремесла живописи в частности. Именно поэтому неразрывно связанным с понятием обновления оказалось понятие эстетического качества, которое прежде было сопряжено с техническим мастерством, талантом и относительно устойчивыми во времени характеристиками стиля. Разумеется, этот феномен не был совершенно новым: вся история искусства размечена сменами одних стилей другими, которые со временем становились синонимами таланта и качества. Новыми во второй половине XIX века явились неизбежность, обязательность и частота обновления, в силу которых оно само стало критерием суждений вкуса просвещенных ценителей модернистской живописи.
Говоря «обновление», мы подразумеваем неожиданность, удивление, нарушение господствующего вкуса. Следовательно, живописное обновление имеет цену, лишь если оно в той или иной степени отвергается институтами, диктующими этот вкус (что не означает систематической верности обратного: нельзя сказать, что всякое отвергаемое обновление ценно). В культурном пейзаже XIX века множество таких институтов, прямой социальной функцией которых является публичное руководство вкусами своей эпохи; среди них — художественная критика и салоны. И история авангарда, как бы мы ни стремились рассматривать ее только как историю стилей, неизбежно является также историей институтов. Это история живописного вкуса, история живописи как цепи значимых нарушений этого вкуса и история руководящих им «идеологических аппаратов» составляют одно целое. Именно поэтому история живописи смешивается с тех пор с историей авангарда: военные коннотации этого слова достаточно ясно говорят о том, что перед всяким живописным обновлением, перед всяким новым качеством вырастает крепость, которую нужно занять. Говорить об истории живописи в терминах авангарда означает, таким образом, признавать, что модернистская живопись, причем не только по краям и не только в своем социологическом «контексте», но и в самой сердцевине —в своей «живописности» — является стратегической.
Не в смысле расчета, как если бы живописцы ставили себе целью «быть в авангарде» и составляли планы сражений, стремясь сокрушить кистью и красками бастионы академизма или официального Салона. Но в силу того, что, если они выступят с обновлением, Салон их отвергнет, а если их обновление окажется решающим — они добьются куда большего, чем завоевание Салона,—завоюют Музей. Таков исторический закон модернистской живописи: будучи особой формой историчности авангарда, она с неизбежностью функционирует согласно этому ретроактивному вердикту. Чтобы узаконить эстетическое новшество, необходим скандал. Этому можно было бы найти множество примеров из всех областей искусства. В литературе хорошо известны случившиеся в одном и том же 1857 году запрет «Цветов зла» и суд по поводу «Госпожи Бовари»; в живописи символом этого парадоксального процесса легитимации остается Салон Отверженных 1863 года. И он не только стал символом, но и ускорил процесс, ибо проходил под покровительством Наполеона III: вот вам институциональный отказ наоборот, официально признанный, пусть, может быть, и невольно, в качестве составной части процесса легитимации. Два звена диалектики — отклонение нововведения и его последующее признание — сливаются воедино; два эти момента становятся синхронными. Они не столько следуют одно за другим во времени, сколько соседствуют в пространстве: с одной стороны — официальный, «отсталый» Салон, с другой —Салон Отверженных, «передовой». Логически это означает, что содержащаяся в «Завтраке на траве» стратегическая живописная новизна адресуется равным образом обоим салонам: одна и та же стратегия «желает» отклонения официальным Салоном и участия в Салоне Отверженных. Иными словами, стремление худож-ника-авангардиста к признанию своими ровесниками и его стремление к непризнанию предшественниками равнозначны.
Салон Отверженных впервые доказал это логически. А хронологически — ввел новую возможность: возможность авангардистского института, каковая в 1885 году обрела конкретное воплощение в Салоне Независимых. Авангардистский институт становится пропускным пунктом при входе в институт как таковой, залом ожидания, позволяющим официальной культуре не исключать что-либо, а замедлять процесс. Эта схема груба, но ее можно уточнять добесконечности, всегда приходя к тому же. Если история ускоряется, как это будет и в 1912 году, выстраивается целая анфилада институциональных залов ожидания: когда Салона Независимых становится недостаточно, создается Осенний салон (1903). Если история
1
Ж. Лакан употребляет английское выражение «ready made», напрямую отсылающее к творчеству Марселя Дюшана. — Прим. пер.
2
Lyotard J.-F. Principales tendances actuelles de 1 etude psychanalytique
des expressions artistiques et littéraires [1969]//Dérive à partir de Marx et Freud. Paris: U. G. E. 10/18. P. 53-77.
3
Приблизительно (лат.). — Прим. пер.
4
Lyotard J.-F. Discours, figure. Paris: Klincksieck, 1971; Freud selon Cézan
ne //Des dispositifs pulsionnels. Paris: U. G. E. 10/18,1973. P. 71-94, 237-280.
5
Ср.: Kofman S. L’enfance de l’art. Paris: Payot, 1970.
6
T. де Дюв использует лингвистический термин «inchoative» (инхо
ативный, начинательный), подчеркивая тем самым связанное
7
Linde U. Marcel Duchamp. Stockholm: Galerie Buren, 1963; Schwarz A. The Complete Works of Marcel Duchamp. New York: Abrams, 1969 (второе, дополненное издание — 1970; франц. пер.: Schwarz А.
8
Marcel Duchamp, La Marié mise à nu chez Marcel Duchamp, même. Paris: Georges Fall, 1974); CalvesiM. Duchamp invisibile. Roma: Officina Edizioni, 1975; CalasX. The Large Glass//Art in America. 1969. Vol. 57. N0.4;. BumhamJ. Unveiling the Consort//Artfo-rum. March 1971. Vol. IX. N0.7; April 1971. N0.8 (франц. перев.: BumhamJ. La signification du Grand Verre//VH 101. 1972. N0.6); Formentelli E. Cantique-Duchamp ou la théorie du moteur invi-sible//Duchamp, Actes du colloque de Cerisy. Paris: U. G. E. 10/18, 1979; GervaisA. SignED sign MD AUTOBIOGRAPHIQUE PORTRAIT OF ANARTIST IN RYM E S //Duchamp, Actes du colloque de Cerisy, op. cit. (часть I); Parachute. 1978. N0.11. (часть II); GervaisA. La raie alitée d’effets. Montréal: H M H, 1984. Критику алхимических, каббалистических и т.п. прочтений Дюшана см.: Clair J. La fortune critique de Marcel Duchamp//Revue d’art. 1976. N0.34.
8. Ср.: Foucault M. L’archéologie de savoir. Paris: Gallimard, 1969.
9
HeldR. Marcel Duchamp: l’imposteur malgré lui ou le grand cannular et la surréalité//L’oeil du psychanalyste. Paris: Payot, 1973. P. 218-255.
10
ю. Фрейдовского «остроумия» (нем.). — Прим. пер.
11
и. FreudS. L’ihterprétation des rêves. Paris: P. U. F, 1967. P. 98-112 (к другим упоминаниям сновидения об инъекции Ирме отсылает указатель в конце этого издания, на с. 557). [Далее цит. по: Фрейд 3. Толкование сновидений/Репринтное воспроизведение издания 1913 года. Ереван, 1991. С. 88-100.]
12
Lacan J. Le rêve de l’injection d’Irma//Le Séminaire. Livre II. Le Moi dans la théorie de Freud et dans la technique de la psychanalyse. Paris: Seuil, 1978. P. 177-204. [Далее цит. по: Лакан Ж. Семинары. Книга 2. «Я» в теории Фрейда и в технике психоанализа (1954/1955)/п°Д Ред- ж.-А. Миллера; пер. А.Черноглазова. М.: Гнозис/Логос, 1999. С. 210-245.]
13
Lacan J. Op. cit. P. 183.
14
Ради лучшего понимания последующего текста приведу сновиде
ние об инъекции Ирме в изложении Фрейда: «Большая зала — много гостей.—Среди них Ирма: я беру ее под руку, точно хочу ответить на ее письмо,—упрекаю ее в том, что она не приняла моего „решения". Говорю ей: „Если у тебя еще есть боли, то ты сама виновата44. —Она отвечает: „Если бы ты знал, какие у меня боли в горле, в желудке и в животе, мне все прямо стягивает44.—Я пугаюсь и смотрю на нее. У нее бледное и опухшее лицо. Мне приходит в голову, что я мог не заметить какого-нибудь органического заболевания. Я подвожу ее к окну, смотрю ей в горло. Она слегка противится, как все женщины, у которых вставные зубы. Я думаю, что ведь ей это не нужно.— Рот открывается, и я вижу справа большое белое пятно, а немного поодаль странный нарост, похожий на носовую раковину; я вижу его сероватую кору. —Я подзываю тотчас же доктора М.—Тот смотрит и подкрепляет мое мнение... У доктора М. совершенно другой вид, чем обыкновенно. Он очень бледен, хромает и почему-то без бороды... Мой друг Отто стоит подле меня, а друг Леопольд исследует ее легкие и говорит: „у нее притупление слева внизу!Он указывает еще на инфильтрацию в левом плече (несмотря на одетое платье, я тоже ощущаю ее, как и он...) Доктор М. говорит: „Несомненно, это инфекция. Но ничего: у нее будет дизентерия, и инфекция выйдет...44 Мы почему-то сразу понимаем, откуда эта инфекция. Отто недавно, когда она себя почувствовала нездоровой, впрыснул ей препарат пропила — пропилен... пропиленовую кислоту... триметиламии (формулу его я вижу ясно перед глазами)... Такую инъекцию нельзя делать легкомысленно... По всей вероятности, и шприц был не совсем чист» {Фрейд 3. Толкование сновидений. Цит. соч. С. 88-89).
>5- При всех отличиях (лат.).—Прим. пер.
15
Cabanne P. Entretiens avec Marcel Duchamp. Paris: Belfond, 1967 (далее—PC). P. 41.
16
На обороте «Грустного молодого человека» имеется авторская надпись: «Marcel Duchamp nu (esquisse), Jeune homme triste dans un train/Marcel Duchamp» [«Марсель Дюшан обнаженный (эскиз), Грустный молодой человек в поезде/Марсель Дюшан»].— Прим. пер.
17
*9- PC. Р.47.
18
Из «Apropos of myself» //DDS. P. 22 (курсив мой. — Т.Д.).
19
91. Имеется в виду французское même (в наречном значении «так же», происходящем от омонимичного «такой же»), последнее слово оригинального названия «Большого стекла», главного произведения Дюшана: «Новобрачная, раздетая своими холостяками, так ж с».—Прим. пер.
20
25- Из «A propos of myself». —См.: DDS. P. 224.
21
ком и творящим духом», то это выражение Дюшан заимствует из лекции Т. С. Элиота «Творческий акт», прочитанной в Хьюстоне в апреле 1957 года (DDS. Р. 187). .
22
Французское \le\peigne {расческа), омонимично [queje\ peigne, сослагательной форме глагола peindre {живописать) — написал бы.— Прим. пер.
23
Фрейд 3. Толкование сновидений. Цит. соч. Слоо. —Курсив автора.
24
«Все это живо напоминает мне оправдание одного человека, ко
торого сосед обвинил в том, что он вернул ему взятую у него кастрюлю в негодном виде. Во-первых, он вернул ее в неприкосновенности; во-вторых, кастрюля уже была дырявой, когда он ее взял, а в-третьих, он вообще не брал у него кастрюли» (Фрейд3. Толкование сновидений. Цит. соч. С. 99).
25
6. PC. Р.46. См. также: DDS. Р. 170.
26
Наличие картины Баллы на этой выставке оспаривается (ср.: Golding J. Le Cubisme. Paris: Julliard, 1965; Paris: Livre de Poche, 1968. P. 321; Cabanne P. L’épopeé du cubisme. Paris: La Table Ronde, 1963. P. 174). Возможно, Дюшан ошибается, но так или иначе он мог видеть «Собаку на сворке» немного поз-
27
8. РС. Р. 29.
28
Рс. р. 38.
29
ю. По названию местечка, где располагалась мастерская Жака Вийона, одного из старших братьев Дюшана. — Прим,, пер.
30
и. Глез: «Именно в это время, в октябре 1910 года, мы —в том числе Роббер Делоне — по-настоящему узнали друг друга [...] й поняли, что сблизило нас между собой. Составить группу, регулярно общаться, обмениваться идеями стало для нас насущной необходимостью» (неопубликованные воспоминания, цитируемые в кн.: GoldingJ. Le cubisme. Op. cit. P. 22-23). И еще, по поводу Салона Независимых 1911 года: «Метценже, Ле Фо-конье, Делоне, Леже и я решили послать свои работы на будущий Салон Независимых [...], причем [...] мы должны были выступить группой, это было общее решение» (Там же. Р. 23).
31
PC. Р.30. Контекстом этих слов является признание Дюшаном своего долга по отношению к Матиссу и Мане. Понимание им исторического значения этих живописцев не оставляет сомнения в том, что препятствие-Сезанн, к тому же в столь сезаннист-ском контексте, каким являлся кубизм, не было для него секретом: «Я всегда испытывал эту потребность уклоняться...» (РС. Р. 51) —в частности, от Сезанна. По поводу «Игроков в шахматы» (1910): «[Пьер Кабанн:] В ваших „Игроках в шахматы4' ощутимо влияние Сезанна.—[Дюшан:] Да, но мне уже тогда хотелось от него уйти» (PC. P.41)- Юбер Дамиш, пропуская переход, который я взялся проанализировать, комментирует эту тему так: «Но разве не очевидно [...], что Дюшан уже тогда приступил к совершенно иной задаче, что он стремился не столько раздать игральные карты по-новому, сколько изменить правила игры или даже, проще того, сменить игру, начав с замены картежников на шахматистов со всеми вытекающими отсюда последствиями?» (Damisch H. La défense Duchamp//Duchamp. Colloque de Cerisy. Op. cit. P. 66).
32
Игра слов: échec — 1) неудача, 2) шах; échecs — шахматы (франц.).—
Прим. пер.
33
Лакан Ж. Семинары. Книга 2. Цит. соч. С. 214.
обогащается (культурно и экономически), анфилады множатся и вступают в конкуренцию: появляется несколько параллельных авангардов. Если история стоит на месте или обедняется, как в настоящее время, анфилада укорачивается и официальные музеи торопятся отразить еще не происшедшие перемены. Художники-авангардисты и мастера-академики, торговцы авангардом и торговцы традиционным искусством, авангардистские и официальные институты — все эти протагонисты исполняют свои роли в этом пучке перспектив. А в точке схода — общедоступный Лувр: посвящение, бессмертие, признание, даруемое раз и навсегда историей искусства, остановленной в качестве института. С момента своего возникновения музей — маленький или большой — является точкой притяжения желания живописать, признаются в этом художники или нет. Это в равной степени относится и к честолюбивому художнику, и к скромному, и к тщеславному, самолюбию которого льстит эфемерный академический успех, и к дерзновенному, стремительно переходящему из одного авангардистского института в другой и тем самым принуждающему себя обращаться из дня сегодняшнего к более или менее отдаленному будущему. Это относится и к Дюшану.
В его живописи, как и в любом художественном авангарде, обновление имеет стратегический характер, а стратегия жаждет музея — назовем этим именем воображаемое и опережающее события соперничество с мэтрами, мысль о котором должна вертеться в голове молодого честолюбивого художника. Стратегия, как та, что приписывается сновидению, должна обманывать цензуру и сопротивление, в данном случае — институциональные. Стратегия Дюшана, как мы видели,—это стратегия «дырявой кастрюли»: она терпит неудачу не только в реальности — заключенному в «Обнаженной» притязанию оказывается противопоставлена цель невозвращения, но и в сфере воображаемого (в образе, в живописи), как только картина становится предметом критической интерпретации. «Кубистская» живопись Дюшана, это живописное Wunsch1б, представляет собой симптом — симптом его неудачи: он никогда не станет Пикассо.
Истолковывая сновидение об инъекции Ирме, Фрейд не останавливается на обнаруженных им у девушки симптомах. Самоанализ не останавливается на чувстве вины, которое приходит с неудачей; он с него начинается. И если Фрейд вновь и вновь возвращается к этому сновидению, словно в нем заключена зашифрованная формула всякого сновидения, то именно потому, что в неудаче, сомнении и страхе, к которым приводит его истолкование, он черпает уверенность: этот сон — теоретический, в нем заключена вся теория сновидения. Стратегия «дырявой кастрюли» оказывается вполне результативной, но не для Фрейда-сновидца, а для Фрейда-теорети-ка. То же самое у Дюшана: он не сдается и не прекращает заниматься живописью после отклонения «Обнаженной» Салоном независимых. Он начинает работать над симптоматическим значением своей неудачи, интерпретируя средствами живописи — по-прежнему «кубистской» — свою потребность преодолеть кубизм побыстрее. Он только что прошел опыт, осознание которого придет к нему позднее, но он сразу, уже в Нейи, возвращается к нему, словно бы предчувствуя, что его живописная стратегия, сколько бы ни сводилась она к «дырявой кастрюле», вскоре принесет плоды в теоретическом или, лучше сказать, в эпистемологическом плане, в том плане «серой материи», где по большому счету и сосредоточены задачи живописи. Этот опыт, так же как сновидение Фрейда, заключает в себе зашифрованную формулу, которая откроется Дюшану лишь после Мюнхена, но которую мы можем раскрыть уже сейчас.
Речь идет о стратегической связи, которую авангард невольно устанавливает между неудачей, обновлением и удивлением. Это очень просто и хорошо известно со времен Мане. Достаточно заглянуть в тогдашнюю художественную критику: всякое значимое обновление в живописи является неудачей согласно живописным критериям прошлого и успехом (в предвосхищении) согласно критериям, которые учредит оно само. Что же происходит, если критерии прошлого и те, что становятся следствием эстетического обновления, сосуществуют? То самое, что началось в период Салона Отверженных: историчность авангарда пространственно распределяется по конкурирующим и современным друг другу институтам— передовым и отсталым. Так, в 1912 году существует реакционно-пассеистская художественная критика: Салон, Академия изящных искусств, буржуазный рынок живописи; существует Воксель, добропорядочная модернистская критика, привыкшая рассматривать серьезно «постимпрессионизм», Салон Независимых, Амбруаз Воллар; существует кубизм — передовой, в Бато-Лавуаре, и уже вторичный, в Пюто, Аполлинер и Сальмон, трудное завоевание зала в Салоне Независимых 1911 года и скандальный триумф там же в 1912-м, Канвейлер. Таков контекст, который принимает или не принимает стратегию Дюшана; таковы три лица истории искусства в соответствии с институтами, которые ее воплощают: откровенно реакционными, умеренно-модернистскими или решительно авангардными.
К кому Дюшан обращается, когда он предлагает истории живописи, «которая примет или не примет его», свой некубистский выход из кубистского тупика? На самом деле — ко всем трем институтам. Сам он осознавать этого не мог, он подчинялся давлению противоречий своего времени. Однако с точки зрения адресата его живописных устремлений, с точки зрения трех этих сил, которым желание заниматься живописью адресовало свою потребность в признании, стратегия «дырявой кастрюли» теряет всю свою непоследовательность и оказывается необычайно действенной «с учетом всех отсрочек»:
Во-первых, «я не виноват в том, что мое искусство не отвечало требованиям времени, я был слишком молод и слишком беспечен». С такой апелляцией Дюшан обращается к академическому институту, готовому проявить снисходительность: разве этот молодой художник не доказал, что с успехом мог бы быть импрессионистом, сезаннистом или последователем Матисса? Что же до беспечности, то в ней заключено одно из вполне приемлемых для Академии 1912 года качеств молодости и богемного образа жизни. Во-вторых, «я принадлежу к этому искусству и преуспеваю в нем, по крайней мере, не меньше вас, я пишу по-кубистски». Это апелляция Дюшана к институту кубизма, который в это время, бесспорно, уже является таковым. Я имею в виду «группу Пюто», теоретиков Глеза и Метценже, устанавливающих нормы, и братьев Дюшана. По отношению к академическому институту они остаются бунтовщиками, и раздоры, провоцируемые ими в Салоне Независимых, еще могут вызвать иллюзию оппозиции. Но в самом скором времени, когда созданный по инициативе Жака Вийона салон «Золотое сечение» возведет кубизм в ранг уважаемого классицизма, они составят новый истеблишмент. И, наконец, в-третьих, «не заблуждайтесь: я уже не кубист, я пошел дальше». Такова единственная апелляция, обращенная к тому воображаемому и символическому собеседнику, которого Лакан называет большим Другим, к адресату, в это время еще безымянному, но которого впоследствии Дюшан будет вполне разумно именовать потомками, «зрителями, которые и создают картины» и т.п. Апелляция неприемлемая и, действительно, не принятая сразу, но, очевидно, с лихвой удовлетворенная, если, по совету Дюшана, вместо слова «картина» читать «задержка». Впрочем, задержка была недолгой, хотя и обнаружила свое значение задержки постепенно: отвергнутая Салоном независимых в марте, ровно месяц спустя «Обнаженная» была показана в Барселоне, не вызвав практически ни единого отклика. В октябре, после Мюнхена, ее выставил салон «Золотое сечение», где, надо полагать, друзья Дюшана и, в первую очередь, его братья с удовольствием воздали ей должное и «вернули» посткубистское полотно в лоно новой академии. И, наконец, картина-задержка обрела всю свою силу в нью-йоркском Армори Шоу 1913 года, где произведенный ею скандал на сей раз вполне открыто способствовал процедуре ее признания, вместе с тем подготовив in advance17 признание еще совершенно немыслимого тогда «Фонтана».
Женщина, метафора живописи
В Мюнхене, вдали от братьев и собратьев, Дюшан-жи-вописец вновь оказывается занят тремя женщинами: девственницей, новобрачной и еще одной, которую он застигает в «сверхузком» переходе ее становления таковой.
Так ли уж несомненно, что эти три женщины занимают только Дюшана-живописца? Самое подходящее для Дюшана объяснение его отъезда в Мюнхен сводится, конечно, к тому, что он последовал за женщиной. Ничего невозможного в этом нет, и во всяком случае это заманчивый сценарий, располагающий к тому, чтобы присочинить: художник так и не находит свою возлюбленную, или та отказывает ему, и в итоге, покинув Париж в стремлении убежать от неудачи на художественном поприще, он переживает не менее удручающее поражение в любви. Поскольку же в Мюнхене Дюшан никого больше не знает, ему не остается ничего лучшего, чем с головой уйти в живопись. Тогда-то в его искусство и входит, чтобы уже не оставить его, эротическая тематика: тема женщины как недостижимого, проклинаемого и в то же время идеализируемого объекта желания («повешенная самка, апофеоз девственности»); тема холостяка-онаниста, сопряженная с «мельтешением каретки» и вращением «дробилки для шоколада» («есть только писсуар вместо самки, и с этим живешь»); тема невозможной встречи, полового акта, успех которого равноценен провалу,—«кусать себе локти после того, как обладание употреблено»,—а провал равноценен успеху (посредством «зеркального отскока», в невозможном четвертом измерении). И так далее. Додумывать этот вымышленный и безосновательный сценарий нет необходимости — и так понятно, что в Мюнхене или раньше, но скорее всего в Мюнхене Дюшан действительно пережил опыт истины, давно и хорошо знакомой психоанализу: практика живописца родственна сублимации; то, что она реализует, может быть определено (если живописец — гетеросексуальный мужчина) как желание женщины; и, наконец, в свойственной живописцу экономике желания задействована женщина — которую надо написать или уже написанная. Нет нужды как доверяться этому сценарию, так и придумывать другие, более или менее убедительно объясняющие поездку в Мюнхен, поскольку эта истина из психоаналитического катехизиса очевидна в мюнхенских работах Дюшана. Переходя от повторения «Дульсинеи» и раскалывания «Расколотых Ивонны и Магдалены» к разрезу и обнажению мюнхенской «Новобрачной», мы переходим от живописца, пишущего вследствие сублимации, к живописцу, знающему, что сублимация нужна ему, чтобы писать.
Таково, мне кажется, первое открытие Дюшана в Мюнхене, и оно просматривается и прочитывается в его произведениях. Оно, вне сомнения, не состоялось бы, если бы к нему не привел некий существенный биографический эпизод вроде того, который фигурирует в приведенном выше сценарии. Но стоит ли искать в гипотетической биографии то, о чем достаточно ясно свидетельствуют произведения: в Мюнхене устанавливается обратимое равенство «женщина = живопись», которое, конечно, уже действовало у Дюшана бессознательно с самого начала и даже — в четырех картинах, знаменующих его приобщение к кубизму,—достигло сознания, но которое теперь становится энергетическим принципом, двигателем, вполне сознательно им используемым.
Ортодоксальный психоаналитический подход приучил нас к идее о том, что живопись может быть метафорой женщины, причем обычно имеется в виду метафора в единственном смысле. Поскольку живопись поддерживает трансфер сублимированного либидо, «первичным» объектом которого является женщина, задача эстетика-аналитика зачастую сводится к старинной поговорке «ищите женщину»1. Ничто не мешает приложить ее к мюнхенским произведениям Дюшана, и этот иконографический опыт — подобный опыту Фрейда (или Пфистера) с орлом из «Мадонны со святой Анной» —искушал многих. Но надо признаться, что подобное детективное расследование быстро разочаровывает, так как женщина — тут, перед нами, открыто заявлена в названии картин: девственница, новобрачная,раздетая и т.д. К чему пытаться взойти от явного содержания к скрытому, если это последнее ничуть не более скрыто, чем явное? Впрочем, мы читаем «девственница», но не узнаем черты девственницы в рисунке; читаем «новобрачная», но никакой новобрачной на картине не видим. Тогда название, открыто демонстрирующее скрытый смысл рисунка или картины, не отсылает на самом деле ни к одному из этих изображений. Его реальным референтом является сама операция шифрования. Название в равной степени выражает скрытое и явное, провозглашает, что видимая картина находится между ними, является результатом работы, превращения. Эту работу мы вольны понимать в одном из двух направлений — не важно, в каком. Если предпочтение отдается направлению «живопись — женщина», то акцент делается на сублимации, на переодевании — «механизме целомудрия», — которому подвергается эротическая тема. Если же избирается направление «женщина — живопись», то на первый план выходит работа сгущения, переноса и, прежде всего, изображения (или переизображения), превращающая скрытые эротические мысли Дюшана в явную живописную мысль.
Словом, значительная часть «психоанализа» картины уже осуществлена самой этой картиной или, точнее, высказана разрывом между изображением и его названием. Работа аналитика-детектива, заключающаяся в поиске скрытых содержаний, уже еде-лана. Если аналитик намерен пойти по этому пути дальше, он должен отказаться говорить от имени аналитика. Либо он становится биографом и берется узнать, кто та женщина, которую Дюшан сублимировал в живописи, или, согласно нашему воображаемому сценарию, что в жизни «страдающего мужчины» стало событием, заставившим «творческий дух» работать таким образом над собственной сублимацией. В самом деле, биографический поиск может принести немалую пользу для более глубокого изучения творчества Дюшана, но это не дело психоаналитика. Либо же аналитик становится эстетиком и историком искусства и ищет в самих произведениях Дюшана не зашифрованные или зашифрованные иначе иконографические источники, объясняющие тот или иной рисунок или картину. Так поступил, например, Джон Голдинг, который вывел «Девственницу №2» из «О младшей сестре» и провел параллель между «Новобрачной» и карикатурой 1909 года под названием «Середина поста»2. Подобная работа тоже обнаруживает «скрытое» за «явным». Но и она не является делом аналитика.
Названия мюнхенских произведений устанавливают, таким образом, равенство «живопись = женщина», которое пресекает стремление интерпретировать зрительный образ в терминах скрытого изображения, но тем самым обязывает задаться вопросом о смысле самого знака равенства. Дело в том, что работа преобразования, результатом которой является картина, целиком заключена в этом знаке. Позднее, в «Зеленой коробке» и затем в «Белой коробке», Дюшан откроет нам часть правил преобразования, в силу которых оказалось возможным уравнять женщину как желаемый объект и женщину нарисованную —«Новобрачную». О них, в частности, говорят все указания, относящиеся к перспективе и четвертому измерению, призванные «объяснить» (с немалой долей сарказма), что «моя Новобрачная является, следовательно, двумерным изображением некоей трехмерной Новобрачной, соответствующей, в свою очередь, еще одной Новобрачной, четырехмерной и спроецированной в трехмерный мир»20.
Но в августе 1912 года мы еще не знаем об этом, и преждевременно, а к тому же и все равно бесполезно, искать смысл знака равенства в совокупности правил преобразования, ведущего от «Новобрачной» латентной, скрытой где-то в четвертом измерении, к «Новобрачной» явной, написанной на двумерной картине. Более чем очевидно: Дюшан никогда не применял подобных правил (даже если предположить, что они существуют для математика), он уже в мюнхенский период, а, вполне вероятно, и ранее начал спекулировать по поводу четвертого измерения как живописной стратегии. Как известно, в этой спекуляции он не был одинок: четвертое измерение служило одной из излюбленных тем для обсуждения на собраниях «группы Пюто». Но, выйдя из группы и уехав в Мюнхен, он переходит к трактовке этой темы в совершенно другом, лишь ему свойственном ключе, а именно к ее стратегическому использованию в том смысле, в каком стратегия относится к порядку решимости, желания, потребности и затрагивает другое превращение, по отношению к которому превращение женщины в живопись является противовесом,—превращение «страдающего человека» в «творящий дух». Вот почему, констатируя, что Дюшан в Мюнхене оказывается занят тремя женщинами, точно так же как три женщины занимали его ровно год назад, после свадьбы Сюзанны, мы можем быть уверены, что эти женщины в равной мере занимали как живописца, так и человека, как человека, так и живописца.
После неудачной попытки принять участие в Салоне Независимых, после воображаемого осуществления желания побыстрее преодолеть кубизм Дюшан уходит в тень и принимает живописное безбрачие. Он отворачивается от именных адресатов своего стратегического обращения и выбирает в качестве новой стратегии уход: прощай, парижская академическая среда; прощайте, желанные почести Салона; прощай, «группа Пюто»; прощай, скорое признание кубистским истеблишментом; и прощай, Пикассо, а вместе с ним и Сезанн,— прощай, «отцовский закон». Не связанный никакими узами, наедине с картиной, Дюшан отныне пишет предмет своего желания, от которого-то и ждет теперь ответа: он пишет женщину.
Но что может ответить ему, на его решимость, женщина — воображаемая или изображаемая, но так или иначе отказывающая его желанию и оставляющая его холостяком? Вне сомнения, она отвечает ему так: «обонятельная мастурбация» (так Дюшан называет ручное ремесло живописца) ничем не отличается от обычной, и перенос желания в художническую активность сулит некоторое успокоение, а может быть, даже и высокое вознаграждение. Таков ответ в воображаемом плане решимости, осуществления желания. Но нечто происходит и в плане истины — полувысказанной, как выражается Лакан. Дюшан понимает, что такова цена его живописных притязаний, сличать которые с их законом он прежде избегал: чтобы живописать, он должен сублимировать и к тому же знать, что сублимирует. Наградой холостяку за невозможность прикоснуться к женщине в трех измерениях ее земной жизни оказывается не столько воображаемое осуществление этого желания в четвертом измерении вымысла, сколько не менее земная (хотя это не означает, что она не затрагивает воображаемое) возможность стать живописцем, каковым он хочет быть.
Чтобы стать живописцем, нужно живописать — иначе говоря, сублимировать и прорабатывать —свое желание, воображать и прорабатывать свое воображение. Если вы уже не сублимируете «самопроизвольно», бездумно, а сознательно избираете «позицию сублимации», если вы решительно подхватываете огонь и боль желания, чтобы почерпнуть в нем энергию живописи, то в определенный момент, я полагаю, главным для вас становится уже не живопись, и тем, что вы стремитесь выразить средствами живописи, оказывается уже не воображаемое осуществление вашего желания, а сама функция истины, прорывающаяся из этой сублимирующей практики. Наступает момент, когда следствие (живопись) прилипает к своей причине (желанию) и, утаивая, открывает или выпускает наружу эту субъективную причинность.
С этим откровением-утайкой, несомненно, связана ошеломляющая сила всякого совершенного произведения искусства. Именно оно передает нам часть свойственной такому произведению функции истины. Но в случае Дюшана —и этот процесс, как мы увидим, разворачивается именно в Мюнхене, в несколько «этапов» —откровение выходит далеко за пределы личности художника и того, что в этой личности затрагивает нас. Оно оказывается способным вызвать — в эпоху, к которой мы по-прежнему принадлежим, имея, однако, основания предвидеть ее конечность,— коренной культурный переворот в отношении статуса, отличительных свойств, живописи, а затем и всего искусства.
Мы еще не подошли к тому, чтобы выяснить, когда именно произошла и сколь двусмысленным отношением к живописи была окрашена эта «обонятельная мастурбация». Но первый мюнхенский опыт Дюшана, то, в чем он удостоверился там в первую очередь, мы можем отметить. Относящееся к изображенному объекту (объекту желания) относится вместе с тем и к субъекту-живописцу (желающему субъекту): это свадьба на расстоянии, посредством взгляда, а не касания, или еще более «безбрачная» и отстраненная дефлорация в «сверхузком» или четвертом измерении, где невозможно никакое касание —даже посредством взгляда. Короче говоря, становлению-женщи-ной в «Переходе от девственницы к новобрачной» отвечает желание Дюшана стать живописцем. Ста-новление-живописцем через становление-женщиной, чему в дальнейшем, согласно принципу «коммандитной симметрии», ответит становление-женщиной через становление-живописцем: «Рроза Селяви» 1920 года3.
Исходя из этого прилипания к причине ее следствия, каковое, следовательно, может быть отброшено, мы вправе читать «живопись» везде, где Дюшан говорит «женщина». Если сублимация отсылает к предшествующему живописи желанию женщины, то осознанная сублимация переадресует проработанное желание женщины живописи. Равенство «живопись = женщина» обратимо, пространство этой метафоры изотропно4.
От девственницы к новобрачной
Итак, желанием Дюшана владеют в Мюнхене три женщины, каждая из которых является метафорой живописи.
Девственница: девственный холст, исходный пункт живописца и преимущественное место вложения его желания и страха. Как стать живописцем, как начать картину? Таков для Дюшана центральный вопрос, куда более важный, чем вопрос окончания. «Большое стекло, окончательно незаконченное» свидетельствует о малой озабоченности Дюшана конечным решением, которое для всех «живописцев сетчатки» и прежде всего для американских абстрактных экспрессионистов будет, наоборот, принципиальным. Всякое искусство, основанное на выражении, естественным образом благоприятствует приостановке, завершению в незавершенности, ибо именно на этом моменте живописи художник стремится задержать зрителя, дабы изумить его выражением, суммирующим его — автора — «внутреннее я». Дюшан, не верящий ни в выражение, ни в различение внутреннего/внешнего («Стекло» прозрачно), знает, что конечное решение относительно безразлично: в любом случае картину заканчивает зритель. Напротив, важно начальное решение, особенно с учетом убеждения Дюшана в том, что цвета картины восходят прежде всего к «серому веществу» художника. Тревога художника о том, как начать картину, поднимает в каждом частном случае общий двоякий вопрос. Во-первых, вопрос о статусе объекта, который он берется сделать: с чего начинается живопись, какова ее первоматерия? И во-вторых (что, впрочем, то же самое), вопрос о статусе живописующего субъекта: каков первостепенный жест этого ремесла, где и когда картина начинает удовлетворять притязание своего автора на имя живописца?
Рисунки «Девственница №i» и «Девственница №2» по-своему отвечают на эти вопросы. Прежде всего, это рисунки, первый —углем, второй — карандашом, с акварельной подкраской. Ответ вполне традиционный: ремесло живописца начинается с рисунка и продолжается в цвете. Но нигде не заканчивается: завершенной картины под названием «Девственница» не будет. Как не будет и девственной картины: вопрос Дюшана о первоэлементах картины — это не тот вопрос, с которым три года спустя выступит Малевич в «Белом квадрате», даже если порядок этих вопросов общий. Отсюда парадокс: после первого же штриха два листа бумаги, называемые «Девственница», уже не являются таковыми. И, следовательно, при п-м штрихе они не являются девственными настолько же, насколько не были девственными при первом. Вторая «Девственница», незаконченная на более поздней стадии процесса живописи, не менее девственна, чем первая, поскольку она носит то же самое имя. И обе они не менее девственны, чем белый лист бумаги, равно как и не более девственны, чем законченная картина. Вопрос окончания бессодержателен, и бессодержателен сам живописный процесс. Разумеется, насилие над девственным холстом способствует становлению живописца живописцем, но где и когда то и другое совершается? Каждый мазок—это потребность, и холст на нее отвечает, но его ответ не что иное, как возврат потребности живописцу, который остается холостым перед холстом, а тот, в свою очередь, упорно называет себя девственным. Никакого удовлетворения на горизонте живописного действия не видно. Ни первая пометка, нарушающая единство белой поверхности, ни последняя, подписывающая и называющая ее, неспособны исполнить столь нарциссическое желание. Живописный процесс не имеет такого предела, когда Дюшан мог бы признать себя удовлетворенным (самим собой, своей картиной). Для этого ему надо было бы родиться живописцем, как Пикассо или как Ренуар.
Но к чему писать, получив титул живописца при рождении? К чему начинать писать, если твоей целью не является становление живописцем? Начинать значило бы в таком случае всегда уже начинать заново, неосознанно повторяться, следуя обычной «глупости живописцев». Дюшан, в некотором роде, запрещает своему «л-идеалу» (то есть живописцу, которым он мечтает стать) возможность сближения с «идеалами-я» (с прирожденными живописцами, которые могли бы в тот или иной момент послужить ему идентификационной моделью). Он сохраняет нарциссическую рану, которая, должно быть, кажется ему более ценной, чем шрам от нее: становление живописцем должно состояться разом, иначе оно не стоит усилий. Это не вопрос обучения, ремесла или каждодневного удовольствия, этого «скипидарного запаха»5. Можно заниматься обонятельной мастурбацией до конца дней, так и не будучи уверенным, что ты стал живописцем; картина остается девственной, а художник —холостым.
Новобрачная. Название этой картины («Mariée»6) — одной из наиболее завершенных у Дюшана — причастие прошедшего времени. Из девственного пространства до всякой живописи мы переходим на уровень констатации, где о живописи говорится в прошедшем. Mariée— или, согласно Ульфу Линде7, m’art у est — или, наконец, Mar(cel) у est16. Становление живописцем состоялось, решимость реализована, свадьбу автора картины с живописью можно считать удостоверенной. При одном условии, которое предусматривалось уже в «Девственнице»: Мар здесь, только если Сель не здесь; статус живописца не вызывает в картине сомнения, только если нарциссиче-ская рана не зарубцевалась, только если живописец остается также и за картиной, холостяк среди холостяков, «свидетель-окулист» в толпе зрителей, которые «после всех отсрочек» создадут картину. «Новобрачная» — первое произведение, в котором с такой очевидностью устанавливается эта столь характерная для Дюшана шахматная темпоральность хода и последействия: живописец в становлении, пытающийся обрести уверенность в том, что он действительно стал тем живописцем, выразить себя в мазках которого его подталкивали желание и тщеславие, должен согласиться подождать с признанием других. Хотя о картине говорится в прошедшем времени, становление-живописцем, чтобы однажды осуществиться, должно по-прежнему принадлежать будущему, пусть и будущему в прошедшем. Таков, как мы видели, темпоральный закон авангарда, согласно которому эстетическое признание совершается исключительно через ретроактивный вердикт. Подчинение этому предвидимому закону становится отныне, и Дюшан уяснил это в Мюнхене, единственной приемлемой живописной стратегией для того, кто не родился живописцем. А если так, остальное — живописный процесс со стороны объекта и становление-живописцем со стороны субъекта — будет не более чем делом учитывающих друг друга повторений, призванных разместить в перспективе ретроспективные точки зрения зрителей на произведения художника. Дюшан, сочетаясь с живописью и в то же время оставляя себе роль ее холостого свидетеля, тем самым предвидит себя как сына своего искусства .
После «Новобрачной» Дюшан не написал ни одной картины, создание которой основывалось бы на начале или возобновлении. Он — не Сезанн и не Ренуар. Последнего Дюшан упрекал в ежеутрен-нем исполнении одной и той же обнаженной с иллюзорной уверенностью в ее отличии от предыдущих: прирожденный живописец пишет из «обонятельной потребности» и повторяется, сам того не желая. Сезанна же, чьего закона он всегда избегал, Дюшану, однако, не в чем упрекнуть — напротив, он во многом ему завидует: Сезанн тоже не был рожден живописцем, он стал таковым и становился таковым вновь с каждой картиной, с каждой «истекшей минутой мира», он стремился писать мир «забыв обо всем, что было явлено до нас». Но быть Сезанном Дюшан не может и не хочет. В Мюнхене он неизменно избирает по отношению к Сезанну позицию двойственного соперничества, которую нам еще предстоит распутать. Пока же ясно одно: сезанновский путь для него закрыт. Что же касается пути Ренуара — привычки к живописи,— то с некоторых пор Дюшан знает, что этот путь не подходит ему ни при каких условиях, и, несомненно, открыто презирает его8. Его путем будет путь ретроактивного сдвига, своего рода механическая фигура, создаваемая с помощью легкой вариации, репродукции и рассчитанного повторения. Схема мюнхенской «Новобрачной» будет воспроизведена без изменений в верхней части «Большого стекла», оттуда фотографическим путем перейдет в «Коробку-в-чемодане», а затем, наконец, будет механически повторена в гравюре 1965 года.
«Переход от девственницы к новобрачной» может быть понят двояко: с точки зрения эротической тематики название картины отсылает к дефлорации, к первому половому акту и к их живописному переводу— к становлению девственного холста картиной. А с точки зрения хронологии оно говорит, что картина является промежуточной между двумя рисунками под названием «Девственница» и картиной под названием «Новобрачная». И это означает, что эстетическая судьба этой картины в становлении неотделима от автобиографической судьбы ее автора, судьбы необратимой.
Для личной судьбы человека, тем более если она регулярно записывается (как автобиография), необратимость является не более чем временной фигурой: таков один из уроков психоанализа, показавшего, что «продвижение вперед» возможно, помимо прочего, посредством регрессии и последействий. Однако необратимость, уходящие годы и старение составляют необходимое предварительное условие, с которым должны соотноситься все прочие фигуры времени. И для Дюшана-живописца эта необратимость особенно настоятельна — причем не из-за чувства, что надо спешить, обычно приходящего с возрастом, а по причине эстетического контекста, в который он поместил свое становление-живописцем.
Этим контекстом является авангард, каковой есть не что иное, как сознание эстетической необратимости, давящей изнутри на практику всякого амбициозного живописца. Со времен Курбе говорится о том, что эстетическое суждение отныне ни де-юре, ни де-факто не может быть отделено от его исторической записи — таков элементарный смысл модернизма. В 1912 году ни один живописец из тех, кому приписывается значимая роль в истории новейшего искусства (включая Матисса), не обходится без острого сознания необходимости эстетического обновления. Футуристы выстроят на этой основе идеологию, отождествив собственную необратимость искусства с лирическим — и к тому же сомнительным — понятием технологического прогресса. Затем дадаисты, чтобы обозначить свою радикальную оппозицию футуризму, будут вынуждены отказаться как от всякой проекции в будущее, так и от всякого возвращения назад в пользу фантазма «конечной точки», эстетический смысл которой возможен лишь при условии открытой отсылки к истории. И когда историкам искусства потребуется объединить в общем понятии авангардистские направления, вышедшие из кубизма,—футуризм, симультанное искусство, конструктивизм, супрематизм, орфизм, неопласти-цизм, дадаизм, унизм и т.д.—из-под их пера явится тавтологический термин «исторический авангард». Что же касается кубизма, который в августе 1912 года остается для Дюшана непосредственным контекстом его искусства, то он уже утверждается как переходное движение, как эстетический мост, по которому проходит история модернизма. Только теоретики вроде Глеза и Метценже, влияния которых Дюшан избежал, скрывшись в Мюнхене, стремятся это движение остановить. Пикассо и Брак только что изобрели коллаж («Натюрморт с плетеным стулом» появился в начале года), который принесет некубистское потомство: среди прочего, контррельефы Татлина и Мерц-кол-лажи Швиттерса. Мондриан, с января живущий в Париже, находится на пути освоения кубизма, которое, потребовав от него восхождения к уроку Сезанна, очень быстро выведет его к совершенно иной практике. И наконец, Малевич, который будучи вдалеке от Парижа узнает о кубизме с некоторым запозданием, преисполнится, однако, такой потребности в спешке, что не только очень быстро перейдет к ку-бофутуризму и алогическому кубизму, но и передати-рует 1911 годом некоторые свои кубистские картины, в действительности относящиеся к 1913-му.
«Переход от девственницы к новобрачной» как нельзя явственнее выражает ощущение необратимости, охватившее Дюшана в августе 1912 года. Художник понимает, что если его становлению-жи-вописцем сужден некий исторический резонанс, то обратного хода оно иметь не будет. Преодоление кубизма, как можно быстрее, приходит здесь к точке невозвращения: живописец, каковым Дюшан желает стать, должен обрести свою идентичность впереди себя самого, как «ребенок-светоч» или «комета с хвостом впереди».
Переход...
Если рассмотреть название, иконографическую тему и пластическую фактуру «Перехода от девственницы к новобрачной» в комплексе, учитывая вместе с тем хронологическое положение этой картинымежду «Девственницей» и «Новобрачной», то в ней можно отметить переплетение ряда временных фигур, заслуживающее анализа. Хронологическое положение картины наводит на мысль о том, что становление художника направлялось сознанием личной судьбы, связанной с эстетической и исторической необратимостью авангарда. Напрашивается сравнение с «Грустным молодым человеком в поезде», которое приведет нас к выводу, что временная фигура «Перехода» существенно отличается от той, что заботила Дюшана девятью месяцами ранее. Тогда, как мы помним, Дюшан раздваивался. Имелось, прежде всего, движение поезда (кубистское), в пределах которого, параллельно истории (но, возможно, в обратном направлении), перемещался молодой человек — грустный, вне сомнения, потому, что ему пришлось запрыгивать в поезд на ходу. Дюшан представлял себя молодым художником, включившимся в кубистское движение, и оставлял нас в нерешительности по поводу направления своего движения: может быть, его движение присоединялось к движению поезда с тем, чтобы перенять развитую кубизмом скорость; а может быть, расходилось с ним как ностальгическое (грустное) желание вернуться — так думает Жан Клер — к традиции «перспективистов», безразличной к движению современности. Как мы помним, Дюшан изображал себя молодым художником-кубистом, преисполненным противоречивых желаний, в то же время уделяя себе позицию неподвижного, стоящего на железнодорожной насыпи или перроне, наблюдателя происходящего. Это Дюшан воображаемый, поддерживаемый фантазматическим представлением о субъекте высказывания, способном находиться вне истории и вольно комментировать исторические относительности с абсолютной точки зрения «свидете-ля-очевидца». В «Переходе от девственницы к новобрачной» этот фантазм раздвоения исчезает. Дюшан отдает себе отчет в том, что не в его силах уклониться от истории и что, коль скоро картина призвана осуществить переход как в его жизни, так и в истории живописи, он (живописец) должен вложить в нее себя без остатка. Воображаемая позиция «свидетеля-очевидца» сохраняется, но уже не мыслится как позиция неподвижного наблюдателя, а предвосхищается как последующий момент истории живописи, когда зрители создадут картину или, что то же самое, «создадут задержку» («использовать задержку вместо картины»). «Переход», в названии которого заявлена еще не написанная «Новобрачная», предвосхищает ее, предвидит картину в прошедшем времени и ретроактивный вердикт будущего. И это последняя временная фигура «Перехода», та же самая, что и в «Новобрачной», свидетельствующая о том, что при всей своей необратимости история искусства допускает определенную форму «регрессии»: не возвращение к.., но оглядку на... Ничто не помогло бы грустному молодому человеку пойти в поезде кубизма против движения. История все равно увлекла бы его за собой, в крайнем случае как отсталого и, следовательно, плохого художника. Можно предпочесть старую добрую перспективу, даже находясь в средоточии кубистского хаоса, но нельзя не понимать, что отныне она запрещена. «Большое стекло» и заметки из «Белой коробки» вскоре явственно продемонстрируют, во что превратилось (регрессивное) желание перспективы, когда оно оказалось под запретом (иначе говоря, когда Субъект — точка зрения, точка схода — утратил неподвижность, оказавшись на борту корабля истории). Вопреки выводам Жана Клера,
Дюшан не возвращается к традиции «перспективистов», а оглядывается на нее.
В названии обсуждаемой картины уже звучит «Новобрачная», но еще звучит «Девственница». Ее иконография удерживает в проработанной форме живописное прошлое Дюшана, на которое она оглядывается. Она, бесспорно, восходит к двум «Девственницам» и, как это подметил Джон Голдинг, даже дальше — к картине «О младшей сестре», которая, в свою очередь, кажется отстраненным «кубистским» комментарием к «Портрету Ивонны Дюшан» 1909 года. «Переход» позволяет нам проследить—пунктирно и с учетом происшедшей метаморфозы — всю родословную «нарисованных женщин», родословную желания мужчины и родословную живописи художника. В этом заключена третья временная фигура, на которой основана «Девственница», и она также поучительна. Субъективный вопрос «С чего начинается живопись?» всегда уже задан, несмотря на то что ответ на него всегда заставляет себя ждать. Он поставлен художником с самых первых его шагов, с первой попытки осуществить свое желание рисовать. Даже если вы не родились живописцем, бесполезно искать дату решения стать таковым, так же как бесполезно присваивать тому или иному живописному «элементу» — например, девственному холсту —ограниченный статус абсолютного начала. «Первосцена», которая некогда в самом начале вывела художника на путь необратимого становления-живописцем, неизбежно повторяется. Его ожидает не окончание картины, а, наоборот, ее начало; в прошлом у него — не чистота некоего исходного решения, а, наоборот, груз истории, в которой он родился и которой будет обусловлена вся его дальнейшая эволюция.
Поэтому понятно, насколько Дюшан далек не только от футуризма, но и от духа времени, к которому были так или иначе привязаны все направления исторического авангарда; фантазм tabula rasa30 Дюшану чужд. В отличие от футуристов, большинства конструктивистов и некоторых дадаистов, он не считает модернизм радикальным началом. Он не думает, что с развенчанием перспективной догмы, с творчеством Мане и Сезанна завершилась одна история и началась другая, совершенно новая и лишенная памяти. Развиваясь, живопись тянет за собой свою традицию и, вопреки самым резким нигилистическим выпадам, продолжает ее. Иным-и словами, еще до того, как человек принимает «решение» стать живописцем, исторические условия, в которых это «решение» осуществляется, подготавливают его, специфицируют, делают возможным или невозможным, плодотворным или бесплодным. Дюшан, судя по всему ясно осознававший условия, которые препятствовали его становлению-художником,— как личные, так и исторические,—будет развивать по окончании мюнхенского периода художественные стратегии, все откровеннее рассматривающие сами эти условия — условия невозможности или, точнее, неразрешимости — в качестве его собственных эстетических и жизненных «решений»: стать живописцем/перестать писать, быть художником/создавать «антиискусство», молчать или заставлять говорить о себе и т.д. Говоря о живописном произведении, всегда ссылаться на условия его создания; говоря о художественных направлениях, всегда ссылаться на руководящую ими историю; говоря о кубистском поезде, в котором едет грустный молодой человек, всегда ссылаться на «лень железнодорожных путей в промежутке между двумя поездами».
И, наконец, четвертой и самой загадочной из временных фигур, заключенных в этой картине, является переход между «Девственницей» и «Новобрачной» как таковой. От девственности к не-девственности переходят не в непрерывном назревающем процессе, а резко меняя состояние. Целомудрие теряют единожды, живописцем становятся сразу, вся живопись уже заявлена в первоначальном выборе. «Переход...» происходит в точечном времени, мгновенным скачком, на «сверхкороткой выдержке». Это «фигура времени», по сути своей вневременная, поскольку она сведена к точке, о чем говорит название картины и его написание: ПЕРЕХОД (прописными) от девственницы к новобрачной (строчными). Чтобы перейти от девственницы к новобрачной, нужно ввести член: vierge31 /у verge32 , от г с точкой слова «девственница» — к и греков, игреку выражения «таг у est» ; «все эти слова играют на другом слове, которое наверняка надо искать у греков: как кончить, не отдав должное фаллосу? Не таков ли ключ, способный как нельзя лучше прояснить волшебную сказку, героями которой оказались Новобрачная и ее холостяки?»9
Будучи в буквальном смысле вне времени, вторжение фаллоса будет повторяться у Дюшана с регулярностью метронома, как сама его пунктуация: апостроф «Tu m’», запятая «Большого стекла», двоеточие «Дано:» варьируют один и тот же начальный пассаж, уже в августе 1912 года расставивший точки над i. Между девственницей, которую предстоит написать, и написанной новобрачной — та же разделительная черта, что и между virgo и virga , тот же прыжок в сверхуз-кое или в четвертое измерение, та же «трехмерная „выемка“, которая позволяет себя перейти, преодолеть (одолеть?) только тому, кто способен на моментальный переход»10.
Этот фаллический путник, о котором говорит Сюке — и которого он блестяще разглядел в отсутствующей фигуре «присматривающего за тяготением»,—этот «путник по живописи» сам по себе невидим, не нарисован. «Ты никогда не ищешь меня взглядом там, откуда смотрю на тебя я»,—говорит Лакан11. Позднее, оборвав на последнем полуслове «живопись сетчатки», картина «Tu m’» вставит зрителю в глаз ерш для мытья бутылок — чтобы, конечно же, усладить его раз и навсегда. Но еще до нее Дюшан, этот неустанный путник, перейдет от живописи к совсем другому: он высушит слезы грустного молодого человека на готовой — ready made — сушилке для бутылок, направит на готовый предмет сожаления живописца, открывшего, что, лишь отказавшись от описания самого себя, можно по-настоящему перейти к живописи. В «Большом стекле» запятая появится для того, чтобы отрезать холостяков от так же. Она «отрезает в резерв», но вместе с тем стремится быть «знаком согласования» —присматривающим, находящимся под присмотром, «свидетелем-окулистом»? Грустный молодой человек выяснит, что художник не является первым зрителем своего автопортрета; явление его собственного имени преломляется под действием «эффекта Вильсона—Линкольна», непоправимо распадается надвое: МАР уходит вверх, а СЕЛЬ остается внизу. И когда «Дано:» в преддверии смерти живописца уложит новобрачную в кустах, оно также установит двойную точку «во-первых: родиться живописцем» и «во-вторых: не быть живописцем» на уровне глаз посмертного зрителя: только мы видим через горизонтальные прорези в испанской двери, как эта новобрачная с распахнутым влагалищем и «причинной чинностью» разрешается сыном по имени Марсель Дюшан.
Вся живопись заявлена в первоначальном выборе, высказана или предсказана в названии «Перехода...», которое, как мы видели, обозначает буквой i вторжение символического в чистом виде, неименуемое именование скопического влечения на месте Другого. Уберите i из vierge (девственница), и получите verge (член): недостающее означающее — это фаллос, означающее нехватки. Но эта девственница не кто иная, как женщина, которую предстоит написать; уберите
i из peindre— написать, и полгите pendre—повесить. В самом деле, по ту сторону запретной черты она будет названа именно так: став женщиной нарисованной (в прошедшем времени), Новобрачная будет называться повешенной самкой.
Однако наименование, заявленная живопись, есть лишь по эту сторону черты: переход от предсказанного к сказанному является сам по себе не сказом, а делом. Эта картина не просто имеет название, она — картина.
Складывается пятая временная — или, скорее, вневременная, фигура: точка перехода растягивается, весь процесс делания картины превращается в не истекающий Эон. Даже если эмпирически написание картины протекает во времени, в данном случае — и теоретически, и эмоционально — ему свойственна пленительная безвременность бессознательного, сновидения. Глагол «(живо)писать» сохраняет неопределенную форму38. Хотя наиболее «законченной» картиной Дюшана является «Новобрачная», в пластическом смысле «Переход» ее превосходит.
Не только благодаря его загадочной иконографии, которая поддерживает постоянную неопределенность между абстракцией и фигуративностью, словно бы Дюшан, окончательно уйдя от дорогой кубистам аналитики предмета, уже пытается показать «изображение возможного» как таковое. Но и благодаря особенностям поверхности (заметным лишь при взгляде на оригинал), необычайной тонкости и гибкости фактуры, которые делают эту картину единственным «кубистским» произведением Дюшана, выдерживающим сравнение с современными ему работами Пикассо и Брака. Если сравнить «Переход» с «Обнаженной № 2», самой удачной после него картиной этого периода, можно отметить значительное изменение живописного чувствования, разделяющее их. «Обнаженная» оставляет впечатление великолепной живописи при взгляде издалека, но вблизи выдает неуверенность, с которой Дюшан справляется (или не может справиться) с хроматическими переходами. Картина «держит удар» за счет своей линейности: ее пространство образуют относительно разрозненные контрасты насыщенности, связываемые штрихами черного и светлой охры, которые «компенсируют» немного натянутую игру мазков. «Переход» бесконечно более malerisch39, отчего его название еще красноречивее: в самом деле, не столько рассеянные по поверхности штрихи, сколько именно хроматические переходы рождают на сей раз пространственные впадины и выступы. В этой картине есть твердость руки, которой мы больше не найдем у Дюшана и которая позволяет Роберу Лебелю сказать, что «здесь Дюшан довел свое живописное мастерство до совершенства»40. В живописном плане «Переход» доказывает, что становление-живописцем могло действительно осуществиться внезапно, раз и навсегда состояться в пределах одной картины, которая, ведя от элементарного мазка к целостному пространству, от зашифрованной образности к ясности названия, совершает обряд перехода молодого человека в ранг зрелого живописца. Мы никогда не узнаем, сколь многого внимания, старания, самоотдачи, любви к живописи потребовал этот переход от Дюшана. Но у нас есть его живописное свидетельство, и оно доказывает безупречный изоморфизм того, что заявлено в названии, скрытой и явной иконографии, к которой это название отсылает, и пластического действия41. Этот изоморфизм исключительно ценен тем, что позволяет судить о желании Дюшана и его осуществлении, которое уже не является только лишь воображаемым. Чувства Дюшана по отношению к живописи очень двойственны или, точнее, амбивалентны: он любит и ненавидит ее. Он — в достаточной мере живописец, чтобы его главным органом был глаз, а любимым «объектом-а» — взгляд; и в недостаточной мере, чтобы диктовке взгляда покорно следовала его рука. Его оценка живописи других проницательна, его суждения точны (как это докажет гораздо позднее — и вопреки всегда узнаваемой снисходительности — каталог «Анонимного общества»), себя он оценивает достаточно трезво, чтобы понимать, что не родился живописцем. Ему присуще острое чувство историчности модернистской живописи, он знает, что живописность не является делом вкуса, что ее залог —стратегии, изменяющие вкус; но также он знает, что, хотя эти стратегии наверняка исторически значимы, они отнюдь не произвольны или легко управляемы. Он не безразличен, вне зависимости от того, себя оценивает или других, к терапевтической — катартической и гедонистической — силе искусства; но он догадывается о том, что истина искусства скорее на стороне желания, чем на стороне удовольствия. Он осознает, что его век пустился на поиск некоей чистой визуаль-ности, в которой якобы заключена сущность живописи; но он не в силах поверить, будто живописная мысль может всецело выразиться на уровне сетчатки. Он любит в живописи la cosa mentale12, но он знает, что умственное должно воплотиться в видимом, дабы не оказаться литературой или философией и не перестать быть живописью. Наконец, он наверняка чувствует, что слово «искусство» уже не связано неразрывно со словом «живопись», а статус художника — со статусом живописца, но что его личная судьба и его «семейный роман» не оставляют ему иного выбора, кроме как прийти к одному через другое. Короче говоря, мысль Дюшана в Мюнхене должна была ветвиться в бесчисленных направлениях — личных, семейных, исторических, эстетических, культурных, которые однако сосредоточивались вокруг общей точки неопределенности: живопись как сказ/живопись как дело. С одной стороны —живопись как рассуждение, мысль, философское воображение, истина и язык; с другой — живопись как ап13, умение, работа, рукотворный труд, присутствие и вещь. В его терминологии: с одной стороны — серое вещество, с другой — обонятельная мастурбация. Своего рода чудо, каковым является «Переход от девственницы к новобрачной», заключается в том, что он удерживается в этой точке неопределенности, в неподвижности и приостановке, и решает в пользу обеих альтернатив: картина делает то, что говорит, и говорит то, что делает. Как в названии, так и в изображении здесь совершается переход, прорыв, вспышка символического как такового, поскольку складывающееся означающее еще не принадлежит к порядку сформированного языка, но уже не растворяется в аполло-ническом, воображаемом удовольствии эстетического взгляда. И тем не менее этот переход совершается на наших глазах, эстетически и пластически: в безвременном Эоне возможной взаимности он становится изображением и пространственным свидетельством. Именно здесь его «функция истины».
Это должно было быть раз и навсегда сказано/сделано, чтобы живописная решимость, снедавшая Дюшана с тех пор, как «Соната» ввела его в художественный авангард своего времени, была осуществлена и в то же время отвлечена, обнажив тайну своей формулы. В дальнейшем становление живописцем уже не будет для Дюшана проблемой, а будет лишь тайной: если дано i) живописец и 2) живопись, то каковы были условия столь внезапного отрезвления? И какими будут условия нового увлечения: как сделать, чтобы живопись сказала о том, что функция живописца — сказать, что с ней дело сделано?
...и путник
Возможно, есть доля правды в гипотезе Шварца, который усматривает в вытесненном инцестуоз-ном влечении Дюшана к его сестре Сюзане источник проблематики Новобрачной и холостяков14. «Доля», впрочем, скорее поверхностная, поскольку подтверждают эту истину именно особенности поверхности «Перехода от девственницы к новобрачной», а отнюдь не «семейный роман» Дюшана. Испытывал ли Дюшан инцестуозное влечение к своей сестре Сюзанне? Да или нет? Недопустимо личный вопрос, если мы ищем ответа на него в «действительной жизни» художника. И несколько более уместный, если наша цель — отыскать след этой «милой подруги детства» в автобиографических признаниях, то и дело проскальзывающих в его работах. Так, картина «Молодой человек и девушка весной» изображает своего рода эротическую утопию и посвящается «Тебе, моя дорогая Сюзанна»: Марсель преподнес ее сестре в подарок на свадьбу, состоявшуюся 24 августа 1911 года. Не исключено, что идея «Грустного молодого человека в поезде» пришла к нему в том самом поезде, который вез его в конце того же года в Руан, в гости к Сюзане и ее мужу-фармацевту. Более чем вероятно, что реди-мейд «Аптечка», созданный в январе 1914 года в руанском поезде (опять) является симметричным эхом «Грустного молодого человека» и «приветствует» скорый и неминуемый развод Сюзанны. И, наконец, достоверно известно, что в 1919 году Дюшан прислал ей из Буэнос-Айреса «Несчастный реди-мейд» по случаю ее (второго) бракосочетания с Жаном Кротти. Однако все это едва ли доказывает что-то, помимо того очевидного факта, что Дюшан испытывал к Сюзанне особую привязанность, а она, будучи младше его на два года, скорее всего была его сообщницей и конфиденткой в пору взросления. Но ни эмпирически, ни тем более методологически в этом нет ничего, что позволяло бы, основываясь на биографических симптомах, усмотреть в запрете инцеста, с которым Дюшан, должно быть, действительно внутренне боролся, красную нить его творчества.
И все-таки Сюзанна много значила для Дюшана. А в период «Перехода от девственницы к новобрачной» она сыграла в его художнической судьбе путника по живописи решающую роль. Passeur/Pas sœurZ45 Да простят мне эту игру слов, которой у самого Дюшана не встречается, но мне видится в ней формула — в полном смысле слова бессознательная формула — метафорического скачка «женщина/живопись», поскольку субъект переступает в ней черту, переносится посредством своего художнического деяния к высказанной живописи.
Углубившись в «предварительный рассказ», мы выяснили, что в период приобщения к кубизму или, иначе говоря, профессионального вхождения в живописный авангард своего времени, Дюшан придавал особое значение женской фигуре. Он написал друг за другом «Сонату», «Дульсинею», «Расколотых Ивонну и Магдалену» и «О младшей сестре».
«Соната» изображает женскую половину семьи художника. В картине отсутствуют мужчины: отец, портрет которого (единственный в его творчестве) Дюшан написал в 1910 году в сезаннистской манере, и братья, в том же году послужившие моделями для «Партии в шахматы».
Остановимся ненадолго на этом отсутствии мужчин и, наоборот, на их присутствии в двух последних картинах. С точки зрения живописи «Портрет отца» — не слишком сильная работа: ее фактура довольно искусственна, неровная красочная поверхность несет на себе следы многократных переписываний. Если это и впрямь была для Дюшана сезаннистская штудия, то ее следует признать неудачной. Расплывчатые фона почти лишены объема, а фигура обведена грубым черным контуром (Сезанн в свое время довольно быстро отказался от этого приема). Однако лицо отца, сидящего, мирно опершись головой на правую руку, написано хорошо: умело схваченное Дюшаном выражение благосклонной силы придает картине неоспоримую иконографическую (если не живописную) убедительность. А если верно, что ее прототипом, как считает Жан Клер, послужил сезанновский «Портрет Амбруаза Воллара»15, то мы можем усмотреть в ней своего рода завязку отцовских идентификаций.
Надеюсь, что это замечание не навлечет на меня подозрений в том, что я зашел слишком далеко на сомнительном пути «психоанализа художника»; в произведении, чей двадцатитрехлетний автор впервые осмелился поставить перед собой задачу передать отцовские черты, подобные идентификации вполне объяснимы. Важно понять, согласно каким ассоциативным связям фигура отца получает в нем дополнительные значения. В первую очередь, есть реальный отец и то, что мы знаем о нем: это провинциальный нотариус, достаточно либеральный, чтобы не мешать своему сыну выбрать стезю художника и приобщиться к богемному образу жизни своих старших братьев. Создав в портрете положительный образ отца, Дюшан в некотором смысле благодарит его. Во всяком случае картина не содержит никаких следов эдиповского конфликта вокруг признания отцом сына-ху-дожника. Затем — и это не менее важно — есть «живописный отец», заявляющий о себе не в сюжете картины, а в ее манере. То, что Дюшан пишет своего отца в период осознания исторического значения Сезанна—или избирает Сезанна в качестве образца для подражания, работая над портретом отца,—без сомнения, не случайно. Сезанн, который будет в живописи символическим отцом всего кубистского поколения, да и не только его, для Дюшана тоже станет в полном смысле слова отцовской фигурой, с чьим законом он отныне должен будет (или как минимум должен был бы) соперничать, и кому теперь, прилагая все свои силы, он адресует первую просьбу о признании. Наконец —хотя его значение гораздо меньше —есть «иконографический отец», ясно вырисовывающийся в позе портретируемого, закинувшего ногу на ногу: это торговец картинами Амбруаз Вол-лар, олицетворение художественного признания как института и «отец-кормилец».
Это первый и единственный у Дюшана портрет отца. Можно предположить (опять-таки с осторожностью), что комплекс отцовских идентификаций, в котором с живописным авторитетом Сезанна переплетены семейный авторитет реального отца и институционально-финансовый авторитет художественного истеблишмента, подвергся в этот период вытеснению. Если это так, то вскоре после него мы должны были бы обнаружить некий возврат вытесненного, указывающий на перенос фигуры отца. И, как мне кажется, это действительно имеет место в «Партии в шахматы» (август 1911)1 причем согласно ассоциативным связям, сгущающим те же самые означающие идентификации: семейные, живописные, институциональные. На этой картине, в глубине, изображены Гастон и Раймон — старшие братья Дюшана, уже поэтому вполне подготовленные для исполнения отцовских функций. К тому же оба они художники, пользующиеся определенной известностью. А один из них, Раймон, с недавних пор занимает официальный пост, будучи вице-президен-том Осеннего салона. Таким образом, в воображении юного Марселя братьям принадлежит место, вполне достаточное, чтобы ждать от них признания, в котором ему определенно отказал истинный символический отец — Сезанн. И в то же время своим близким к нему положением старших братьев и своим статусом художников-кубистов они с успехом исполняют роль сезаннистского препятствия. Тем более что именно благодаря им отчасти Марсель был избавлен от эдиповского конфликта со своим реальным отцом. Им пришлось быть первопроходцами: должно быть, нотариус Дюшан колебался, прежде чем смириться с тем, что его старший сын выбрал карьеру художника, а затем его образцу последовал средний; когда же дело дошло до младшего, он, возможно, решил, что таков семейный рок, и уже не пытался сопротивляться. Но еще более важным явилось, быть может, то, что старшие братья довели (посредством замещения) бунт Марселя до символического предела, который ему уже не потребовалось принимать в этой форме на себя,—я имею в виду отказ от отцовской фамилии: Гастон совершил на этом пути радикальный шаг, став Жаком Вийоном, а Раймон Дюшан-Вийон с чуть меньшей решительностью оставил за собой двойное родство —с отцом и братом. В самом начале своей художественной карьеры Марсель, таким образом, получил имя-отца заведомо преданным, так сказать, уже, ready-made, опороченным и, следовательно, вновь девственным, доступным для новой нагрузки, которую позднее во всей полноте осуществит «сельскохозяйственная машина» из «Большого стекла».
«Партия в шахматы» — одно из немногих, наряду с «Портретом отца», свидетельств непосредственного сезанновского влияния на Дюшана, во всяком случае в трактовке фигур. Фон ее решен почти локальным цветом, фигуры наподобие виньеток выступают из окружающей зелени. И, памятуя об изяществе, с каким выстраивал диалектику пространства и фигуры Сезанн, понимаешь, что эта картина Дюшана еще в большей степени, чем предыдущая, свидетельствует о категорической неспособности ее автора корректно интерпретировать свой образец. С той оговоркой, что, закрыв пространство монохромным пятном, Дюшан заведомо отказывается следовать сезанновскому образцу и уже не более чем цитирует Сезанна, в частности в трактовке фигур двух игроков в шахматы, написанных в тех же позах, что и знаменитые «Игроки в карты». Этих игроков двое: два брата, замещающие одного отца, «зеркально» распределены вокруг той самой игры, мастером в которой будет считаться Марсель, — игры в шахматы, игры в неудачу47. Они начинают легко прослеживаемую иконографическую линию, которая в августе 1912 года приведет нас в Мюнхен, к холостякам — новой разновидности дюшановских я-образов, его воображаемых идентификаций с символическим отцом/живописцем. В декабре 1911 года «Портрет игроков в шахматы» запускает процесс размножения портретов двух братьев и коловращения игроков в шахматы. В мае 1912 года в картине «Король и королева в окружении быстрых обнаженных» игроки недвусмысленно превращаются в шахматные фигуры, одна из которых оказывается женского рода. И, наконец, в августе того же года «Новобрачная, раздетая холостяками» переименовывает удвоенное отцовское изображение в холостяков и придает ему черты двух окружающих новобрачную фигур, форма которых восходит к иконографии «Короля и королевы», и, следовательно, к «Игрокам в шахматы», и, следовательно, к двум старшим братьям из «Партии в шахматы» 1910-го.
Поэтому стоит вновь к ним вернуться. Два брата, на которых переместился вытесненный образ идеального отца, изображены на заднем плане. Вытесненное возвращается из глубины — той самой глубины, в которой Дюшан, как ни в чем другом, бессилен соперничать с Сезанном. Тогда как авансцена занята женщинами. Преданные своим развлечениям, две группы восхитительно игнорируют друг друга, сидя по разные стороны двойного стола: это мужской стол с шахматной доской — полем живописи — и женский чайный столик — типично сезанновский живописный объект, сама живопись. И две женщины здесь — не просто женщины. Это жены Гастона и Раймона — новобрачные.
Можем ли мы усмотреть в организации этой «Партии в шахматы», весьма в конечном счете анекдотичной, признак очередного переноса? Вновь следует быть осторожными, и все же я думаю, что да. В 1909-1912 годах иконографические серии «мужчина» (отец, братья, игроки в шахматы, холостяки и т.д.) и «женщина» (мать, сестра, девственница, новобрачная и т.д.) пересекаются настолько редко, что каждое их пересечение может считаться решающим. «Партия в шахматы», «Рай», «Молодой человек и девушка весной», «Король и королева в окружении быстрых обнаженных» и «Новобрачная, раздетая холостяками» — единственные произведения этого периода, в которых присутствуют и мужчины, и женщины4 . Каждое из этих пересечений представляет собой «решение-симптом» проблемы или конфликта, который мы рассматриваем, во всяком случае после Фрейда, как основополагающий для человека и поэтому называем, вслед за широко известной психоаналитической литературой, эдиповым комплексом, кастрацией, половым различием и т. п. Нет ничего банальнее, чем отметить его у Дюшана, так же как у любого из нас,—конечно же, не он сделал Дюшана невротиком и художником. Но оставим в стороне невроз и сосредоточимся на искусстве: мы уже знаем, что серия «мужчина» подразумевает «живописца» и представляет собой последовательность идентификационных образов, из которых Дюшан выстраивает нестойкую тождественность своего «живописного я»; также мы знаем, что серия «женщина» подразумевает «живопись». «Рай», написанный в период начала работы над «Сонатой»,— несомненно слабая картина, подходящая более на роль «симптома», чем «решения». На ней изображен доктор Дюмушель (будущий присматривающий/находящийся под присмотром, студент-окулист?), пытающийся прикрыть свою наготу под откровенно алчным взглядом сидящей на корточках обнаженной женщины. Нет надобности распространяться на тему выраженного в этой картине желания быть желанным и сопряженного с ним страха кастрации. Более интересным кажется мне то, что «Рай» будет дважды перевернут — изображением назад и вниз головой, когда через полтора года Дюшан напишет на его обороте «Короля и королеву в окружении быстрых обнаженных»16. Это обстоятельство может навести зрителя, из любопытства заглянувшего «по ту сторону стекла», на мысль, что уже произошел пресловутый переворот, из-за которого особенно трудно увидеть «страдающего человека» за «творящим духом».
Пять произведений, в которых мужская и женская серии пересекаются, достаточно, на мой взгляд, нагружены значениями и достаточно редки в творчестве Дюшана этого времени, чтобы служить (каждая в отдельности) выражением манеры, которой он ждет как результата своей свадьбы с живописью. И этот результат подразумевает разрешение типичного эдиповского конфликта. В самом грубом приближении: убийство отца (Сезанна) и женитьбу на матери (пост-сезанновской живописи).
Если Дюшана и мучает некий «запрет инцеста», то именно о запрете этого инцеста идет речь. Не исключено, что посредством метонимической смежности он принимал обличье юношеского влечения Марселя к своей младшей сестре, однако не будем строить на этот счет предположения. Важен метафорический скачок, в результате которого этот запрет оказался занят в судьбе Дюшана как художника. Только здесь он имеет значение. Именно он назначает символического отца — Сезанна, который преграждает юному Марселю доступ к воображаемой матери — живописи, не оставляя ему в требовательном контексте авангарда начала века иного способа чего-то добиться на поприще живописи, кроме как испытать и затем усвоить влияние отца, пойдя ему наперекор. Если эта ассоциативная цепь корректна, то перейти от отцовской серии к материнской можно путем простой синекдохи: автор вместо произведения, «Сезанн» вместо желаемой Дюшаном «живописи». Метафорического скачка «женщина/живопись», посредством которого субъект преодолевает преграду (инцеста), здесь еще нет. Этот скачок не может быть локализован в точке пересечения мужской и женской серий, поскольку они смещаются друг к другу путем сдвига, каковой, по-моему, как раз и имеет место в «Партии в шахматы». Взгляд одинаково беспрепятственно переходит от группы братьев в глубине к группе жен на переднем плане и с горизонтальной, альбертиан-ской поверхности шахматной доски на сезанновскую скатерть второго стола, вдавленную в плоскость холста, как на сезанновских натюрмортах. Этому плавному переходу способствует и совершенно плоская зелень фона. Сезанн — вытесненное имя-живописно-го-отда, которое возвращается в фигурах братьев,— может, таким образом, хотя и ценой подчеркнутого пренебрежения к себе, выйти на передний план картины за счет цепи значений, которую уже недостаточно называть женской, но еще необходимо характеризовать как материнскую. В знаковой организации Дюшана эта материнская цепь является цепью жен, замужних женщин. Посредством метонимии она становится на место цепи отцовских идентификаций, которая перед тем сместилась от «Портрета отца» к изображению двух братьев в «Партии в шахматы». И пара мать/жёны оказывается бессознательно нагружена все тем же отцовским авторитетом: именно она отныне является носительницей закона-Сезанна, именно она воплощает живописный запрет, который нужно преступить, но который как таковой остается безоговорочно отрицаемым. Если верно, что цензура эдипова комплекса по отношению к Сезанну обусловила у Дюшана подобный перенос отцовской функции на фигуру матери, то из этого следует, что запрет инцеста —коль скоро этот запрет имеет место —должен действовать совершенно особым образом: фигура матери должна соединять в себе и «отца, который должен быть убит», и «мать, на которой нужно жениться». Что и подтверждает дюшановский афоризм 1922 года: «Инцестоубийца должен переспать со своей матерью, прежде чем ее убить».
Однако гипотеза Шварца, как мы хорошо знаем, имеет в виду инцест не с матерью, а с сестрой. Сестра, а не мать, должна, согласно ей, находиться под запретом. Поэтому нам следует ожидать еще одного переноса, еще одной передачи авторитета внутри женской серии, перехода власти от матери к дочерям—к сестрам. За подтверждением этого перехода вновь обратимся к «Сонате».
Напомним, что эта картина была начата в январе 1911 года и закончена в сентябре. Она вновь рисует семейную, ритуальную сцену: домашнее музицирование в день главного семейного праздника Дюшанов — Нового года. Доминирует в картине мать, госпожа Дюшан, Ивонна играет на фортепьяно, Магдалена — на скрипке, а Сюзанна погружена в несколько отрешенную задумчивость. Фигура матери сразу привлекает взгляд не только своим возвышающимся, властным, покровительственным положением в композиции, но прежде всего суровостью своих черт. Больше нигде в картине — в том числе в лицах сестер — Дюшан не использовал черный цвет, использованный в решении лица матери. И вообще удивительно, что в столь деликатной и тщательно прорабатывавшейся картине ему понадобилась такая живописная грубость. Должно быть, он почему-то не мог поступить иначе, причем не из технических соображений. Это единственное изображение матери, когда-либо созданное Дюшаном, так же как единственным в его творчестве является и портрет отца îgio года. Но если лицо отца, вполне удавшееся Дюшану с точки зрения живописи, пронизано покоем, то на лице матери в «Сонате» читается мука, причем не ее мука, а мука ее сына-живописца. Дюшана, который непринужденно и убедительно передал черты отца, словно бы пугает задача добиться портретного сходства материнского лица. Отчасти, возразят мне, дело тут в «кубистской» (впервые в дюшановском творчестве) трактовке картины. Но, возможно, кубизм, который действительно вмешался в работу над ней где-то между январем и сентябрем, как раз и потребовался Дюшану в качестве уловки. К тому же в любом случае «кубизм», в духе которого решены лица сестер — особенно Сюзанны, наименее расколотой,— соъсем не тот, что изображает/обезображивает лицо матери. Никакая осторожность не позволяет нам воздержаться от вывода о том, что Дюшан допустил здесь живописную оговорку, с очевидностью свидетельствующую о его амбивалентном отношении к модели.
Эдиповский конфликт, который по всем правилам должен был быть выражен в «Портрете отца», оказался перенесен на портрет матери, являющейся отныне носительницей сезанновского закона. Подобно Гастону и Раймону, госпожа Дюшан была предрасположена к этой роли своей двойной — семейной и живописной — родословной: дочь живописца и офортиста Эмиля Фредерика Николя (отметим женскую фамилию дедушки Дюшана по материнской линии), Люси Дюшан, унаследовавшая от отца «восхитительно твердую руку», летом 1909 года, насколько нам известно, будучи вместе с Марселем в Вёле, сопровождала его в походах на пленэр и делала карандашные зарисовки17. К тому же ее портрет в «Сонате» не лишен сходства с сезанновской «Женщиной с кофейником». В нем чувствуются те же озлобленность и женоненавистничество: вспоминаются садистские сеансы позирования, которым Сезанн подвергал жену, зажимая ее лицо между двумя дощечками, чтобы она не двигалась, как яблоко.
Сестер Дюшан избавил от этой садистской трактовки. Однако именно они — исключая Сюзанну — подвергнутся вскоре «кубистскому расчленению» в «Расколотых Ивонне и Магдалене». Между «Сонатой» и этой картиной совершится новый перенос, который и обусловит такой подход к ним. Прежде всего, кубизм, возможно, выступает в качестве алиби: под прикрытием избранного им нового стиля Дюшан дает волю своему живописному садизму. Складывается впечатление, что цензура, занятая борьбой с сезанновским именем-отца, ослабла и пропустила обращенную против него агрессию, но агрессию дозволенную, поскольку она исходит от стиля, открыто признающего свой долг по отношению к Сезанну. Дюшан одновременно приобщается к кубизму и пытается от него уклониться —иными словами, приближается к функции истины, действующей в его амбивалентном отношении к Сезанну, и заставляет себя не признавать ее. И у этого непризнания есть структурное выражение: оно иконографически камуфлирует приобщение, происходящее в бессознательном плане живописи. Как мы уже отмечали в «предварительном рассказе», любопытно, что Дюшан приобщился к кубизму четырьмя картинами, посвященными женщинам. Эта нагрузка женской фигуры столь нетипична для кубистской ортодоксии, что за ней наверняка скрываются другие, субъективные мотивации, значение которых в организации желания Дю-шана-живописца теперь начинает проясняться.
Итак, «Соната» была начата в январе 1911 года и дописана в сентябре. Интересно было бы выяснить, какое место принадлежало в этом длительном процессе кубизму: насколько картина была близка к окончанию, когда кубизм вступил в дело? Несомненно, на этот вопрос мог бы ответить спектрографический анализ, и, не имея его результатов, можно лишь строить догадки с учетом того, что до сентября творчество Дюшана не обнаруживало и малейших признаков кубизма. Это позволяет предположить, что в январе Дюшан о кубизме еще не помышлял и что «Сонату» (не оконченную) следует рассматривать в контексте его символистских увлечений, очевидных в «Рае», «Кусте» и «Крещении» — картинах, написанных на рубеже 1910 и 1911 годов. Причем «Крещение» и «Куст» изображают сцены ритуальной инициации женщин, своего рода заключение договора, связывающего взрослую женщину с девушкой. Кроме того, «Крещение» с его намеком на рождение подчеркивает связь «мать —дочь», и поэтому две женщины вполне естественно занимают свое место в значащих сериях: одна — в серии новобрачной (или матери), другая—в серии девственницы (или сестры).
Как истолковать этот договор? Этнологи не раз указывали на то, что запрет инцеста имел две формы: негативную, обращенную к матери и запрещающую поворачивать вспять родословную, и позитивную, обращенную к сестре и предписывающую обмен и экзогамию18. Нарушить запрет можно, таким образом, тоже двумя способами: жениться на матери или не пустить замуж сестру.
«Куст», возможно, свидетельствует о стремлении установить между женщинами одного рода такие отношения, которые сделали бы экзогамию невозможной. Таинственный договор, связывающий двух женщин в «Кусте» и «Крещении», может быть своего рода обещанием, которая младшая из них дает старшей: не покидать семью, не выходить замуж, оставаться девственницей. С некоторым допущением можно было бы сказать, что Дюшан бессознательно «рассуждает» так: я хочу жениться на матери, точнее— на живописи, еще точнее — на живописи сезан-нистской; чтобы (как я того хочу) стать живописцем, образцом какового является для меня Сезанн, я должен усвоить Сезанна и предать его, привнести в живопись некую значимую новизну по отношению к его традиции. Но я не могу этого сделать, груз наследственности для меня слишком весом и отцовская модель слишком значительна. Стоит мне как художнику прикоснуться к матери —я только что рискнул это сделать в «Сонате», — как силы оставляют меня. Если бы, по крайней мере, этот запрет мог выражаться в смягченной, ослабленной форме, если бы его нарушение могло пройти незамеченным и безопасным для меня, я был бы спасен и мог бы безбоязненно утолить свое желание. Решение заключается в том, что я сохраню для себя сестру. Не нарушая запрет на инцест с матерью, я пойду вразрез с его позитивным следствием — обязанностью экзогамии. Это решение подходит для нас обоих: если моя сестра должна оставаться девственницей, то я, в свою очередь, должен оставаться холостяком. А если так, то надо поскорее запечатлеть это воображаемое решение, придав ему форму символического договора. Благодаря «Кусту» и «Крещению» я снова могу писать, дать волю моему желанию быть Сезанном, не вступая в конфликт с егозаконом. Теперь мне надо бояться лишь одного — и не отцовского или материнского гнева, а того, что сестра выйдет замуж. Тогда договор будет разорван, и мое воображаемое решение утратит силу. Все придется начинать с начала.
Это «рассуждение», основанное преимущественно на моих домыслах, находит между тем целый ряд подтверждений в живописной и биографической реальности. Остановимся ненадолго на «Молодом человеке и девушке весной» — картине, написанной в первые месяцы 1911 года, то есть после «Куста», «Крещения» и неоконченной версии «Сонаты» и до вмешательства в ту же «Сонату» кубизма, и преподнесенной Сюзанне в качестве свадебного подарка 24 августа. Несомненно, что она тоже служит исполнением желания: желания того, чтобы молодой человек и девушка — холостяк и его девственница-се-стра — не оказались разлучены, чтобы экзогамный брак не разорвал договор или, на худой конец, чтобы он ничего не значил! Эта картина имеет значение непризнания. Написанная после помолвки Сюзанны, под угрозой ее неминуемой свадьбы, она не допускает существования зятя, подразумевая Марселя-живописца в качестве инициатора брака: если я не могу помешать замужеству сестры, пусть я буду первым, кто его хотел! В пользу такой интерпретации говорит структура «Молодого человека и девушки», и прежде всего странный круг в центре картины. В нем усматривали всевозможные символы, по большей части алхимические, и не менее часто — стеклянный шар. Шварц сравнивает его с ретортой для перегонки ртути, Каль-вези находит его прототип в «Саде наслаждений» Босха19. Я, со своей стороны, с опаской вступая в игру истоков, возвел бы этот мотив к Ван Эйку. Если картина Дюшана действительно с опережением увековечивает и вместе с тем заклинает брак, то определенное влияние на нее «Четы Арнольфини» — самого знаменитого образца свадебного жанра — не должно удивлять. Ведь, как и в «Молодом человеке и девушке», мы видим у Ван Эйка супругов, стоящих по сторонам от выпуклого зеркала, в котором отражается вся сцена, включая художника (с не известным нам спутником — вне сомнения, дамой).
Живописец является исполнителем церемонии бракосочетания, как у Ван Эйка, так и у Дюшана. Устанавливать личность неопределенной фигуры (или фигур), угадывающейся в «зеркале» (или уже в «увеличительной линзе Кодака») в центре картины, я не рискну. Но рискну предположить, что здесь или где-то еще в картине Дюшан запечатлел свое живописное посредничество в ненавистном ему браке его сестры-в-живописи с Шарлем Демаром — его соперником и alter ego. Возможно, что этот Демар, фамилию которого можно прочитать как «Д. Мар.» («Дюшан Марсель»), сам обеспечивает дополнительное отрицание этого брака, еще одно алиби, помогающее Марселю смириться с ним: если зятя зовут Д. Мар., свадьба ничего не значит и сестра не покидает семью.
Но сколько бы ни было непризнаний и воображаемых решений, наступает момент, когда Дюшан уже не может помешать принципу реальности известить его: 24 августа свадьба состоится. И в качестве последнего знака своей решимости, последнего упования Марсель преподносит Сюзанне картину20. Зыбкое равновесие защитных реакций против эдипова комплекса (направленного на Сезанна) нарушается и сразу же восстанавливается в новой форме: я имею в виду вступление Дюшана на стезю кубизма, переработку «Сонаты», садистскую месть Ивонне и Магдалене и, наконец, отстраненный покой картины «О младшей сестре».
Постепенно мы начинаем понимать, почему «кубизм» Дюшана так мало похож на кубизм; почему его «кубизм» —это алиби, под прикрытием которого он может совершить «убийство» Сезанна-отца с благословения живописного направления, которое относится к нему как к учителю; почему его чувства к кубизму настолько амбивалентны, что он хочет одновременно стать кубистом и перестать быть таковым; и почему, чтобы приобщиться к кубизму, ему обязательно нужно расколоть на части сестер.
Остается понять, почему он щадит Сюзанну. Особой загадки в этом нет, коль скоро мы принимаем гипотезу Шварца с точностью до наоборот. На предшествующих страницах я осмелился предпринять опасный опыт, как две капли воды похожий на сомнительный «психоанализ автора». И подошел к 24 августа 1911 года, к свадьбе Сюзанны — в которой, точно так же как Шварц, вижу «значимое событие, запустившее процесс раскрытия личности Дюшана и существенно ускорившее его индивидуацию»21.
Предложив вашему вниманию «предварительный рассказ» этого события, я тоже имел в виду именно это. Стоило посвятить некоторое время индивидуации «страдающего человека», чтобы лучше понять индивидуацию «творящего духа», даже если для эстетика и историка искусства важна только последняя. Но как в живописной эволюции «творящего духа», так и в жизни «страдающего человека» мы не можем присваивать процессу индивидуации и малейшей доли реальности. Он всецело относится к сфере воображаемого. Именно в воображаемом — в ряду образов, которые создает живописец, и в коррелятивном ему ряду проецирующихся на эти образы идентификаций — развивается этот процесс. Нет ничего удивительного в том, что он затрагивает мать, отца, братьев и сестер. И мой сомнительный «психоанализ» важен не тем, что тоже их затрагивает, ведь почерпнутые в произведении сведения о жизни «страдающего человека» он списывает в итоге на резонанс «творящего духа», а тем, что в конечном итоге он проливает некоторый свет на живописную судьбу художника, который изменил ход истории. Главное —не остановиться на уровне воображаемого и перейти от него к символическому. Причем это не только задача теоретика, это задача, которую решал сам Дюшан: вопреки видимости, я не прилагаю к искусству Дюшана психоанализ, а продолжаю заданный им параллелизм двух функций истины. Истина свершения определенной судьбы живописи в XX веке проходит через «Переход от девственницы к новобрачной» и через внезапное и необратимое становление-живописцем человека, который ищет себя и мучается сомнениями. Именно в этом смысле запрет инцеста — Pas sœurf"6 — приобретает для passeur, путника, смысл. Именно здесь происходит то, что я выше назвал метафорическим скачком «женщина/живопись». Это не отменяет того, что живопись для Марселя — вне сомнения, еще с детства — была метафорой женщины, а женщина — определенно, с юности — стала для него метафорой живописи. Это означает, что только с созданием «Перехода от девственницы к новобрачной» эта обратимая метафора вышла за пределы воображаемого и придала новый смысл исторической необратимости авангарда.
На уровне личного воображаемого этот процесс остается обманкой, каковая есть самое определение индивидуации. Я Дюшана переносится от отца к братьям, от братьев — к новобрачным и матери, от матери — к сестрам, чтобы в августе 1911 года оробеть перед именем Сюзанны и «решить» возобновить свое движение: от расколотых сестер к размноженным братьям-шахматистам, от грустного молодого человека — к королю и королеве, чтобы в 1912 году остановиться и вновь оробеть на пороге перехода, за которым оно распадется и исчезнет. Я уходит, и появляется я, которое уже не имеет ничего общего с какой бы то ни было индивидуацией. Становление живописцем не было становлением собой, каковое состоит не в идентификации с Сезанном или кем угодно другим и не в ее прекращении, а в том, чтобы позволить субъекту хотя бы на краткое мгновение перейти инце-стуозную черту недостающего i и метафорически превратить женщину, которую надо повесить, в женщину нарисованную— или женщину, которую надо написать, в повешенную самку.
Поэтому, чтобы заявило о себе символическое в своей функции истины, приходится дождаться Мюнхена. Но мы еще к нему не подошли и не поняли, почему за год до Мюнхена Дюшан, расколов Ивонну и Магдалену, пощадил Сюзанну. Иными словами, не выяснили, в чем состоит «доля истины» гипотезы Шварца, понятой наперекор Шварцу. И здесь теоретик должен слегка опередить Дюшана и проследить обратное действие появления символического в «Переходе»— Не сестра! — на его воображаемые идентификации в период работы над «Расколотыми Ивонной и Магдаленой» и «О младшей сестре». Дюшан щадит Сюзанну не потому, что желает или любит ее «в жизни», а потому, что некое вытесненное означающее приводит его запутанным путем воображаемых идентификаций к приближению вплотную к «закону отца», которым ему во что бы то ни стало надо пренебречь. Что же удивительного в том, что этим означающим является имя-отца —но не Дюшан (от живописи57), имя, столь изящно оставленное Марселю его братьями, а имя его исторического и живописного отца, Сезанна. Сезанн/Сюзанна — вот в чем дело! Предельная близость этих имен делает Сюзанну неприкосновенной. Она — любимая модель Марселя, но только в эскизах, набросках, предварительных этюдах, то есть только в девственной живописи. Написать Сюзанну значило бы жениться на ней и тем самым пойти на величайший риск того, что все преграды, воздвигнутые цензурой вокруг имени Сезанна путем его внедрения в семейные синтагмы, рухнут, и, когда воображаемая цепь замкнется, символическое внезапно прорвет его и призовет формирующегося живописца к соблюдению своего закона.
С этим вторжением Дюшан столкнется в Мюнхене, в августе 1912 года, когда путник таки нарушит правило «Не сестра!». Но в августе 1911 года, в Руане, когда Сюзанна в реальности переходит из девственниц в новобрачные?, Дюшан к нему еще не готов; он только еще вынашивает замысел «О младшей сестре». Сюзанна останется целомудренной в живописи еще год, до той поры, когда Марсель решится начать писать à propos of ту self58.
1
на в нем коршуном!» (Freud S. Un souvenir d’enfance de Léonard de Vinci. Paris: Gallimard, 1977. P. 56).
2
Golding J. Duchamp: The Bride Stripped Bare by her Bachelors, Even. New York: The Viking Press, 1972. P. 38, 44.
3
Принцип «коммандитной симметрии» вводится Дюшаном применительно к «дистанционному» геометрическому соотношению позиций «мужематриц» на «семи ситах» (Boîte verte//DDS. P. 73). Отметим, что Дюшан говорит не что-нибудь вроде «предусмотренная на расстоянии», а именно «коммандитная». Коммандитное товарищество,—значится в словаре,—это предприятие, участники которого делятся на кредитуемых, несущих полностью риск по предприятию всем своим имуществом, и коммандитистов, или вкладчиков, отвечающих только вложенным в предприятие капиталом. Отсюда по меньшей мере два подтекста: во-первых, коммандитная симметрия связана с кредитом, или долгом, а во-вторых, имеет экономический характер, и ее «ось симметрии» располагается не в пространстве, а во времени. В дальнейшем мы убедимся, насколько тесно жизнь и творчество Дюшана связаны с этим принципом коммандитной симметрии: художник сплошь и рядом выступает коммандитистом некоего «впоследствии», которое заведомо, из будущего, обещает симметрию настоящему. О вмешательстве же в эту экономическую симметрию кредитуемого и коммандитиста женщины —как раз начиная с мюнхенского периода—свидетельствует игра слов (имеющая, впрочем, и другой-военный — подтекст): «Я предоставляю и требую» [«j’offre et l’allemande»] (Duchamp M. Notes/Présentation et traduction Paul Matisse. Paris: Centre Georges-Pompidou, 1980. Note 252).
4
Ср.: ChénieuxJ. Lerotisme chez Marcel Duchamp et Georges Bataille// Duchamp/Colloque de Cerisy. Op. cit. P. 193-221.
5
онанизм, если вы меня понимаете...» (неопубликованное телевизионное интервью Дюшана Жоржу Шарбонье, вышедшее на канале «France-Culture» в январе 1961 года).
6
Новобрачная, вышедшая замуж (франц.), от глагола marier, же
ниться, сочетаться браком. — Прим. пер.
7
Linde U. L’ésotérique//Id. Abécédaire. Paris: Centre Georges-Pompi-
dou, 1977. P. 74.
8
«Впрочем, доля повторения в том, что Ренуар писал так много обнаженных до конца жизни, сводилась к потребности, связанной прежде всего с привычкой. Он привык писать очень серьезно, каждый день —разве не так?—и не мог запретить этого себе, ведь если бы он запретил себе писать, это, как вы понимаете, стало бы катастрофой...» (цитированное выше интервью Жоржу Шарбонье 1961 года).
Мое несогласие с Жаном Клером весьма существенно, особенно в том, что, по его словам, «идя вразрез с эволюцией современной ему живописи, которая, начиная с Мане и продолжая монохромными „мастерскими** Матисса, отвергала соблюдение перспективы, ее интеллектуальные игры и ее фантазма-тические нагрузки, Марсель Дюшан вернулся к этой традиции как к единственной, способной возвратить искусству потерянный им рассудок и сделать его практику постоянным испытанием механизмов очарования» (Clair J. Duchamp, Léonard, la tradition manièriste//Duchamp/Colloque de Cerisy. Op. cit. P. 141 [курсив мой.-Г.Д.]). Разумеется, я не оспариваю исключительной важности перспективы для теоретической мысли Дюшана. Как не оспариваю и того, что его размышления о перспективе (по собственным словам художника —см.: DDS. Р. 122) были подкреплены чтением научных трактатов во время службы библиотекарем в Библиотеке Св. Женевьевы. Но отдадим Жану Клеру то, что принадлежит Жану Клеру, а Дюшану —то, что принадлежит Дюшану. Сколь многочисленные, столь и интересные формальные аналогии, которые Жан Клер находит между отдельными произведениями Дюшана и исследованиями перспективистов Нисерона, Меньяна, Дюбрея, Виатора, Босса, Леклерка, Кирхера (Clair J. Marcel Duchamp et la tradition des perspecteurs//Abécédaire. Op. cit. P. 124-159), не только не позволяют признать работы последних неоспоримыми источниками, но, главное (побуждая все же считать их источниками), не столько проясняют, сколько затемняют вопрос о том, что означала для Дюшана перспектива. Хотя исследования Жана Клера подготавливают почву для более строгого критического анализа, стоит все же разобраться, почему дюшанов-ские обращения к перспективе являются оглядкой на традицию, а не возвращением к ней. Жан Клер, исполненный стремления укоренить Дюшана не только во Франции, но и в сфере своих личных, весьма консервативных, вкусов, систематически уклоняется от рассмотрения его творчества в рамках современной ему живописной традиции, предпочитая традицию «перспективистов» или литературно-анекдотическую мифологию четвертого измерения (Павловски) модернистскому контексту (Мане, Сезанн, Матисс, Пикассо и т.д.), значение которого я, напротив, хотел бы всячески подчеркнуть.
Девственница (франц.). — Прим.. пер.
9
SuquetJ. Section d’or//Duchamp/Colloque de Cerisy. Op. cit. P. 243.
10
Flarnmarion. 1974. Р. 216. Прочтение Сюке тем более примеча-тельно, что автор не знал опубликованной посмертно заметки, в которой Дюшан пишет под заголовком «Пунктуация»: «точка анализа» и «маленькая и большая запятая» (Duchamp М. Notes. Op. cit. Note 77).
11
Lacan J. Le séminaire. Livre XI. Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse. Paris: Seuil, 1973. P. 95.
12
Дело ума (итал.).— Прим. пер.
13
Искусство, ремесло, умение (лат.). — Прим,, пер.
14
Рассуждение об инцестуозном отношении Марселя к Сюзанне Шварц развивает на с.80-98 уже цитированных нами «The Complete Works of Marcel Duchamp...». Что же касается утверждения Эрве Фишера, согласно которому Дюшан действительно вступил в связь с Сюзанной и был застигнут при этом матерью (Fisher H. L’Histoire de l’art est terminée. Paris: Balland, 1981. P. 19-28), то оно безосновательно.
15
«1909 и 1910 годы ознаменовались для Дюшана открытием Се-занна, урок которого, в частности воспоминание о „Портрете Амбруаза Воллара“, чувствуется в этой картине» (Clair J. Catalogue... Op. cit. P. 30).
Если считать только картины, то иконографическая серия «мужчина» включает 12 работ, а серия «женщина»-^. За этот же самый период Дюшан написал всего два пейзажа и один «натюрморт» («Кофемолка»). С учетом эскизов, рисунков, акварелей, набросков и т.д. женская серия перевешивает еще сильнее: 28 рисунков женщин (преимущественно обнаженных) против 13 рисунков мужчин (и еще один натюрморт — «Аэроплан»). Строго говоря, картин, в которых эти серии пересекаются (то есть в которых есть и мужчины, и женщины), всего четыре, в том числе «Новобрачная, раздетая холостяками», а эскизов и рисунков — шесть.
16
«Не следует, впрочем, забывать, что речь идет в буквальном смысле об „изнанке рая“. „Быстрые обнаженные", являющиеся, несомненно, следствием чувства вины, дополняют аллюзию на „семейный круг44, будучи „эдиповской живописью44, если только таковая возможна» (Lebel R. Sur Marcel Duchamp. Op. cit. P. 13).
17
Ср.: Gough-Cooper J., CaumontJ. Chronologie. Paris: Centre Georges-Pompidou, 1977. P. 50.
18
Lévi-Strauss С. Les structures élémentaires de parenté. Paris: P. U. F., 1949. P. 64-65; Heusch L. de. Essai s sur le symbolisme de l’inceste royal en Afrique. Bruxelles: U. L. B., Institute de Sociologie Solvay, '959- P l3->5-
19
Schwarz A. The Complete Works... Op. cit. P. 93; CalvesiM. Duchamp invisible. Op. cit. Fig. 90.
20
Как часто бывает у Дюшана, этот жертвенный эпизод возымеет последствия «согласно коммандитной симметрии». Когда Сюзанна в 1919 году, через пять лет после развода с Демаром, вторично выйдет замуж за художника Жана Кротти, Дюшан пошлет ей из Буэнос-Айреса «Несчастный реди-мейд» — инструкцию по поводу того, как подвесить «в пространстве» (на балконе) книгу по геометрии, чтобы время и непогода «разорвали» ее, как прежде он сам разорвал Ивонну и Магдалену. К новой свадьбе — новый подарок, отмеченный теми же, только на сей раз откровенно ироническими, признаками непризнания. Элементов коммандитной симметрии в нем множество: Дюшан-живописец создал своими руками картину «Молодой человек и девушка весной» и преподнес ее сестре — носительнице (как женщина и девственница) метафоры-живописи, точное значение которой мы вскоре выясним; и тот же Дюшан, но уже «не-живописец», посылает проект готового объекта, в котором есть основания усмотреть тщательно замаскированный автопортрет (в виде «инспектора пространства»), сестре-художнице (и невесте художника!) с указаниями о том, как сделать его самой (Сюзанна удовлетворит пожелание брата с излишком, не только установив книгу на балконе, но и написав живописную версию подарка — картину «Несчастный реди-мейд Марселя»). Все вновь происходит так, словно экзогамный брак сестры допустим при условии, что Марсель примет в нем участие. Коммандитная симметрия заключается здесь в том, что Дюшан утверждает самого себя в качестве метафоры-живописи (и, следовательно, объекта желания) для женщины-художницы, которую просит совершить работу. Но главным, что придает этой симметрии весь ее «иро-низм утверждения», является то, что в Буэнос-Айрес, откуда был послан подарок Сюзанне, Дюшан приехал в компании Ивонны Шастель, бывшей жены упомянутого Кротти. А после этого эпизода, вернувшись в конце июня или начале июля 1921 года в Париж, он будет жить у Ивонны Шастель (и, возможно, с Ивонной Шастель) в том самом доме на улице Кон-дамин, на балконе которого Сюзанна подвесила «Несчастный реди-мейд». Хотя мы и не знаем, какие отношения на самом деле связывали Дюшана с Ивонной Шастель, симметрию этих экзогамных уступок надо признать в полной мере и в высшей степени иронически замкнутой: я отдаю сестру своему коллеге в обмен на жену, которую он отдает мне. И подобно тому, как фамилия Демара может быть прочитана как «Д. Мар.», имя Ивонны Шастель может означать «сестра» (Ивонна для Сюзанны), а ее фамилия — «девственница» (Chastel = chaste elle [целомудренная она — франц., букв.]).
21
Schwarz A. Marcel Duchamp... Op. cit. P.m. Разумеется, я цитирую эти строки не без иронии, так как в понимании «раскрытия личности» и, особенно, «процесса индивидуации» диаметрально расхожусь с их автором, который — будто бы случайно— позаимствовал термин индивидуации у Юнга.
Теоретическое отступление

МЫ ПОДОШЛИ к той точке, в которой эвристический параллелизм между мюнхенскими картинами Дюшана и фрейдовским сновидением об инъекции Ирме приобретает неожиданный характер случайной, но весьма убедительной аналогии. Впрочем, отнюдь не случайным — и оправдывающим переход от аналогии к параллелизму —является то, что в обеих областях действует одна и та же «функция истины».
В свою очередь, это единство основывается на заведомой уверенности: всякое эстетически сильное или исторически плодотворное произведение искусства с необходимостью подразумевает самоанализ.
Единственная причина подобной уверенности — постоянное общение с эстетическим опытом, и превратить ее в научную достоверность едва ли возможно. Поэтому я должен признать, что она действует как постулат, будучи поддерживающей мою работу гипотезой, которая, следовательно, не может быть подвергнута сомнению в пределах этой работы. Означает ли это, что я оказываю доверие теории психоанализа, не принимая его метод,—от чего выше, очерчивая проблему, открещивался? Означает ли это, что я перехожу границы эвристического параллелизма и возвожу в ранг принципа эффективность психоанализа в художественной области? Думаю, что нет.
С одной стороны, исследование, подобное нашему, было бы немыслимым без позитивной оценки психоанализа, и я, говоря о необходимой осторожности при обращении к прикладному психоанализу и психоаналитической эстетике, проявил бы наивность, если бы счел для себя возможным сохранить абсолютную нейтральность, избежать как позиции приверженца, так и критической позиции в отношении психоаналитической доктрины. Но основанием для этой позитивной оценки являются просто-напросто исторические обстоятельства и тот образ, в который они облекают — правдиво или иллюзорно—эпистему эпохи. Даже если сегодня мы начинаем понимать, что значение фрейдовской науки имеет свои исторические ограничения, эпистемологически бесспорно то, что наша эпоха по-прежнему мыслит и говорит с помощью ее понятий. Предсказать будущее этой науки способны — основываясь на своем опыте — только те, кто с нею работает. Я, со своей стороны, могу лишь заявить, что признаю наш эпистемологический диспозитив, насквозь пронизанный психоанализом, его словарем, его понятиями и образом мысли.
С другой стороны, уверенность в том, что произведение искусства подразумевает самоанализ, является—причем вполне законно — частью того, что я назвал «трассировкой» наследия Фрейда. Сам Фрейд никогда ее не испытывал, во всяком случае не говорил об этом прямо, и тому имелась причина: когда его сочинения об искусстве плодотворны для эстетики (а в этих случаях они плодотворны и для психоанализа вообще), эта уверенность пребывает, так сказать, в его теоретическом бессознательном. Она является мотивом, о котором Фрейд не знает и поэтому не может обсуждать как таковой, но который побуждает его, развивая свои теории, обращаться к произведениям или просто проверять на них свои выводы. Когда же, наоборот, Фрейд занимается «прикладным психоанализом» или дидактически резюмирует свои открытия, иллюстрируя их примерами из искусства—как, например, в тоскливом тексте «Литературное творчество и сновидение наяву», где им устанавливается равнозначность произведения искусства и фантазма и проводится редукционистский тезис о «примате соблазна»,—этот мотив отсутствует, как, впрочем, что немаловажно, и то волнение, которым проникнуты его наиболее эвристические сочинения, в том числе и связанные с самоанализом.
По изложенным причинам нам нужно было абстрагироваться от фрейдовского или раннего по-слефрейдовского этапа разработки теории, чтобы гипотеза о произведении искусства как самоанализе совершенно естественно выявилась в нашем нынешнем восприятии творчества Фрейда. Нужно было даже, чтобы его самоанализ как таковой утратил свой резонанс, благодаря которому он продолжается, оставаясь загадочным и продуктивным, в работах его последователей, и чтобы он стал в свою очередь историческим объектом. Не эстетику и не историку искусства судить о значимости этого исторического объекта, равно как и о «научности» психоанализа, и о его «философской истине», и о доле в нем «идеологии». Всякая сторонняя критика на этот счет сама была бы идеологической. Эстетику — поскольку он свободен в своем мышлении, но не в условиях своего мышления, предписываемых ему, как и кому угодно другому, его эпистемой,—судить лишь о том, какие из его возможных гипотез или постулатов, связанных с психоаналитической доктриной и ее фактическим местом в рамках эпистемы, наиболее плодотворны в его собственной области.
Гипотеза, лежащая в основе нашей работы, ни в коей мере не будучи оригинальной, не задается вопросом о трансисторической значимости психоаналитического знания. Она опирается на почти филологическое заключение: ключевые моменты эволюции теории психоанализа (отметим основные: «Набросок научной психологии», «Толкование сновидений», «Введение в нарциссизм», «По ту сторону принципа удовольствия», «Я и Оно», «Подавление, симптом и страх») разделяют в творчестве Фрейда умозрительные разрывы, преобразования и скачки, которые невозможно объяснить одной лишь заботой о совместимости теоретических выкладок с новыми или более сложными фактами, с необходимостью учета которых они сталкиваются. Как невозможно объяснить их и постоянной опорой Фрейда на самоанализ-опорой, которую он, во всей видимости, чувствовал все более позволительной по мере возрастания в его практике и теории концептуальной важности трансфера.
Каким бы ни было будущее собственно научных результатов психоанализа, сегодня можно считать принятым, что своей динамикой и внутренним прогрессом он обязан прежде всего тому особому месту, которое Фрейд, не слишком вдаваясь в его обоснование, отдавал самоанализу.
Параллель с эпистемологической функцией произведения искусства очевидна. В художественном произведении, в отличие от научного, не ищут некоего верифицируемого знания. И тем не менее нельзя отрицать, что оно обладает определенным познавательным эффектом. Откуда может взяться этот эффект и на какой территории он обнаруживает свою действенность? Сторонники эссенциалистской концепции искусства с легкостью примут, как мне кажется, постулат самоанализа. Они усмотрят в нем подтверждение догадки о том, что великий художник раскрывает в своем творчестве истину, касающуюся сущности искусства, всегда связанной с человеческим бытием, с предположением некоей вечной человечности, которую произведение искусства открывает, не исчерпываясь, в самом себе. Причем сегодня «человек» определяется для многих по Фрейду. Концепция нашей работы, разумеется, не такова: познавательный эффект произведения искусства не идет от «человеческого» и не возвращает к некоему вневременному «человеческому»; он всецело историчен, как историчен и «человек по Фрейду». Именно в этом смысле познавательный эффект произведения искусства является частью эпистемологического дис-позитива и иногда выходит за его пределы — не потому, что возвышается над историческим состоянием мысли, устремленной к абсолюту, а потому, что действует ради ее трансформации. То, что некоторые произведения «остаются» или кажутся остающимися (становятся — именно становятся — «классическими»), связано просто с тем, что история —не только действие, но и память, и с тем, что, как всякая память, она имеет временные лакуны и, следовательно, сохраняет почти бесконечный потенциал реактуализации.
Приверженцам эпифеноменальной концепции искусства—например, марксистской эстетики,—для которых место искусства располагается в надстройке и поэтому всегда, пусть даже в последнюю очередь, определяется экономикой, принять постулат самоанализа будет куда труднее, если они просто не посмеются над ним, списав факт и его последствия на счет идеологии. Либо самоанализа нет и искусство не имеет функции истины, а имеет в худшем случае лишь смягчающую, украшательскую функцию и в лучшем —функцию выражения классовых интересов и конфликтов, которые, между прочим, образуют социальную реальность. Либо самоанализ существует, но так же, как существуют иллюзии, то есть является исторически детерминированным выражением буржуазной идеологии искусства. Разумеется, подобная концепция нами также не разделяется: отмеченная неумолимым детерминизмом, она не допускает возможности того, чтобы составляющая самоанализа в произведении искусства была также его творческой составляющей. Даже если она соглашается с тем, что художник может видеть в своем творчестве нечто подобное самоанализу, ее детерминизм запрещает ей предполагать в произведении некий «эффект истины», не содержащийся в его предпосылках.
Аналогичный — так сказать, структурно — детерминизм обременяет многие эстетические исследования, ведущиеся в перспективе прикладного психоанализа. Очень часто художник в них оказывается игрушкой своего бессознательного, понимаемого как скрытая конечная причинность, неизбежно ориентирующая его произведения в том или ином направлении. И если художественная продукция может, как кажется, находить тем самым объяснение, то творчеству в этой объяснительной системе места не находится.
В свою очередь, гипотеза самоанализа как таковая свободна от безоговорочного доверия окружающим произведение искусства детерминациям; центральное положение отдается ею творческой мысли, «моменту» значимой новизны, в котором, согласно ей, и оказывается сосредоточена свойственная произведению функция истины. Во-первых, она понимает слово «детерминировать» не в янсенистском смысле тех, кто низводит произведение искусства до следствия исторических или биографических причин. С точки зрения гипотезы самоанализа творческое произведение не является ни идеологией, ни симптомом, и его детерминации — это не причины, а скорее, согласно этимологии термина, ограничения, всецело утвердительная спецификация его априорного поля возможности. Во-вторых, она уделяет внимание прежде всего тем редким, собственно творческим, «моментам», когда произведение отвлекает (в медицинском смысле) субъективную причинность своего автора — судьбу влечения, если говорить языком Фрейда и в то же время языком Зонди, —чтобы открыть ее и нам, и ему самому. Это «откровение» не имеет ничего общего с осознанием, она — особый способ, которым произведение — подчас вопреки тому, что художник знает или чего он сознательно добивается,—вбирает в себя условия (исторические, личные и сугубо эстетические) своего становления и с которым художник чаще всего соглашается постфактум. Не будет ошибкой сказать вместе с феноменологической эстетикой, что произведение искусства интенционально, с той лишь оговоркой, что смысл его интенциональности придает ретроактивное озарение: так вот что это было!
Описанное выше точечное событие откровения-от-влечения является тем самым «местом» или «мгновением» (два эти термина одинаково неадекватны), в котором действует функция истины произведения искусства, и именно через него произведение преподносит нечто познанию. Каковое, в свою очередь, на самом деле оказывается узнаванием (так вот что это было!), причем узнаванием, которое не может быть обосновано ни детерминизмом эстетиков-марксистов или фрейдистов, ни платоновской метафизикой эстетиков-эссенциалистов, ибо ни к порядку припоминания, ни к порядку признания оно не относится. Тем, что художник (или зритель) «узнает» в произведении, является именно его радикальная новизна, то, что делает его коренным образом новым. Причем это познание-узнавание вполне может оказаться и непризнанием, как у Дюшана, который, как мы видели, даже в «Переходе от девственницы к новобрачной» продолжает именно что не признавать амбивалентное отношение к Сюзанне/Сезанну, которое эта картина открывает и отвлекает.
Из этого надо заключить, что функция истины искусства состоит не в том, чтобы выявлять истину или познаваемое содержание на пороге той или иной те-матизации, а в том, что оно само переступает порог именования, за которым именуемое им есть не что
иное, как сама его именующая функция. Понятно, почему гипотеза искусства-самоанализа столь созвучна лакановской теории символического, как мы видели это на примере «Перехода» и вскоре увидим еще отчетливее. Она просто-напросто конгруэнтна одному из направлений нынешней трассировки фрейдизма—тому, которое представляет Лакан.
Но происхождение этой гипотезы — не в лакановской теории, а в том, что она кажется мне если не единственной, то во всяком случае лучшей гипотезой, позволяющей связать истину и творчество. Познание, обеспечиваемое искусством,—это познание практическое, поскольку искусство создает артефакты, входящие в совокупность созданного человеческим трудом и приобретающие в ней значение. Но оно не исчерпывается этой созидательно-нако-пительной функцией, которую искусство разделяет с техникой. Как не исчерпывается и философским познанием — умозрительным или, по меньшей мере, концептуальным, тогда как искусство никогда —даже если его и снабжают ярлыком «концептуализма» — таковым не является. И, наконец, приносимое искусством познание ничего общего не имеет с познанием наук, в том числе и называемых гуманитарными: необходимость доказательства ему чужда. Художественное познание — это, прежде всего, познание воображающее, изобразительное, образное, оно относится к тому, что Лакан называет воображаемым. Но в истоке своем оно принадлежит к тому же порядку, что и фантазм, сновидение, сновидение наяву; оно порождает вымыслы —разумеется, обладающие присущей культуре побудительной функцией, но по природе своей не подлежащие проверке реальностью. Воображаемое может служить объяснением творчества, но само по себе не предоставляет доступа к тому, что связывает творчество и истину. Ведь истина должна затрагивать нечто — нечто реальное, пусть даже испытываемое людьми желание истины.
Только в символическом и через символическое — каковое у художника всегда является изречением неизвестного ранее знака — воображаемое находит условия для того, чтобы выйти наружу и передаваться, а образ или греза, которые произведение искусства воплощает в творимом артефакте, ценой бесконечного недоразумения «говорят».
Вернемся к вопросу: откуда происходит нечто, преподносимое искусством познанию, и где оно обнаруживает свою действенность? В ответе, что его источником является самоанализ, который художник осуществляет в своих произведениях, особого смысла нет: самоанализ — всего лишь условие возможности художественного познания. Не больше смысла в ответе, что оно приходит — через самоанализ — из «глубин бессознательного»: этот ответ сводится к субстантивации бессознательного и к его представлению в виде сосуда, содержащего скрытый смысл, источник или причину некоего таящегося знания о себе. Ответ, что это нечто есть работа бессознательного, поднимает множество побочных проблем (например, чему в искусстве отдать приоритет—«свободе» первичных процессов или, наоборот, «сцеплению» вторичных?), но, что намного важнее, оставляет в неприкосновенности вопрос: откуда оно все-таки происходит?
В связи с этим уместно будет рассмотреть в качестве возможной модели самоанализ Фрейда — единственный убедительный исторический пример самоанализа, принесшего познавательные результаты. И прежде всего напомнить о том, что отличает очевидную автореферентность фрейдовского подхода от интроспекции Вундта. Когда Фрейд пишет Флиссу, что он нашел своего тирана и что тиран этот — психология, он уже понимает, что сей тиран не заставит его, подобно тому как заставил Вундта в «Началах физиологической психологии», строить объективную науку о субъекте. Приступая к работе над «Entwurf»1 и понимая, насколько результаты могут пошатнуть надежду укоренить психологию в нейрофизиологии, Фрейд уже знает — поскольку он уже опубликовал в соавторстве с Брейером «Исследования по истерии»,—что психологический тиран явился к нему из клинического опыта. И два владеющих им стремления — они же его собственные пределы, о которых он пишет в том же письме к Флиссу,—заключаются в том, чтобы «во-первых, выяснить, какая форма отражает теорию умственной работы при введении в нее понятия количества, своеобразной экономики нервных сил, и, во-вторых, извлечь из психопатологии некоторую пользу для нормальной психологии»2.
Вундт мог бы подписаться под первой программой, но никогда не подписался бы под второй. Признание подобного теоретического перехода между нормальным и патологическим поставило бы под сомнение декларировавшуюся им объективность интроспекции: как можно быть при этом уверенным, что наблюдение самого себя не приведет к теории, которая сама по себе будет патологической? И, наоборот, это признание является необходимой предпосылкой возможности самоанализа для того, кто хочет «выяснить, какая форма отражает теорию умственной работы»: здоровый субъект имеет в себе нечто патологическое— ненормальное, аномалию,—и это патологическое «знает больше» об умственной работе, чем знает о ней сам здоровый субъект — в том числе и субъект теории. Такова первая догадка, которая закладывает возможность самоанализа и даже делает его необходимым. Самоанализ — это, если угодно, форма интроспекции, но только свободная от иллюзии отражения или прозрачности. Гений Фрейда состоял в том, что он во всем — не только в клиническом наблюдении, но также и в наблюдении самого себя —ориентировался, помимо прочего, на собственное сопротивление. И что тем самым в первую очередь открывал? Факт сопротивления. Точно так же, когда истолкование сновидения об инъекции Ирме открывает ему, что в нем выразилось желание из его реальной жизни терапевта и теоретика, что он первым делом выводит из этого? Что сновидение осуществляет желание3.
Можно привести множество примеров того, как Фрейд извлекает из чего-либо необъяснимого, каковое, как он заключает по наблюдениям над собой или над своими пациентами, противопоставляет клиническому или теоретическому истолкованию неустранимую в данный момент темноту, следующий урок: эта темнота обладает значением как таковая, вне зависимости от того, что она скрывает. Разумеется, работа Фрейда на этом не прекращается: значимое препятствие всегда оказывается для него сигналом, который указывает дальнейший путь. И все-таки даже когда он вступает на этот путь, сигнал продолжает напоминать о себе именно в качестве сигнала. Этот автореферентный стержень очень характерен для фрейдовского подхода. Лакан продемонстрировал его родство с картезианским ме
тодическим сомнением4. Чувственные иллюзии, Бог-обманщик, сновидения — все заставляет меня сомневаться во всем, за исключением самого факта сомнения. И о том, в чем я сомневаюсь, я наверняка мыслю, а если я мыслю, следовательно, я существую,— такова, напомним, лакановская версия картезианского cogito. «Аналогичным образом,—продолжает Лакан,— Фрейд, когда он сомневается — ведь в конце концов это его сновидения, и сомневается в первую очередь он сам, —уверен, что дело при этом касается мысли, бессознательной мысли, то есть мысли, которая обнаруживается как отсутствующая. Именно на это место он призывает (когда имеет дело с другими) я мыслю, посредством которого должен заявить о себе субъект. То есть он уверен, что эта мысль там, скажем так, совершенно чиста от его я есмъ, лишь бы только — вот в чем скачок — кто-то мыслил на его месте»5. На этом аналогия заканчивается и «обнаруживается асимметрия Фрейда и Декарта». На время сделаем отсюда вывод, близкий к выводу Лакана: субъект, который обнаруживается на своем отсутствующем в рамках фрейдовского cogito месте,—а это тот же субъект, которого выявляет в его «функции истины» авторефе-рентное повторение самоанализа,—является не субъектом истины, а субъектом уверенности.
Отнюдь не предлагая рассматривать по модели фрейдовского самоанализа художественный самоанализ, отметим, что этот вывод, сделанный из первого, позволяет дать точную характеристику второго. Напрашивается знаменитый пример: «сомнение Сезанна», как превосходно выразился Мерло-Понти. Сезанн постоянно сомневается в своем восприятии (под восприятием здесь имеется в виду целиком сосредоточенное во взгляде бытие-в-мире), и это сомнение постоянно рождает уверенность, которую предоставляют нам его картины. Нет никакого смысла в том, чтобы называть «зрение» Сезанна истинным: живопись никогда не является простой передачей зрения, сезанновское восприятие не более и не менее истинно в живописи, чем перспективный код в картинах его предшественников. Но оно убедительно, убедительно и необходимо, убедительно в силу обоснованности сомнения, которое это «зрение», эта живопись, делали необходимым. В самом конце жизни, все так же сомневаясь («Приду ли я к цели, которой так долго искал и так упорно добивался?»), Сезанн дает Эмилю Бернару знаменитое обещание: «Я должен вам истину в живописи, и я вам ее скажу». Эти слова как раз и произносит субъект уверенности, и говорит он об истине. Уверенность и истина встречаются — в этом-то и состоит смысл разговора о самоанализе применительно к искусству в его «функции истины» — там, где автореферентность живописной практики, в то же время являющейся практикой жизни, становится отвлечением/откровением: «Он уверен в том, что жизнь не объясняет творчества, по уверен и в том, что творчество и жизнь сообщаются. Истина же в том, что это творчество потребовало этой жизни»6.
И все-таки откуда происходит нечто, преподносимое искусством познанию, это радикально новое «Так вот что это было!»? Из себя самого. Оно — sui generis1. Что ни в коей мере не означает, будто оно не имеет причины — например, в жизни художника, но означает, что единственным его «началом» является ось, согласно которой отвлекается субъективная причинность и посредством которой художественная автореферентность оказывается самоанализом. «Короче,— говорит Лакан,—причина есть только у того, что запинается. И фрейдовское бессознательное сосредоточено как раз в той точке, которую я только что попытался приблизительно вам указать,—в точке, где между причиной и тем, что она затрагивает, всегда случается запинка»8.
Это «сосредоточение» бессознательного в точке запинки— оборот речи, и для меня тоже будет оборотом речи (впрочем, значимым, коль скоро он не субстантивирует бессознательное), сосредоточение в этой же точке «начала» того, чтопроизведение искусства преподносит познанию. Если перейти теперь к эстетической теории, то понятно, что и присвоение искусству характера самоанализа — тоже не что иное, как оборот речи, отнюдь не означающий, будто я признаю фантастичную идею о том, что художник с успехом осуществляет некое лечение без помощи аналитика. Речь идет лишь о двух равноценных порядках опыта касательно этой точки. Этот оборот речи отвечает и на вопрос эвристического параллелизма, который, как я продолжаю настаивать, не является противозаконным перенесением психоаналитической доктрины в область эстетики: та точка, в которой Лакан «сосредоточивает» психоанализ, является также точкой, в которой мои параллели встречаются,—их точкой схода.
Остается второй вопрос: где нечто, преподносимое искусством познанию, раскрывает свою действенность? В данном случае параллели явно расходятся, и мы возвращаемся на территорию, которая, хотя и остается субъективной, несомненно является территорией эстетики и истории искусства. И тем не менее порядок поставленных проблем сохраняет связь с тем, что позволяет утверждать постулат искусства как самоанализа. Ведь нашей задачей остается обоснование художественного творчества, мыслимого в противопоставлении художественной продукции, то есть признание на теоретическом уровне того, что для всякого художника и для всякого ценителя искусства является ценнейшим в искусстве опытом,—его недетерминированности.
Прежде всего с удовлетворением отметим, что тезис «запинки» позволяет эстетику распрощаться со всеми эстетическими теориями, для которых смыслом истолкования является соотнесение следствия с его причиной или причинами. Будь это теории фрейдистской направленности, для которых произведение искусства — «следствие», а «причина» относится к порядку биографии, или марксистские, ищущие причину на уровне базиса, или смешанные, в любом случае они, как я уже говорил, остаются неизбывно детерминистскими: факт творчества попросту игнорируется ими, само это понятие упраздняется. Достаточно обратить внимание на популярность у фрейдистов и марксистов идеи сверхдетерминации, чтобы понять ее магическую функцию в их усердном стремлении заполнить одним словом зияние, которое в то же время они не могут не признавать и недооценивать в качестве эстетиков. Сколь же отличен этот обычай от употребления того же термина самим Фрейдом — подобно всякому хорошему ученому, детерминистом в том, что касается метода,— когда он усматривает «пуп сновидения» (вот вам еще один замечательный образ «точки запинки» или точки схода) как раз в точке его максимальной сверхдетерминации.
Далее же вновь зададимся вопросом: если произведение искусства приобретает достоверность и осуществляет свою функцию истины «в той точке, где между причиной и тем, что она затрагивает, всегда случается запинка», то в силу чего же оно преподносит некое познание за пределами невозможной геометрии этой солипсической точки? В силу чего его автореферентность, не замыкаясь в пределах голой тавтологии, оказывается плодотворной? Или, если прибегнуть к лакановской теории символического, в силу чего означающее, единственным значением которого является его бытие означающего, или именование, именующее исключительно свою именующую функцию, удерживают наше внимание, не повергая тотчас же в скуку? Ответ не в том, что нас очаровывает само это ритмичное появление. Ни византийское пристрастие ряда концептуалистов к тавтологии и автореферентности, ни столь же византийская склонность некоторых эпигонов Лакана к субстантивации означающего не убедят меня в том, что из подобного гипнотического очарования может родиться какое бы то ни было познание. Ответ совершенно в другом, и он прост, если учесть все теоретические выводы из сказанного выше. Эта авто-референтная «перекличка» не «self-contained»2, она проводит нас, хотя мы и не отдаем себе в этом отчета, через процесс истолкования, который мы можем, конечно, оценивать превратно и теоретизировать над ним как над причинной связью, но который на самом деле не имеет отношения ни к причине, ни к следствию3.
Познание, обеспечиваемое произведением искусства,— и это верно как для простого любителя, который не ищет познания, пригодного для описания, так и тем более для эстетика-историка искусства, который такового ищет, — отсылает одним движением и к преддверию причины, и к последствию следствия: к преддверию причины —то есть к ее условию, и к последствию следствия — то есть к его факту, существованию. Условие меньше, чем причина, а факт больше, чем следствие. Условие не определяет порядок выводов, а очерчивает поле возможностей. Оно ни к чему не принуждает, но и не допускает все, оно специфицирует то, что будет им допущено, или, точнее, оно специфицировало допущенное им. Именно таковы отношения произведения искусства с его «контекстом», со всем тем экономическим, социальным, идеологическим, личным, что оказывает давление на свободу художника: это не отношения следствия к его причинам, а отношения факта к его условиям. Если согласиться с этим, нетрудно признать реальность художественного творчества, ничуть не потеснив свободу творца. Более того, это позволяет примирить эстетика и историка искусства: первому, который, по сути, сделал своей профессией привычку любителя, больше нет нужды отстаивать независимость эстетических переживания и суждения от истории (так называемую вневременность произведения искусства) наперекор склонности второго объяснять именно историческими обстоятельствами и необходимостями произведение или стиль, значение которых кажется внеположным намерениям художников. Эстетик остается чувствителен к новизне (без которой, во всяком случае в модернизме, эстетический опыт немыслим), а историк искусства присматривается к новизне значимой. Он регистрирует факт произведения искусства (действительно сверхдетерминированный, если понимать под этим, что это произведение, коль скоро оно существует, тотально индивидуализировано — такой индивидуальностью, которую не под силу разрушить сколь угодно деконструктивному прочтению) и связывает его с историческими, социальными, идеологическими, личными или стилистическими условиями. Произведение тем более значимо исторически, чем больше условий его возникновения в нем звучит и чем более эти условия удалены от него. Вот что такое приносимое им познание: резонанс условий, которые сделали его возможным, лишь бы только сначала его заметили, а потом взялись толковать. И такова же его действенность, влияние искусства на действительность, что бы ни думали об этом марксисты: рождая отзвук исторических условий своего возникновения, произведение искусства подчас их меняет.
Откровения

ПРИШЛО время провести прямое, почленное сравнение «Перехода от девственницы к новобрачной» со сновидением об инъекции Ирме. Именно с этой картиной, которая возвещает переход и осуществляет его в живописи, Дюшан прекращает мечтать о своем становлении-живописцем и вырабатывает его формулу. Каким образом эта картина выявляет выход живописной практики в ее функции истины за рамки исполнения желания и достижение ею той точки отвлечения/откровения, в которой она заслуживает имени самоанализа? Вопрос, по-видимому, таков. Полем же, в котором он поднимается, является поле, где, в соответствии с тезисами, которые выше я попытался развить в теоретическом плане, скапливаются художественные факты и отзываются их условия. В интересующий нас момент это поле кубистской эстетики в ее связи с Сезанном. И наконец, наш вопрос требует определить методологию подхода к нему. Что ж, таковой останется методология эвристического параллелизма между искусством и сновидением — между этим искусством и этим сновидением. Начнем.
Два апогея
С точки зрения Лакана, сновидение об инъекции Ирме организуется вокруг двух решающих сцен — двух вершин или, как он говорит, двух апогеев. Вот они в тексте Фрейда:
1. — «Рот открывается, и я вижу справа большое белое
пятно, а немного поодаль странный нарост, похожий на носовую раковину; я вижу его сероватую кору».
2. —«...впрыснул ей препарат пропила —пропилен... про
пиленовую кислоту... триметиламин (формулу его я вижу ясно перед глазами)»4.
Две эти сцены носят характер откровения, подобного написанным на стене словам МЕНЕ, ТЕКЕЛ, ПЕРЕС2, как говорит Лакан. Он комментирует их следующим образом:
1. —«Здесь открывается перед нами самое ужасное — плоть, которая всегда скрыта от взоров, основание вещей, изнанка личины, лица, выделения во всей их красе, плоть, откуда исходит все, последняя основа всякой тайны [...]. Перед нами [...] явление образа, который внушает ужас, воплощая и соединяя в себе все то, что по праву можно назвать откровением реального в самом непроницаемом его существе, реального, не допускающего ни малейшего опосредования, реального окончательного — того объекта, который, собственно,
больше и не объект уже, а нечто такое, перед лицом чего все слова замирают, а понятия бессильны: объект страха по преимуществу».
2. — «Будучи своего рода оракулом, формула сама по себе не сообщает ответа на что бы то ни было. И лишь сама форма, в которой она преподносится, сам загадочный, герметичный характер ее дают на вопрос о смысле сновидения настоящий ответ. Сформулировать же его можно по образцу известной исламской формулы: „Нет Бога, кроме Бога“. Нет другого слова, другого решения вашей проблемы, кроме самого слова [•••]• Нет другого слова в сновидении, кроме самой природы символического»3.
Между двумя этими сценами Фрейд, толкуя свое сновидение, идет от откровения реального к откровению символического, оставляя скрытым за ними изменчивое, подобно Протею, эго воображаемого. В совокупности обе они участвуют в том процессе отвлечения/откровения, в котором мы, по следам Фрейда и Лакана, будем усматривать ключевой «момент самоанализа»: «Нам нет нужды в дальнейших указаниях на его самоанализ, тем более что в письмах к Флиссу он говорит о нем скорее намеками, нежели открыто. Он живет в томительной атмосфере, чувствуя опасность, которую несет в себе сделанное им открытие. Весь смысл сновидения об инъекции Ирме с глубиной этого переживания непосредственно связан. Сновидение включено в это переживание, оно является его этапом. Оно органически входит, именно в качестве сновидения, в сам процесс фрейдовского открытия...»5.
Случайно или нет, но в некоторых местах комментарий Лакана звучит как дословное истолкование опыта «Перехода от девственницы к новобрачной». Как я уже не раз говорил, эта картина — самая странная, самая озадачивающая, самая unheimliche5 у Дюшана этого периода, а, возможно, и во всем его творчестве. Подобно горлу Ирмы в сновидении, она демонстрирует бесформенную плоть, разорванное на куски изображение, тело без кожи, основу некоего неименуемого реального, перед которым отступают слова. Но они вновь обретают силу—и это второй апогей как сновидения, так и «Перехода»,—в момент появления символического как такового: «В момент, когда гидра потеряла все свои головы, голос, который теперь ничей, выводит формулу триметилами-на как окончательное, всему подводящее итог слово. И все, что слово это хочет сказать, сводится к тому, что оно не что иное, как слово»6.
У Дюшана — даже не слово, а просто означающее, черта, штрих. Как мы видели, это нечто возникает в момент нерешительности, когда картина, которую еще предстоит написать, уже является картиной высказанной, в момент перехода, когда субъект — этот «голос, который теперь ничей» — переступает черту и в то же время проводит ее в качестве черты различительной: девственница/новобрачная, девственница/член, живописать/вешать, путник/Не сестра!, Сезанн/Сюзанна — сколько средств приближения, возможностей проткнуть словами, которые его — субъект — очерчивают, черту, которая их разделяет.
Но как в сновидении, так и в картине реальным и символическим дело не исчерпывается: свою роль играет и воображаемое, образное. В начале сновидения есть толпа: «много гостей», среди которых Фрейд сразу находит Ирму и отводит ее в сторону. Карьера Дюшана тоже начинается с толпы «гостей», столь же близко знакомых художнику фигур и стилей, среди которых он после некоторых колебаний выделяет одну из фигур живописи, которая, как и Ирма для Фрейда, является объектом его забот,—кубизм. Для Дюшана он —не что иное, как позволение пойти наперекор Сезанну, пощадив при этом Сюзанну. Приобщившись к кубизму не в качестве изобретателя (как Пикассо) и не в качестве создателя доктрины (как Глез и Метценже), Дюшан сразу, начиная с «Портрета игроков в шахматы», занимает по отношению к нему скептическую и ироническую позицию, которая весьма противоречивым путем приведет его к тому, что, оставаясь еще в кругу кубистов, он предложит «некубистский выход из кубистского тупика»—я имею в виду «Обнаженную, спускающуюся по лестнице, №2». К парижским представителям кубизма он испытывает ту же обиду «заботившегося», что и Фрейд — к Ирме: после отклонения «Обнаженной» Салоном Независимых у него есть все основания упрекать их в том, что они «не приняли его решения».
Причем это «решение» отмечено в живописной практике Дюшана той же семантической двусмысленностью, что и в сновидении Фрейда. Там Lôsung7, отвергнутое Ирмой, уже на вербальном уровне предвещает химический раствор на базе триметилами-на, инъекцию которого сделал ей Отто, —тот самый, который затем явится Фрейду как формула, как теоретическое разрешение тайны сновидения. К этому добавляются обонятельные коннотации триметил-амина, возможно, напомнившие Фрейду о других подходах к теории сексуальности, в частности о подходе Флисса, его друга и соперника. Дюшановское «решение» складывается из тройной (терапевтико-химико-теоретической) семантической сети аналогий. Оно охватывает все, способствующее переходу от живописи как «обонятельной мастурбации» к живописи как «живописному номинализму». И дальнейший путь художника будет связан с рядом существенных сдвигов, на которых я еще остановлюсь.
Толкуя персонаж Ирмы, Фрейд отмечает, что она вступает в серию замещений: ее подруга, которая могла бы быть его пациенткой; гувернантка, прячущая зубной протез; его собственная жена; умершая больная по имени Матильда и, наконец, старшая дочь Фрейда — «эта Матильда вместо той Матильды». Перечисляя звенья этой заместительной серии, которая кажется ему недостаточной для обнаружения скрытого смысла сновидения, Фрейд внезапно останавливается, отметает свой страх, выбирает не раздумывая трех женщин и поясняет в примечании: «Если бы я стал производить сравнение трех женщин, я бы далеко уклонился в сторону»8. Лакан вновь приводит текст и примечание к их «точке схода», к их общему смыслу, теоретически сформулированному Фрейдом позднее, в «Теме трех шкатулок»: «В конечном счете за ними стоит смерть, вот и все»9. Три ларца, три женщины, три сестры — работа этой заместительной серии у Дюшана нам знакома: Сюзанна, Ивонна и Магдалена; мать и невестки; девственницы и новобрачные; дева и повешенная самка и, наконец, в точке пупа — Сюзанна/Сезанн с решительной чертой выбора: родиться живописцем или ТС быть живописцем. Если только в конечном счете ^ними, как и у Фрейда, не стоит «смерть, вот и все». Иначе говоря, если выбор не предрешен: что значит
одиться живописцем», если живопись умерла? Таков еще один существенный вопрос, к которому я вернусь позднее, сейчас ограничившись указанием на то, что именно в Мюнхене —в момент, когда поднимается этот вопрос,—живопись Дюшана впервые выходит на уровень кошмарного видения, или «окончательного реального».
Миновав первую вершину сновидения, «Фрейд апеллирует, — говорит Лакан,—к консенсусу себе подобных». Тут же появляется еще одна серия фи-гур — на сей раз мужских: д-р М., друзья-медики Отто и Леопольд и вскоре, призванный ассоциациями, весь факультет —однокашники, которых Фрейд собирает отовсюду вплоть до Египта ради того лишь, чтобы посмеяться над ними и отомстить им. Также присутствуют инспектор Брезиг и его друг Карл, Флисс, сам Фрейд, его старшие братья Филипп и (добавленный Лаканом) Иммануил. «Знаменательны же эти персонажи тем, что воплощают собой ту идентификацию, в которой и заключается формирование эго. [...] вмешательство субъектов. [...] Этих Я появляется на наших глазах целый ряд. [...] Речь идет в буквальном смысле о спектральном разложении функции Я», каковое «очевидно является разложением воображаемым»6.
Эту вторую заместительную серию мы также встречаем у Дюшана на всем протяжении его, говоря словами Шварца, «процесса индивидуации». Она связывает отца Дюшана и «Сезанна-отца», старших братьев Гастона и Раймона, а вместе с ними всю кубистскую группировку, «Игроков в шахматы» и «Короля», «Обнаженную, спускающуюся по лестнице» и «Грустного молодого человека» — короче говоря целое множество холостяков. И, как мы видели, она' играет в точности ту же роль, что и «мужская» толпа в сновидении Фрейда — роль «воображаемого спектрального разложения», то есть разложения, производимого элементарным параллелизмом «Грустного молодого человека» и «Обнаженной №2», которое в «Переходе от девственницы к новобрачной» приводит к тем же самым распаду, fading, Я и появлению я, что и вторжение азотного радикала в формулу триметиламина.
Тот же радикал AZ (как, играя словами, называет его Лакан, чтобы подчеркнуть «альфу и омегу дела») обозначает и я Дюшана, когда оно, уже не будучи следствием индивидуации, вовлекающей в себя отцов, братьев и чаемое братство студентов-медиков и живописцев, пронизывает «ничей голос», изрекающий то, что Дюшан назовет позднее «первыми словами». Разве не очевидно, что в этой химической формуле N —СН3 присутствует то же умножение на 3 и снова на 3, что и в «девяти мужематрицах» из «Большого стекла», где воображаемая личность Дюшана раскалывается тем самым на девять символических персонажей? И что эта «матрица Эроса», называемая также «кладбищем мундиров и ливрей», напрямую отсылает к «альфе и омеге дела», к рождению и смерти, к Эросу и Танатосу?
Будем, однако, придерживаться строгого параллелизма, не поддаваясь чарам этого двойного совпадения. Теперь, когда намечен пучок параллелей между мюнхенским периодом в творчестве Дюшана и сновидением об инъекции Ирме — параллелей, которые позволяют выявить, с одной стороны, самоанали-тическое отвлечение, включающее две стадии (от-
овение реального и откровение символического), а^с другой — конструкцию воображаемого, составляе-3 ую двумя сериями женских и мужских фигур, каж-я из которых направлена к таинственной точке, где ело идет о жизни и смерти, о рождении живописцем и смерти живописи,—самое время заняться проблемами, которые наш параллелизм поднимает в том особом поле, где произведения искусства становятся проводниками познания,—еще до причины и уже после следствия.
Дюшан и кубизм
В августе 1912 года территорию художественных условий, в которых отзывается факт «Перехода от девственницы к новобрачной», определяет кубизм — точнее, характер осмысления кубизмом самого себя в этот важный момент своей истории, когда он достигает стилистической зрелости и начинает дробиться. Контекст, в котором эта картина возникает и выделяется на общем фоне, образуют не столько кубистские произведения, сколько их интерпретации, по горячим следам предлагаемые глашатаями движения—в основном, теми же художниками и критиками. На этом, если можно так выразиться, «горизонте ближайших ожиданий», на фоне «первого приема» кубизма12 и следует рассматривать «Переход», если мы хотим увидеть выявляемые двойным откровением реального и символического, которое он осуществляет, условия его собственного появления.
Брак и Пикассо, как известно, ограничивались живописью и презрительно относились к теориям. Заручившись поддержкой Канвейлера, они воздерживались от заявлений и предпочитали не ввязы-
Ср.: Jams H. R. Pour une esthétique de la réception. Paris: Gallimard, >978.
ваться в пропаганду нового «изма», рождению которого они, таким образом, содействовали поневоле Глез и Метценже, напротив, пустились в многословные разъяснения. Создававшаяся ими в îgn-igig годах книга «О кубизме» анонсировалась в марте, затем в октябре 1912-го и, наконец, в декабре вышла в свет.
В первых же ее строках авторы выдвигают тезис проходящий красной нитью через всю художественную критику эпохи: кубизм —это реализм. Этим определяется линия преемственности, которая послужит основой первого приема кубизма: «Чтобы оценить значение кубизма, следует вернуться к Гюставу Курбе»13. В свою очередь, это историческое родство подсказывает теоретическую парадигму—согласно которой живопись есть видение,—предоставляющую кубистскому реализму гарантию отличия от реализмов прошлого. Так, импрессионизм и неоимпрессионизм попадают под обвинение в том, что остались пленниками натурализма. Устанавливается первое уравнение, дающее крайне упрощенную трактовку истории, но при этом помещающее кубистский проект в сложную и противоречивую перспективу. Оно отождествляет натурализм, или, в терминологии Глеза и Метценже, «поверхностный реализм», с тем, что Дюшан в полном согласии со своим окружением будет называть «живописью сетчатки». Подчеркнем: в его отказе от «живописи сетчатки» нет ни малейшей оригинальности, ибо самые что ни на есть ортодоксальные кубисты Глез и Метценже тоже обвиняли Курбе в том, что он «без всякого интеллектуального контроля принимал впечатления, которые передала ему сетчатка»14. Соединяя несоединимое, это суждение делает кубизм противоречивым проектом, который, с одной стороны, объявляет о своей приверженности реализму, а вместе с ним и к «сетчаточной» традиции, а с другой — требует подвергать впечатления сетчатки «интеллектуальному контролю». Глез и Метценже «разрешают» это противоречие, назначая другим важнейшим историческим предшественником кубизма Сезанна, который, по их мнению, открыл возможность дуализма: «Реалистическое направление раздваивается на поверхностный реализм и глубокий реализм. К первому относятся импрессионисты, ко второму —Сезанн»15. В чем же заключается «глубокий реализм» Сезанна? Авторы явно не могут охарактеризовать его иначе, нежели с помощью того же противоречия «сетчаточного» и «интеллектуального» как противоречия, которое искусством Сезанна удостоверяется и затем, связанное с именем Сезанна, утверждается уже как историческое завоевание: искусство Сезанна «неопровержимо доказывает, что живопись не сводится — или уже не сводится — к стремлению повторить предмет с помощью линий и красок, но наделяет пластическим сознанием наш инстинкт. Тот, кто понимает Сезанна, уже предчувствует кубизм»7.
В последней фразе указана нить, навсегда связывающая кубистскую теорию с мифическим, заветным происхождением: «предчувствие», рожденное «пониманием» Сезанна. Почему я говорю «мифическим»? Не потому, что Глез и Метценже так уж плохо понимают Сезанна сами. В конце концов, выводя из его творчества идею живописного пространства, соперничающего с пространством иллюзионистским, они довольно корректно выражают сделанное Сезанном в словах. Скорее уж потому, что тайна Сезанна вовсе не в этом и вообще невозможно живописать и теоретически обосновывать одну и ту же тайну одновременно. Да, живопись Сезанна порождает кубизм, который интерпретирует эту тайну живописными средствами. Но порождать в то же время теорию, которая разъясняла бы ее на словах, она не может. Даже у самих Глеза и Метценже — более теоретиков, чем живописцев, пишущих картины, которые по большому счету иллюстрируют их собственные тексты,—чувствуется разрыв между предчувствием, устремленным в будущее двигателем живописной практики, и пониманием —ретроспективным дискурсом, призванным ее обосновать.
В эпоху, о которой мы говорим, этот разрыв и обозначается именем Сезанна. Как и приписываемый ему «глубокий реализм», Сезанн упоминается не иначе, как во имя — и вместо — идущего процесса интерпретации его искусства. Вот почему все критики как один поют в унисон о кубизме как глубоком реализме, никак это выражение не разъясняя. Мишель Пюи говорит об «объективной истине», Оли-вье-Уркад — об «ощутимой истине», Александр Мер-серо —об «абсолютной истине наперекор кажущейся реальности». Но, сколько бы они ни подставляли «истину» на место «реальности», все равно это только слова, оставляющие нераскрытым противоречие, решающий характер которого чувствует — или предчувствует — эпоха: либо живопись, повинующаяся не столько созерцаемой вещи, сколько глазу, предается наслаждению «впечатления» или «ощущения», отвергает всякий реализм, утверждает самостоятельность картинной поверхности и погружается в декоративность; либо же она сохраняет повиновение природе, рискуя остаться преданной более или менее «фотографической» репродукции линий и красок и отказывается претендовать на что-либо, кроме механической, лишенной самостоятельности, передачи видимого. Как добиться того, чтобы живопись осуществляла обе эти возможности, ни одной из них не упуская? Как обосновать то, что историческая задача кубизма — сделать их если не совместимыми, то хотя бы неразделимыми в самой своей противоречивости? В таких или варьирующих эту же тему терминах кубизм в 1912 году «воспринимает» свою собственную тайну.
Чего это восприятие — за исключением, разве что, феноменологии зрения, которая начинает теоретическое развитие в это же время (Гуссерль), но о приложении которой к Сезанну и последующей живописи задумаются (например, Мерло-Понти) лишь намного позднее,—не замечает, так это что «сетчаточное» имеет почти одинаковую нагрузку на обоих полюсах оппозиции и что в сближении «ощущения» и «повторения» ради противопоставления им обоим истинного «пластического сознания» нет ни малейшего смысла. Откуда может взяться истина в живописи, если не из взгляда и новой концепции взгляда, обязывающей к пересмотру взаимоотношений между смотрящим субъектом и объектом смотрения?
И в этом же 1912 году, не дождавшись интерпретации, дуализм «поверхностного реализма» (импрессионизм) и «глубинного реализма» (Сезанн и кубизм) перерабатывается в дуализм еще более грубый. Его «каноническую» формулу выдвинул Аполлинер: «Кубизм — это искусство живописать новые совокупности, элементы которых берутся уже не из реальности зрения, но из реальности представления»8. Это выражение сразу стало знаменитым: таким же или с незначительными вариациями мы встречаем его у Андре Сальмона, Мориса Рейналя и других авторов Вскоре его подхватит Фернан Леже, недвусмысленно при этом связав с именем Сезанна «момент, когда встретились две великих живописных концепции — зрительный реализм и реализм представления: первый—на излете своей дуги, обнимающей всю старую живопись вплоть до импрессионистов, второй — реализм представления — при связанных с теми же импрессионистами первых шагах»9.
Этот прием кубизма в качестве «реализма представления» тем более характерен для отношения к нему в конце лета 1912 года, что он содержит в себе зерно неминуемого раскола. Одни станут трактовать его в смысле реализма, то есть определенной верности изображаемому предмету, другие же —в смысле представления, то есть чистой живописи, абстракции, il октября, на следующий день после открытия салона «Золотое сечение» и приезда Дюшана в Мюнхен, Аполлинер выступает со знаменитой лекцией «Четвертование кубизма», в которой разделяет — впрочем, весьма произвольно — четыре тенденции: научный, физический, орфический и инстинктивный кубизм. И уже тогда отдает свое предпочтение орфизму, который будет «официально» окрещен им в январе 1913 года и в котором он видит решительный переход к «чистой живописи».
Вот что, однако, примечательно: в «Четвертовании кубизма» к «орфическому кубизму» относится Аполлинером не только Делоне, что очевидно, но и «свет произведений Пикассо» (только свет) и, что еще удивительнее, Фернан Леже, Франсис Пика-биа и Марсель Дюшан10. Поэт и художественный критик, которого часто упрекали в недостаточной для
итика строгости, высказывает здесь, судя по всему, Кдну из тех необъяснимых догадок (в другой раз он скажет, что Марселю Дюшану суждено-де будет «при-ирить Искусство и Народ»), которые при всех своих внешних признаках необдуманности оказались очень точными позднее, в существенно изменившемся теоретическом контексте. Объединять Дюшана (и Пика-биа) с художником симультанных контрастов кажется насквозь абсурдной идеей. Однако их связывает то что в это время они оба отходят от кубизма и одним из определяющих элементов их перехода к чему-то новому —Делоне к симультанному искусству, Дюшана к «Большому стеклу» и реди-мейдам— является рефлексия над новым статусом цвета, одновременно постимпрессионистская и посткубистская. Эта неожиданная аналогия еще ждет своего объяснения, и позднее мы к ней вернемся.
По высказываниям Дюшана о «сетчаточной живописи», «сером веществе», «глупости живописца» и т.д. можно —как это почти всегда до сих пор и делалось — составить образ человека, который с изрядным презрением относится к живописи или по меньшей мере считает, что благородная цель, поставленная перед живописью Леонардо в ее определении как cosa mentale20, оказалась грубо предана начавшимся с Курбе низведением живописца до уровня глаза, а глаза —до уровня фотопластинки. Как бы эти выводы ни трактовались — в пользу Дюшана или против него,—они ошибочны. Противопоставляя визуальное и концептуальное, сетчатку и серое вещество, он всего лишь по-своему повторяет то, что в 1912 году было не более чем одним из общих мест в рамках приема кубизма современниками. Да, он выводит это общее место — например, в позднейших интервью,—далеко за пределы возлагавшихся на кубизм надежд, и его постоянное обращение к парадигме визуального/концептуального может вселить иллюзию, будто он ее автор и его искусство действительно объясняется ею. Но надо заметить, что на сей раз слова Дюшана мало согласуются с его действиями. Ду. маю, я достаточно убедительно показал, что все «кубистские» произведения Дюшана могут быть поняты исключительно сквозь призму страстного желания стать живописцем. Поэтому было бы непростительным упрощением считать, что его «отказ» от живописи — случившийся сразу после Мюнхена — объясняется внезапным и безоговорочным предпочтением концептуального визуальному. Здесь напрашивается иная, более сложная гипотеза.
Прежде всего следует признать, что Дюшан был более, нежели сам он впоследствии признавал, подвержен влиянию теорий Глеза и Метценже. Если только последние не испытали его влияния. Идеи, отстаиваемые в книге «О кубизме», несомненно, многим обязаны спорам, ведшимся в «группе Пюто», собрания которой, как мы знаем, Дюшан усердно посещал. Насколько активна там была его роль, какие собственные идеи подсказал он, возможно, коллегам и насколько покорно поддался, в свою очередь, их влиянию,—все это остается в области предположений. Понимал ли он, что его с ними разделяет, или пока что бессознательно воздерживался от того, чтобы развивать общую теоретическую основу в ином направлении? Ничто в его заявлениях не дает ответа на эти вопросы. Поэтому стоит отойти от словесной цепочки речений Дюшана и сосредоточиться на цепочке его шагов, действий. Если он и впрямь рано осознал кубистский тупик, это должно было отразиться в его работах. И мы действительно это видели: что такое его «кубистские» произведения, если не серия отступлений от нормы кубизма, какою она в теории и на практике поддерживалась «группой Пюто»? Эти отступления суммированы в двух «сценах» открытого расхождения: я имею в виду отклонение «Обнаженной» Салоном Независимых и отъезд Дюшана в Мюнхен. А с живописной точки зрения по «Переходу от девственницы к новобрачной» очевидно, что в нем, как и в предыдущих картинах, которым он дает окончательное истолкование, нет и малейшего доверия к теории, определяющей (кубистскую) живопись как реализм представления. Ничто в построении «Перехода» не напоминает о противопоставлении визуального и концептуального. Картина говорит то, что она делает, и делает то, что говорит, она —осмысление образа и в равной степени образ мысли, она великолепна и визуально, и концептуально, она делает куда больше, нежели просто «наделяет пластическим сознанием наш инстинкт», она открывает и отвлекает «пластическое бессознательное», побегом которого является.
Иначе говоря, эта картина выступает своей собственной теорией и своим собственным теоретиком. Сколько бы ее автор ни подписывался — неважно, открыто или молча,—под идеологиями современников, отдающими приоритет «реализму представления», она знает, что источником запинки в интерпретации кубизма кубистами является не ошибочный или верный акцент на представлении, а некритическая привязанность к понятию реализма, которое привлекается ею без интерпретации.
Реальное
После Сезанна всякий реалистический проект неизбежно оказывается проектом реставрации — по той парадоксальной причине, что таковым был и проект, выдвинутый им самим. Сезанн никогда не стремился быть революционером в живописи, которым объявила его история. «Воссоздать Пуссена согласно природе» — вот как звучало его притязание: воссоздать классицизм в исторических условиях, которые сделали его невозможным. Очевидно, что выражение «согласно природе» родом из импрессионистской «живописи мотива», из лексикона Писсарро, пленэризма и в конечном счете Курбе. Если «реализм» обозначает «сетчаточную живопись», тогда Сезанн —такой же реалист, как и Курбе, тем более что он восхищался последним за совершенную верность руки впечатлениям сетчатки и, напротив, презирал барбизонцев за «риторику пейзажа», за склонность к упорядоченности, за «механизацию картины». Тогда как «воссоздать Пуссена» значило для Сезанна дополнить это непоколебимое доверие к сетчатке радикальным сомнением, которое — через посредство Пуссена —подтачивало и в то же время поддерживало его собственное желание классицизма. Пресловутое сомнение Сезанна касается законности классического изображения, которое он постоянно в чем-то подозревает: старый перспективный строй более не действует, его мнимая естественность — не что иное, как механистичность. Каким же может быть фундамент для его воссоздания? Гений Сезанна заключался в том, что он пошел в своем сомнении до конца, поняв, что предельная верность сетчатки объекту ничего не стоит, если объект не порождает собственное пространство вокруг себя без оглядки на принятые конвенции линейной перспективы, и, кроме того, выявил живописными средствами теоретическое содержание этой программы — закладку основ новой эпистемологии субъекта, ни больше, ни меньше. Этому субъекту, которого классическая философия определяла как res cogitant вне времени и пространства, а соответствующая ей теория живописи помещала на вершине зрительной пирамиды в качестве властелина видимого, теперь нужно было вернуть тело и вновь погрузить имманентную глубину мира, расположив его на по-В пхности картины, бок о бок с ее фигурами, в ее пропанстве. Живопись перестала представлять види-мое как зрелище для внеположного ей созерцателя, она взялась показать сам акт видения созерцателю-созерцаемому, хиастически вовлеченному в складки зримого11.
Неоднократно в различных формулировках говорилось (и вполне справедливо): творчество Сезанна является поворотным моментом в истории живописи одновременно основополагающим и подводящим итоги. Особенно часто его интерпретировали как возврат к чистому листу, как объявление начала, установление отправной точки для живописной современности, которая в скором времени растворила и субъект, и объект живописи в значимой поверхности картины. Но теперь, на чуть большем расстоянии от него, можно интерпретировать его и по-другому — как последнюю жизнеспособную попытку сохранить поверхность картины как значимую глубину в точке противоречивого скрещения, где феноменальная глубина мира вторгается в психологическую глубину воспринимающего субъекта12. Ведь Сезанн дорожит тем, что придавало систематичность классическому изображению, — фундаментальной солидарностью мира и субъекта. Ну и что, что она уже не определяется конвенциями, которые преподносили мир, словно дожидающееся землемера поле, взгляду субъекта с замашками всемогущего глаза,— тем не менее для того, кто хочет «воссоздать Пуссена», реставрация одного требует сохранения другого. Именно потому, что устремление Сезанна было глубоко консервативным, его сомнение принесло общепризнанные новаторские плоды. Ему хотелось снабдить классический порядок новым фундаментом, а для этого потребовалось установить на новых основаниях солидарность-видимого мира и видящего субъекта, пусть и ценой тотального пересмотра как первого, так и второго. В каждое мгновение своей работы Сезанн задавался двумя неразделимыми для него вопросами: что такое мир, если мое зрение, сформированное зрением предшественников-художников, более не уверено в его реальности? И — кто такой я сам, если мое отражение в зеркале дрожит, сомневаясь в своей объективности? С одинаковым упрямством он спрашивал об этом свой собственный портрет, яблоко, гору. Субъективность фигуры, объективность вещи, законность пространства должны были родиться из одного вопрошания и вырасти на картине его общим следствием. Восстановление классического порядка, пусть и во всем отличного от пуссеновского, требовало этого единства.
Из этого краткого анализа свершений Сезанна мы можем извлечь два вывода. Первый сводится к тому, что невозможно установить преемственность между ним и реалистическим проектом. Последний познавал свое «реальное», чтобы поместить его в мире в качестве референта. «Реальное» Курбе — это существующее зримое, к которому отсылает картина. «Реальное» же Сезанна не внеположно поверхности картины. Его не удалось бы отыскать в мире как некий референтный объект, поскольку сам мир вместе со всем, что принадлежит ему в объектах и даже в пространстве, всецело проблематизирован и субъективирован. Поэтому, претендуя на статус реализма, кубизм выдает непонимание урока Сезанна.
А вот второй вывод: сезанновский момент, одновременно основополагающий и воссоздающий,—это момент наивысшей теоретизации в истории модернистской живописи, но вместе с тем и момент наивысшей неустойчивости. На грани между одним живописным порядком, которого более не существует, и другим, первопроходцем которого объявляет себя Сезанн, его живопись предписывает своим последователям историческую необратимость, от которой она сама, пребывая на грани, еще может ускользнуть. Сезанн завершает Пуссена во всех смыслах этого слова: доводит его до совершенства, до конца, и убивает его. После него единство мира и субъекта не может быть целью для живописцев иначе, нежели в качестве формальной регрессии, бездумной верности порядку Изображения, конечное выражение которого он дал. Современность пожинает наследие Сезанна как альтернативу: либо я активно разрушаю объект, фигуру и все сопутствующее им правдоподобие, с тем чтобы сохранить остатки своей субъективной целостности; я должен разрушать изображаемую реальность, иного выбора нет, но, по крайней мере, разрушая ее, я останусь ее властелином. Либо я соглашаюсь принести в жертву свое субъективное единство, мирюсь с многозначностью образов своего я, а взамен получаю не подверженный изменению псевдообъект, самодостаточную эпифанию мира, который меня исключает.
Второй из этих двух путей, открытых двойным вопросом Сезанна, несомненно, является более «современным». Это путь all-over13 Поллока и «Опе-ment»14 Барнета Ньюмана, путь минимализма, поп-арта и гиперреализма. Отнюдь не случайно, что в 195°-19бо-е годы эти направления «воспринимали» творчество Дюшана в качестве альтернативы историческому авангарду, наследовавшему имени Сезанна. Первый же путь —это путь кубизма и посткубистской абстракции. Объявив себя реализмом и, в частности, реализмом представления, ортодоксальный кубизм стремился не столько к тому, как наивно полагали некоторые, чтобы изображать объект таким, каков он-есть, сколько к самоубеждению в том, что субъект сохранил свой прежний статус — остался властелином своего перцептивного поля, уверенным в собственной идентичности. Ценой поддержки этого фантаз-ма было активное разрушение феноменального мира под видом анализа объекта, к которому приложили усилия даже Пикассо и Брак в период так называемого герметического кубизма. Другие, более идеологи, чем в полном смысле слова живописцы или теоретики, пытались придать ему философскую убедительность. Третьи —среди них Канвейлер —рассчитывали усмотреть в «синтетической» фазе движения, сменившей разложение объекта, возвращение некоего вновь получившего законный статус классицизма. Надежда, не лишенная состоятельности: после спасения in extremis26 целостности субъекта вполне могла быть восстановлена и целостность объекта. Это восстановление вполне могло вселить иллюзию истинной верности Сезанну и подстегнуть фантазм подлинно современного классицизма; сегодня, впрочем, понятно, насколько она была исторически регрессивной — об этом свидетельствует эволюция Дерена после его отхода от кубизма и неоклассическое творчество Пикассо 1920-х годов. Хотя кубизм создал множество отдельных шедевров, его общеисторический вклад для тех, кто со временем его оставил, сводится к роли переходного искусства.
Знал ли об этом в августе 1912 года Дюшан? Вопрос остается открытым, поскольку его творчество говорит в пользу положительного ответа. Ни одно из его «кубистских» произведений не отмечено анализом объекта, визуальным или концептуальным. Практика «раскалывания» у Дюшана неизменно направлена на субъектов — на сестер, братьев, на себя самого,— которые,как мы выяснили, все как один играли свою метафорическую роль в воображаемом формировании его индивидуальности живописца. Ни мать, ни отец художника, ни его братья и сестры, ни тем более Сюзанна не выступали для него референтами в мире. «Реальное» Дюшана —это не реальное реалистов. Но и не реальное Сезанна, не явление мира в автономных пределах картины. Тем более, не та «регулятивная схема», на которую неосезаннисты вроде Андре Лота возложили функцию опосредования на поверхности воображаемых взаимоотношений созерцающего и созерцаемого. Реальное Дюшана возникает там, где всякая регуляция прекращается. Его определение строго соответствует лакановскому: реальное — это невозможное, последняя веха, где Я в его желаемой целостности растворяется, изнанка лица или зеркала, ужасное или страшное видение, в которое воображаемому не удается внести связность и которому еще не дает имени символическое.
Это реальное — не «реальность»: не совокупность обозначенных в их грубом существовании вещей, не природа и не мир или горизонт, в которых жительствует субъект. Оно неустойчиво, лишено поддержки, памяти и имени. Оно не визуально, так как перцептивные активность или пассивность не находят в нем для себя зацепок; психологи восприятия сказали бы, что по отношению к нему нельзя выдвинуть гипотезу постоянства. Но оно и не концептуально, ибо не имеет даже имени, будучи прежде образования какого-либо понятия. Понимаемое так реальное может быть описано лишь с помощью мифологических приближений, как, например, хаос — хаосмос — библейского Бытия, смешение до разделения земли и воды, до именования видов и до человеческого присутствия.
Если не может быть описания, то не может быть и опыта такого реального, если только это не опыт психотика. Однако возможны его явление и откровение, как говорит сам Лакан в связи с первым апогеем сновидения об инъекции Ирме. И этот вывод вполне может быть приложен к явлению в «Переходе от девственницы к новобрачной» —к тому «явлению», в котором Дюшан позднее будет настойчиво подчеркивать отличие от «видимости». Картина, несомненно, показывает некоторую видимость, подобно тому как рассказ Фрейда о его сновидении в конечном итоге именует неименуемое. Только истолкование, а в случае сновидения — истолкование второго порядка, предпринимаемое по следам Фрейда Лаканом, позволяет опознать откровение безымянного реального в том, что Фрейд называет «носовой раковиной» или «сероватой корой». Это истолкование скрепляется страхом, сигналом страха, который обнаруживается в рассказе сновидения и его истолковании Фрейдом. В случае Дюшана мы не располагаем подобного рода сигналом, который мог бы быть отмечен в биографическом рассказе о периоде создания «Перехода» или в его позднейшей живописной интерпретации и недвусмысленно отсылал бы к нему. У нас есть лишь мелкие и, в общем, не подвластные проверке признаки: упоминаемый биографами кошмар15 или, что, пожалуй, более существенно, само название картины, отсылающее к фундаментальному страху первой половой связи, невозможной Связи, поскольку она имеет место в четвертом измерении и соединяет холостяков с девственницей/новобрачной,—связи, стало быть, реальной, коль скоро реальное—это невозможное. Доверимся же им и попытаемся разглядеть за видимостью картины «явление, служащее ее матрицей».
Почему это явление реального, завершающее «кубистский» период Дюшана, дает радикально отличное от общепринятого толкование кубистского тупика? И почему оно делает Дюшана истинным теоретическим наследником Сезанна, «разрешая» его эдиповский конфликт с «отцом» кубизма? Потому что вместо того, чтобы, подобно ортодоксальным кубистам, обезвреживать урок Сезанна, искать в нем позитивную составляющую, Дюшан подхватывает сезанновское противоречие и доводит его до собственной невозможности.
1. — Сезанн завершает Пуссена, создает последнюю
жизнеспособную версию классической теории живописи, предполагающей соприрод-ность субъекта и мира. Но создает ее, совершая по отношению к Пуссену величайшее насилие, открыто признавая крушение классического Изображения и, так сказать, удерживая взаимоисключающие термины — субъект и мир — вместе при условии того, что это будут не классические субъект и мир, а мир как горизонт и субъект как бытие-в-мире новейшей феноменологии.
2. —Кубисты принимают сезанновское противоречие
в форме альтернативы, лишь один термин которой становится предметом их разработки: они пытаются спасти или восстановить самообладание и единство классического субъекта ценой активного разложения объектного мира. Отсюда — коренное заблуждение, заставляющее их считать Сезанна «глубоким реалистом», а себя самих — «реалистами представления».
3- — Дюшан делает следующий шаг в заданном Сезанном направлении, понимая, что после него на развалинах классического Изображения уже не может быть выстроен никакой классицизм. Это противоречие более не может сохранять жизнеспособность, и кубисты всего-навсего искусственно продлевают его век — подпадая под определение академизма,—путем раскола сезанновского противоречия надвое. Истинное теоретическое усвоение Сезанна требует совершения в живописи еще одного «убийства отца»: поскольку Сезанн должен был убить Пуссена, чтобы стать его продолжателем, то чтобы продолжить Сезанна, надо, в свою очередь, убить и его. Иными словами, надо не уходить от сути исторического урока Сезанна —противоречивого соединения мира и субъекта, а выразить его в негативной форме, превратить последнюю возможность в первичную невозможность: ни мира, ни субъекта.
Начиная, несомненно, с «Грустного молодого человека», но, возможно и раньше, уже в «Сонате», Дюшан вступает сразу на оба пути установленной Сезанном альтернативы. И мы знаем, почему: если кубисты постепенно сузили круг своих сюжетов до единственного жанра — натюрморта (после 1910-1911 годов пейзаж и обнаженная натура почти исчезают из их картин, портрет трактуется как натюрморт, а автопортрет — особенно важный жанр для Сезанна — исчезает полностью), то Дюшан пишет в это время исключительно ближайших родственников, а прежде всего —себя. Серия мужских фигур отмечает нить его желания (стать живописцем) цепочкой в высшей степени обманчивых идентификационных образов. Несомненно, художник воображаемо собирает себя в каждой из этих задержек, образуемых картинами в течении желания. Но раз за разом «собранность» ослабевает. Отнюдь не ведя, как говорит Шварц, к индивидуации живописца, серия достигает апогея в «Пассаже» — сцене тотального расчленения я. Более того, внутри каждой картины «элементарный параллелизм», заимствованный из хронофотографий Марея, упрямо подрывает желаемую идентификацию, которая поддерживается теперь, как говорит Лакан, только «в последовательности моментальных опытов».
Серия женских фигур, которая вполне может быть прочтена как метафора живописи, то есть как одновременно желаемый объект и мир (в сезанновском смысле), является в некотором смысле местом «невроза трансфера», посредством которого живописец надеется родиться в живописи. Эта серия столь же строго, как и мужская, соответствует дюшановской интерпретации кубистского разложения. И все же это разложение следует отличать от первого: оно относится уже не к порядку «элементарного параллелизма», а к порядку «раскалывания». Оно проистекает из разрушительного влечения, направленного на мир и объекты, словно обретение живописцем своей идентичности требует убийства живописи. И приходит — в той же самой картине — к той же, что и первое, точке: к насилию, разрыву желаемого тела невозможным мертвым временем четвертого измерения, к женщине, ставшей женщиной, и к живописи, ставшей живописью в тот самый «момент», когда она оказывается живописью мертвой. В этой точке, в этом первом апогее картины мы усмотрели появление реального. Больше нет воображаемого колебания, метания между «если это ты, то меня нет», и «если это я, то нет тебя», говоря опять-таки словами Лакана16, между двумя терминами альтернативы, в форме которой кубисты приняли сезанновское противоречие и лишь второй термин которой они разрабатывали. Дюшан, принявший оба термина, доводит их вплоть до реального, где сезанновский синтез оказывается невозможным. Он не выбирает Я в ущерб миру, что было кубистским «решением» и вскоре стало таковым для большей части раннего абстракционизма. Но не выбирает и мир в ущерб Я (такое «решение» заявит о себе в истории искусства лишь после Второй мировой войны, когда социальная эволюция повлечет за собой форсированную шизофренизацию субъекта и «революционный» оптимизм абстракции иссякнет). И, конечно, он уже не может выбирать Сезанна, или сохранение мира и Я в противоречии. Исторические условия более не допускают этого: нельзя убить классическую живопись дважды. Дюшану остается единственный выбор—в пользу мертвой живописи: ни мира, ни Я. То-гда-то, после того как воображаемое сошло со сцены и явилось реальное, в дело вмешивается символическое.
Символическое...
...посредничает между «Девственницей» и «Новобрачной», как «путник, способный к мгновенному переходу» (Сюке). Оно осуществляет переход, будучи одновременно чертой и переступанием этой черты, изменением состояния живописи в момент насилия живописца над ней и появлением субъекта-живопис-ца, который рождается из этого изменения. Как мы видели, оно возникает на месте недостающей буквы i, которая превратила изображаемую женщину в повешенную самку и затем повторила это превращение с помощью других букв — составляющих слова «Переход от девственницы к новобрачной» в левом нижнем углу картины.
Приведенное к этой точке возникновения, откровение символического оказывается в точности тем же самым, что и усмотренное Лаканом в формуле триме-тиламина: «Нет другого слова, другого решения вашей проблемы, кроме слова. [...] И все, что слово это хочет сказать, сводится к тому, что оно не что иное, как слово». Как таковое это возникновение означающего, которое открывается Дюшану в «Переходе», не означает ровным счетом ничего, кроме того, что означающее возникает. Едва наметившись, эта солипсическая тавтология требует речи, которая раскроет ее полнее, и языка, который будет от ее имени законодательствовать. Тут могли бы подойти речь сексуальности и «лялязык» отцовского закона —если прислушаться к их звучанию не столько в личной истории, сколько в истории искусства. Ибо именно там это означающее обретает свой статус, когда биография живописца наконец позволяет ему принять ее на свой счет как ретроактивный резонанс его отцовской фамилии: Дюшан от живописи29. Эта фамилия вдруг обретает новое звучание и, помимо приписки, обеспечивает переход, поскольку мы получаем ее в сопровождении предпосылок и последствий. Она приходит к нам уже истолкованной в свете судьбы произведений художника, а также искусства и комментариев, ими порожденных. Именно нам Дюшан адресовал «Переход от девственницы к новобрачной», так же как именно нам адресовал сновидение об инъекции Ирме Фрейд. Зрители создают картину — разделяя ответственность за нее с художником,— но во вторую очередь.
Это простое обращение к потомкам, этот разрыв с присутствием в настоящем уже сами по себе являются критикой кубизма и глубоким теоретическим осмыслением Сезанна. Ими подразумевается, что современный живописец, стремящийся сформировать под эгидой Сезанна «новый язык», не может добиться успеха без понимания того, что он передает это притязание в руки своих последователей. У современной живописи есть традиция, но она впереди — таково теоретическое содержание «Перехода от девственницы к новобрачной» как перехода необратимого. В этом смысле он уже на вербальном уровне преподносит формулу постсезаннизма или даже формулу той исторической необратимости, которую Сезанн предписывает своим последователям. Взявшись «воссоздать Пуссена согласно природе», Сезанн хотел сохранить классическую аксиому живописи, сводящуюся к взаимозаменяемости художника и зрителя. Однако вместо занимаемой ими по очереди альбертианской точки зрения он ввел два бытия-в-мире, эквивалентных по отношению к общему горизонту. Если некоторая пространственная однородность еще и может быть сохранена, то идеальная временная обратимость, вытекающая из теории зрительной пирамиды, безвозвратно потеряна. Время зрителя более не совпадает с временем живописца. Между «видением» зрителя, которого Сезанн просил смотреть на его картины так же, как он смотрит на окружающую природу, и его собственным видением вкралось необратимое время, каковое является вектором самой этой просьбы и тем самым ее исторической функции. Требование Сезанна к художникам, которые пришли после него и отталкивались от его «мировидения», сводилось к тому, чтобы они изменили свое мировидение, изменив живопись. Кубисты-ортодоксы не вполне это понимали: их живопись находилась под необратимым влиянием их исторического положения художников после Сезанна, но не включала в себя теорию этой необратимости. Они открыли эпоху «исторических авангардов», но в своей регрессивной верности сезанновскому классицизму оказались неспособны к осмыслению того, что это означает в теоретическом плане.
Это теоретическое осмысление и осуществляет в Мюнхене Дюшан — в двух картинах и двух рисунках. «Девственница» поднимает двойной вопрос о становлении живописцем и становлении живописью, рожденным для которой не может быть тот, кто родился после Сезанна. «Новобрачная» отвечает на этот вопрос, соединяя живопись в совершенном прошедшем и становление живописцем в промежуточном будущем, удостоверяя и предвидя ретроактивный вердикт, каковой является временным законом авангарда. И наконец, «Переход» разрабатывает этот вопрос сразу в двух его аспектах, связывая судьбу живописца с необратимостью истории и с ретроактивным судом потомков и распутывая судьбу живописи до ее сердцевины, где создание картины разворачивает лишенное длительности реальное, а картина позволяет явиться в его автонимии символическому.
Сезанн и Сюзанна разделены чертой, которую пересекает «Переход», являющийся также и переходом теоретическим. Обыграв слова, между которыми осуществляется этот переход для Дюшана, можно было бы охарактеризовать его как переход от c’est к su от онтологии к эпистемологии, от живописи как бытия к живописи как знанию, от живописи в настоящем изъявительном к живописи в прошедшем совершенном.
Именно в поле изъявления и присутствия, чистого показа, гуссерлианского Vorstellung‘x Сезанн попытался основать новую онтологию живописи, которая затем положила начало модернистскому (или формалистскому) проекту, характеризующемуся настойчивым поиском живописной специфичности, понимаемой как неприводимое бытие живописи.
Дюшановское поле «познанной живописи» открывает путь иной теоретической рефлексии, отказывающейся специфицировать бытие живописи. В чем она заключается? Что, прежде всего, такое познанная живопись? На каком основании можно сказать, что возникновение символического дает место некоему знанию, тем более —знанию почти мгновенному, которое приходит сразу и преподносится в некоем готовом, ready-made откровении? На данном этапе ответом может быть лишь разъяснение вопроса, на одном возникновении символического как таковом никакой корпус познаний основать бы не удалось. Речь идет, собственно, о внезапном вторжении Другого, о месте и функции Другого в специфическом определении и специфическом статусе живописи. Иначе говоря, Дюшану открывается вторжение языка в поле живописной специфики, которую Сезанн попытался привести к бытию чистого обозначения, свободному, как сказали бы феноменологи, от какого-либо «тети-ческого» элемента. Это вторжение есть вторжение языка как такового, символической функции в предельно общем виде, а не предвидение некоего нового и основополагающего живописного языка, как у первых абстракционистов. Последний мог быть только метафорическим, даже если за ним стояло неистовое желание покончить с языком в ограничительном, лингвистическом смысле и заложить в основание специфичности живописного языка то, что парадоксальным образом погружает живопись в молчание. В пересечении же черты Сезанн/Сюзанна открывается общее и неспецифическое вторжение языка, если под специфичностью понимать фантазм живописного бытия, собственная речь которого представляет собой молчание. Но это вторжение оказывается специфическим и необщим, как только мы принимаем в расчет психологическое поле становления-живописцем и конкретное место картины, где это становление разыгрывается,—поле и место, за пределами которых появление символического касалось бы только «страдающего человека», но не «творящего духа».
«Переход от девственницы к новобрачной» открывает следующее: живопись уже названа (в совершенном прошедшем), когда живописец в становлении приходит к пониманию того, что он хочет. Существует слово для обозначения воображаемой и реальной работы всех живописцев, что бы они ни делали, и это слово — живопись. Будь Дюшан сезаннистом, фови-стом или кубистом, его —как живописца —работа обретает пристанище в чем-то, что проистекает из договора, заключенного другими, и это что-то именуется живописью. Это имя уже было задолго до того, как Дюшан начал писать, и оно пребудет после того, как его творчество «завершится».
Именно в этом смысле я говорил о том, что с «Переходом от девственницы к новобрачной» совершается метафорический скачок от женщины к живописи. До этого женщина была метафорой живописи и наоборот, и, конечно, в рамках этой диалектики обращался язык. Но он не был признан в качестве такового. Обратимость «женщины» и «живописи» затрагивала только воображаемое Дюшана, его желание стать отцом-живописцем и в то же время покорить женщину-живопись. «Переход» приводит нас к стыку воображаемого и символического, где черта (женщина/живопись) в высшей степени символического обряда перехода разделяет то, что соединительный дефис (женщина-живопись) удерживал в воображаемом соседстве: в то самое мгновение, когда на уровне темы картины женщина стала женщиной, живопись на уровне создания картины и ее изъяснения стала живописью. И Дюшан, не являющийся прирожденным живописцем, родился к своему имени живописца.
Это рождение не имеет ничего общего с достижением зрелости, приобретением мастерства или завершением ученичества, оно во всем родственно узнаванию. То, что вслед за Лаканом называют «подступом к символическому», имеет отношение не к освоению языка, не к постепенному овладению ребенка языком матери, а к узнаванию символа в качестве символа — то есть уже не в качестве того, что позволяет манипулировать вещами или звать другого. «Подступают к символическому» тогда, когда слово прекращает что-либо обозначать и «все, что слово это хочет сказать, сводится к тому, что оно не что иное, как слово».
Поскольку в данном случае это слово — «живопись», подытожить узнавание Дюшаном символического можно следующим образом. Означаемое словом «живопись» простирается на бесконечную территорию. Это может быть сезанновское «маленькое ощущение» или его же «Пуссен согласно природе». Но для Пуссена это были «история и картина», для Альберти — «более тучная Минерва», а для Леонардо да Винчи — «cosa mentale»32. Для кубистов «живопись» означает «реализм представления», тогда как для Курбе реализм имел отношение к сетчатке. Для классиков «живопись» означает сюжет, то есть обнаженную женщину или боевого коня, но не означает этого для Мориса Дени, так как для него она — поверхность и соположение цветов. По поводу означаемого словом «живопись» нет согласия, и тем не менее живописи не было бы — ни как слова, ни как вещи,—не будь согласия по поводу самого этого слова. «Живопись» именует разные живописи и всякую живопись, это выражение автонимно подобно примерам, которые преподносятся в качестве понятий.
Таким образом, по поводу слова «живопись» имеет место договор. Коль скоро имя существует и должно сохраняться, по его поводу существовал и будет существовать договор. Именовать значит договариваться, и, чтобы заключить договор, нужно быть как минимум вдвоем. Я и ты заключают мир по поводу него или нее, и в этом треугольнике задействован Другой — в какой-либо из трех вершин. Сейчас неважно, является ли инициатором живописец, адресатом — зритель, а референтом —картина. Это могли бы быть Микеланджело и Юлий II, пререкающиеся по поводу Сикстинской капеллы, но кому придет в голову, что Юлий II—истинный адресат Микеланджело? Это могли бы быть два живописца, согласные по поводу творчества третьего, или — как, например, Пуссен и Караваджо —живой и мертвый художники, оспаривающие взаимные преимущества Природы и Теории. Каков их общий референт? Да и есть ли он, если все их разделяет — и время, и ремесло, и стиль, и мышление? И все-таки они вступают в диалог, и говорят именно о живописи. Ничто, впрочем, не свидетельствует и о том, что инициатором договора обязательно является живописец: если мы соглашаемся называть живописью окрашенные формы на стенах пещер Ласко или Альтамиры, то скорее благодаря аббату Брейлю, который их восстановил, чем их доисторическому создателю. При всей неопределенности договора, на основании которого живопись была наречена, само существование имени доказывает существование договора. Что, собственно, и открывает вторжение символического Дюшану, делая его субъектом этой уверенности.
Каковая приходит не когда угодно и не к кому угодно. Она приходит к человеку, глубоко вовлеченному в тот новый и определяющий с середины XIX века эстетический и исторический процесс, который называется авангардом. Она приходит в совершенно особый, ключевой момент этого процесса — в момент, говоря широко, постсезанновский-а в личном плане — через несколько месяцев после отклонения Салоном Независимых «Обнаженной, спускающейся по лестнице». Иначе говоря, она сопрягается с острым чувством тройной необратимости. Со времен Курбе, вне сомнения, понятие эстетического качества неразрывно связано с новаторством; для авангарда произведение чего-то стоит лишь в том случае, если оно порывает с качественными критериями прошлого. После Сезанна зритель оказывается в асимметричном положении по отношению к художнику, и его перцептивной ответственности отдается немаловажная роль в придании картине смысла. Условием новаторства художников является после Сезанна принятие ими в расчет «момента» зрителя. И отклонение Салоном «Обнаженной» становится для Дюшана признаком значимости его собственных предвидений: поскольку общественное признание его становления живописцем откладывается, статус живописца остается для него впереди. Но к этому чувству тройной необратимости сразу присоединяется противоположная, на первый взгляд, уверенность. Нельзя повернуть время вспять — так можно выразить первый закон авангарда; я бы сказал, что он относится к эстетической эволюции. Однако есть и второй закон, относящийся к художественной историчности и гласящий, что эволюция творит историю ретроспективно. Художественное новшество приобретает смысл нового качества лишь тогда, когда оно апостериори оценивается с помощью установленных им самим критериев. Перцептивная работа сезанновского зрителя —в том случае, если он сам является художником,—доказывает свою плодотворность лишь после того, как этот зритель уделил ей новое место в своей собственной живописи. И скандал вокруг «Обнаженной», ее прием в Барселоне, в «Золотом сечении» и вскоре в «Армо-ри-Шоу» тоже докажет задним числом, что отклоне-ие картины Салоном Независимых лишь удостове-пяло ее последующий успех.
Теперь эти сложные временные фигуры по-разно-ставят перед нами вопрос о договоре или, иными Словами, консенсусе, который устанавливается или не устанавливается вокруг эстетического суждения. Одной из этих постановок как раз и является номинативная бинарная форма, принятая вердиктами, посредством которых живописные произведения авангарда признавались или отвергались по ходу своей истории,—форма, чьей институциональной парадигмой выступает, как мы видели, Салон Независимых. Но при всем своем институциональном характере вердикты эти оставались и выражением эстетического суждения. Кажется, Малларме первым ясно это понял и сделал некоторые выводы, среди которых — необходимость оставить на долю толпы ответственность за наличие или отсутствие консенсуса в отношении живописного вкуса. Когда Салон 1874 года в очередной раз отклонил две из четырех картин Мане, представленных художником на суд жюри, Малларме встал на его защиту, написав: «Жюри нечего сказать, кроме как „Это — картина" или „А вот это —не картина11»17. Таким образом, эстетическое суждение жюри выражалось отныне в бинарной форме согласия или отказа и прямо высказывалось как именование. Если эстетическая история современной живописи и в самом деле всецело является историей институциональной, а перемены живописного вкуса неотделимы от обусловливающих их стратегий, то следует признать и весьма существенное воздействие, оказанное на понятие живописи пересмотром эстетического суждения в качестве суждения именующего. Суждение, которое варьируется лишь между «Это — картина» и «Это — не картина», вместо оглашения оценки всего-навсего объявляет о принадлежности или не-принадлежности живописного объекта к сугубо номинальной категории. Если прежде художники и произведения ранжировались согласно иерархии, в самом низу которой располагалось непритязательное ремесло, а на вершине — гениальное творение, то теперь все они оказались во власти однозначно принимающего или не принимающего их суждения. И хотя понятие живописи, невзирая на всю свою эволюцию, по-прежнему подразумевает ремесло, по поводу определения которого царит некий априорный консенсус и в котором есть место для прекрасного и менее прекрасного, для нового и старого и т.д., оно является теперь именем, отрезанным от обозначаемого им ремесла и обладающим всеми признаками логической категории, чей объем определяется тем, что она включает и, что еще важнее, исключает.
Тот, кто конкретно, политически обладает властью принятия и непринятия, обладает тем самым и концептуальным господством над понятием живописи. Дело бы существенно упрощалось, если бы носители этого господства принадлежали исключительно к сфере власти институциональной, будучи, например, музейными хранителями или членами выставочных жюри. Но с учетом того, что на деле представляет собой история авангарда с многочисленными скандалами, конфликтами и стратегиями, служившими ее движущими силами, надо признать, что власть художников — во всяком случае тех из них, чьи имена в истории сохранились, не уступала власти институтов. Причина, быть может, в том, что чем более широких полномочий требовала институциа-лизация понятия живописи, тем слабее становилась она сама. Институт, обладающий абсолютной властью определять, что является живописью, а что ею не является, оказался бы неспособным принять под свою сень новое, неожиданное произведение, не приведя тем самым в смятение все экстенсивное поле его определений живописи. Институт, эстетическое суждение которого выражалось в модальностях прекрасного и менее прекрасного, который предусматривал в рамках живописного мастерства различные иерархические ступени, очевидно, не сталкивался с подобной проблемой. Отныне же художники сочли себя — ошибочно или обоснованно —обладателями безумной власти, поскольку в отношении каждого произведения стала рассматриваться вся совокупность определений живописи, что не могло не подстегивать претензии на универсальный статус. В этом заключено не столько следствие, сколько основной источник многочисленных скандалов, сотрясавших живопись XIX века, и вместе с тем источник исключительных теоретических —или, если угодно, идеологических и концептуальных — полномочий, которыми оказались наделены с этого момента художники. Модернизм явился с их стороны принятием на себя этой ответственности. Им было предписано — по большому счету извне —живописать свою теорию живописи, и именно на этот вызов они старались ответить — изнутри своей практики,—превращая каждую картину в безмолвное свидетельство определения живописи вообще. В основе редукционизма, который охватил модернистскую живопись и «завершился» в 1913 году «Черным квадратом» Малевича, лежало сильнейшее влечение к теории. Все происходило так, словно бы конвенции, руководившие классической живописью, одна за другой подвергались критике, деконструиро-вались и отбрасывались в ожидании того, что оставшиеся сложатся в некую универсальную и основополагающую «теорию» живописи18. Будучи сколь теоретическим, столь и эстетическим, это редукционное движение модернизма сформировало историю стратегии вызова, обмана и в конечном счете сдвига эстетических ожиданий, образующих живописный вкус той или иной эпохи. Однако ни вкус, ни теория все же не были ставкой модернизма — таковой было имя. Именно вокруг имени живописи завязывались конфликты авангарда и традиции, равно как и конфликты самих сменявших друг друга и даже развивавшихся одновременно авангардов между собой. Именно это имя было практической или прагматической ставкой «модернистской живописи». Провокации художников раз за разом принуждали жюри, институциональное или нет, выбирать один из двух вердиктов: «Это — картина» или «Это —не картина». Но на деле это был только лишь возвратный эффект, поскольку модернисты становились провокаторами и стратегами, как, впрочем, и теоретиками, отнюдь не по собственной инициативе. Им пришлось стать таковыми потому, что бинарная институциональная структура художественной среды — во всяком случае во Франции после Курбе — требовала от них выдвижения живописными средствами общей теории живописи с тех пор, как вошло в обычай однозначно применять или же отметать имя живописи в отношении любой выставленной картины.
Дюшану, как известно, всегда претила модернистская игра в живописную редукцию. Он не поддавался искушению абстракции и не ступал —если только не иронически, к чему мы еще вернемся,—на теоретико-педагогическую стезю Кандинского, Мондриана или Клее, пытавшихся сформировать некий универсальный живописный язык, приведенный к самым основным «элементам». Более того, Дюшан неизменно выступал противником всякой живописной теории или практики, превращавшей вкус — неважно, хороший или плохой, конвенциональный или провокационный,—в двигатель стратегии. Его стратегия заключалась в уклонении от вкуса и верности «красоте безразличия», и хотя на практике придерживаться такой стратегии невозможно, реди-мейд явился ее теоретическим выражением. В 1912 году, когда Дюшан отходит от кубистской живописи и соответствующего вкуса, он еще не знает, что следствием этого отхода вскоре станет реди-мейд. Прежде чем он поверит в возможность не обращать внимания на вкус, ему предстоит пройти «через использование механических техник», потребовавшихся для « Дробилки для шоколада»35. К тому же он слишком глубоко вовлечен в эстетические дискуссии своей эпохи, чтобы сразу понять, что за теоретическим влечением, которому поддался и он сам вместе с его друзьями Глезом и Метценже, скрывается в качестве практической ставки не столько понятие живописи, сколько ее имя. И все же своего рода систематическая очистка понятия живописи не могла не оказать на него осознанное или неосознанное влияние. Вне зависимости от доводов, которые приводили в пользу своих эстетических суждений различные стороны — например, художники, критики, члены жюри,—эти суждения всегда выражались в конечном вердикте «да» или «нет», который как раз и придавал объем и содержание предлагавшейся ими концепции живописи. Так что у этой концепции оставалось в итоге единственное значение или ценность — в соссюровском и обычном качественном смыслах слова valeur: сама операция выбора. В этот момент понятие живописи, являвшееся будто бы ставкой эстетических конфликтов и стратегий, а также предметом, в виду которого шел поиск консенсуса, вплотную подошло к тому, чтобы остаться не более чем пустым именем. И эстетический консенсус, сколь бы мифическим он во все времена ни был, оказался всего-навсего договором о присвоении имени.
Сегодня мы должны рассматривать это имя —живопись— в свете тройной необратимости и тройного возвратного действия, которые Дюшан, будучи непосредственным и вполне сознательным участником исторического процесса авангарда, чувствовал очень остро.
Первая необратимость: в рамках модернизма эстетическое качество внутренне связано с необходимостью художественного новаторства. Художник-нова-тор, хочет он того или нет, добивается расторжения договора. Первый «эффект» стилистического новшества, за счет которого он расходится с традицией, заключается в достижении отклонения этого новшества публикой: имя не применяется, произведение объявляется внеположным живописи, то есть не соответствующим ее имени, вне зависимости от мнения, какое публика о нем составляет.
Первое возвратное действие: затем новаторское произведение оценивается согласно своим собственным антикритериям, которые тут же становятся новыми критериями, вновь наполняющими пересмотренное, чтобы оно могло включить в себя новшество, понятие искусства. Имя возвращается, договор заключается снова —сравнительно рано или сравнительно поздно. Этот договор примиряет зрителей между собой уже за спиной произведения, оставшегося в прошлом. Он по необходимости ретроспективен —именно благодаря ему некогда скандальное произведение приобретает в конце концов статус «классического».
Вторая необратимость: искусство Сезанна обозначило рубеж, после которого перцептивная ответственность зрителя стала предметом активного требования. Сомнение Сезанна по поводу мира передается зрителю как сомнение по поводу Сезанна. Является ли сомнение, которым нагрузил взгляд зрителя Сезанн, по сути своей перцептивным? Или оно, скорее, номинальное? Перцептивные антикритерии Сезанна (взять хотя бы точку схода, которая оказывается «вопреки всякого рода эффектам точкой, максимально близкой к нашему глазу») заставляют зрителя усомниться в своих собственных перцептивных привычках, причем именно для того, чтобы он принял на себя ответственность за разрыв или сохранение договора. Именно зритель — и в данном случае зритель индивидуальный — воздает имя.
Второе возвратное действие: коль скоро зритель является художником, его задача уже не та, что прежде. Он должен истолковать слово «живопись», понятийный объем которого совпадает теперь с живописью Сезанна, дополнить его, внести в него некую значимую новизну и, следовательно, в очередной раз разорвать договор. Но этот разрыв — совсем иной, нежели тот, что содержится в словах «Это не живопись!» со стороны публики, пусть даже просвещенной. На сей раз речь идет не об отрицании, а о признании, и поэтому разрыв является в то же время формой договора —парадоксальной разновидностью договора, посредством которого авангард сохраняет свою традицию, разрушая ее. Этот диалектический договор связывает живописцев между собой невзирая на время, но примиряет их исключительно в отношении слова «живопись» и ни в коей мере не в отношении концепций, стилей или эстетических идеологий, по-разному это слово характеризующих. Живописцы —всегда соперники друг другу, но их объединяет единодушно осознаваемая ответственность за то, чтобы подтолкнуть историю живописи вперед, сохранив ее имя.
Третья необратимость: в апреле «Обнаженную» выставляют в Барселоне, где она, в общем и целом, остается незамеченной, а с ю октября — дня отъезда Дюшана в Мюнхен — в салоне «Золотое сечение». Картину официально реабилитируют: те же, кто в марте отказывал ей в имени «живопись», в октябре торжественно ей это имя возвращает19. Но возврат имени происходит, как и положено, с задержкой, что должно было вызвать у Дюшана улыбку, поскольку ему (или во всяком случае его живописи) это было известно. И как раз в Мюнхене живопись впервые именуется Дюшаном в прошедшем времени.
Итак, Дюшан оказывается вовлечен в три необратимости и в три возвратных действия: первая их пара формулирует два наиболее общих закона авангарда со времен его существования как исторического и эстетического явления, вторая характеризует модальности тех особого рода зрителей, каковые и есть живописцы, в конкретный момент последовательного постсезаннизма, каковой и есть кубизм, а третья в чистом виде передает то странное и непредвиденное выражение, которое они приобрели для Дюшана и которое открылось ему именно в Мюнхене.
Три эти необратимости и возвратных действия касаются имени живописи и временных форм договора, который заключается по ее поводу. Мы не завершили их анализ —в особенности это относится к последней паре, характерной именно для Дюшана, поскольку через ее смутное восприятие и вместе с тем острое ощущение открылись ему две другие — первая в ее общности, вторая —в ее специфичности.
Но, что немаловажно, два временных закона авангарда, которые я выше назвал законами его эволюции и историчности, не столь просты. Продолжая описывать их так же, как делал это до сих пор, я, несомненно, шел бы вразрез с детерминистской моделью истории как «прогресса», вводя в нее постоянную оглядку
ную живопись, мы должны признать законный статус кубизма, который выступает ее продолжением, и, следовательно, усмотреть в нем единственно возможное в настоящий момент представление о современном искусстве. Иначе говоря, сегодня кубизм и есть живопись» (GleizesAMetzinger J. Du cubisme. Op. cit. P. 39).
на feedback31, но тем не менее не покидал бы пределов линейной истории — просто та имела бы форму циклоиды, а не прямой. Отсюда следует первая поправка: подобные циклоиды пронизывают художественный пейзаж во всех направлениях, и я лишь рассчитываю на снисхождение читателя, признавая, что не могу проследить их все. Я счел одну из них — назовем ее так: Курбе — Мане — Сезанн — кубизм—Дюшан,—наиболее важной для предмета своего исследования. Хотя, как мы увидим далее, она не единственная, которую надо признать для Дюшана значимой. Так или иначе, если допустить существование сети разнонаправленных циклоид, соединяющих различные значения, идеологии, шаги, по крайней мере одно из их направлений должно быть для всех них общим —я имею в виду временной вектор. Именно эта основополагающая необратимость прежде всего остального служит опорой самой идеи авангарда, и она неизбывна.
С учетом этих оговорок следует внести еще одну поправку в предложенную модель циклоиды, связанную с уже отмечавшимся фактом сосуществования в художественном пейзаже со времен конца XIX века отсталых и передовых институтов. Салон Отверженных, противопоставив себя официальному Салону, заявил о возможности институциональной истории искусства —то есть истории имени искусства, которая движется вперед на различных скоростях, невзирая на общую необратимость. Этим объясняются локальные рывки художественной эволюции и истории, растущая частота которых отмечается в конце XIX века, особенно в Париже. В конце концов, Бугро был современником Сезанна, и этот факт нельзя сбрасывать со счетов. Какое влияние оказывали эти рывки на институциональный (или частный — просто в случае институтов картина куда яснее) художественный вердикт, если последний, как мы знаем, сводится в конечном счете к чистейшему именованию?
В то время как официальный Салон договаривается об имени «живопись» для Кабанеля и Фландре-на, Салон Отверженных поступает противоположным образом. Очевидно, что два салона составляют одну систему —так, словно две отдельные точки циклоиды синхронно определяют друг друга или словно два различных, но тем не менее содействующих друг другу договора называют живопись либо эпонимом Фландрена, либо эпонимом Мане. А в культуре, решившей придавать качественному суждению форму суждения номинативного, договор, который заключается по поводу произведения искусства и именует его «живописью», есть не что иное, как необходимый эстетическому суждению консенсус или, по меньшей мере, его идеальный горизонт объективации, принудительно устанавливаемый актом власти. Официальный Салон и Салон Отверженных как два враждебных института составляют единую систему и, следовательно, являются в некотором роде невольными сообщниками; между ними складывается парадоксальный консенсус, основой которого служит несогласие. Этот парадокс объясняет цепочку других, вкратце охарактеризованных выше: например, тот факт, что отсталый институт никогда на самом деле не исключает того искусства, которое он отказывается принять. Он просто медлит, перекладывая на более смелый институт ответственность произнесения рискованного эстетического суждения. Или равнозначность для художника-авангардиста желания быть принятым в Салон Отверженных и быть отвергнутым официальным Салоном. Таковы две стороны одной и той же стратегии.
Отсюда — необходимость учитывать в нашем анализе то, что мы уже знаем: что стратегия Дюшана эпохи «Обнаженной» относится к разряду «дырявой кастрюли». Она обладает всеми признаками непоследовательности: Дюшан словно бы добивается и признания своей картины, и ее провала. Дело в том, что он смешивает воедино адресатов своего обращения. От академической критики он ждет верительных грамот — то есть признания того, что он благополучно преодолел ступени обучения, миновав Писсарро, Сезанна и Матисса, и может в качестве молодого живописца выступить с некоторым собственным дерзновением. От группы кубистов он ждет признания своим и выдачи «диплома» о приобретении кубистской квалификации. А от истории живописи, воплощенной в Другом, которым позднее окажутся потомки, он ждет — в предвосхищении — равенства с мастерами, соперничать с которыми он не осмеливается — с Пикассо и, через него, с Сезанном. Эта стратегия «дырявой кастрюли» теряет всю свою непоследовательность, как только мы понимаем, что Салон Независимых с его внутренними распрями идвусмысленностью, с которой он стремится институциализировать авангард здесь и сейчас, представляет то одну, то другую из этих подрывающих друг друга инстанций — а именно официальный Салон и Салон Независимых,—в которых сталкиваются разноскоростные истории искусства. Намеренно обращаясь сразу к трем неодинаково «быстрым» историям, Дюшан неминуемо оказывается своего рода провокатором в каждой из них.
И это должно указать нам на глубоко стратегическую подоплеку той провокации, в которой так часто уличают Дюшана, не слишком задумываясь о том, каково же ее значение. Никогда не следует думать, будто подлинный художник —Дюшан или, точно так же, Мане —устраивает провокацию ради провокации. Величайшую ошибку в теории модернизма совершают наивные критики, раз за разом восхищающиеся дерзостями «антиискусства». Вопреки своей воле они присоединяются к самому что ни на есть обывательскому языку, ограничиваясь механической сменой обвинения в «буржуазности» на столь же необдуманный, как и это последнее, энтузиазм. Всякий художник, достойный этого имени, хочет консенсуса по поводу своего искусства. Я уже говорил о том, что притягательной точкой для желания рисовать является Лувр: иными словами, художник жаждет консенсуса, и по возможности «всеобщего». Но нельзя не признать —мы в наш исторический момент слишком хорошо осведомлены об этом,—что после Дюшана пришло множество художников, которые поняли, что нет лучшего средства попадания в Лувр, чем систематическая провокация. Не следует, однако, проецировать этот четко датированный механизм художнических амбиций в эпоху «Обнаженной, спускающейся по лестнице» и даже первых реди-мейдов. Да и для тех, кто пришел после Дюшана, со временем будут выработаны критерии, позволяющие отличить от провокации как карьеристской стратегии провокацию значимую, которая, как и всегда со времен возникновения авангарда, создает опять-таки значимое по отношении к традиции новшество.
Но в нашем случае — при переходе от до-Дюша-на к после-Дюшана — мы можем попытаться понять, каким образом провокация стала значимой тактикой в истории живописи, которую все заставляет нас определить как историю, по сути своей стратегическую. Приведу единственный критерий, который, на мой взгляд, позволяет провести различие между подлинным художником и шарлатаном. У подлинного художника новшество или провокация, будучи сколь угодно стратегическими, никогда не являются всецело умышленными; их источник —во многом невольное открытие им пластических «ценностей», которые еще не считаются ценностями. Можно сказать, что художник повинуется своему таланту или гению, своей интуиции, своим влечениям или бессознательному—термин не имеет значения; так или иначе, он повинуется толчку, ни происхождение, ни цель которого ему не ведомы, но который заставляет его преступить господствующий вкус —не потому, что он господствующий, а потому, что художник черпает свою уверенность художника в создаваемом им радикальном новшестве. В таком случае провокация должна пониматься буквально — как опережающее события требование.
Требование чего, если не имени «искусство» или «живописец»? Чем больше в жесте художника провокационности и «антихудожественности», тем яснее должно быть, что по сути он является яростным и подчас патетическим требованием признания. И, коль скоро это признание выражается скорее в присвоении имени, чем в суждении согласно ценностной шкале, художник-провокатор требует имени для своего произведения. Кто может дать ему это имя? Конечно же, зрители, и непременно последующие, то есть потомки, пусть и самые ближайшие. Отсюда ясно, что говорить о провокации — и в отдельных случаях о наиболее интересной, значимой провокации — как художественной стратегии имеет смысл лишь в отношении определенного исторического периода, как раз того, который соответствует феномену авангарда. В самом деле, условия возможности провокации как значимой стратегии —это условия, очерчиваемые временными законами авангарда, эволюцией и историчностью, необратимостью и возвратным действием. Опережающее события требование имени «живописца» или «искусства» имеет смысл исключительно в рамках культуры, управляемой необратимым временем и формируемой в качестве культуры возвратным движением.
Более того. Провокация приобретает ясный тактический смысл в рамках художественной стратегии только тогда, когда такая культура становится в некотором смысле прозрачной для самой себя, когда ей открываются два ее временных закона. Эта прозрачность достигается с одновременным появлением институтов, одни из которых можно назвать отсталыми, а другие —передовыми. Порицание, вызываемое новым произведением со стороны одних, обозначает в этом случае — вследствие структурного деления модернистского художественного пейзажа — почти-признание его другими. И договор об имени, какового требует провокационное произведение, подобен Янусу: с одной стороны он имеет черты консенсуса, а с другой —черты несогласия.
Этот глубокий, сложный парадокс оказал значительное влияние на художественную теорию и практику. Как эстетическое суждение может действовать одновременно в перспективе консенсуса и в перспективе несогласия? То, что у нас имеется историческое объяснение парадокса, ничуть не уменьшает его парадоксальности—той, какою она переживается в эстетическом опыте художников и зрителей, но вместе с тем и той, какою она должна учитываться теоретической эстетикой20. Сосуществование художественных институтов, сообщающих истории искусства неравные скорости, объясняет парадокс исторически. Социологически же он объясняется тем, что отнюдь не одни и те же социальные группы соглашаются по поводу того или иного академического произведения и по поводу произведения авангардистского. Можно, таким образом, очертить границы согласных групп, между которыми царит несогласие. И тем не менее эстетическое суждение, провоцируемое во всем общественном пространстве, стремится одновременно и к согласию, и к несогласию. Для того общества и того исторического периода, которые породили феномен авангарда, в эстетическом суждении «от природы» совмещены призывы к согласию и несогласию. Но эта одновременность —которая, конечно же, не случайно стала около 1912 года для ряда художников, в частности для Делоне, основой нового живописного «изма»21,—уклоняется от какой бы то ни было эмпирической регистрации. Стоит ей выразиться во фразе «это —живопись», как эстетическое суждение, требуемое провокационным произведением, оказывается договором без временной привязки. Оно произносится в настоящем времени, хотя это настоящее время —единственное, радикально им отвергаемое, поскольку оно разрывает договор по поводу того, чем была живопись, и вновь заключает договор по поводу того, чем она будет. В промежутке нет места для бытия живописи, там есть лишь переход, сверхузкое пространство чистого именования.
Попытавшись не отступать от этой точки перехода, мы могли бы понять вслед за Дюшаном, что родиться живописцем означает в то же время объявить о смерти живописи. «Подступ к символическому», первичное именование живописи, открывшееся Дюшану в «Переходе от девственницы к новобрачной», подобно черте основополагающего fort/da. Дюшан, как я уже говорил выше, разыграл вынужденную карту — карту смерти живописи. Можно ли пережить эту смерть иначе, чем тот ребенок с катушкой, который переживает отсутствие матери, возвышая его до вторичной власти символа?
Язык существует, живопись всегда уже названа — такова ситуация, в которой рождается живописец. Договор уже заключен, по поводу слова «живопись» существует некоторое согласие, в котором он не участвовал. «Живописью» может называться только живопись в прошлом, уже мертвая, лишенная способности спровоцировать несогласие. Каким же образом живописец рождается к своему имени живописца? Прежде он должен уничтожить живопись, разорвать договор и отобрать имя, вызвать несогласие. Эта провокация — не что иное, как требование возврата имени и предвосхищение нового консенсуса, то есть создание живописи, живой лишь на время отсрочки, которую она дает себе, предвосхищая собственную смерть. Реди-мейды удостоверят эту истину после того как Дюшан, вернувшись из Мюнхена, скажет себе: «Марсель, довольно живописи. Пора искать работу!». Но она угадывается во всех своих следствиях уже в Мюнхене, когда напряженный эстетический опыт «Перехода от девственницы к новобрачной» отливается во временную формулу, зашифрованную в названии картины, которая открывает Дюшану символическое как таковое.
1
«Набросок [научной психологии]» (нем.). — Прим. пер.
Возможно, нет оснований утверждать, что через эти свои сопротивления Фрейд открыл сопротивление как таковое или что сновидение об инъекции Ирме позволило ему понять, прежде всего прочего, что сновидение осуществляет желание. Предполагалось даже, что тезис о сновидении как осуществлении желания возник до сна об инъекции Ирме ( Grinstein А. Sigmund Freud’s Dreams. New York, 1968). Но, так или иначе, это не противоречит моей гипотезе: первоочередность, которую я имею в виду, не обязательно должна быть хронологической, она выражается в постоянном оттенке того внимания, которое Фрейд уделяет психическим образованиям.
Lacan J. Du sujet de la certitude//Le Séminaire. Livre XI. Op. cit.
P. 36-37.
Merleau-Ponty М. Le doute de Cézanne//Sens et non-sens. Paris: Nagel,
1948. P.34-35 (курсив мой,—Т.Д.).
2
Имеет в качестве содержания саму себя (англ.). — Прим. пер.
3
ю. Естественно, я имею в виду причину в обычном, детерминистском понимании этого слова, а не в том внутреннем смысле, согласно которому Лакан видит в ней принцип неопределенности, который парадоксальным образом — немного иронии в адрес Гейзенберга — оказывается принципом уверенности.
GleizesA., Metzinger J. Du cubisme. Paris: Compagnie française des arts graphiques, 1947. P-34- Это мнение разделяет и Аполлинер: «Курбе —вот отец новых художников» (Apollinaire G. Les peintres cubists. Paris: Hermann, 1980. P. 69).
>4- GleizesA., Metzinger J. Du cubisme. Op. cit. P.34. Упрек в адрес им-
4
Фрейд3. Толкование сновидений. Цит. соч. С. 89.
Лакан Ж. Семинары. Кн. 2. Цит. соч. С. 222, 235, 227 (с изменением:
реальное мы, как и Ж. Лакан, пишем со строчной).
5
Там же. С. 232-233.
Жуткая (нем.).— С трудом поддающийся переводу термин Фрей
да (так, во французском языке в качестве его эквивалента используется словосочетание l’inquiétante étrangeté— букв.: тревожная странность) из работы 1919 года «Über das Uncheimliche», где с его помощью описывается чувство, испытываемое мужчиной при виде женских половых органов. В русских изданиях укоренился односторонне передающий значение слова вариант «жуткое». — Прим. пер.
1) развязывание; 2) разрешение, решение; 3) расторжение; 4) раствор; 5) перен. развязка (нем.). Примерно таким же букетом значений обладает и французское solution.—Прим. пер.
Фрейд 3. Толкование сновидений. Цит. соч. С. 92 (прим. 2).
6
' ^ам же- С. азб, 224, 229, 236, 237.
7
*5- Там же. Р. 35.
8
■7- Apollinaire G. Du cubisme//L’intermédiaire des chercheurs et des curieux. 10 octobre 1912. Цит. no: Apollinaire G. Les peintres cubistes. Op. cit. P. 23.
9
Léger F. Les origines de la peinture et sa valeur représentative//Mont-
joie! 29 mai 1913. № 8. Цит. no: Fry E. (éd.). Le cubisme. Bruxelles: La connaissance, 1968.. P. 22.
10
Apollinaire G. Les peintres cubistes. Op. cit. P. 69.
11
Я намеренно пересказываю Мерло-Понти, поскольку именно он,
бесспорно, предложил в философии теорию субъекта, наиболее близкую той, которую сезанновское пространство предлагает в живописи. См.: Merleau-Ponty М. Le visible et l’invisible. Paris: Gallimard, 1964.
12
Сезанн говорит Гаске: «Мы еще не осознаем, что природа —более
в глубине, нежели на поверхности. Ведь, вдумайтесь, если поверхность можно видоизменять, украшать, декорировать, то, прикасаясь к глубине, мы неизбежно прикасаемся к истине» (Conversation avec Cézanne. Paris: Macula, 1978. P. 115).
13
Сплошной (англ.) живописи. — Прим. пер.
14
Единичности (англ.). Серия абстрактных картин Ньюмана конца
1940-х —начала 1950-х годов. — Прим. пер.
15
«Ночь, когда Марсель выпил лишнего: его возвращение в гостиничный номер, „Новобрачная14, еще не оконченная, стоит напротив его кровати, превращенной в кошмарном сне в огромное насекомое, которое сжимает его в своих лапах» (Gough Cooper J.} CaumontJ. Chronologie. Op. cit. P. 66).
16
«Любая воображаемая связь неизбежно подчиняет субъект и объект отношениям типа ты или я. То есть: если это ты, то меня нет. Или: если это я, то нет тебя. Вот здесь-то и вмешивается символический элемент» (Лакан Ж. Семинары. Кн. 2. Цит. соч. С. 242).
17
Mallarmé S. Le jury de peinture pour 1874 et Manet//La Renaissance.
12 avril 1874. Цит. no: Manet raconté par lui-même et par ses amis.
Genève: P.Cailler, 1953. T. I. P. 168.
18
Ср.: Greenberg С. Modernist Painting //Art and Littérature. №4 (print-emps 1965).
19
«Живопись» или «кубистская живопись» — в данном случае эти имена строго равнозначны: «Дабы не осудить всю современ-
20
Лишь завершив книгу, я осознал, что разрешение этого парадокса содержится в «Критике способности суждения», что достаточно, возможно, просто перечитать ее сегодня, заменив слово «красота» везде, где Кант его употребляет, словом «искусство». С некоторыми поправками, обусловленными заменой, решение окажется тогда таким же, какое Кант дает антиномии эстетического суждения.
21
Имеется в виду симультанная живопись, от франц. simultané— одновременный.— Прим. пер.
Резонансы

С ОТЪЕЗДОМ из Парижа в Мюнхен Дюшан покидает группу французских кубистов и меняет контекст, погружаясь в среду, доминирующее положение в которой занимают экспрессионисты.
Это изменение контекста чаще всего игнорировалось историками искусства и биографами Дюшана, чему есть несколько уважительных и не очень уважительных причин. Биографических свидетельств о пребывании Дюшана в Мюнхене крайне мало: неизвестны не только мотивы его отъезда из Парижа, но и основания, по которым он выбрал Мюнхен, а не Вену, Прагу или Берлин — города, где он останавливался по пути обратно. Чем он занимался в Мюнхене, тоже почти не известно. Благодаря одной фотографии и переписке с Аполлинером мы знаем, что Дюшан приходил к фотографу Гофману в дом 35 по Шеллингштрассе, чтобы сделать фотопортрет, а благодаря почтовой карточке, отправленной Жаку Бону,—что он время от времени посещал мюнхенские пивные. И это почти все. Известны две картины и четыре рисунка, выполненные художником в Мюнхене, все остальное, что могло быть сделано им там, остается открытым для гипотез. Во всяком случае отсутствие свидетельств позволяет предположить, что все время, проведенное им в столице Баварии, Дюшан прожил весьма уединенно и не вступал в сколько-нибудь значимый контакт с местными художественными кругами.
Такова первая причина, оправдывающая сдержанное молчание историков и биографов по поводу значения мюнхенского периода. Есть и вторая, не менее примечательная: ничто ни в творчестве, ни в жизни Дюшана не позволяет сблизить его с немецким экспрессионизмом, который именно в 1912 году и именно в Мюнхене — когда «Синий всадник» подхватывает почин дрезденского «Моста» — переживает расцвет. Ясно, что между Дюшаном и экспрессионизмом нет ничего общего, что Дюшан не только не обладает темпераментом экспрессионистов, но и, в отличие от них, не является «художником темперамента»: в его искусстве нет ни религиозного чувства, ни социального протеста, ни символизма природы, ни отождествления с неким Всеединством, ни чувства причастности к выражению некоего общего — германского или иного— Zeitgeist1. Короче говоря, подозревать влияние экспрессионистов на Дюшана нет оснований, что и является вполне естественной причиной безучастности историков искусства к сколько-нибудь пристальному анализу его мюнхенского периода.
Однако то, что «работает» над художником, отнюдь не исчерпывается влиянием, и традиционные методы истории искусства, на мой взгляд, чрезмерно доверяют этому понятию, полагая, словно речь идет о всеобщем законе, что эволюция художника наилучшим образом описывается посредством диалектики, состоящей почти исключительно из влияний и разрывов. Помимо влияния, существует множество иных путей, позволяющих проникнуться контекстом и извлечь из него те или иные выводы для своего искусства. Как мы уже знаем, пребывание в Мюнхене совпало с решительным поворотом в жизни и творчестве Дюшана, смысл которого, хотя и оставшись зашифрованным, открылся художнику во время чувственного и интеллектуального опыта, пережитого им в ходе работы над «Переходом от девственницы к новобрачной». Можно решить, что этот опыт был порожден острой потребностью в уединении и мюнхенское окружение Дюшана никак на него не повлияло, однако ничто не запрещает предположить обратное. В двадцать пять лет человек чаще пускается в путешествие не для того, чтобы скрыться в башне из слоновой кости, а для того, чтобы посмотреть мир. Впрочем, каковы бы ни были тайные причины, по которым Дюшан выбрал Мюнхен, приехал он туда готовым к новым открытиям и исполненным любопытства. Возможно, он действительно не познакомился ни с кем из местных художников — наверняка он был еще слишком неуверенным в себе, чтобы рисковать знакомствами, которые вполне могли увести его в сторону от пути к признанию. Отнюдь не исключено при этом, что, как художник-фланер в духе Бодлера, он обошел город вдоль и поперек, впитал его полубуржуазную-полубогемную швабскую атмосферу и не упустил случая побывать хотя бы на одной выставке из тех, что свидетельствовали о сложной культурной жизни этой очень отличной от Парижа художественной столицы, странным образом колебавшейся между своей среднеевропейской умудренностью и влиянием пограничного авангарда из России и особенно Франции. Эта гипотеза по меньшей мере столь же вероятна, как потребность в одиночестве, и нисколько последней не противоречит. А потому она заслуживает тщательной проверки с учетом всех необходимых предосторожностей.
Прежде всего, не будем стремиться к воссозданию биографической канвы. Это потребовало бы изучения мюнхенских архивов, которое, при всей своей важности, не входит в мои задачи. Но не будем и возводить интерпретацию произведений Дюшана на предположениях по поводу того, что он мог делать или видеть в Мюнхене. Подобное здание оказалось бы крайне уязвимым для возможных опровержений в свете результатов будущих исследований. Попытаемся лишь кратко описать характер художественных проблем и практик, встреченных Дюшаном по приезде в Мюнхен, не ища каких-либо влияний, но рассматривая это «состояние проблем и практик» как силовое поле, которое допускало или не допускало, поддерживало или не поддерживало те или иные его замыслы, рожденные мюнхенским откровением, обретение которыми собственной силы было, конечно, впереди.
В Мюнхене опыт живописи и особенно работы над «Переходом от девственницы к новобрачной» подвел Дюшана к порогу откровения, которое я, повторив формулу Лакана, назвал выше «откровением символического»: живопись названа, всегда уже-названа до того, как художник, движимый желанием стать живописцем, начнет картину; его историческая задача в культуре, очерченной во времени и пространстве границами авангарда, сводится к тому, чтобы разорвать именующий живопись договор и в то же время предвосхитить новый договор, который впоследствии будет заключен по ее поводу; судьба же художника, которому это открылось, связана со смертью живописи, поскольку эта смерть, всегда уже объявленная, является парадоксальным историческим условием ее выживания, отсрочкой произнесения ее имени.
Через несколько месяцев после Мюнхена это откровение будет засвидетельствовано изобретением реди-мейда. Дюшан впервые оставит живопись — во всяком случае живопись как делание и видение, как удовольствие ремесленника и «обонятельную мастурбацию». Но не расторгнет при этом парадоксальную сделку, связывающую его с историей живописи, напротив— сконцентрирует акт живописания в простом оглашении самого этого договора: в объявлении одновременно о смерти живописи и о продолжении ее жизни, о разрыве договора и об ожидании нового договора, каковые как минимум со времен Мане служат трассировкой судьбы художника-авангардиста, в объявлении — по восполняющей спирали — имени. Переход от «обонятельной мастурбации» к «своего рода живописному номинализму» будет вторым переходом в цепи, начатой тем, что вел от девственницы к новобрачной, и его, в свою очередь, засвидетельствует в 1913 году «Велосипедное колесо» — в ситуации еще более однозначного непризнания, поскольку само слово «реди-мейд» будет произнесено лишь два года спустя.
Рассматривать «состояние художественных проблем и практик» в Мюнхене 1912 года во всей сложности его предпосылок и оттенков было бы для нас излишним. Его анализ в качестве силового поля должен основываться на некоем представлении об источнике названных сил. Это представление дает реди-мейд, причем сразу в двух аспектах: как готовый, промышленный и утилитарный, объект —таков его провокационный аспект «неискусства»; и как цвет, как высказывание цвета — таков его аспект «искусства» и его своеобразная связь с живописью и ее историей. Первый из них вполне понятен и, в свою очередь, делится на два: аспект утилитарности, противопоставляемой объекту созерцательного искусства, и аспект готовности, противопоставляемой ремесленному деланию. Второй аспект, которому предстоит дальнейшее развитие, требует специального комментария. Дюшан говорит о нем в нескольких интервью, объясняя в связи с реди-мейдами, но также и некоторыми «кубистскими» картинами вроде «Обнаженной, спускающейся по лестнице», что для него слова — имя, название этих произведений — призваны были «придать объекту цвет».
Мюнхен, в котором Дюшан уединяется в июле-августе 1912 года, означает для нас, таким образом, не весь художественный ландшафт баварской столицы в целом, а поле возможного резонанса, постфактум уточненное тем, что действительно прозвучало впоследствии в его творчестве. Оно одновременно больше и меньше сонма экспрессионистских индивидуальностей, различимых в круге «Синего всадника». Оно объемлет все, что летом 1912 года так или иначе свидетельствовало о вхождении в живописную практику новшеств, связанных с утилитарностью, техническим исполнением и, наконец, с цветом.
Программа подобного исследования требует от нас дополнительной гипотезы: мюнхенская художественная среда сама по себе достаточно отличалась от среды парижской, чтобы «состояние проблем и практик» выражалось в ней, по сравнению с Парижем, совершенно иначе. Так, иным здесь было восприятие постимпрессионизма и кубизма; по-другому развивалась институциональная история авангарда; иным, нежели во Франции, скрещением традиций определялась характерная для «Синего всадника» проблематика цвета; официальное имя искусства диктовалось не французской парадигмой изящных искусств, а иными разграничениями, уделяющими совершенно другое место декоративным искусствам и Kunstgewerbe2; и т.д. Наша гипотеза сводится к тому, что это созвездие различий между Парижем и Мюнхеном само по себе могло изменить характер вопросов, которыми Дюшан задавался по поводу своего занятия, а, возможно, и породить новые вопросы, даже если он об этом и не догадывался. Теперь нужно кратко охарактеризовать эти различия.
Мюнхен в 1912 году
Творчество Ганса фон Маре, представителя, наряду с Беклином, Фейербахом и Клингером, итальянизирующего направления в живописи, так называемой идеалистической романтики, уходящей корнями к Фридриху, Рунге и назарейцам, было по-настояще-му открыто в Мюнхене только в 1908 году, тридцать лет спустя после смерти художника, когда его картины экспонировались в «Сецессионе» рядом с работами Ходлера и Мунка. Эту примечательную задержку можно считать первым свидетельством того, что взаимоотношения авангарда и академизма в Германии и, в частности, в Мюнхене строились по иному принципу, нежели характерная для Парижа резкая оппозиция официального и независимого искусства. Маре, как, впрочем, и Беклин, а во Франции — Буг-ро, принадлежал к поколению Сезанна1. Но если для Парижа конца XIX века Бугро и Сезанна можно считать символическими фигурами, вокруг которых группировались, соответственно, академисты и авангардисты, то в Германии подобные институциональные противопоставления не были столь отчетливыми и допускали взаимопроникновение, которое теперь, по прошествии лет, кажется странным. Так, критик Пауль Фехтер, первым сформулировавший общую теорию экспрессионизма, еще в 1914 году связывал с наследием Маре художественные новшества группы «Мост». Поэтому соседство Маре и Мунка в залах «Сецессиона» 1908 года было в каком-то смысле оправданным; во всяком случае оно не было следствием «подрывного сосуществования» передовых и отсталых художественных институтов, подобного тому, которое определяло французский культурный пейзаж.
К 1912 году Маре давно уже умер, но Франц фон Штук, ученик Беклина и в недалеком прошлом учитель Кандинского и Клее, продолжал как бы издалека направлять художественную жизнь Мюнхена. Он по-прежнему выставлял в «Сецессионе» аллегорические и мифологические картины, принесшие ему славу на рубеже веков, и его консерватизм, хотя и будучи уже мишенью яростных атак авангарда, сохранял влияние на мюнхенских художников; и в «Сецессионе», и в «умеренных» художественных журналах вроде «Die Kunst» его авторитет был неоспорим.
Само слово «сецессион»2 говорит об ином, по сравнению с Парижем, характере определяющих для истории модернизма институциональных конфликтов в Австрии и Германии. Если в Париже ключевым для них был механизм отказа, отклонения, то в Мюнхене, Берлине и Вене — механизм раскола. После Салона Отверженных, который и в этом смысле имеет парадигматический статус, конфликты авангарда и академизма в Париже направлялись сверху откровенно политическим образом, в основе которого лежал жест исключения, исходящий со стороны официальных властей — Академии или Французского общества художников. Поэтому авангард регулярно оказывался перед необходимостью сплочения в виду отказа, мишенью которого он становился, сплочения изгнанных (временно) вовне. Напротив, в Вене, Мюнхене и Берлине инициатива, судя по всему, столь же регулярно исходила от самих художников, которые, чувствуя себя, с одной стороны, передовыми, а с другой — занимающими неоправданно низкое положение в художественных институтах, переходили в наступление и устраивали раскол. Авангард здесь определялся изнутри художественного института, посредством выхода из него3.
В зависимости от того, какой парадигме повинуется динамика авангарда — отказу или сецессиону, имя искусства становится объектом различных стратегий и складывается различное отношение к традиции. Согласно модели отказа, официальный институт числит за собой право устанавливать законные границы применения этого имени и обвиняет авангард в стремлении их нарушить. В результате создается контринститут, который заключает новый договор в отношении живописи и в конце концов принуждает институт официальный к пересмотру имени искусства и расширению его понятия. Идея авангарда формируется, таким образом, на основе мнимого разрыва с традицией, не намеренно осуществленного художниками, а как бы навязанного им сверху, поскольку единственная оставленная им стратегия сводится к тому, чтобы всеми силами отстаивать за собой этот разрыв как доказательство современности и начало новой традиции. Согласно же модели сецессиона, авангардисты используют конфликт (который может быть, а может и не быть отклонением) в качестве повода к тому, чтобы выйти из официального художественного института, когда существующий договор по поводу имени искусства становится, с их точки зрения, слишком жестким. На сей раз авангард идет в наступление и возлагает на себя функцию пересмотра имени искусства, развенчивая его концепцию, созданную противником. Академизм в данном случае — отнюдь не закон и порядок, которым авангард неизбежно противостоит как подрывная сила, а то, что остается от недавнего авангарда, когда в нем истощаются силы раскола. И авангарду совершенно нет нужды претендовать на разрыв с традицией, в котором его, в сущности, никто и не обвиняет. Это он может обвинить академизм в том, что тот является не более, чем мертвой традицией, в то время как авангард сохраняет свободу быть подлинным и жизнеспособным ее наследником.
Часто отмечалось, что искусство Центральной Европы развивалось в начале XX века куда более извилистыми путями, нежели французское, допуская скрещение и продолжение множества предшествующих традиций и в куда меньшей степени повинуясь необратимой власти магистральной исторической тенденции. Причем не потому что там не было конфликтов, проклятий в адрес нового искусства, «революционных» манифестов, обострявших соперничество двух лагерей. Скорее, потому — согласно феномену, который я попытался описать,—что историческая динамика подчинялась там не парадигме отказа, а парадигме сецессиона, раскола. Этим и определялся особый художественный климат Мюнхена, отличный от парижского: его неотъемлемой частью, как и во Франции, были идеологические распри между отдельными группировками, но он допускал компромиссы, наложения, которых более «геоме-тричный» французский дух оставался чужд. Ни венский, ни мюнхенский авангард не чувствовали себя вынужденными самоутверждаться в резком противостоянии монолитному академизму или начинать с чистого листа. Разумеется, их самоопределение вписывалось в необратимый ход истории, однако не исключало соседства с традициями, с одной из которых они чаще всего соотносили и себя.
Парадигма сецессиона прослеживается в немецком искусстве начала века сплошь и рядом, не только в тех случаях, когда художественные движение прямо выступали под этим именем. Первыми на этом пути стали в 1892 году мюнхенский «Сецессион» во главе с Фрицем фон Уде и берлинский во главе с Либерманом. Важно, что два этих одноименных движения вовсе не связывало между собой идеологическое родство: Уде был религиозным художником и находился на полпути между символизмом и натурализмом в духе Лейбля; Либерман же, наряду с Ко-ринтом и Слефогтом, входил в немногочисленный круг немецких импрессионистов. В 1897 году Климт основал и возглавил венский «Сецессион», и на сей раз идеологической основой движения послужило Ар Нуво. В 1910 году берлинский «Сецессион» раскололся, дав рождение «Новому Сецессиону», в состав которого вошли Нольде, Пехштейн, Кирхнер и Шмидт-Ротлуф, то есть большинство участников «Моста», еще не называвших себя экспрессионистами. В 1912 году возник «Сецессион» в Кельне, но здесь слово уже не подразумевало раскол, а обозначало просто-напросто общество художников, пожелавших продемонстрировать свою благонамеренную современность. Тем временем мюнхенский «Сецессион» очень быстро перешел на академические рельсы4.
Уместно будет указать и на другое отличие: мюнхенские авангардисты не находились, как это было в Париже, под влиянием прямой исторической цепи «реализм — импрессионизм — сезаннизм — кубизм», они воспринимали эти движения (если вообще их воспринимали) в странном хронологическом беспорядке, с иначе расставленными акцентами и в совершенно иной взаимосвязи между собой5. В начале XX века «Сецессион», до того более или менее верный натурализму, стал уделять все большее место Ар Нуво, которое пропагандировалось с 1896 года журналом «Югенд». Натурализм Менцеля и Лейбля, единственная нить, связывавшая немецкое искусство с французским реализмом, выродился к этому времени в сельский мистицизм группы «Die Scholle»6. Все большие трудности с нахождением своего зрителя испытывал и импрессионизм. Коринт и Слефогт, переехавшие из Мюнхена в Берлин в 1900-1901 годах, наряду с Либерманом пришли к этому стилю через тридцать лет после своих французских предшественников. Возможно, этим отставанием объясняется парадоксальное отношение к импрессионизму в Мюнхене: для Академии, «Kunstverein»7 и даже для «Сецессиона» он был слишком современным, тогда как Кандинский считал его пройденным этапом и на страницах книги «О духовном в искусстве» усматривал в нем не более чем натурализм и позитивизм. Впрочем, книга вышла только в 1912 году, а до того Кандинский в 1901-м основал и в 1904-м распустил группу «Фаланга», призванную объединить молодых художников и дать им возможность выставляться. Судя по тому, каких французских художников эта группа с воинственным названием пыталась преподнести мюнхенским живописцам в качестве примера, «Фаланга» тоже не ускользнула от противоречий, связанных с поздним открытием импрессионизма: на ее 7-й выставке (1903) экспонировались работы Моне и Писсарро, на ю-й (1904) —неоимпрессионисты, в частности Синьяк, Лапрад и Ван Рюс-сельберг, но рядом с ними находилось место (для нас сегодня немыслимое) Фландрену! Несомненно, впрочем, что Кандинский хотел тем самым компенсировать «вдохновенной» символистской живописью то, что в неоимпрессионизме казалось ему чрезмерно материалистичным.
Хотя импрессионизм не встречал одобрения как со стороны академизма, так и со стороны авангарда, нельзя сказать, что наследие Сезанна совершенно игнорировалось. Но его имя с примечательным постоянством ассоциировалось немцами с именами Гогена и Ван Гога, и ко всем троим примыкал Мунк На выставке мюнхенского «Сецессиона» 1904 года и тогда же в «Художественном союзе» Сезанн, Гоген и Ван Гог демонстрировались в одном зале, группа «Мост» ссылалась главным образом на Гогена, Ван Гога и Мунка, а критика единодушно упоминала всех четверых вместе так, словно речь шла о вполне естественной группировке. Лишний раз это подтверждается тем фактом, что выставка «Sonderbund»8 1912 года — авангардистский форум, состоявшийся летом 1912 года в Кельне (Дюшан, возможно, посетил его на обратном пути в Париж),—также прошла с явственной оглядкой на Ван Гога, Сезанна, Гогена и Мунка, «мастеров, заложивших основы современного движения»9.
Из сказанного выше понятно, что наследие Сезанна воспринималось в Германии совершенно иначе, чем во Франции, как шаг в направлении экспрессионизма, а не кубизма. За исключением Фай-нингера, который начал активно выставляться позже и к тому же сформировался в США, нельзя назвать ни одного немецкого кубиста. Что же касается французских кубистов, то их в Германии либо не знали, либо отождествляли с экспрессионистами. Берлинский «Сецессион» 1911 года выставил одиннадцать французских художников в отдельном зале под общим названием «Expressionisten». В их числе соседствовали фовисты (но не Матисс) и Брак, Пикассо и Эрбен (действительно, с протокубистски ми произведениями). На пятой выставке «Штурма» в августе 1912 г°Да Вальден представил шесть французских художников, в том числе Брака, Пикассо и Мари Лорансен, вновь назвав их «французскими экспрессионистами». И в любом случае до выхода в 1914 году книги Фехтера «Экспрессионизм», в которой этот термин употребляется исключительно в отношении групп «Мост» и «Синий всадник», он почти всеми авторами использовался как широкое обозначение интернационального движения, «оппозиционного импрессионизму»10. Даже для Клее кубизм в это время не более, чем «особое ответвление экспрессионизма»11.
В Мюнхене первым отдает должное кубистам Кандинский. Повинуясь динамике сецессионов, он и Яв-ленский выходят в 1909 году из «Художественного союза» и основывают «Neue Künstlervereinigung»12, который два года спустя познает общую сецессио-нистскую судьбу, когда Кандинский сложит с себя полномочия его главы, чтобы с новыми единомышленниками основать «Синий всадник». И в этот «Новый союз художников», на выставке которого в 1910 году экспонировались картины Брака и Пикассо, вошли двое французов — Ле Фоконье и Пьер Жирьё13. Это практически единственное напоминание о кубистах в Мюнхене начала 1910-х годов, и оно опять-таки связано с движением, которое позже получит название «Синий всадник», ни в коей мере не свидетельствуя о существовании того самостоятельного авангарда, каким кубизм был во Франции Какое иное свидетельство французского присутствия мог заметить Дюшан в художественном Мюнхене 1912 года? В начале года Новая Пинакотека приняла в дар значительную коллекцию нового французского искусства, собранную скончавшимся незадолго до этого Гуго фон Чуди, человеком широкого художественного кругозора, в бытность его директором Национальных музеев в Берлине, а затем в Мюнхене. Охватывая период от Курбе до Матисса, дар Чуди отразил всю историю импрессионизма, а в последующем искусстве сделал акцент на неоимпрессионизме Люса и Синьяка, сразу вслед за которым следовал в коллекции Матисс14. Этот факт можно рассматривать как единственный противовес холодному приему импрессионизма в Мюнхене, свидетельствующий о своеобразном историческом пропуске: еще не будучи принят академическими кругами и уже будучи отвергнут «Синим всадником», импрессионизм из собрания Чуди получил статус музейного искусства. Вместе с тем предлагая, как и всякое музейное искусство, свое прочтение истории, он вел не к кубизму, а к дивизионизму и фо-визму, то есть к тому искусству и тем теориям цвета, в которых выходцы из другой традиции Франц Марк и Кандинский найдут серьезную поддержку для своей практики.
Таково в самых общих чертах «состояние художе-ственных проблем и практик», предшествующее возникновению «Синего всадника», которое Дюшан обнаружил вскоре по приезде в Мюнхен. Разумеется, оно не могло явиться ему с отчетливостью синтетической картины, которая приобрела стройный вид по прошествии времени. Оно носило характер климата с подразумеваемой этим словом долей расплывчатости, не поддающейся теоретизации, но и с его способностью воздействовать на интуицию. Мне кажется, что молодой художник, впервые покинувший среду, в которой он сформировался, должен быть особенно чувствительным к подобному климату или во всяком случае к тому, что отличает его от климата его родины. Поэтому позволительно предположить, что Дюшан почерпнул нечто в Мюнхене —посредством, скажем так, осмоса,—и почерпнутое им выразилось в ряде сделанных для себя допущений. Они таковы:
1. — Сезанн не является в Германии совершенно непризнанным, но он «неверно интерпретируется» немецким искусством. Сам Сезанн, конечно же, с негодованием отверг бы ассоциацию его имени с именами Ван Гога и Гогена: об этом свидетельствуют его резкие возражения Эмилю Бернару, которого восхищали все трое15. Точно так же ее отвергли бы и кубисты, считающие себя законными наследниками Сезанна. Насколько история французского авангарда проходит через Сезанна и сезаннизм, настолько история немецкого авангарда идет иными путями, на которых препятствие-Сезанн ей не встречалось. Будучи в конфликте с этим препятствием, подлинным именем-отца, молодой Дюшан мог почувствовать от пребывания в Мюнхене, которое, как он признавался позднее, «послужило поводом для его полного освобождения», облегчение: возможна другая история живописи, не обязанная постоянно оглядываться на Сезанна. Необходимость вытеснять и сублимировать эдиповский конфликт с мастером из Экса может быть частично снята. Цензура, которая направляла движение его желания стать живописцем вдоль ассоциативной линии «женщина — живопись», может ослабить бдительность, и вытесненное означающее Сюзанна/Сезанн может вернуться, вызвав откровение, о котором я уже говорил. Мы никогда не узнаем, так это было или не так. Единственное, что мы можем сказать, это что гораздо более спокойное отношение к Сезанну в мюнхенской художественной среде могло создать благоприятные условия для подобного биографического события. Располагая живописным фактом —я имею в виду «Переход от девственницы к новобрачной»,—и его интерпретацией в том виде, в каком я представил ее выше, мы можем соотнести его с этой особенностью мюнхенского климата и заключить, что он произвел на картину воздействие.
2. — Мюнхенское восприятие импрессионизма и кубизма подкрепляет это заключение. В числе того немногого, что роднит Дюшана с Кандинским, их отношение к импрессионизму, который они оба осуждают: один — как «сетчаточную живопись», другой — как «натуралистическую». Но если в Париже это суждение, общее также для Глеза и Метценже, направит кубистов к отстаиванию реализма представления в противовес реализму зрения, то в Мюнхене оно приведет Кандинского к абсолютному отказу от всякой идеи реализма. Подобным образом, следствием парижско-кубистской интерпретации импрессионизма станет отказ от цвета, сочтенного слишком декоративным и содержащим очень мало представления. А в Мюнхене — наоборот: Кандинский и Марк освободят цвет именно потому, что его автономия по отношению к изображаемому предмету покажется им наилучшим подспорьем новой концепции живописи, свободной от всего сетчаточного. Да, опорой для этого им послужит связанная с цветом чуждая импрессионизму теоретическая традиция, которая приведет их к идее языка эмоций и своеобразного кода выразительности цветов, каковая во французской живописи отсутствует. И это тоже благоприятная ситуация для Дюшана. В предшествующий Мюнхену год он, приобщившись к кубизму, тут же с ним разошелся. Невзирая на желание преодолеть его «побыстрее», он остался для Дюшана предметом оглядки. Ни Делоне, ни Купка, которые почти у него на глазах работали над тем, чтобы уйти от кубизма через цвет, судя по всему, не привлекли его внимание и тем более не оказали на него влияния. Именно здесь, в Мюнхене, он открыл цвет —в климате, свободном от авторитета кубизма и характерного для него вытеснения цвета. Будем, однако, усматривать в этом только допущение, но ни в коем случае не влияние. Дюшан не стал колористом. И тем не менее именно в результатесовершенно особой рефлексии над цветом и практики цвета возникла —в точке скрещения двух теоретических традиций, нашедших отзвук друг в друге,— идея «живописного номинализма».
3- — Вследствие динамики сецессионов мюнхенский авангард не находится с академизмом в том резком противостоянии, которое характеризует парижскую сцену. И начинать с чистого листа ему не приходится. В Париже художник-новатор сначала оказывается отвергнут, обвинен в «неискусстве». Отсюда конфликт личностей, стилей и идеологий, выливающийся в конфликт институтов, поскольку именно официально утвержденное имя искусства всегда конфликтует со своим соперником. Когда постфактум провокация художника признается и удостаивается имени искусства, она тем не менее тянет за собой коннотации «неискусства», связанные с ее отклонением. Так создается обманчивый образ истории искусства, которая «движется вперед» не иначе, как включая в себя наслоения самоотрицаний, словно изменить традицию означает стереть ее из памяти и словно гарантировать себе будущее можно лишь сбросив со счетов прошлое. Динамика сецессионов не порождает подобной иллюзии чистого листа. Она оставляет место провокации в определенном нами выше смысле забегающего вперед требования признания, но, поскольку художники выступают здесь с инициативой раскола, а не институты —с инициативой отклонения, провокация выглядит не столько как попытка уничтожить традицию вообще, сколько как разрыв с уже мертвой традицией. Для живописцев мертвая традиция иначе именуется «искусством музеев». Там, на своем месте, она заслуживает уважения, не вызывает с их стороны никакой агрессии и остается доступной для новых живописных интерпретаций. Для авангарда, функционирующего по модели сецессиона, технический и эстетический разрыв с традицией не является движущей силой современности и даже не выглядит таковым.
Выше я подчеркивал, что Дюшану не был свойствен фантазм чистого листа. Так же как, впрочем, Мане или Сезанну: первый, напротив, неустанно стремился примкнуть к традиции, а второй — «воссоздать Пуссена». Художники начали соглашаться с приписываемой им идеологией нового лишь начиная с футуризма и дадаизма. Презрение Дюшана к футуризму известно, равно как и его нежелание быть причисленным к дадаистам. Он никогда не хотел сжигать музеи, подобно Маринетти, и никогда не хотел покончить с искусством, как завсегдатаи кабаре «Вольтер». Его «дадаизм» никогда не подразумевал социального осуждения искусства —исключительно личное размежевание16. Он никогда не хотел отвергнуть традицию и не верил, что это возможно; он никогда не стремился порвать с ремеслом, чтобы стереть всякую память о нем. Так или иначе, в Мюнхене он старается, но не чувствует себя способным создать живописное новшество, героическая современность которого проистекала бы из отвергаемого им прошлого или из того, в чем прошлое ему отказывает. Лебель отмечал, что по фактуре мюнхенские картины Дюшана «кажутся непосредственно наследующими старым мастерам»17. Возможно, в этой фактуре сказался сам мюнхенский климат, менее авангардистский и менее догматический по сравнению с парижским. Чувствуя себя увереннее в среде авангардистов, которые, констатируя, что их прошлое не имеет жизнеспособного продолжения, не отрицают его, но расходятся с ним, чтобы подчеркнуть тем самым свою верность ему, Дюшан мог, никого не стыдясь, отдаться живописной практике, связанной через посредство ремесла с избранной им для себя традицией. И это если не «объясняет» его недолгое возвращение к технике старых мастеров, то во всяком случае создает условия, которые допускают его и образуют поле его возможного резонанса.
4. — В самом деле, сразу после Мюнхена Дюшан словно бы переходит от парижской стратегии к мюнхенской. Он только что создал свой шедевр (в старинном, цеховом смысле этого слова), подтвердил овладение живописным ремеслом. И что же он делает?
Он прекращает писать, уходит в сторону, отказывается. «Отказ от живописи» —это, вне сомнения, стратегия. Ведь если бы Дюшан оставил ремесло живописца ради чего-то другого, например, ради профессии библиотекаря, об этом никто бы не говорил, ничто не заставляло бы возвращаться к вопросу о смысле этого «отказа». Но он требует рассмотрения именно потому, что смысл этого «отказа» — стратегия, причем стратегия характерно живописная. Она ничем по сути не отличается от той, которая побудила Мане отказаться от светотени, а Сезанна — от линейной перспективы. Она по сути аналогична отказу от изображения — стратегии, которую независимо друг от друга избрали в это же время такие разные художники, как Купка, Мондриан, Делоне, Пикабиа, Кандинский и Малевич. Но это не стратегия, отвечающая отказом на отказ. Это не та провокация, что отстаивает за собой негативное живописное новшество, признания значимости которого добивается художник. Провокация здесь в другом — в отступлении в сторону, в расхождении: оставляя живопись, Дюшан очерчивает объем этого имени применительно к мертвой традиции. Он отправляет в музей всю живописную традицию, включая современный ему авангард и свою собственную живопись, последние картины—«Переход», посредством которого он завершил свое становление-живописцем, и «Новобрачную», которая уже говорит об этом становлении в прошедшем времени.
Конечно же, этим анализ «отказа» Дюшана от живописи исчерпываться не может. Но пока ограничимся выводом о том, что в Мюнхене он нашел благоприятные для себя условия и, возможно, модель художественной стратегии, выражавшейся в практике сецессионов, которая в Париже — в среде, функционирующей по модели отказа-отклонения,—сразу приобретет провокационный смысл. И в то же время заключим, что сложный комплекс условий художественной практики в Мюнхене придает этому отказу особое звучание, характеру, диапазону которого будет посвящен наш дальнейший анализ.
Марсель Дюшан, художественный работник
Ответом Дюшана на отклонение в 1912 году «Обнаженной, спускающейся по лестнице» Салоном Независимых стал сецессион, когда по возвращении из Мюнхена он выбрал для себя следующий девиз: «Довольно живописи, Марсель. Пора искать работу!». Таким образом, череду неудач, начавшуюся в 1905 году с провала на вступительном конкурсе в Школу изящных искусств, завершил, как кажется, отказ от живописи. Однако ироничная логика «коммандитной симметрии», направляющая, возможно, всю жизнь нашего художника, позволяет усмотреть в этом отказе также и завершение серии успехов, которая в том же 1905 году началась опять-таки с сецессиона —выразившегося тогда в отдалении .
Вскоре после неудачи на вступительных экзаменах Дюшан, ищущий возможности уклониться от обязательного призыва в армию на два года, узнает, что каждому, кто устроится на работу адвокатом, врачом или художественным работником, дается годичная отсрочка. Не имея ни времени, ни желания вступать на стезю, уже оставленную к тому времени и его братьями, он поступает учеником печатника гравюр в руанскую типографию, с превеликим тщанием осваивает технику печати на материале гравюр своего деда Эмиля Николя и блестяще защищает диплом художественного работника.
Это единственный в его жизни диплом и единственный официальный успех его молодости. По прошествии времени он кажется столь же смехотворным, сколь малозначительным оказался про-» вал в Школе изящных искусств. Но два эти разделенные не более чем двухмесячным интервалом события «симметрично оправдывают» друг друга: врожденная неуверенность в становлении художником словно бы компенсируется признанием в качестве ремесленника. А в Мюнхене, в свою очередь, отменное прилежание в живописной технике позволяет Дюшану осу-ществить-таки становление живописцем, после чего покорившееся ему ремесло и две безусловно успешные картины открывают ему бессмысленность продолжения занятий живописью.
Можно себе представить, с каким «иронизмом утверждения» Дюшан вспоминал позднее об этом своем статусе художественного работника. Но в то время, когда ему больше всего хотелось добиться признания в качестве живописца, он, конечно, понимал, что никакой славы этот статус ему не принесет. В Париже 1910-х годов понятие «художественный работник» означало нечто противоположное понятию «художник». Искусство понималось как мысль, а не исполнение. Не стоит думать, что Дюшан был единственным, кто проклинал «глупость» художников, так же как не он один нападал на «сетчаточную живопись». Все живописцы в авангардистском лагере были едины в стремлении добиться признания их живописной мысли, а вовсе не технического мастерства. По мере того как мастерство руки списывалось авангардом на долю салонных и академических художников, престиж, которого он требовал от живописи, естественным образом сводился к деятельности скорее эмоциональной и концептуальной, чем ручной. И идеологические амбиции новых живописцев в значительной мере побуждали их уклоняться от статуса ремесленников, избегая, в частности, смешения своей практики с декоративным искусством. Чем больше они стремились к «чистой» живописи и абстракции, тем больше становилась и опасность этого смешения, а, стало быть, и стремление отгородиться от утилитарных и ремесленных ценностей, ассоциируемых с декоративностью.
Лишь по окончании Первой мировой войны положение во Франции изменится, и в творчестве некоторых живописцев, как, например, Делоне и Леже, заявит о себе тенденция — впрочем, довольно-таки противоречивая,— к созданию «чистого» искусства, которое было бы в то же время «полезным», включенным в повседневное окружение. И лишь с приходом Ле Корбюзье и основанием в 1925 году общества «Новый дух» и Салона Декоративных искусств эта тенденция получит некоторое признание, после чего начнется медленное проникновение во Францию функционалистской эстетики.
В Германии функционалистское движение имело к этому времени довольно долгую историю, которая, возможно, оказала определенное влияние на «изобретение» реди-мейда.
Нужно принять в расчет две переплетающиеся традиции. Первая из них, хронологически более поздняя,—это традиция функционализма в строгом смысле слова. Прослеживать всю ее историю нет необходимости; напомним лишь некоторые вехи развития новой промышленной эстетики. Простираясь от венского «Сецессиона» до Баухауза, ее путь проходит через «Венские мастерские», через творчество Ольбриха, Гофмана, Адольфа Лооса, через «Немецкие мастерские», основанные в 1906 году Бруно Паулем, через возникший в 1907 году по инициативе Мутезиуса «Художественный союз» (или «Веркбунд»), через первые проекты промышленного дизайна, осуществленные Петером Беренсом в 1907-1908 годах для компании AEG, и т.д. В основном он совпадает с историей архитектуры, но выходит далеко за ее пределы, поскольку перекладывает «чистую», «незаинтересованную» художественную ответственность с самостоятельной персоны художника на новую, наделенную притязаниями на Gesamtkunstwerk18, фигуру Gestalter, «создателя форм». Не вдаваясь в подробности, отметим два обстоятельства: во-первых, функционалистская эстетика—не что иное, как «машинная» разновидность прикладного искусства. Ее претензия на культурообразующую функцию, по крайней мере, не меньше, чем у живописного авангарда, и тесно связана с аналогичной претензией с его стороны. Об этом ярко свидетельствует тот факт, что Вальтер Гропиус, в первой фразе манифеста Баухауза объявлявший архитектуру «конечной целью всякой творческой деятельности», в пору формирования школы окружил себя почти исключительно живописцами19. Во-вто-рых, узловой и наиболее спорной точкой функционалистской идеологии был отказ от ремесленных ценностей в пользу индустриальных, замена эстетики «ручного труда» эстетикой стандарта. Каковые свершились не за один день. В манифесте Баухауза Гропиус еще говорил о том, что архитекторы, скульпторы и художники должны обращаться к традиции ремесел20. Однако уже с 1914 года в недрах «Веркбунда» шла полемика Мутезиуса с Ван де Вельде, в которой первый ратовал за «общезначимость», приносимую стандартизацией, а второй сохранял привязанность к тому «богатому источнику творческого материала», каким было для него художественное ремесло .
Глядя издалека, нетрудно заметить, насколько тесно связано с функционалистской эстетикой — узами все той же коммандитной симметрии — дюшанов-ское «изобретение» реди-мейда. Функционалистская эстетика стремилась растворить автономию и специфичность искусства в общей практике создания среды, которая парадоксальным образом нагружалась всеми качествами чистоты и незаинтересованности, сопряженными с именем искусства. А реди-мейд присваивает имя искусства банальному объекту из окружающей среды, понимаемой отнюдь не в функционалистском смысле, и, отрывая его от употребления, без всяких сопутствующих корректив наделяет бесполезностью и незаинтересованностью того же «чистого» искусства. Функционализм проповедовал внимание к материалам, акцентировку в произведении процесса его производства и полезности в качестве эстетических ценностей, имманентных употреблению и не связанных с институциональной ценностью имени искусства. Реди-мейд тоже акцентирует материал, процесс производства и полезность, но в целях изоляции институциональной ценности имени искусства в ущерб всякой эстетической и всякой потребительной ценности, аннулируя и ту и другую. Наконец, функционализм переносил на производственный процесс нагрузку вкуса и мастерства, носителями которой выступали прежде стилистическая традиция и ручной ремесленный труд, а реди-мейд преподносит себя как промышленный объект, никак не связанный с ремесленной традицией и заведомо предупреждает всякую оценку по степени мастерства и по шкале вкуса, хорошего или дурного.
Эта игра симметрий и соответствий на полных-правах включает жест реди-мейда в проблематику своей эпохи, сыгравшую определяющую роль в развитии современного искусства и архитектуры. Однако очевидно, что сам реди-мейд в эту проблематику не вмешивается. Он находит в ней парадоксальный отзвук, но не является ее участником. Он вовлекает ее всю целиком и во всех идеологических вариациях в поле своих условий, но сам в это поле не вписывается. Реди-мейд откалывается. Дюшан не является художником-ремесленником промышленной культуры наподобие тех, которых мечтал готовить Гропиус, как не является и вдохновенным дизайнером машинного производства, каковое стало подлинным искусством века, поскольку сохранило все отличительные черты искусства — талант, труд, амбициозность, культуру,—все, за исключением его имени. Дюшан, работая с тем же материалом, что и функционализм, наоборот, сохраняет от искусства только его имя. Его реди-мейду присущ, так сказать, «обратный функционализм». Согласно коммандитной симметрии, функционалистский объект оказывается тогда «обратным реди-мейдом» — произведением искусства, у которого отнимают имя, чтобы пользоваться им как полезным орудием21. Если рассматривать это обратное соответствие на фоне социальных, даже социализирующих, претензий функционализма и неудач, сужденных им в дальнейшей истории современной архитектуры, оно придает оттенок таинственной истины знаменитому пророчеству Аполлинера, которое стоит процитировать целиком: «Это искусство способно создать произведения, обладающие такой силой, какой оно себе даже не представляет. Может статься, что оно сыграет некую общественную функцию. Подобно тому как некогда по улицам проносили творение Чимабуэ, в нашем столетии летит, направляя нас к „Искусствам и ремеслам", аэроплан Блерио, исполненный человечности, усилий тысяч людей, и необходимой доли искусства. Возможно, столь чуткому к эстетическим задачам и столь энергичному художнику, как Марсель Дюшан, суждено примирить Искусство и Народ»22.
Эти строки написаны осенью 1912 года. Дюшан, только что возвратившийся из Мюнхена, еще не «изобрел» реди-мейд и не знает, что однажды окрещенный «Фонтаном» писсуар, подобно картине Чимабуэ и аэроплану Блерио, будет торжественно пронесен Аренсбергом «так, словно бы это была мраморная Афродита»23. Но между 16 октября и ю ноября он посещает вместе с Леже и Бранкузи Салон Воздухоплавания и, обращаясь к своим спутникам, произносит следующий вердикт: «Живопись кончилась. Кто может создать что-либо лучшее, чем вот этот винт? Скажите, вы можете?»24. Таким образом, он был восприимчив, так же как Салливан, Мутезиус, так же как все пионеры функционализма и так же как позднее Ле Корбюзье, к имманентной и непреднамеренной красоте современной машины, приспособленной к ее функции. Но, в отличие от них, он не проецирует эту восприимчивость в построенную по лекалам этой красоты эстетику намеренности. Он довольствуется констатацией «живопись кончилась», которая объявляет готовые, ready made, винт и аэроплан Блерио, а вскоре —американские мосты и стальные конструкции—единственными достойными наследниками живописи на посту искусства. В Мюнхене Дюшан выполнил рисунок под названием «Аэроплан», никак не связанный с проблематикой «Девственницы» и «Новобрачной». Не был ли он вдохновлен дебатами о функционализме, которые уже тогда велись членами «Веркбунда»? И, с другой стороны, не продиктовал ли он «коммандитным» образом вердикт, произнесенный Дюшаном по возвращении при виде винта? Причинно обоснованных ответов на эти вопросы нет и никогда не будет. В лучшем случае они позволяют предположить, что Мюнхен 1912 года явился исключительно подходящим силовым полем для откровения символического, которое изолировало имя искусства как раз тогда, когда социальная функция художника в индустриальном обществе оказалась связана с вопросом сохранения или исчезновения его практики ремесленника.
Чтобы понять это, необходимо обратиться ко второй (но хронологически первой) традиции, которая вплетена в историю функционализма и из которой функционализм в строгом смысле слова, отчасти, вышел. Речь идет о Kunstgeverbe29. Это слово и обозначаемая им практика не имеют французского эквивалента. «Художественное ремесло», «прикладное искусство» или «декоративное искусство» — лишь приблизительные и частичные переводы этого термина. Несколько лучше передает его смысл выражение «искусства и ремесла», но по целому ряду причин, в том числе институциональных, оно не годится для Франции. Другое дело —для Англии, ведь немецкая практика Kunstgewerbe и его поддержки институтами ad hoc25, так и называвшимися Kunstgewerbeschu-len26, почти напрямую продолжает почин движения «Arts and Crafts»27. Почему во Франции не было движения, подобного английскому «Arts and Crafts»? Почему здесь не родился человек, подобный Уильяму Моррису? Почему Виоле-ле-Дюк, куда более современный в своем понимании «золотого века готики», чем представители английского «Gothic Revival»28, не дал повода для стольких прогрессистских толкований его доктрины, как, скажем, Рескин или, после него, Моррис и Эшби? Почему во Франции художественное ремесло не развивалось в сотрудничестве с авангардом и не имело таких же, как и у него, притязаний? Почему Клеман-Жанен или Поль Бон-кур сетовали в 1912 году: «Декоративного искусства во Франции больше нет»29? В числе объяснений, перегружающих ответ на этот вопрос, есть одно, которое кажется мне относящимся к случаю Дюшана, так как оно касается того способа, каким институты очерчивают сферу применения понятия «искусство» на поверхности общества. Выражение «искусства и ремесла» имеет совсем иное значение, чем его буквальный перевод на английский язык. Дело в том, что оно издавна, по крайней мере, со времен «Энциклопедии», подразумевает иной предмет.
Великий классификационный проект Дидро и Да-ламбера подразделил человеческую деятельность на науки, искусства и ремесла. Когда Конвент вознамерился претворить их толковый словарь в действительность, он, приняв одно решение, осуществил тройную институциализацию: в 1793 году был основан Музей естественной истории, открыта Большая галерея Лувра и создана Консерватория искусств и ремесел. Тройная классификация, тройная педагогика зрения: с одной стороны, область эмпирического и в скором времени экспериментального знания-, мыслящего себя как науку о природе, или научение через наблюдение; с другой — публичное представление самого Представления в его наилучших достижениях, или научение через пример; и с третьей—сжатая демонстрация деятельной мощи человека технического, ремесленника и предпринимателя, или научение через доказательство. Мне кажется, что это тройное деление, осуществленное практически одним решением, имеет парадигматическое значение, что оно направило «музейно-полемическую» историю французского искусства на изолированные, как никогда прежде, пути, надолго стеснив возможные пересечения дисциплин. Бинарная форма, которую приобрело эстетическое суждение и которая, как мы видели, окончательно сформировалась с появлением Салона Отверженных, вполне могла быть его косвенным следствием. Так или иначе, Лувр и Ис-кусства-и-Ремесла поделили между собой имя искусства по вполне обычной для Запада линии, которая разграничивает цель и средства, конечную причину и причину действующую: с одной стороны, искусство как мысль, модель, образец; с другой — искусство как техника, прием или трюк. Техника, ремесленное мастерство и все то, в чем художник остается работником, пусть даже работником художественным, оказалось прописано во французском социальном теле, в его институтах и идеологиях, по иному адресу, нежели «собственно» искусство. Привилегией последнего остались статус Изящных Искусств и их институты: музеи, академия, школы. Во Франции накануне 1914 года три эти солидарные формы одного «государственного идеологического аппарата» переживали кризис, однако по-прежнему навязывали свой исключительный диктат практикам всех направлений и категорически отклоняли притязания худож-ников-авангардистов. Об этом свидетельствует «коммандитная симметрия» провала и успеха: потерпев неудачу на вступительном конкурсе в Школу изящных искусств, Дюшан блестяще сдает экзамен на звание художественного работника.
Тем временем в Германии «Художественные мастерские» переживают расцвет. Они открываются двум диаметрально противоположным и в то же время коррелятивным идейным течениям, которые и в 1920-е годы будут поддерживать драматический характер истории Баухауза, задавая тон его внутренних конфликтов. С одной стороны, мастерские открываются функционализму35. Ценности индивидуальной выразительности, которые еще мог пестовать в своем мастерстве, пусть и на скромном уровне, художественный работник, отступают под натиском коллективной семантики, которую функционализм напрямую выводит из имманентной эстетики машины. Ремесленник интеллектуализируется, поднимаясь тем самым и по общественной лестнице: теперь он не столько изготавливает, сколько проектирует, уравниваясь тем самым уже не с рабочим, а с инженером. Однако ценой этого продвижения оказывается утрата его продукцией «человеческих» и индивидуальных ценностей, еще сохранявшихся в ней до вмешательства разделения труда. Приближаясь к инженеру, ремесленник отдаляется от художника. С другой стороны, эта тенденция порождает встречную, с которой заведомо находится в конфликте. Отдаляясь от художника в плане делания, индивидуальной «руки», ремесленник приближается к нему в плане творчества, степени авторской ответственности. Эволюция «Художественных мастерских» свидетельствует об их открытости и этой тенденции. Первоначально призванные готовить искусных, но не обязательно оригинальных художественных работников, они постепенно уделяют все большее место поиску новых форм и требуют от учащихся все-больше личной инициативы. Так, в 1912 году критик, следивший за этим процессом, заключал, приводя в пример ни больше, ни меньше как Фрисса, Дерена, Матисса, Брака, Пикассо и немцев Мельцера, Пехштейна, Кирхнера, Хеккеля и Шмидт-Ротлуфа, что «Художественные мастерские» дают, возможно, лучшее образование в области современной живописи, чем академии30.
Дальнейшая история обнаруживает это столкновение тенденций с примечательным постоянством. На всем протяжении общей для них модернистской эволюции архитекторы, живописцы и, в особенности, дизайнеры будут яростно отрицать, что являются художниками, настаивая в то же время на самых высоких творческих привилегиях — на праве создавать новое, формировать новый язык, строить новую культуру, закладывать в основание общественного договора суждение вкуса, обобщенное для всей возводимой среды. Призванием Gestaltung31 будет расширение сферы действий и требований художника на все социальное тело, от кофейной чашки до территориального планирования, невзирая на исчезновение его ремесла и самого статуса. Такова противоречивая идеологическая программа, которую с незначительными вариациями мы встретим во всех разновидностях функционалистского проекта. Ее явственной печатью отмечен, помимо дюшановского, еще целый ряд «отказов» от живописи — например, у Родченко. Ее от съезда к съезду повторял CIAM , пока не оказался расколот внутренними противоречиями. И, наконец, в 1920-х годах борьба ее несовместимых составляющих достигла предельной остроты в конфликтах Гропиуса и Ханнеса Мейера в Баухаузе или супрематистов и производственников во Вхутемасе.
Поэтому в 1912 году любой иностранец, столкнувшийся с «Kunstgewerbe», быстро отметил бы для себя узел противоречия, который при взгляде изнутри оставался скрыт в хитросплетениях актуальной полемики. В самом деле, складывается впечатление, что Дюшан, который как раз и был таким иностранцем, прикоснулся к чистому факту, не поддающемуся диалектизации несмотря на любые усилия по разрешению противоречия. С одной стороны, ремесленник и вместе с ним художник-живописец оказались осуждены на экономический упадок вследствие индустриализации ручного труда и на культурную маргинализацию вследствие растущих требований промышленной культуры. С другой стороны, притязанию промышленности на определяющую роль в культуре не могло не сопутствовать соотнесение в сознании, каким бы оно ни было, ее чистой творческой энергии с той или иной традицией. Функционалистским «разрешением» этой дилеммы—-от Морриса до Гропиуса и далее — явилась история поначалу медленного и робкого, а затем наигранно триумфального признания смерти ремесленника, а вместе с ним и живописи. Другим вариантом стал питаемый иллюзией чистого листа фантазм передачи всей полноты власти художника-ремесленника прошлого новому творцу-проектировщику, фантазм совокупного и почти моментального трансфера всего богатства старой, усопшей ныне, традиции грядущей культуре, своей традиции еще не имеющей. Растворение старых различий между ремеслами в идеологической общности Gesamtkunstwerk, не смеющего назвать себя именем Kunst39, требует сознания, которое по-нимало бы, что там, где непосвященный видит лишь смерть и убийство, на самом деле происходит трансфер и передача власти; оно требует памяти, которая могла бы различить в пустоте, оставшейся на месте всего отвергнутого новой эстетикой, высочайшее уважение к упраздненной отныне традиции. Пионеры функционализма считали себя носителями этих сознания и памяти и жаждали безотлагательно передать их массам. Вот почему все они без исключения были прежде всего педагогами, своей первоочередной задачей считавшими ликвидацию пластической безграмотности. Но они стремились воздействовать на общество и, следовательно, на «реальное», упорно отрицая план символического, в котором разворачивалась их деятельность. Подчеркивая, что «форма повинуется функции» и что функция утилитарна, эргономична, «реальна», они отрицали свое собственное вмешательство в эту форму, вселяя иллюзию механического перехода реальности употребления в реальность формы. Таково было их заблуждение, их идеология, проявление их воображаемого. Тогда как их практика свидетельствует о другом — о том, что форма, соответствующая своей функции, есть не что иное, как символ самого этого соответствия. Отрицая это в теории, функционалисты не оставили себе возможности реальной ликвидации безграмотности, реального насаждения культуры. Ведь если бы социальной целью функционализма и впрямь было создание новой культуры, то, чтобы рассчитывать на успех, нужно было бы признать, что планом его реальности является символическое: сознание, память, пространственность социального тела и темпораль-ность истории. Не осознав, что творчество создает культуру лишь со временем, «с учетом всех отсрочек», в возвратном движении символического признания, функционалисты потерпели неудачу.
Оборотная сторона этой неудачи — успех реди-мейда. Складывается впечатление, что Дюшан, который наверняка и не задумывался о разрешении противоречия Kunstgewerbe или функционализма, попал точь-в-точь в их слепое пятно. Реди-мейд выявляет именно то, что функционализм отрицает,—функцию имени. Дюшан выбирает промышленный объект, перемещает, обессмысливает его, и тот теряет всю свою утилитарность, всю эргономичную пригонку формы к функции, но в этот же самый миг приобретает функцию чистого символа. И этот символ — единственное, что может связать с традицией, которая признана мертвой, ожидаемую ценность культуры, находящейся в самом начале своего становления. С одной стороны, реди-мейд не принадлежит к ремесленной традиции, не ищет примирения ремесленника и художника, изготовителя и творца. Но, не принадлежа к ней, он высказывает ее, выступает символом этой непринадлежности, материальным удостоверением смерти ремесленника. С другой стороны, он принадлежит индустрии, но не ищет примирения художника-ремесленника и дизайнера-ин-женера. Никакой художник не создал этот объект своими руками и ни один дизайнер его не спроектировал. Надо полагать, какой-то рабочий его изготовил, а какой-то инженер разработал, но сделанное ими не может претендовать на какую-либо культуру, помимо технической. И, как бы то ни было, поскольку реди-мейд принадлежит индустрии, он ее высказывает и выступает символом этой принадлежности, материальным свидетельством индустриальной культуры.
Фантазм чистого листа, повторю, Дюшану не свойствен. Нет оснований думать, что он считал себя воплощением сознания и памяти об исчезнувшей традиции или что реди-мейд обозначал для него передачу власти от живописца, коим он был, проектировщику, коим он будет. Сознание и память он намеренно оставляет на долю зрителей, «которые создают картины». Пусть потомки скажут, принадлежит писсуар культуре или нет, ему это неважно. Но он приберегает для себя чистую символическую функцию, именующий искусство speech act40. Для него важно имя, договор, который будет объединять будущих зрителей вокруг какого угодно объекта — вокруг объекта, который не вписывается в искусственную окружающую среду и не улучшает ее, но, наоборот, отгораживается от нее, не имея иной функции, кроме как быть чистым означающим, договором как таковым.
Будучи в Мюнхене, Дюшан всего этого еще не знает. Реди-мейд не просто возникнет позже, но будет признан, назван реди-мейдом, еще позже. Однако почему мы должны считать, что реди-мейд явился результатом некоего осознания, тогда как все говорит о том, что он «вышел» из символического прорыва и воплощает явление означающего в чистом виде? При том что означающее «глупо», как и живописец. Хотя оно есть имя как таковое, оно не имеет имени. Понимание того, что имя открывает, приходит позже, когда анализируют его резонанс. В зависимости от выбранного резонатора, мы попадаем тогда в клиническое поле «человека страдающего» или же в эстетико-историческое поле «творящего духа». Я попытался уделить как можно большее внимание последнему, ибо именно в нем означаю-щее-Дюшан оказывается «умным». В нем означающее обретает имя, а именно имя искусства, живописи. Но в то же самое время остается именем имени, именем в своей автонимии: искусство искусства, живопись живописи. Такова особенность вклада Дюшана в культуру: он будет понятен лишь тем зрителям, которые постфактум будут создавать картины. То, что в его мюнхенской практике никаких признаков подобного вклада мы не найдем, и то, что идея критики тупика Kunstgewerbe никогда не посещала его, ничего не доказывает. Речь, напомню, идет (тем более что мы не знаем всего, что делал Дюшан в Мюнхене) лишь о реконструкции среды, климата, для которых, как выяснилось позже, он оказался превосходным резонатором.
Чтобы не поддаться заблуждению, нам вновь следует опереться на историю, понимаемую как поле возможностей. Эволюция Kunstgewerbeschulen является историческим фактом. В 1912 году учащихся направляют в них одновременно к «чистому» искусству и к оторванной от искусства практике Gestal-tung— одновременно к романтическому по сути статусу свободного художника, незаинтересованного индивидуалиста, и к «технократическому» статусу проектировщика, интегрированного в систему экономических императивов. Я соотнес положение Дюшана с точкой пересечения двух этих противоположных тенденций, представив его человеком, который, придя извне, мог воспринять, увидеть узел противоречия. Важно показать, что Мюнхен предоставил ему возможность такого «восприятия». Предполагать, что Дюшан лично посетил какую-либо Kunstgew-erbeschule, нет оснований; вероятность этого крайне мала. Но он наверняка получил сведения о Kunstgewerbe из другого источника. С мая по октябрь 1912 года в Мюнхене проходила колоссальная «промышленная выставка». Или правильнее сказать «выставка промышленного искусства»? Или «ремесла»? Или «мануфактурная выставка»? Так или иначе, называлась она Gewerbeschau — то есть выставка ремесел, но не художественных,—и располагалась в нескольких павильонах, вмещавших невероятное множество изделий, как художественно-ремесленных (керамика, эмали, стекло), так и промышленных (мебель, конфекцион, столовый и кухонный инвентарь). В плане организации выставка следовала образцу торговой ярмарки: огромные залы были разделены перегородками на стенды, под потолком развевались вымпелы и гирлянды, на тумбах, столах и витринах различной формы громоздились всевозможные товары. Это была самая настоящая коммерческая ярмарка в немецкой традиции Jahrmarkte, но посвященная исключительно баварской художественной промышленности. На ней можно было сделать заказ и даже приобрести товар.
Примечательно, что эта Bayerische Gewerbeschau 1912 года явилась вехой в истории Kunstgewerbe. Впервые (по крайней мере, с таким размахом) ремесленники различных корпораций и предприниматели, связанные с художественными промыслами, собрались вместе, чтобы выйти на публику с двойной целью: продемонстрировать художественное и техническое качество своей продукции и обеспечить ее коммерческое продвижение. Эта инициатива безупречно совпадает по времени и характеру с предпринятой Веркбундом инициативой введения стандартов качества, которые должны были включить ремесленников в новые сети распространения на благо культуры, но вместе с тем, конечно же, немецкой торговли и промышленности32. Это устремление вполне созвучно эволюции Kunstgewerbeschulen и отмечено теми же двусмысленностями, дополнительно усиленными тем, что оно имело место в публичной сфере. Пресса, и в частности художественная, откликнулась на мероприятие и вызванные им контроверзы широко и весьма трезво. В целом она отнеслась к Gewerbeschau благосклонно, и почти единодушный аргумент в пользу такого отношения заслуживает внимания. Аргумент этот можно назвать трехступенчатым. Первая ступень — удивление, тревога, даже ужас, с каким некоторые констатировали, что художественное ремесло, прежде дорожившее возвышенной аурой искусства, окружающей его, решилось выйти на публику в вульгарной и меркантильной форме торговой ярмарки. Вторая ступень-колебания и увертки: авторы признавали, что такова цена, которую приходится платить за экономическое выживание ремесел, и связывали «вульгарность» происходящего с народной традицией Jahr-markt, которая, в конце концов, является такой же формой культуры, как и множество других33. И, наконец, третья ступень —облегчение в связи с обнаружившейся возможностью опереться на качественное суждение, без которого никакие притязания на статус искусства не имели бы смысла, а также в связи с тем, что «катастрофического падения вкусов» удалось избежать; авторы обращали внимание на то, что, хотя выставка называется ярмаркой, она тем не менее не является свободным рынком, всецело преданным игре спроса и предложения, а является рынком с отборочным жюри, рынком избранных34. Перед нами художественный институт в конфликте с экономическими и культурными условиями, которых он не предвидел или от которых прежде был защищен. Теперь он оказался вынужден считаться с превратностями массового рынка. Преодолев шок, он их принимает — с той весьма примечательной оговоркой, что распространение его продукции будет следовать принципу отбора. Важно отметить, что ни в одной из посвященных Gewerbeschau статей не упоминаются имена членов отборочного жюри, не обсуждается степень их компетентности, не ставится под вопрос их вкус и обоснованность принятых ими решений. Всех авторов успокаивает сам факт отбора, словно хороший вкус членов жюри гарантирован и опасность китча предотвращена уже тем, что массовое искусство просеяно, будь даже это просеивание сколь угодно произвольным. Поэтому, как мне кажется, из события Gewerbeschau и комментариев к ней можно вывести парадоксальный закон, не признававшийся в качестве такового ни одним из действующих лиц эпохи, но тем не менее являвшийся их тайным оправданием для себя: степень художественности ремесла или индустрии определяется принципом выбора. Вполне возможно, этот выбор основывался на квалификации ремесленников, на их способности к формотворчеству или к соотнесению формы вещи с ее функцией — иными словами, был мотивирован. Но художественность не основывалась на мотивированности выбора, а определялась самим принципом выбора, который изолировал ее, давал ей жизнь, короче говоря —именовал.
Этот же самый закон руководит и реди-мейдом, а реди-мейд — опять-таки посредством «коммандитной симметрии» — выявляет его. Дюшан никогда не стремился делать массовое искусство, наоборот. Он показал, каковы были условия выживания «чистого» искусства в массовом обществе, и основал на этом показе свое искусство. Если мюнхенский художественный институт оказался готов признать художественной массовую демонстрацию продуктов потребления, коль скоро их масса прошла предварительный отбор, то Дюшан объявил художественным какой угодно продукт потребления, лишь бы только он был изъят произвольным выбором из предварительного ряда, в котором массово демонстрировался. Ярмарка Мэрии, на которой через два года он выберет свою сушилку для бутылок, явилась, таким образом, «обратным» следствием Gewerbeschau, которую Дюшан посетил или не посетил, так или иначе оказавшись свидетелем шума вокруг нее во время пребывания в Мюнхене.
Подытожим: «состояние художественных проблем и практик», преподносящееся Дюшану в виде климата как раз в тот момент, когда художественный работник в его лице отомстил за абитуриента, не принятого в Школу изящных искусств, отзывается в последующем событии, имя которому —реди-мейд и которое преподносится нам как стратегический раскол, имеющий все признаки отказа от ремесла. Каковы же были обстоятельства этого «отказа», являющегося на самом деле не отказом от ремесла вообще, а отказом от живописи в частности?
Цвет и его имя

ЛЕТОМ 1912 года центральной фигурой в живописном сообществе Мюнхена был Кандинский. Группировка «Синий всадник», основанная им вместе с Францем Марком в конце 1911 года, провела к этому времени уже три выставки, а его книга «О духовном в искусстве» выдержала два издания и в скором времени ожидала третьего. В апреле отрывок из нее опубликовал журнал «Der Sturm» («Натиск»), и потом сразу три текста, в том числе программную статью «Über die Formfrage», посвятил ей «Альманах „Синего всадника"». Нет никаких свидетельств о знакомстве Дюшана с Кандинским, который был на двадцать лет его старше. Едва ли два эти художника, практически во всем стоявшие на противоположных позициях, нуждались друг в друге в качестве собеседников. Вполне возможно, однако, что Дюшан видел живопись Кандинского в Мюнхене или Берлине, и не исключено, что он читал или пробовал читать «О духовном в искусстве». Экземпляр второго издания этой книги с пометками был обнаружен в библиотеке Жака Вийона. По некоторым источникам, пометки, представляющие собой попытки перевода отдельных пассажей, сделаны рукой Дюшана. По другим — принадлежат его брату Раймону. Так или иначе, дата выхода книги в свет говорит в пользу того, что именно Дюшан приобрел книгу в Мюнхене летом 1912 года35.
«Эти странные существа, называемые красками»
В том, что Кандинский не оказал на Дюшана никакого влияния, сомневаться не приходится. Однако сопоставить двух художников нужно по другой причине. Они оба были заняты размышлениями — во многом противоположными и симметричными по направленности —о связи между цветом и его именем. Дюшан никогда не посвящал этим размышлениям отдельного теоретического изложения, и вполне вероятно, что в значительной мере они так и остались у него «бессознательными». Но, как мы увидим позже, он зафиксировал момент их выхода на поверхность и извлек из него выводы. Этот выход вновь должен быть отнесен нами на счет откровения символического, а сделанные из него выводы сыграют ключевую роль в «отказе» от живописи и «изобретении» реди-мейда. Кандинский, напротив, неоднократно писал о наименовании цветов, и его замечания о нем свидетельствуют, что вопрос об имени сыграл немаловажную роль в отказе от изображения и формировании «чистой» живописи. Эти замечания восходят к различным, преимущественно символистским, источникам, один из которых для нас особенно интересен, так как он касается Kunstgewerbe и их взаимоотношений с живописью. В самом деле, именно в среде декоративного искусства начала века выдвигалась идея абстракции как «безраздельной вотчины орнаменталиста» и в качестве свободного от всякого натурализма выразительного языкапропагандировалась абсолютная автономия цвета. В начале VI главы «О духовном в искусстве» под названием «Язык форм и красок» Кандинский цитирует статью Карла Шеффлера, которая, судя по всему, оказала на него глубокое влияние36. В этой статье Шеффлер, исходя из того, что «каждый наделенный чувствами человек спокойно развивает свой собственный символизм цвета, каковой есть нечто большее, нежели произвольная игра», говорит о существовании своего рода языка и даже лингвистики цветов, приводящей на память символистские соответствия и, в частности, сонет Рембо «Гласные»37. И, огласив эту предпосылку, призывает к употреблению цвета в качестве абстрактной и независимой сущности, которую искусства должны открыть и научиться использовать. Согласно Шеффлеру, все способствует тому, чтобы это открытие произошло в контексте декоративного искусства, а не в пределах собственно живописной традиции.
Но Кандинский, еще с 1904 года занятый поиском «языка цветов», который впоследствии станет для него основанием перехода к абстракции, никогда не связывал свою деятельность с декоративным искусством38. Тот факт, что немецкая традиция трактовала Kunstgewerbe и живопись в едином комплексе, несомненно, позволил ему прислушаться к размышлениям Шеффлера, не заподозрив его в смешении жанров. Вопреки своему символическому значению, вопреки «определенной внутренней жизни», искусство орнамента — говорит он — способно вызвать «лишь очень слабое ощущение, едва выходящее за пределы нервов». Именно ради того, чтобы избежать смешения живописи с орнаментальным искусством, Кандинский откладывает на будущее переход к чистой абстракции, стремлением к которой пронизана тем не менее вся его книга39. Тем, что вскоре позволит совершить этот переход, станет принцип внутренней необходимости, в нескольких местах определяемый Кандинским как «непосредственное давление на душу»40.
Таким образом, если следовать в тексте его кни^ ги аргументации шага, который художник совершит уже после ее окончания, есть потребность в том, чтобы истинный язык и истинная грамматика цвета, призванные лечь в основу абстракции, дабы она была не просто орнаментальным искусством, содержали в себе собственную «внутреннюю необходимость».
И тут выходит на сцену слово—-в абзаце, который отнюдь не случайно завершается отсылкой к Метерлинку: «Слово есть внутренний звук. Этот внутренний звук частью (а может быть, и преимущественно) порождается предметом, которому слово служит именем. Но когда предмет сам по себе не находится перед глазами слушающего, только имя его, тогда в голове слушателя возникает абстрактное представление, дематериализованный предмет, немедленно вызывающий в „сердце" некоторую вибрацию. [...] Наконец, при многократном повторении слова (излюбленная, впоследствии забываемая игра детских лет) оно теряет внешний смысл обозначения предмета; таким путем теряется ставший даже отвлеченным смысл называемого предмета и остается обнаженным от внешности исключительно чистый звук слова. Быть может, бессознательно слышим мы этот «чистый звук» в сочетании его с реальным, а также ставшим впоследствии отвлеченным предметом. Но в случае его обнажения этот чистый звук выступает на первый план и оказывает непосредственное давление на душу»41.
Итак, слово может «оказывать непосредственное давление на душу», а значит, и повиноваться своей собственной «внутренней необходимости» при условии, что, с одной стороны, «возникает абстрактное представление» (если мы лишь слышим имя), а с другой —что этот «ставший отвлеченным смысл» исчезает и «остается [...] исключительно чистый звук слова». Этот абзац, довольно-таки причудливым образом согласующийся с противоречивой исторической задачей, которую живопись накануне поворота к абстракции наследует у символизма,—я имею в виду тенденцию к редукционизму, вслед за маллар-меанским пуризмом определяющему специфичность каждого искусства через присущие только ему означающие, и в то же время к синкретизму, стремящемуся укоренить в теории соответствий и вагнеровском Gesamtkunstwerk некую эмоциональную трансспецифичность, объединяющую искусства в едином притязании,—так вот, этот абзац позволяет слову, и в частности имени цвета (так же как в других, более частых у Кандинского, случаях — музыкальному элементу) служить обратной метафорой, допускающей возможность языка живописи, чья специфичность между тем едва ли сводима к словам и наименованиям. «Слово „красное11 [...] Красное, не видимое материально, но абстрактно мыслимое, рождает известное точное или неточное представление, обладающее известным чисто внутренним психическим звуком»42.
Для Кандинского «слово „красное"», «красное, не видимое материально» может быть проводником внутреннего звучания цвета. Не хватает лишь формальных—и чувственных —условий языка: «Если же возникает необходимость дать это красное в материальной форме (как в живописи), то оно должно i) иметь определенный тон, из бесконечного ряда различнейших красных тонов выбранный, т.е., так сказать, должно быть характеризовано субъективно и 2) оно должно быть отграничено на плоскости, отграничено от других красок»43.
Так Кандинский определяет парадигматические (определенный тон красного из бесконечного ряда) и синтагматические (его отграниченность от других цветов на холсте) условия цветового языка. Вводится элементарный лексикон живописи, рассматриваемой как язык,—лексикон, к которому еще нужно будет прибавить синтаксис (что станет впоследствии задачей «Точки и линии на плоскости»). Однако то, что живопись является отныне языком — или, по крайней мере (на этой стадии), лексиконом, не делает ее произведением искусства, каковое, по Кандинскому, есть существо. «Полным тайны, загадочным, мистическим образом возникает из „художника" творение. Освобожденное от него, оно получает самостоятельную жизнь, делается личностью, независимо духовно дышащим субъектом, который ведет и материальнореальную жизнь, который есть существо»'0.
Без этой «органической» онтологии абстрактная картина была бы окрашенным предметом, декоративной вещью, способной говорить на языке форм и цветов, но не являющейся произведением искусства. Наименование цвета, которое, возможно, кладет начало живописи, не исчерпывает ее специфичности: «Очень возможно, что каждый тон найдет со временем это обозначение материальным словом, но всегда останется еще нечто, не вполне исчерпываемое словом, которое, однако, не есть только излишняя роскошь этого звука, но как раз именно его существенное»11.
Даже будучи адекватно названным, цвет превосходит слово. Этот его остаток или безымянное дополнение, «еще нечто», составляет «именно его существенное» и самое существо живописи. То, что живопись сопротивляется слову, парадоксальным образом как раз и позволяет ему быть стержнем обратной метафоры, лежащей в основе ее специфичности. Попытки определить элементы языка, пусть даже немого, как в случае живописи, неизбежно наталкиваются на модель языка как такового. Но если целью является доказать, что главное в этом языке — его непроизносимость, тогда нужно устранить эту модель, как только она выполнит свою функцию. Чтобы в таких условиях модель обладала истинностью, чтобы метафора была чем-то большим, нежели просто аналогия или обратимый образ, живописный язык и язык как таковой должна объединять тайная связь, не приводимая к языковой природе одного или другого. Они должны иметь некое общее, неизъяснимое бытие. Это бытие Кандинский и называет внутренним звучанием. Оно заключено в глубине слов и в глубине цветов, оно допускает переход одних в другие и основывает взаимную специфичность живописи и поэзии на их необходимой трансспецифичности.
Такого рода бытие открывается живописцу в лоне его эстетического опыта, будь он поэтическим или живописным, языковым или визуальным. В «Ступенях» Кандинский приводит воспоминания, в той или иной степени приукрашенные и домысленные, о некоторых своих эстетических опытах, которые
и. Там же. С. 135.
он по прошествии лет считает наиболее важными и в полной мере наделенными той внутренней необходимостью, что требовалась для оправдания перехода к абстракции. Один из этих опытов заключается в том, что во время работы над эскизом «Композиции VI», темой которой является потоп, он отказался передавать потоп как таковой и отдался выражению «внутреннего звучания» слова «потоп»44. Другой, более известный,—в абстрактной Unheimlichkeit45, которую художник однажды испытал в Мюнхене перед одной из своих картин, приставленной к стене: она была «совершенно непонятной по внешнему содержанию», но «неописуемо-прекрасной»46. Наконец, еще одним таким опытом является юношеское воспоминание, касающееся бытия и имени цвета. Кандинский описывает его с изрядной долей лиризма, который придает событию характер подлинного откровения: «Лет тринадцати или четырнадцати на накопленные деньги я, наконец, купил себе небольшой полированный ящик с масляными красками. И до сегодня меня не покинуло впечатление, точнее говоря, переживание, рождаемое из тюбика выходящей краской. Стоит надавить пальцами — и торжественно, звучно, задумчиво, мечтательно, самоуглубленно, глубоко серьезно, с кипучей шаловливостью, со вздохом облегчения, со сдержанным звучанием печали, с надменной силой и упорством, с настойчивым самообладанием, с колеблющейся ненадежностью равновесия выходят друг за другом эти странные существа, называемые красками,—живые сами в себе, самостоятельные, одаренные всеми необходимыми свойствами для дальнейшей самостоятельной жизни и в каждый момент готовые подчиниться новым сочетаниям, смешаться друг с другом и создавать не-скончаемое число новых миров»47.
Этот фрагмент является сразу в нескольких смыслах центральным. По своему положению в повествовании он соединяет и соотносит друг с другом два других воспоминания. Первое — это полузабытое воспоминание детства, которым открываются «Ступени» и которое придает этому названию48 фантаз-матический подтекст «первичной сцены»: «Первые цвета, впечатлившиеся во мне, были светло-сочнозеленое, белое, красное кармина, черное и желтое охры. Впечатления эти начались с трех лет моей жизни»49. Второе — вполне сознательное, гнетущее воспоминание периода учебы в Мюнхене, когда, поступив в мастерскую Штука, молодой Кандинский вынужден был отказаться от своих «причуд» колориста и подчиниться жесткой дисциплине черного и белого, пока цвет в конце концов не взял реванш, после чего «стена, заслонявшая искусство», рухнула и художнику открылось «начало великой эпохи Духовного»50.
Психоаналитический аспект «Ступеней» более чем очевиден. Весь текст представляет собой анамнез, дожидающийся анализа, воображаемый ретроспективный обзор пути живописца, направляющий симптоматический свет на тоже воображаемый, в свою очередь, характер откровения Духовного, которым завершается гнетущее воспоминание ученических лет. Это воспоминание, свидетельствуя о подчинении молодого Кандинского академическим законам рисунка, но в то же время и о глухом сопротивлении, которое он, колорист, оказывает им, продолжая писать для себя, смыкается с незапамятным счастьем первичной сцены и запускает ее отложенное свершение. Центром этой смычки воспоминаний взрослого и ребенка является относящееся к юности воспоминание о наборе красок. А центром этого центра, субъектом длинной лирической фразы, в которой этот набор описывается,—связка цвета с его именем через его бытие (или с бытием через имя): «эти странные существа, называемые красками» .
Глядя на то, как вылезает из тюбика краска, Кандинский присутствует при рождении существа, которое язык, с учетом присущих ему ограничений, может назвать цветом, а поэзия —окружить множеством эпитетов, которые еще до акта живописи сделают его произведением искусства,—с той лишь оговоркой, что имя цвета не обозначает ничего помимо метафоры его бытия, его метафорического бытия, его «внутреннего звучания».
Тенденция, о которой свидетельствуют отношения цвета и имени у Кандинского, выходит далеко за пределы его частного случая: речь идет ни больше ни меньше, чем о создании основополагающей идео-логемы не только живописи Кандинского, но и всей абстрактной живописи в целом. Эта идеологема вносит в технические, исторические и эстетические определения живописи философское, даже метафизическое притязание, от которого абстракционизм не откажется никогда — под страхом быть низведенным до простого декоративного искусства, «остаться на уровне нервов», скрестить визуальность (в смысле Фидлера) «живописи сетчатки» с пестротой оп-ар-та. Она же властвует над модернистским проектом: основать специфичность живописи на ее неприводимом бытии, а позднейшие варианты живописного языка —на элементарной метафоре, высказывающей его сущность.
Никто из живописцев — пионеров абстракции не подвергал эту идеологему теоретическому осмыслению, подобно Кандинскому. Те же, кто брался за эту задачу впоследствии (как, например, Малевич), предлагали другие ее «решения», подробно останавливаться на которых не входит в нашу задачу. Так или иначе, выбор Дюшана в пользу Кандинского, будучи всецело индивидуальным, в то же время обусловливался доминирующим положением русского художника в «состоянии художественных проблем и практик» Мюнхена в 1912 году, а также тем возможным (хотя и спорным) обстоятельством, что Дюшан в это время читал и комментировал «О духовном в искусстве».
Чтобы помыслить живописный язык, свободный от всяких референциальных обязательств, Кандинский снабжает свой семиологический проект онтологической подкладкой. Залогом возможности «чистой» или «абсолютной» живописи является для него выявление ее «глубоко метафорического» характера. Иными словами, началом всякого языка служит основополагающая метафора, а всякая метафора по сути своей является языковой. Цвет, который вместе с формой — но и до нее — представляет собой семиотический элемент живописи, обнаруживает глубокое сродство с именующим его словом. Если бы дело сводилось к подтверждению утраты бытием цвета — и в том числе его визуальным бытием — связи с его именем, то с живописным языком было бы тем самым покончено, и отказ от изображения вкупе с переходом к абстракции ни о чем не говорили бы, с тем же успехом можно было бы просто отказаться от живописи.
Тенденция к соотнесению цвета и его имени ярко свидетельствует в пользу обратной симметрии Дюшана и Кандинского. Выше я говорил, что «Переход от девственницы к новобрачной» был, помимо прочего, теоретическим переходом, что метафорическое переступание черты между означающими «Сезанн» и «Сюзанна» можно, прибегнув к игре слов, истолковать как переход от сущего {с ’est), к знаемо-му (su), от онтологии к эпистемологии. Возможно, это был несколько поспешный вывод, ведь понятно, что нельзя освободиться от онтологии полностью. Но очевидно, что онтология Дюшана, как и онтология Лакана, относится к регистру речествования51. В обстановке эпохи, оказавшись в точке скрещения парижской традиции и мюнхенской, заставившей его уйти от кубизма и позволившей уйти от него путем цвета, Дюшан пришел, в сущности, к тому же открытию, что и Кандинский: я имею в виду глубоко метафорическую сущность живописи. Отличие лишь в том, что Дюшану она открылась в перспективе символического, а Кандинскому — в перспективе воображаемого. «Открыв», что бытие живописи — это бытие метафорическое, Кандинский решил, что можно продолжить метафору, вообразить целый живописный язык, распространяющий это «открытие» на смежные территории, вне зависимости от их специфики: от «Теории цвета» Гёте до символистских соответствий и психологии цветов. Нельзя отрицать, что он и другие пионеры абстракции приобрели таким образом исключительную свободу. Но по прошествии времени очевидно, что притязания этого излияния живописного воображаемого на статус символического не оправдались. Кандинский, Клее, Иттен не только изобретали живописные языки, но и стремились преподавать их. И, вопреки вполне серьезным попыткам выстроить грамматику пластических искусств, «Точка и линия на плоскости» Кандинского, «Педагогические наброски» Клее, лекционный курс Иттена в Баухаузе так и не пошли в символическом плане сколько-нибудь дальше механистических формул типа «желтый треугольник, красный квадрат, синий круг». Еще очевиднее не оправдались социальные амбиции, проводником которых призваны были стать эти педагогические начинания: отнюдь не «универсальный язык» абстрактного искусства сумел «примирить Искусство и Народ». Возможно, одно объясняет другое.
Пережив то же «открытие» фундаментальной метафоричности живописи, что посетило и Кандинского, Дюшан подверг живопись симметричному преобразованию, замкнув ее на себя. Если существо живописи — метафора, каково в живописи существо метафоры? Это ее имя живописи. Если имя служит проводником идеи цвета, то в чем существо имени цвета? Опять-таки в его имени. Откровение символического происходит, когда «все, что слово хочет сказать, сводится к тому, что оно не что иное, как слово», когда единственным значением означающего является его бытие означающего, когда именование именует только свою именующую функцию.
От подобного откровения не стоит ждать освобождения воображаемого. Уверенность символического препятствует продолжению метафоры. Нако-нец-таки родившись к живописи, Дюшан запрещает себе ею заниматься. Если для Кандинского труд живописца приводит слово к бытию, то дюшановский «отказ» от живописи выявляет —в регистре речествования—споъо как слово. «Красному, не видимому ма-
териально» Кандинского у Дюшана отвечают «цвета, о которых говорят, то есть отличие, существующее между фактом разговора о красном и фактом созерцания красного»52. А идеалистическому расцвету абстрактной живописи — ироническая аскеза живописного номинализма.
1
Маре родился в 1837 году, Сезанн — в 1939-м. Беклин (1827-1901) и Бугро (1825-1905) были старше, но прожили достаточно долго, чтобы можно было рассматривать их творческий путь как параллельный пути Сезанна, умершего в 1906 году.
2
Sezession (нем.) — отделение, разделение, размежевание, раскол.— Прим. пер.
3
на звание авангардистов. Поэтому во Франции, как мне кажется, определяющей была не парадигма сецессиона, а парадигма отказа (ср.: Simon H.-U. Op. cit. S. 45).
4
Детальный обзор динамики мюнхенского, венского и берлинско
го «Сецессионов» см. в кн.: Simon U.H. Sezessionismus. Op. cit. P. 45-46.
5
Это отличие подмечал критик Юлиус Мейер-Грефе: «Я узнал Бон
нара раньше, чем Мане, а Мане —раньше, чем Делакруа. Эта путаница объясняет многие ошибки, совершенные нашим поколением позднее» (цитируется Ж.-П.Буйоном в его предисловии к сборнику воспоминаний Кандинского: Kandinsky V. Regards sur le passé et autres textes. Paris: Hermann, 1974- P*22)'
6
8. «Родной край» (нем.). — Прим. пер.
7
«Художественный союз» (нем.).—Прим. пер.
8
ю. «Особый союз» [нем.). — Прим. пер.
9
и. Как писал анонимный автор колонки «Краткие художественные известия» в августовском номере журнала «Deutsche Kunst und Dekoration» (с. 347-348).
10
Ср.: Gordon D.E. On the origin of the word Expressionism//Journal
of the Warburg and Courtauld Institutes. 1966. Vol. 29. P. 368-385.
11
Klee P. Die Austellung des modernes Bundes im Kunsthaus Zürich//
Die Alpen. 1912. №6 (цит. no: Palmier J. -M. L’expressionnisme et les arts. Op. cit. P. 168).
12
Ц. «Новый союз художников» (нем.).—Прим. пер.
13
15- Тот самый Жирьё, снискавший успех на Осеннем Салоне 1912 года, а затем благополучно забытый, о котором Дюшан вспоминает в беседах с Пьером Кабанном (PC. Р.33).
14
Ср.: Uhde-Bemays Н. Die Tschudispende//Kunst und Künstler. Mai 1912. S. 379-388; Bayersdorfer W. Die Tschudispende//Kunstchronik. 27 juin 1912. Col. 481-485. См. также оммаж Чуди, помещенный Францем Марком в альманахе «Синего всадника» (Der Blaue Reiter. Dokumentarische Neuausgage von Klaus Lankreit. Munich: Paper, 1979. S. 21-24).
15
17* «У вас есть понимание того, что нужно делать, и вы очень ско-ро поймете, что надо отвернуться от Гогенов и Ван Гогов» — письмо Эмилю Бернару от 15 апреля 1904 (Conversations avec Cézanne. Op. cit. P. 27).
16
«Вы хотите уничтожить искусство для всего человечества? — Нет.—
спокойно, но твердо отвечает Марсель. —Только для себя» (Taylor S.W. Ready made//Art and Artists. 1966. Vol. 1. №4. P. 46).
17
LebelR. Sur Marcel Duchamp. Op. cit. P. 15.
18
Синтетическое произведение искусства {нем,.). — Прим. пер.
19
См.: WinglerH. The Bauhaus. Cambridge, Mass.: М. I.T. Press,
19^9-197^- P-31- Первыми сотрудниками Гропиуса стали в 1919 году живописцы Файнингер и Иттен, а также скульптор Герхард Маркс. В 1920 году к ним присоединились опять-таки живописцы Клее, Мухе и Шлеммер, в 1921-м— театральный художник Лотар Шрайер, в 1922-м — Кандинский и в 1923-м — Мохой-Надь. Лишь в 1927 году в профессорский штат вошел первый архитектор —Ханнес Мейер.
20
«Architekten, Bildhauer, Maler, wir aile müssen zum Handwerk
zurück» (цит. no: Wingler H. The Bauhaus. Op. cit. P. 31).
21
«Обратный реди-мейд: пользоваться картиной Рембрандта как гладильной доской» («Зеленая коробка» — DDS. Р49)
22
Apollinaire G. Les peintres cubistes. Op. cit. P. ni.
23
Schwarz A. The Complete Works of Marcel Duchamp. Op. cit. P. 466.
24
DDS. P. 242.
25
Смежными {лат.). — Прим. пер.
26
Школы художественного ремесла (нем.). — Прим. пер.
27
«Искусства и ремесла» (англ.). Ср.: Pevsner N. Pioneers of Modem Design.
New York: The Museum of Modem Art, 1949. P. 12,136.
28
«Готическое возрождение» (англ.). — Прим. пер.
29
Ср.: Clément-Janin. Le déclin et la renaissance des industries d’art et de
l’art décoratif en France. Paris, 1912 (брошюра, изданная на средства автора); Michel W. Die Krise in Franzôsischen Kunstgewer-be//Deutsche Kunst und Dekoration. Juli 1912. Bd.30. S. 295-308.
30
Niemeyer W. Von Vergangenheit und Zukunft der Kunstgewerbeschule//
Deutsche Kunst und Dekoration. Juni 1912. Bd. 30. S. 173-178.
31
Формотворчества (нем.). — Прим. пер.
32
«не только превосходную работу с использованием натуральных и долговечных материалов, но и органическую завершенность товара в целом, выполненного так, чтобы он был sach-lich [рациональным, целесообразным — нем.] и благородным, а следовательно, если угодно, и художественным» (цит. по: Pevsner N. Op. cit. P. 17).
33
«Austellungen sind heute das, was Jahrmàrkte, in früheren Zeiten waren. [...] Dieser Jahrmatktscharakter ist von der Bayrischen Gewerbecshau môglichst kràftig hervorgechoben, ausgestaltet und modernen Bedürfnissen angepasst worden» (Pechman G. von. Wege, Ziele, Hindernisse//Die Kunst [Dekorative Kunst]. 11 August 1912. Bd. 15 [специальный номер, посвященный Gewerbeschau]. S. 489).
34
«...also gewissermassen ein jurierter Markt» (Mittenzweg К. Die Bay-rische Gewerbeschau in München//Deutsche Kunst und Dekora-tion. [August 1912]. Bd.30. S.326).
35
Первое издание вышло в январе, второе —в апреле, а третье —осенью 1912 года. В примечании к публикации своего доклада на посвященном Дюшану Коллоквиуме в Серизи Джон Ди благодарит Жана Клера за сообщение о том, что «экземпляр книги „О духовном в искусстве" Кандинского, купленный в Мюнхене в 1912 году, был найден в его [Дюшана] библиотеке с множеством пометок и черновиком перевода на французский» (Dee J. Ce façonnement symétrique //Duchamp. Colloque de Ceri-sy. Op. cit. N0. 132. P. 395.). Источником этих сведений является, несомненно, интервью Дюшана Уильяму Камфилду, опубликованное в одном из номеров «Золотого сечения» (New Haven: Yale University Press, 1961. No. 24. P. 28). В свою очередь, они были оспорены Тини Дюшан, которая, по ее словам, нашла книгу в библиотеке Жака Вийона и считает, что пометки сделаны рукой Раймона, а не Марселя. Ныне обладателем экземпляра является Понтус Хюльтен, и мне, к сожалению, не удалось с ним ознакомиться.
36
Schejfler К. Notizen über die Farbe//Dekorative Kunst. 1901. Vol. 4. №5.
P. 183-186; Кандинский В. В. О духовном в искусстве//Избранные труды по теории искусства. В 2-х т./Под ред. Н. Б. Автономовой, Д. В. Сарабьянова, В.С.Турчина. Т. 1. 1901-1914. М.: Гилея, 2001 [здесь и далее цитаты из работ Кандинского «О духовном в искусстве» и «Ступени. Текст художника» приводятся по этой книге, содержащей сводный текст авторских переводов, дополнений и фрагментов, не включенных автором в русскоязычные издания].
37
Рембо: «,,А“ черный, белый «Е», «И» красный, «У» зеленый,/«О»
голубой...» [пер. В. Микушевича. — Прим. пер.]. Шеффлер: «Ich empfinde z. В die Vokale farbig: a ist mir weiss, e grau, i brennend
38
rot, о grün, u dunkel blau, und in dieser Weise unterscheiden sich mir die Sprachen der Vôlker beinah farbig» (Schejfler K. Notizen iiber die Farbe. Op. cit. P. 187; цит. no: Weiss P. Kandinsky in Munich: the Formative Jugendstil Years. Princeton: Princeton University Press, 1979. N0.31. P. 205). Различие подходов Рембо и Шеффлера заключено, как мне кажется, не столько даже в субъективном несовпадении соответствий (авторы согласны лишь по поводу красного цвета «и»), сколько в почти незаметном на первый взгляд переходе от индивидуального символизма («Ich empfinde...») к коллективному («...die Sprachen der Vôlker»). Этот переход, который, не покидая области субъективного, открывается в направлении языковых универсалий, должен был понравиться Кандинскому, не верившему в цветовой код как потенциально объективный научный факт, но пытавшемуся найти в универсальной психологии человека способность к выражению его собственного цветового языка.
4. Ср. его письма к Габриэлле Мюнтер от 14, 17 и 15 апреля 1904 года {Weiss P. Kandinsky in Munich. Op. cit. P. 205).
39
Ср.: Кандинский В. В. О духовном в искусстве. Цит. соч.; Кандин
ский В. В. Ступени. Текст художника//Избранные труды по теории искусства. В 2-х т./Под ред. Н. Б. Автономовой, Д. В. Са-рабьянова, В.С.Турчина. Т. 1. 1901-1914. М.: Гилея, 2001.
40
Кандинский В. В. О духовном в искусстве. Цит. соч. С. 169.
41
Там же. С. 168-169.
42
Там же. С. 113.
43
Кандинский В. В. О духовном в искусстве. Цит. соч. С. 113. ю. Там же. С. 146.
44
Кандинский В. В. Композиция б (1913).
45
Жуткое (нем.); см. прим. 5 на с. 136. — Прим. пер.
46
Кандинский В. В. Ступени. Текст художника. Цит. соч. С. 280.
47
Там же. С. 284.
48
Имеется в виду название, данное Кандинским немецкому вариан
ту воспоминаний,—«Rückblicke» («Оглядываясь назад», букв. взгляды назад, итоги). —Прим. пер.
49
Там же. С. 267.
50
Там же. С. 289-290.
51
Parlêtre— неологизм Лакана, образованный из глаголов parler (говорить) и être {быть). —Прим. пер.
52
Duchamp М. Boîte blanche (с комментарием 1965 г. — DDS. Р. 118).
«Цвета, о которых говорят»
В одной из заметок «Белой коробки», датированной на обороте 1914 годом, так и сказано: «Своего рода Живописный номинализм (Проверить)»22.
Нам проверить, что же Дюшан понимал под живописным номинализмом, будет не так уж просто, поскольку для этого придется проследить одно за другим все его заметки о языке и особенно о «первых словах». Приведенная только что — единственная из опубликованных при его жизни, в котором упоминается номинализм. Но в посмертном томе «Заметок», опубликованном в факсимильном виде стараниями Поля Матисса, есть еще одна, датированная тем же 1914 годом и, судя по всему, приступающая к той проверке, которую Дюшан поставил себе задачей в первой:
«Номинализм [буквенный] = Больше различия
— по роду
— по виду
— по номеру
Между словами (столы — не множественное от стол, поел не имеет ничего общего с поесть). Больше физической приспособленности в конкретных словах, больше понятийной силы в абстрактных. Слово теряет свою музыкальную силу. Оно просто читаемо (поскольку состоит из гласных и согласных), оно читается глазами и постепенно приобретает форму, подразумевающую пластическое значение; оно — чувственная реальность, пластическая истина в той же мере, что и линия, совокупность линий.
Это пластическое бытие слова (посредством буквального номинализма) отличается от пластического бытия какой-либо формы (две нарисованные линии) тем, что совокупность нескольких слов без значения, приведенных к буквенному номинализму, не зависит от интерпретации, т. е. что щека, амил, федра, например, не имеют пластического значения в том смысле, что, нарисованные неким х, эти три слова отличаются от этих же трех слов, нарисованных неким^. И эти же три слова не имеют музыкальной силы, то есть не получают совокупного значения ни от своей последовательности, ни от звучания их букв.
Можно, следовательно, высказать или написать их в каком-либо порядке; репродуктор с каждой репродукцией (как при каждом музыкальном прослушивании одного и того же произведения) излагает снова, без интерпретации, совокупность слов, а уже не выражает наконец произведение искусства (поэму, картину или музыку)»1.
Номинализм, о котором помышляет Дюшан, несомненно сродни — и это сближает его с теорией Кандинского — основополагающей метафоре, посредством которой к «пластическому бытию» приходит слово, или, другими словами, метафорической сущности той «формы с пластическим значением», к которой слово уже пришло. Но он буквенный: он переворачивает метафору, прочитывает ее буквально. Речь уже не идет, как у Кандинского, о том, что формы и цвета призваны стать морфемами будущего пластического языка — морфемами, которые метафорически можно назвать словами, и языка, который можно назвать таковым тоже метафорически, в силу того, что существуют слова с их «внутренним звучанием», дающие вещам имена «треугольника», «красного» и т.д. У Дюшана слова, реальные слова реального языка, приобретают «пластическое бытие», которое «отличается от пластического бытия какой-либо формы», поскольку слова, естественно, остаются словами.
«Все, что слово хочет сказать, сводится к тому, что оно не что иное, как слово». Я уже не раз обращался к этой формуле Лакана, чтобы «объяснить» появление символического как такового. Но она, конечно, его не объясняет —в лучшем случае иллюстрирует. Возникает вопрос: что значит «все, что слово хочет сказать, сводится к тому, что оно не что иное, как слово»? Что оно само собой перескакивает в область метаязыка? Что оно становится всецело рефлексивным? Этим условиям, по-моему, может удовлетворить единственное слово — «слово». Но Дюшан имеет в виду какое-либо слово, слово вообще —например, «щека, амил, федра», или «столы», или «поел». И поэтому уточняет условия, которые, с его точки зрения, позволят удержать слово на нулевом уровне, вытолкнуть его в не-язык и — коль скоро речь идет о пластическом языке — в не-искусство, свести на нет его желание-значить .
«Больше различия по роду, виду, номеру между словами». Множественное число должно «забыть», что оно образуется от единственного, женский род — что он образуется от мужского, прошедшее время — что оно образуется от инфинитива; нужно отменить склонения, спряжения и вообще всю грамматику; каждое слово должно быть единственным.
«Больше физической приспособленности в конкретных словах, больше понятийной силы в абстрактных. Слово теряет свою музыкальную силу». Слова должны «забыть», что у них есть референты, что они порождают понятия и что они состоят из звукового вещества; нужно отменить словарь, лингвистику, фонологию и эстетику.
Тогда слово «постепенно приобретает форму, подразумевающую пластическое значение»; оно становится «просто читаемым глазами», становится «чувственной реальностью» и даже «пластической истиной».
Можно было бы решить, что Дюшан здесь приходит к открытию «леттризма», что приведенное к совокупности линий слово начинает играть чисто графическую роль в композиции картины, становясь даже более абстрактным, чем слово «газета», на все лады склонявшееся Пикассо в кубистских натюрмортах. Но тут же следует оговорка: «это пластическое бытие слова отличается от пластического бытия какой-либо формы», и поэтому не следует смешивать буквенный номинализм с графическими эффектами леттризма.
В чем состоит это различие? «Совокупность слов, лишенных значения, приведенных к буквенному номинализму, не зависит от интерпретации». Следующий далее пассаж довольно темен, но, как мне кажется, он указывает на то, что слово «интерпретация» надо понимать в смысле, придаваемом этому термину в музыке, где он обозначает исполнение пьесы. Так, ряд «(щека, амил, федра), например» не меняется в зависимости от того, кем эти слова нарисованы — х или у. И этот кто-то не является их автором (тогда как график может называть себя автором нарисованного слова, если в графике этого слова воплощен его замысел), в лучшем случае он —их исполнитель: «репродуктор с каждой репродукцией (как при каждом музыкальном прослушивании одного и того же произведения) излагает снова, без интерпретации, совокупность слов, а уже не выражает наконец произведение искусства».
Стремясь, как следует из этих слов, создать нечто, «уже не выражающее наконец произведение искусства», на самом деле Дюшан, однако, стремится создать произведение искусства, уже наконец не выражающее ничего. Ибо это нечто очевидным образом претендует на признание в качестве произведения искусства — в противном случае указанное стремление не имело бы смысла. И если Дюшан высказывает его столь буквально, значит, ему уже ясна номиналистская диалектика, направляющая историю авангарда. Он знает, что задача амбициозного художника —разорвать договор по поводу имени искусства и предвосхитить момент, когда история вновь заключит этот договор вокруг его произведения. Не случайно его заметка «незаканчивается» (скобки остаются открытыми) на провокации, то есть на опережающем события требовании признания субъекта. Эта незавершенность показывает, насколько тесно провокация связана с воображаемым, с производством субъекта как субъекта отложенного желания будущего признания. Говоря словами Дюшана, заметка, начинающаяся словами «буквенный номинализм», не заканчивается in advance2 запоздалым именованием, которое придет со стороны зрителей. Но, если отрешиться от прошедшего с тех пор времени, то речь в этой заметке идет о началах — тех самых, которые в другом месте будут охарактеризованы так: «Условия языка: нахождение „первых слов" (,,делимых"только на себя и на единицу»)26.
Чей голос объявляет о результате или остатке всех этих редукций, составляющих буквенный номинализм? Кто выступает субъектом — провокатором — произнесения слова как пластического существа? Это «ничей голос», как говорит Лакан, тот самый, что «выводит формулу триметиламина как окончательное, всему подводящее итог слово».
Последнее слово, первое слово — слово, то же самое. Забавно — ведь это не более чем совпадение,—что «щека, амил, федра», которыми кончается, приводя, как и у Фрейда, на память МЕНЕ, ТЕКЕЛ, ПЕРЕС, заметка Дюшана, вызывает тот же ряд ассоциаций, что и триметиламин27. Три слова выделяются в заметке с той же загадочной ясностью, которую формула обнаруживает в сновидении. Они возникают у Дюшана как пример, но как пример, взявшийся ниоткуда, образцовый ляпсус, вскрывающий в буквенном номинализме явление символического как такового.
В начале был язык. Нарисованный х или у, высказанный или написанный в каком угодно порядке, он предшествует появлению говорящих субъектов. «Может ли быть высказан звук этого языка? Нет»3. С неотразимой иронией Дюшан отсылает к их же наивности надежды художников, которые, подобно Кандинскому или функционалистам, воображали себя основателями языка, желая в то же время, чтобы их искусство говорило, причем немедленно. Не сложившийся уже субъект основывает язык, в том числе и живописный, а язык формирует субъекта, в том числе и субъекта-живописца. Желание основополагающего языка владело Дюшаном, как и всеми большими художниками его поколения. Но он, возможно, единственный, кому открылось, что «акт основания» заключен не в субъекте, создающем язык, новый и своеобразный, а в языке, создающем субъекта,—незапамятном и всеобщем; что не Я, сосредоточенное на чувстве своей внутренней необходимости, является условием этого «акта», а я, возникающее само собой, ибо его выносит из анонимной глубины язык,— его следствием; что этот «акт» относится к порядку wo Es war, soil Ich werden29, посредством которого «ничей голос» открывает возможность говорить я, то есть возможность разрушения и в то же время творения.
Дюшану —надо ли это повторять? — не свойствен фантазм чистого листа. Буквенный номинализм сводит на нет язык и, кажется, уничтожает даже простейший общественный договор, служащий его основанием, не для того, чтобы утвердить воображаемое условие творчества ex nihilo4. Наоборот. В итоге редукции, отклоняющей все воображаемые построения речи, обсуждаемая заметка различает на уровне языка в точности то же откровение, что и «Переход от девственницы к новобрачной» — на уровне живописи. И это двойное откровение — реального и символического, тогда как всякое воображаемое аннулировано. Реальное —это то же. Это вовсе не та девственная земля в преддверии языка, которую полагают в качестве предпосылки —чтобы возвести на ней основы нового языка—все, кто грезит началом с чистого листа. Реальное тоже в языке, коль скоро он дан в отсутствие субъекта, коль скоро знаки, слова, числа созданы, чтобы оказываться на том же месте, подобно тени гномона солнечных часов вне зависимости от того, видел ее человек или нет5. Реальное языка воспроизводится с каждым повторением того же, с каждым исполнением или, как говорит Дюшан, «с каждым прослушиванием одного и того же произведения». Реальное не имеет истории, оно вечно. Время для него не имеет значения .
Но в цикл повторений того же должен войти кто-то, для кого время имеет значение и кто считает время,—это и есть появление символического . То же реального становится самим реальным, то есть невозможным. Как только в дело вступает говорящий или слушающий — «репродуктор», по выражению Дюшана,—рождается я, для которого творение, наоборот, возможно, так как в цепи того же, с которым это я встречается, меняется оно само.
Итак, сквозь буквенный номинализм проходит двойное откровение. В начале было слово, в начале было имя или буква, или имя в буквальном смысле. Имена вещей всегда в прошедшем времени, всегда уже ready-made, готовы: «Pulled at four pins», «In advance of the broken arm», «With hidden noise», «Apo-linère Enameled», «Wanted», «Signed Sign», «Rasée L. H.O.O.Q». Имена автора, его подписи — тоже в прошедшем: «Маг у est» в «Новобрачной», разыскиваемое (Wanted) среди множества псевдонимов и готовых имен, подписывающих знак (Signed Sign35). Наконец, всегда в прошедшем времени имя-отца: «ready-made things like even his own mother and father»36. От имени вещи до имени-отца по цепи реального — вечной, поскольку дело в ней не касается начал языка, ведь слова, как и числа, всегда первые,— циркулируют одни и те же ready-made things, готовые вещи. «Отцы и вехи»6. Но в этой же самой цепи реального должен оставить свою веху и субъект — произнеся свое имя или услышав, как кто-то его произносит, пусть это даже «ничей голос», и смысл надо вновь сказать: «в начале было слово», но в существенно ином смысле. Надо сказать это в радикальном смысле одновременного разрушения и творения, призыва к консенсусу и несогласию, просьбы о признании, обращенной к «отцу» одновременно с его убийством. Короче, в этом следует усмотреть символический смысл провокации. Она «незавершается» приостановкой субъекта желания, но она «начинается» возникновением Другого на месте субъекта. Это начало нагружено всеми эдиповскими коннотациями, какие только могут быть заподозрены в просьбе о признании, одновременно уничтожающей наследие отца: «It is nothing to do what your father did. It is nothing to be another Cézanne»7. Причем эта редукция, это уничтожение не предполагают фантазма чистого листа. Художник исходит не из ничего, а из готовой традиции, из мертвого, но не прекратившего существование отцовского наследия: «Man can never expect to start from scratch; he must start from readymade things like even his own mother and father»8.
Подписывая смертный приговор живописи, реди-мейд одновременно подписывает свидетельство о рождении нового авангарда, но отнюдь не на чистой странице: ни отмены наследия, ни введения основополагающего языка в нем нет. «Традиция нового» (в терминологии Розенберга) возникла не из уничтожения цивилизации и не из варварского насаждения нового языка. Ее породил раскол, уделивший место искусства музеев всей совокупности живописной традиции, воспроизводить которую нет смысла,—традиции в прошедшем времени. Ее породила провокация, предвосхищающая, вибрируя от желания и иронии, момент, когда «ничей голос» будет услышан в согласном хоре новой традиции, которая будет считаться антиживописью и — в промежуточном — получит признание. И наконец, ее породил переход, который спрягается в настоящем времени, в вечном возвращении реального, или не спрягается вовсе, как моментальный скачок в четвертое измерение, вспышка символического. Переход от одного имени к другому, от имени живописи к имени искусства, на смычке которых «первые слова» составляют «поворотную картину».
Ибо они — не первые ни в смысле неслыханной реальности, зачатков языка будущего вроде синего круга, красного квадрата и желтого треугольника Кандинского, ни в смысле истока или пред-следа вроде вертикали и горизонтали Мондриана; они — первые, как простые числа, ибо они «делятся только на самих себя и на единицу». Слова, не имеющие ни большего общего знаменателя, ни меньшего общего числителя, слова, стоящие сами по себе, для себя и без общей меры, слова, которые могут только повторяться, «так же» и «длинными сериями».
В нахождении таких первых слов Дюшан видит условия языка. Живописный ли это язык? Не хотел ли Дюшан, подобно Кандинскому, Малевичу, Мондриану имногим другим, основать на бытии слова — которое Соссюр одновременно с живописцами и в согласии с ними считал бытием, основанным на противопоставлении,— метафорическую сущность живописи, понимаемой как язык, первостепенной особенностью которого является способность без языка обходиться? Нет, если ограничиться ссылкой на то, что после Мюнхена он больше не занимался или почти не занимался живописью и что, во всяком случае, реди-мейды никак не могут сойти за «картины». Да, если вспомнить, что бытие слова, которым должен увенчаться буквенный номинализм,—это бытие пластическое. Да, если согласиться со сдачей в музей всего ремесленного арсенала живописи, если признать, что ремесло никогда и не создавало живописца, а создавало его суждение —свое в процессе работы и зрительское при демонстрации произведения, если понять со всей очевидностью, что суждение, вне зависимости от его мотивации, всегда сводится к присвоению имени: это — живопись, а это — не живопись. Теперь ничто не мешает нам заключить, что не Дюшан изобрел живописный номинализм, а вся история живописи — история нарекающих ее именем эстетических суждений —более столетия до него уже была номиналистической. «Изобретение» реди-мей-да всего лишь удостоверило этот факт.
Отсюда, например, проекты номинальных реди-мейдов, в которых художественное деяние сводится к избирательной инвентаризации уже существующих слов: «Купить словарь и зачеркнуть заслуживающие этого слова. Написать: пересмотрено и исправлено»9. Или: «Просмотреть словарь и вычеркнуть из него все „нежелательные" слова. Возможно, добавить несколько новых,—Иногда заменять вычеркнутые слова другими. Использовать этот словарь для письменной части стекла»10. Или, наконец, проект, который кажется «коммандитно-симметричным» программе буквенного номинализма: «Взять словарь „Ларусс" и выписать из него все так называемые абстрактные, то есть не имеющие конкретного референта, слова. Придумать для обозначения каждого из этих слов схематичные символы (их можно составлять из планок типографского набора). Эти символы должны рассматриваться как буквы нового алфавита»42.
Нелегко усмотреть в этой заметке (я привел здесь только первую ее часть) проект, связанный с живописью. Она входит в «Зеленую коробку», которая определенно является произведением искусства — причем искусства пластического, а не литературы, но едва ли может быть названа произведением живописным. И тем не менее, заканчиваясь фразой «этот алфавит наверняка подходит только для написания данной картины», заметка отсылает к некоей «письменной» картине. Скорее всего, речь идет о «Ты меня...» (1918), то есть о произведении, которое является не только последней живописной работой Дюшана, но и рассуждением о живописи средствами живописи, тщательно разработанным, шифрованным, ироничным и мстительным — опытом «иллю-минаторного скрибизма в живописи (Пластика ради пластики в стиле Тальони)»11. Заметка под названием «Буквенный номинализм», отмечена загадочной и тревожной —МЕНЕ, ТЕКЕЛ, ПЕРЕС — печатью ил-люминаторного скрибизма, начертанного ничьим голосом огненными буквами. И этот «скрибизм», пребывая «в живописи», в буквальном смысле говорит о том, что номиналист, избравший своей программой уход от живописи, тем не менее от живописи не уходит. Его номинализм — буквенный, но и живописный. Как только речь заходит о его претворении в практику, он с необходимостью требует теории.
Например, теории субъекта высказывания или, если угодно, теории «места» образования номиналистического субъекта-живописца. И это «место», как по заказу, оказывается различием, предпочтительно «сверхузким»:
«„Теория11: ю слов, найденных при случайном открытии словаря на А и на Б.
Эти два «sets» [„набора"] по ю слов так же отличаются по „личности", как ю слов, написанные некими А и Б с определенным умыслом. Или, не суть важно, в некоторых случаях эта „личность" может исчезнуть и в А, и в Б. Это лучше всего, но и всего труднее»12.
Кроме того, требуется теория лексики, или алфавита: «Словарь: [...который] служит основой для своего рода письменности, использующей уже не алфавит и не слова, а знаки (цепочки), уже освобожденные от „baby talk" [детского бормотания] всех обычных языков»13.
Необходимой оказывается и теория грамматики, синтаксис абстрактных отношений, восстанавливающий «идеальную непрерывность» знаков, отныне «освобожденных» и приведенных посредством буквенного номинализма к их солипсическому блеску: «Своего рода грамматика, которая уже не требует назидательного построения фразы, а, оставляя в стороне различия между языками и свойственные каждому из них „обороты", взвешивает и вымеряет абстракции существительных, отрицаний, отношение подлежащего к сказуемому и т. д. с помощью знаков-эталонов (отображающих эти новые отношения: спряжения, склонения, приложения, единственное и множественное число, невыразимые в конкретных алфавитных формах нынешних и будущих живых языков)»14.
К лексическому и синтаксическому измерениям теория должна присовокупить также семантику и прагматику, выраженные в виде логики. Исключенное третье из логики Дюшана исключено:
«Принцип противоречия. Исследования о его смысле и его определения (схоластические, греческие).
— Если прибегнуть к грамматическому упрощению, под принципом противоречия понимается обычно следующее: принцип не противоречия. Из Принципа Противоречия, определенного только этими 3 словами, т.е. как Сомышление [абстрактных\ противоположностей, нужно изъять всякую санкцию,удостоверяющую это по отношению к его абстрактной противоположности то»*7.
Наконец, теория не была бы полной, если бы в ней не рассматривались отношения нового языка с уже существующими. Новый язык должен переводиться на уже известные, но переводиться только в одном смысле, так как его освобожденный статус делает его «невыразимым в конкретных алфавитных формах нынешних и будущих живых языков»: «Словарь — языка, каждое слово которого может быть переведено на французский (или другой) язык несколькими словами, а при необходимости и целой фразой,—языка, чьи элементы можно перевести на известные языки, но на котором нельзя соответственно выразить перевод французских (или других) слов, французских или других фраз. [...]
Звук этого языка может ли быть произнесен? Нет»15.
На пути от теории субъекта к теории перевода, минуя теорию лексики, теории грамматики и логики, заметки Дюшана, сосредоточенные вокруг его проектов «словарей», весьма зловеще напоминают создание нового языка. Они в игривом беспорядке разбросаны по белой и зеленой «Коробкам», и тот порядок, который придал им я, всецело произволен. И все же, составленные таким образом, они показывают, что Дюшан вполне мог иметь в виду создание «возможного языка путем некоторого рассогласования законов» лингвистики. Но подобный язык не-произносим. Записываем— да, «показуем» — вне всякого сомнения, но невидим, столь же невидим, сколь и непроизносим16. Это нечто противоположное задаче Клее — «сделать видимым», как равно и всем уста-новительским притязаниям пионеров модернизма и абстракции. Клее, Кандинский, Мондриан, Малевич каждый по-своему стремились заложить первооснову языка, который, как они надеялись, будет универсальным,—языка непроизносимого, ибо немого по природе, и в то же время говорящего всем, ибо поставленный им перед собой императив «сделать видимым» означает разговорить визуальное, а именно заставить его говорить на языке чистой живописи. Ничего подобного у Дюшана. Его «условия языка» насквозь пропитаны «иронизмом» и даже «тальо-низмом», которые придают живописному номинализму его злорадно-саркастический оттенок. Еще три «изма» в дополнение к и без того длинному списку направлений живописного авангарда, необходимость разрыва с которым обозначил в конце 1912 года кубизм. Дюшан, живописец, играет в создателя нового языка потому, вне сомнения, что не может оставаться равнодушным к проблематике эпохи. Но нельзя не заметить — столько едкой иронии в его словах — что он именно играет, делает вид, и что язык, который он создает, расслабляя законы,—это язык сознательно фиктивный.
А вот игра Дюшана — серьезная, и он серьезно ее ведет. Она отнюдь не случайна, она призвана историей в период, когда множество живописцев берется за неслыханное дело научения цвета говорить, не отсылая к предмету изображения. Ее отправной точкой является догадка, очень близкая к размышлениям первых абстракционистов, особенно Кандинского, открытие метафорической сущности живописи. Отличие — глубочайшее отличие — заключено в асимметричном соответствии: если Кандинский «открывает», что означающим для живописца является бытие цвета, то Дюшан «открывает», что бытие слова — в том числе пластическое — представляет собой означающее. На стыке семиотической онтологии чистой живописи и живописной эпистемологии «рече-бытия» лежит цвет, цвет и его имя.
Обратимся к грамматической «теории» Дюшана, играющего в создателя языка: «„Грамматика" = то есть как связать элементарные знаки (подобные словам), а затем группы знаков между собой; что даст идею действия или бытия (глаголы), модуляцию (наречие) и т.д.?»17 Другая заметка отвечает на поставленный вопрос: « (Использовать цвета —чтобы дифференцировать то, что соответствует в этой [литературе] существительному, глаголу, наречию, а также склонениям, спряжениям и т.д.)»18.
На первый взгляд, «грамматик» понимает, какая задача его ждет, если он возьмется превратить живопись в своего рода [литературу]19. Нужно будет не разговорить цвет в его имманентности, подобно Кандинскому, а ввести цветовой код, в котором каждому оттенку соответствовало бы особое грамматическое отношение. Вооруженный подобным кодом, зритель стал бы читателем, и живописное рассуждение «Ты меня...» — именно к этой картине отсылает заметка — можно было бы расшифровать. Но тут же эта грамматика выдает свою иронию — тройную иронию: код, по собственному признанию Дюшана, «наверняка подходит только для написания данной картины». Столько усилий в поиске универсального языка — и все это ради того, чтобы воспользоваться им лишь единожды! К тому же самого кода нигде нет, Дюшан не оставил нам завершения своей «грамматики». Если «Ты меня...» действительно является зашифрованным живописным рассуждением, то [литературы], которая расшифровала бы его, нет и уже не будет. А вот и последняя, высшая ирония, которая более чем вероятна: содержащееся в «Ты меня...» рассуждение — не что иное, как рассуждение о расшифровке самой картины. Ключ к ней —это она сама, но она заперта на ключ. Наверняка каждый цвет из тех, чьи образцы представлены в левой части холста в бесконечной перспективе, обозначает одно из грамматических отношений, с помощью которых справа строятся «фразы» — загадочные разноцветные ленты, прикрепленные к «образцам для штопки», которые «должны рассматриваться как буквы нового алфавита». А эти фразы, если их расшифровать, скорее всего и позволили бы выяснить, какому цвету соответствует то или иное грамматическое отношение. Таким образом, мы не можем прочесть живописное рассуждение ни по буквам, ни даже по частям букв. Живопись не читается. И цвет не говорит, будучи, как у Кандинского, недостаточным или избыточным для именующего его языка, недостаточным или избыточным для «грамматики», которую взамен призван именовать он. Но этот недостаток или избыток не является, как у Кандинского, самой сутью цвета. Немой, но видимый, цвет не удерживается в начальном и праязыковом измерении чистого обозначения, как бытие чувства, но еще не смысла53, ощутимое, но неразумное, которое приписывает ему феноменологическая традиция и художники, на нее ссылающиеся. Слова первичны. Цвет не имеет бытия, которое он мог бы разделить со своим именем, ибо с тех пор, как он обозначается, он уже назван. Чтобы целая «фраза» из правой части «Ты меня...» именовала одно грамматическое отношение, обозначаемое тем или иным образцом из левой части, все отношения, обозначенные слева, должны, в свою очередь, быть необходимыми для прочтения одной «фразы» справа. Цепь видения и говорения бесконечна и не начинается нигде, включая, конечно, и первый жест обозначения, совершенный еще субъ-ектом-infans20.
Как известно, лингвисты любят приводить произвольные названия цветов в качестве примера, объясняя примат языка над речью, системы над синтагмой21. Цветовой спектр непрерывен, и подразделяет его язык. Ни природа, ни наше зрение не требуют, чтобы оранжевый переставал быть оранжевым и становился красным, этого не требует даже говорящий субъект, который, глядя на тот или иной образец цвета, решает, каково его имя. Выбор слов предоставляется ему языком. Кто поручится, что мы воспринимали бы оранжевый так же, если бы французский язык не помещал его между желтым и красным? Следовательно, если между цветом и его именем существует связь, то этой связью может быть лишь весь язык в совокупности, закон в его неумолимом предсуществовании. Этим предполагается возможность короткого замыкания в бесконечной цепи видения и говорения: оранжевому дают имя и очерчивают его перцептивный опыт окружающие его желтый и красный. А кто дает имя красному, если не оранжевый и пурпурный, которые ограничивают его восприятие слева и справа? Короче говоря, имя цвета всегда является следствием ограничения другими именами, и т.д. В процессе ограничения одних имен другими имя цвета рискует потерять свое означаемое, сохранив тем не менее референт. На слово «красный» отзываются карминовый, алый и многие другие. Имя цвета — это имя имени, согласно номиналистскому парадоксу бесконечной регрессии, который иллюстрирует в «Ты меня...» перспективный ряд цветовых образцов. Вопрос, конечно, в том, какова точка схода этой перспективы и что она прерывает. Либо это воображаемая точка схода, прерывающая символическое,— таково «решение» Кандинского, либо она символическая и прерывает воображаемое — таково «решение» Дюшана.
«В этом,— говорит он, —перспектива подобна цвету, который, как и она, не контролируется осязанием»22. Она образует глубину картины в воображаемой бесконечности, где параллельные линии сходятся, а цвета (воздушная перспектива, или сфумато) ослабевают. Весь вопрос в том, ограничиваемся мы ей, как в случае неопределенных фонов Кандинского, на которых парят формы — единственные носители символов, или же хотим, чтобы уже на поверхности фона, как некогда на решетке Альберти, завязывалась символическая функция, позволяющая пространству раскрыться, а цвету — перебрать последовательность своих имен.
Ибо нужно-таки создавать образы, несмотря ни на что быть живописцем. «Большое стекло», знаменуя собою резкий поворот в жизни Дюшана-живо-писца и в традиции живописи, тем не менее является «живописным объектом». Неудивительно поэтому, что из числа заметок, которые сопровождают его на уровне [буквы] и предлагают, помимо прочего, весьма непростую теорию цвета, некоторые — откровенно бесполезные, так как «Стекло» будет в конечном итоге прозрачным,—касаются фона. «Для фона, или искусственной атмосферы, подойдет свинцовый карандаш»23. Об иллюзионизме, о стремлении угодить воображаемому, позволить глазу насладиться красотами воздушной перспективы нет и речи. Однозначно искусственный — «на основе сетки» — фон сразу же приступает к своей символической функции в образовании фигуры: «Чтобы добиться „точности"— покрыть холст черной краской (или другим черным веществом), прежде чем приступать к работе, чтобы линия, продавленная иглой в не просохшем слое живописи, оказывалась явственно-черной»24.
«Как можно тщательнее подготовить основу». Вслед за фоном — или «как можно тщательнее подготовленной основой» — второй символической функцией из тех, что назначаются в заметках по поводу «Большого стекла» цвету, становится сила материи: «Эта основа [?] должна исчезнуть за (цветовой) силой материи в каждой части»25.
«Так же, как в географических картах, архитектурных планах или подготовительных рисунках, для цветов нужны условные обозначения — вещественные знаки для каждого использованного цвета»26. В следующей заметке уточняется: «Определить для каждого вещества состав цвета (белый 1, черный Vè, красный V4 и т.д.). За исключением некоторых веществ [...], все прочие будут иметь: i) имя (на -ит, на -ин, другое окончание?); 2) химический состав (смесь), каковой будет составом смешиваемых цветов; 3) внешний вид: а/по цвету и б/по молекулярному строению — твердости, пористости и т.д.,— свой для каждого вещества, которое будет обозначаться условно-схематическими приемами (не похожими, однако, на параллельные линии разной длины у архитек-торов); 4) свойства»27.
Имя в этом перечне параметров цвета идет первым. За ним следует химический состав, в котором, впрочем, больше номенклатуры, чем «кухни», и только затем — внешний вид. И он тоже имеет имя, обозначается «условно-схематическими приемами». Наконец, за ним идут свойства, никак не охарактеризованные и вызывающие вопрос: отличаются ли они от тех, что перечислены выше? Так или иначе, они даны. Если цветной фон прямо, как к своей противоположности, отсылает к проблематике девственного холста («покрыть холст черной краской, прежде чем приступать к работе»), то определение цветов веществ вторит ему, подобно «Новобрачной», в том смысле, что свойства цвета спрягаются в прошедшем времени, как предварительный для выбора перечень. Писать, переходить от девственницы к новобрачной,— значит выбирать, и выбирать по порядку имя, химический состав, внешний вид и свойства.
Но в то же время писать — значит следовать побуждениям цвета, подвергаться выбору с его стороны, внимать последовательности эстетических решений в их непроизвольной и пассивной части. Дюшан понимает, что для живописца, который чувствует себя живописцем, цвета обладают самостоятельностью, властной над его решениями, что на выходе из тюбиков они уже наделены теми «качествами, необходимыми для их будущей самостоятельной жизни», которые волновали Кандинского. Но для него, поскольку он не Кандинский и чувствует себя живописцем разве что в «тальонистском» смысле, эта самостоятельность может быть признана лишь в рамках ироничной игры, имитирующей пассивность эстетического опыта и посмеивающейся над обонятельным тропизмом живописца, чувствующего себя таковым:
«Выращивание цветов в оранжерее — [на стеклянной пластинке, рассматривая их на просвет]. Смешивание цветов-цветков, то есть когда каждый цвет пребывает еще в оптическом состоянии: Запахи (?) красных, синих, зеленых, или серых с оттенками желтого, синего, красного, или ослабленных коричневых (все по гаммам)»28. Эта обонятельно-оп-тическая практика, адресуемая живописцем вкусу зрителя и называемая живописью, сводится к порабощению цвета, к его наказанию за самостоятельность: «Эти с физиологичностью возобновляющиеся запахи могут быть предоставлены себе, расточены под замком —ради плода»29. При условии, однако,— этого требует тальонизм,—что зритель будет лишен наслаждения: «Только вот плод этот никак не вкусить. Именно „аскетической" сухости добиваются, находя эти не гниющие зрелые цвета. (Разреженные цвета)»30.
Таковы мстительные подтексты, обнаруживаемые живописью, когда зритель спрягает ее в прошедшем времени, и цветами, когда они достигают музейного статуса «не гниющей зрелости» и, стало быть, разреженности. А достигают они его в результате процесса, ни в коей мере не требующего участия художника — его единственными действующими лицами являются время и вес. Как известно, «выращивание цветов» было осуществлено в «Большом стекле» — как «выращивание пыли» для «семи сит»: «Растить пыль на стеклах [■■•], дать этой части запылиться, покрыться трех-четырехмесячной пылью, тщательно вытирая ее вокруг, чтобы пыль стала своего рода цветом [•••] — отметить качество пыли наоборот, как названия металла или чего-нибудь другого»31.
Таким образом, цвет —это плод, эстетическое вку-шание которого может бесконечно откладываться, поскольку он —не что иное, как плод отсрочки, «задержки в стекле», но отсрочки или задержки конечной. Процесс его получения, насмешливо имитирующий свойственную эстетическим решениям художника пассивность, имитирует также — с опережением и метонимически — «качество пыли наоборот», которое узнают в нем зрители, когда пыль времени сделает свое дело и когда «в стекле» приобретет не гниющую разреженность музейного объекта. Пассивность эстетической работы, то качество, по которому судят о ней зрители, задержка, связывающая живописца с его потомками, — проводником всего этого является цвет, его «название металла или чего-либо другого», цвет и имя вещества. Цвет — это имя, одновременно опережающее и запаздывающее, даваемое в предвосхищении художником и ретроспективно — зрителями (так, что совершенное прошедшее включается в подразумеваемое будущее). В момент признания цвет всегда уже иссушен — той «аскетической сухостью», которую он может приобрести только в музее, месте асептической смерти. И тем не менее этот кладбищенский цвет (цвет униформ и ливрей) также является «Цветом промежуточным: мужских форм. Они переходят в сурик, ожидая, что получат каждая свой цвет, как молотки для крокета»32. Как и «Большое стекло», промежуточные и разреженные цвета именуют в мертвой живописи «окончательную незавершенность».
Однако символические функции, присваиваемые в заметках Дюшана цвету, не ограничиваются областью предвосхищаемой смерти. Как мы видели, появление символического одновременно отсылает к «альфе и омеге дела», к Эросу и Танатосу, к «рождению живописцем» и «мертвой живописи». После цвета фона и цвета вещества особое место должно быть уделено цветам, которые Дюшан называет «врожденными».
Вернемся к заметке, цитированной выше, где для каждого вещества предусматривается l) имя, 2) химический состав и т.д., и приведем опущенный ранее пассаж: «За исключением некоторых веществ, как, например, шоколад, [водопад], имеющие физический эквивалент (в обращении с ними следует избегать атмосферизации), все прочие будут иметь...»33. Поскольку водопад в конечном итоге не нашел себе места в «Стекле» (если только само стекло не является его физическим эквивалентом), остается единственное исключение из «вещественных цветов» — шоколад:
«Возьмем объект из шоколада.
1) его внешний вид = сетчаточное впечатление (с прочими следствиями на уровне чувств);
2) его явление.
Форма для получения объекта из шоколада есть негативное явление [...], приобретающее определенность благодаря источнику света, который в видимом объекте становится освещенной массой (врожденные цвета = негативное явление видимых цветов вещества объектов)»34.
«Врожденные цвета — это не цвета (в смысле синих, красных и т.д. отражений внешнего света X). Это световые очаги, испускающие активные цвета — то есть врожденно-шоколадная поверхность будет составлена из своего рода шоколадной фосфоресценции и формального появления этого объекта в шоколаде»35.
Явный цвет, который художник, если он хочет живописать, неизбежно создает в своем произведении, отсылает зрителя «Большого стекла», взявшего на себя труд прочитать сопутствующее ему руководство по эксплуатации, к его, цвета, «матрице» или «появлению». Каковые суть невидимый «цвет-источ-ник», «внутреннее освещение» или «врожденная» молекулярная «фосфоресценция» вещества, независимая от особенностей внешнего света. В текстах Дюшана «появление в прирожденных цветах» обнаруживает свой идеалистический субстрат и, быть может, ностальгию по онтологическому призванию живописи, желание найти в цвете сущность, неприводимую к условиям его создания, восприятия и именования. Если прочие вещества имеют l) имя и 2) химический состав, то шоколад, вещество, тесно связанное с холостяцким желанием, обладает «физической окраской», о которой позднее Дюшан скажет, что она «в отличие от химической живописи, имеет молекулярную сущность»36. Понятно, что эта сущность цвета не относится, как у Кандинского, к порядку восприятия. Онтологическое искушение Дюшана не находит себе убежища в феноменологии. Но явно имеет место, затрудняет плавное течение текста этих заметок. В нем чувствуется отголосок символистского влияния Одилона Редона с его одержимостью ореолом, аурой: «Светящийся объект —это чудесное явление». Но куда теснее оно связано с внутренним конфликтом, касающимся отказа от живописи. В «Большом стекле» и непосредственно предшествующих ему произведениях (в частности, две «Дробилки для шоколада», строго современные заметкам о врожденных цветах) Дюшан уже открыл — опираясь, вне сомнения, на трактаты по перспективе, которые он читал в парижской библиотеке Св. Женевьевы,—ироническую возможность дистанцироваться как от традиции перспективиз-ма, так и от новой модернистской традиции, которая-в ближайшем для него кругу вела методичное разрушение своей предшественницы. Поэтому, комментируя в живописи свершившуюся смерть первой из этих традиций и ожидаемую смерть второй, он может быть уверен, что не будет «глуп, как живописец». Но цвет ставит перед ним другую проблему: как живописать так, чтобы не противоречить своим словам об отказе от живописи? Как избежать наложения явных цветов на поверхность —или, если этого не избежать, как показать, что за видимым скрывается «показуемое»? В отношении этого тупика показательна другая заметка, вероятно, чуть более ранняя по сравнению с обсуждавшимися выше. Речь в ней идет о «естественном цвете», а выражение «врожденный цвет» еще отсутствует. Она показывает, что Дюшану требовалось оправдание того, что ему приходится придавать живописный вид цвету, который должен быть, по его убеждению, только явлением — фактом явлен-ности, но без явленности: «Не бывает цветов как простой окраски поверхности. Каждая часть имеет свой естественный цвет (и даже больше: видимый тон — не что иное, как процвечивание этой части, если признать, что она освещается сама собой [см. особое примечание]).— Поэтому тон каждой части находит свое оправдание в ее вещественных значении и цели (единственным исключением являются девять раскрашенных матриц, перешедших в сурик)»37.
Дюшан, написавший именно «вещественных», еще не проводит в этой заметке различия между цветом вещества (как, например, цвет «свободных металлов» в «Ползунке») и врожденным цветом некоторых веществ — воды или шоколада. Он не просто хочет оправдаться за то, что не может обойтись без явлен-ности, но, вводя этот неологизм, почти совпадающий с материзмом, задешево приобретает свидетельство материалиста, дабы компенсировать ту долю идеализма, что неизбежно содержится в его стремлении усмотреть в живописи сущность. И это позволяет предположить, что в момент создания этих заметок (в начале 1914 года) он еще не услышал номиналистского эха мюнхенского «Перехода». Откровение символического остается пока непризнанным, недоступным для рассуждения, Дюшан еще не нашел аргумент, который позволит обойтись без постулата о светоносной сущности, заложенной в средоточии живописного вещества. Но он уже вертится у него в голове, и в связи с «Дробилкой» бесполезность упомянутого постулата проговаривается: «В дробилке все, что можно назвать „бесполезным“ для дробилки, должно быть передано соскабливанием пятен, которые холостяк держит у себя в тайнике»38.
В этот момент холостяк, вовлеченный в двойной парадокс создания живописными средствами че-го-то такого, что было бы начисто лишено внешних черт живописи («Большое стекло»), и радикального отказа от живописи при условии сохранения за собой имени живописца (реди-мейды), является еще стыдливым художником. Он сам тайком «растирает свой шоколад». Его онтология сохраняет эссенциалист-ские черты, она еще не готова к скачку в регистр речествования. Скачок произойдет очень скоро, в другой заметке, включенной в «Белую коробку»: она начинается с изложения своего рода ретроактивной программы — вернуться к забытому —и почти наверняка относится к 1914 году, как и две заметки о ном№ нализме: «Найти записи о цветах, понимаемых как окрашивающие источники света, а не как различия, возникающие в однородном свете (солнечном, искусственном и т.д.).—Поразмыслить вокруг следующего: Допустим, что несколько цветов — световых источников (этого рода) — использованы одновременно; оптическое отношение между этими различными окрашивающими источниками будет иного порядка, нежели сопоставление красного и синего пятен в солнечном свете. Налицо некая аноптичностъ, некое холодное рассмотрение, окрашивающий эффект заметен лишь воображаемому зрению при таком использовании. (Цвета, о которых говорят.) Это немного похоже на переход от причастия настоящего времени к прошедшему»39.
Едва ли возможно лучше, чем сделал это сам Дюшан, засвидетельствовать запись символического, воспринимаемое с холодком отклонение воображаемого и подразумеваемый этим переход. Это уже не тот переход, что имел место в Мюнхене,—от подразумеваемого к явному, от действующей метонимии к непризнанной метафоре; вернее, это тот же переход, но еще и сознательный, в том числе и в отношении своего временного режима: переход от причастия настоящего времени к прошедшему. Он удостоверяет и фиксирует «отказ» от живописи и установление живописного номинализма. Комментируя в 1965 году фразу «цвета, о которых говорят», Дюшан ясно понимает, что огласил в ней различие — или даже скачок в символическое — каковые составляют метафорическую сущность живописи: «Я имею в виду различие между разговором о красном и созерцанием красного»40.
Круг замкнулся. Мы проследили огромное и крошечное расстояние, разделяющее две практики и две теории цвета — Кандинского и Дюшана, «этих странных существ, что зовутся цветами» и «цвета, о которых говорят». В этом деле нельзя было обойтись без чтения текстов. Все они созданы позже мюнхенского откровения. Заметка о выращивании пыли относится к году, когда оно было осуществлено, — к 1920-му; заметки о языке написаны в Нью-Йорке между 1915 и 1918 годами, вероятно, ближе к последнему, в период сложения замысла «Tu ш’»; заметки о цветах, фоне, веществах и врожденности следовали одна за другой между началом 1913 года, когда Дюшан еще размышлял о реализации «Новобрачной» на холсте, и февралем 1914-го, датой «Дробилки для шоколада, №2». Наконец, две заметки о номинализме, живописном и буквенном, точно датированы тем же 1914 годом.
В этом году был создан и первый безусловный реди-мейд—«Еж», или «Сушилка для бутылок». В нем, не колеблясь, следует усмотреть первое приложение живописного номинализма. Известно, что «Сушилка» имела надпись на одной из внутренних окружностей, ныне утраченную вместе с оригинальным объектом. И эта надпись имела для Дюшана символическую функцию прибавочного цвета, очевидно неразличимую при отсутствии кода41. Если название, имя объекта —это его дополнительный цвет, то именование в таком случае является актом живописи, а номинализм, принимающий цвет в буквальном смысле,—номинализмом живописным. Что и засвидетельствовал в 1914 году «Еж», первая реализация проекта надписанных объектов. Но в предвосхищении номинализм содержался уже в «Обнаженной, спускающейся по лестнице», именно название которой оказалось, по воспоминаниям современников, неприемлемым для кубистов. Об этой картине Дюшан говорит Катарине Кью: в ней «уже предугадывалось использование слов в качестве прибавочного цвета или, скажем так, для увеличения числа цветов в произведении»42. Подобное название, хотя оно и кажется отсылающим к сюжету картины, не играет описательной роли, как это происходит вопреки всему в большинстве кубистских картин43. То, что Аполлинер говорит о кубистских названиях в статье 1912 года «О сюжете в живописи», куда точнее подходит к работам Дюшана: «Новые художники пишут картины, в которых нет настоящего сюжета. И названия, которые помещаются в каталогах, играют отныне роль имен, обозначающих людей, но не дающих им характеристики»78. Такое название, как, например, «Моя красавица» Пикассо, все-таки характеризует сюжет-референт, хотя и вне картины — речь идет о подружке художника Еве, о которой тот говорил Канвейлеру: «Я люблю ее и буду писать ее имя на своих картинах». «Обнаженная, спускающаяся по лестнице» тоже отсылает к сюжету, но этот сюжет—не внешний референт, а сама картина, название которой, помещенное внизу холста, как этикетка, является именем. «Обнаженная, спускающаяся по лестнице», как и «Моя красавица»,—не только «названия, которые помещаются в каталогах», так как они еще и «написаны на картинах». Однако Пикассо использует название как каллиграмму: если стереть его, изменится все пластическое пространство картины. Изъятие названия «Обнаженной» оставило бы композицию в неприкосновенности. Его введение относится не к живописному высказыванию, а к акту высказывания, номиналистскому акту, который прибавляет к живописному сюжету еще один, невидимый цвет. В «Дробилке для шоколада» этот невидимый цвет выходит из пространства картины и накладывается на ее поверхность, как самая настоящая, реальная этикетка. Как «коммерческая формула», она недвусмысленно именует отказ от живописи: цвет стал именем, а имя — цветом, со всеми последствиями (их нам еще предстоит обсудить) того, что холостяк бросил растирать свой шоколад. «Переход от девственницы к новобрачной», созданный между «Обнаженной» и «Дробилкой», с названием, написанным на картине, осуществляет переход еще в одном смысле, помимо названных выше. Он демонстрирует символическое вступление художника в область живописного номинализма, но еще не фиксирует его. Этот шаг будет сделан два года спустя с «Дробилкой» и «Ежом». А «Переход», располагаясь на полпути, говорит, что он делает, и делает, что говорит, а также показывает нам то, что в живописном номинализме продиктовано номинализмом буквенным. Эта картина написана, причем с любовью к живописному ремеслу, написана ремесленником, которого нельзя заподозрить в намерении отказаться от работы глаза и руки в пользу рассчитанного называния цвета и его имени. В то же время именно к мюнхенскому периоду относятся первые цветные схемы, аналогичные тем, которые позднее будут сопровождать работу над «Большим стеклом»79. Эти схемы представляют собой рабочий материал, вполне объяснимый, когда перед нами старательный, думающий художник, который вместе с тем не настолько виртуозно владеет живописью, чтобы писать «по наитию». Для Дюшана «обонятельная мастурбация» уже требует «литаний». Удивительно другое —что он сохранил эти схемы и увез их из Мюнхена с собой, хотя идея «Коробок» в это период еще не захватила его. Если имя, написанное на картине, уже тогда рассматривалось как прибавочный цвет, то цвета, записанные за пределами картины, наверняка имели целью добавить к ней свое имя.
Это имя — первое или последнее слово о цвете — «живопись». В Мюнхене, расставшись с кубизмом, на преодоление которого ушел год, Дюшан, подобно всем создателям нового языка, которые в самое ближайшее время заложат основы абстрактного пластического алфавита, начинает работать над условиями речи.
Кандинский, Делоне, Купка, Мондриан выходят из кубистского распада с уверенностью в том, что рождается новый, иероглифический язык и перед живописью открывается необычайное будущее. Живописец станет семиотиком грядущей культуры. А Дюшан наоборот, чувствует, что может отныне быть лишь номиналистом культуры в прошедшем времени. Создаваемый им алфавит он предназначает для «перевода постепенной деформации условного иероглифического феномена в его номинализацию, которая будет выражать только [мертвую] идею»44.
Реди-мейд и абстракция

ИМЕННО в Мюнхене Дюшан узнаёт цвет. Будем откровенны: особой привязанности к нему он в себе не находит. Если он испытывал ее, то раньше, когда открыл Матисса, и его палитра приобрела некоторое фовистическое богатство. Здесь, в Мюнхене, это богатство широко представлено в его немецкой версии: я имею в виду «Синий всадник», не повлиявший на Дюшана, но сменивший перед ним горизонты ожиданий.
В кубистском Париже 1911-1912 годов, и в частности в группе Пюто, собрания которой посещал Дюшан, проблематика цвета почти не заметна, непосредственное восприятие кубизма современниками оставляет ее на втором плане, подвергает вытеснению. Всецело увлеченное реализмом представления, который видится ему в формальной практике кубизма, это восприятие относится к цвету не иначе как к объективированному свету на службе разборки-реконструкции объекта. Такова новая версия светотени. Всякая попытка дать тональной шкале приоритет над шкалой валёров расценивается в этом контексте как шаг назад, тем более — попытка придать самостоятельность цвету, который считается декоративным и поверхностным, короче говоря — «импрессионистским».
Однако в Париже есть, по крайней мере, два художника, активно ищущие в эти годы пути преодоления кубизма через цвет: это Делоне и Купка. Их исторический вклад нельзя назвать недооцененным: оба входят в число «изобретателей» абстракции, «создателей нового языка». Что касается Делоне, то Дюшан всегда говорил, что в эту эпоху только слышал о нем и не встречался с ним45. Допустим.
Купка и вопрос чистого цвета
Но Купка принимал участие как минимум в некоторых дискуссиях группы Пюто и был близким другом братьев Дюшана. Приехав в 1896 году из Вены, в 1901-м он поселился на улице Коленкура на Монмартре, по соседству с Жаком Вийоном (а, стало быть, и с Марселем, который жил у брата в 1904-1905 годах), затем, в 1906-м, переехал в Пюто, на улицу Леме-тра, и в следующем году подружился с Раймоном Дюшан-Вийоном. Поэтому ничто не позволяет думать, что Дюшан не был знаком с Купкой. Что же касается возможных отношений «влияния» между двумя живописцами, не исключено, что взаимного, то это сложный и, несомненно, праздный вопрос. Так или иначе, они скорее всего разделяли интерес к движению и хронофотографиям Марея и наверняка занимали общую —не кубистскую, но и не футуристскую — позицию по вопросу о представлении движения46.
Причем у Купки исследование движения чаще всего связано с исследованием цвета, и эта связь свидетельствует о почти научном обращении художника к теориям цвета. Этот аспект начисто отсутствует в «кубистских» произведениях Дюшана. В сериях Купки «Женщина, собирающая цветы» (1909-1910) и «Цветовые плоскости» (1910-1911) формальное разложение движения сочетается со спектральным разложением цветовой гаммы, создавая впечатление статичного развертывания длительности в духе Бергсона. В том же 1911 году Купка, ссылающийся то на Гершеля, то на Гельмгольца, то на Шарля Блана, подпадает под влияние неоимпрессионизма Кросса и Синьяка и приобретает книгу последнего «Эжен Делакруа и неоимпрессионизм». В своей « Рукописи I» он пишет: «Имея за плечами завоевания импрессионистов, мы распространяем их пуантилизм на цветовые плоскости; мы хорошо знаем, что свет заключен не в черно-белой гамме, а в цвете, в более или менее научной теории дополнительности»47.
«Диски Ньютона» — картина, которая даст название серии 1911-1912 годов,— подводит под эту новую трактовку цвета научную парадигму. Она подразумевает аддитивную концепцию цвета, привычную физикам, имеющим дело со светом и волнами различной длины, и как раз поэтому чуждую вычитательной концепции живописцев, которые смешивают пигменты. Разворачивая спектр на холсте, Купка предлагает сознанию зрителя воспринять прерывистое пространство непрерывной длительности в качестве метафорического эквивалента движения, которое, если бы мы имели дело с реальными дисками Ньютона, осуществляло бы оптический синтез белого света. Эти диски Купка нашел в книге Огдена Руда, на которую ссылались и Делоне, и, ранее, Синьяк48. Перенос физики цвета в живопись, предпринятый Купкой в 1911-1912 годах, то есть как раз в период кубистских опытов Дюшана, заслуживает особого интереса. Но для нас важны не столько научные коннотации этого заимствования, сколько то вполне вероятное обстоятельство, что без него Купка не решился бы перейти к абстракции и «чистой живописи». Центральным здесь является опять-таки вопрос о языке, поднимавшийся перед целым поколением художников этого времени. Полностью отказаться от изображения означало не только отвергнуть референциальную «объективность», но и лишить себя всякой, описательной или повествовательной, возможности использования языка в картине. Утверждать абсолютную субъективную свободу художника, не впадая тем самым в произвольность орнаментального искусства, можно было лишь доказывая наличие некоей уже не референциальной, а синтаксической объективности, имманентной картине, веря, что картина, когда никто уже не «говорит через нее», говорит сама. У Кандинского, как мы видели, слово, и прежде всего имя цвета, оказалось одним из основополагающих элементов, позволивших перейти к абстракции. Купка, во многом совпадая с Кандинским по культурным корням и убеждениям (центральноевропейское происхождение, символизм, родство живописи и музыки), расходится с ним именно в своем обращении к науке, для нас тем более интересном потому, что оно характеризует практику Купки в период его перехода к абстракции, как точка моментального теоретического синтеза.
Складывается впечатление, что в этой точке переплелись две традиции цвета, два принятых понимания, две теории —одна, говоря широко, символистская и «субъективная», другая —научная и «объективная». Купка обладал широким кругозором в области цвета благодаря учебе в Яромере у Алоиза Студниц-кого, который, преподавая оптику орнамента, разбирал со студентами учения Бецольда, Шрайбера и Адамса. За трудами этих ученых возвышается как образец жанра теория цвета Гёте, о которой Купка также, несомненно, имел преставление.Кроме того, значительное влияние оказали на него психология-цвета Брюкке и труды Анджеля о полихромном орнаменте49.
Все это составило культурный багаж, тяготеющий к символистско-психологической традиции, которая, что важно для Купки так же, как и для Кандинского, развивалась в Центральной Европе конца XIX века не столько в академиях живописи, сколько в кругу художественных ремесел. Как мы помним, на Кандинского повлияла опубликованная в 1901 году статья Карла Шеффлера, в которой автор предвидел возникновение абстрактной живописи в среде декоративных искусств. В свою очередь, Купка, хорошо знакомый с венским критиком Артуром Ресслером, тоже наверняка прислушивался к идеям своего друга, напечатавшего в 1903 году в журнале «Ver Sacrum» эссе, в котором отстаивались те же тезисы, что и у Шеффлера50. Само название этого текста — «Das abstrakte Ornament mit gleichzeitiger Verwendung simultaner Farbenkontraste»51 — говорит об интересе кружка венских орнаменталистов или во всяком случае самого Ресслера к научным изысканиям в области цвета и о знакомстве с теорией симультанного контраста, сформулированной Шеврёлем и Рудом.
Таким образом, Купка был предрасположен к тому, чтобы обратиться к совершенно чуждой немецкой культуре по своим научным основаниям, идеологическим посылкам и стилистическим выводам традиции цвета. Это традиция, идущая от опубликованной в 1839 и переизданной в 1889 году диссертации Шев-рёля, через Сёра, дивизионистскую теорию и практику Синьяка к возникшему в 1912 году симультанизму Делоне.
С научной точки зрения труд Шеврёля представляет собой теорию восприятия цветов, а не физическую (как у Ньютона или Янга) и не физиологическую (как у Гельмгольца) теорию. Она — скорее психологическая в смысле Фехнера, поскольку рассматривает ощущения в их отношениях со стимулами и описывает эти отношения, дифференцируя их вокруг базового закона — закона симультанного контраста52. Поэтому она противоположна «Теории цвета» Гёте, психологической в другом — субъективистском и даже антинаучном — смысле, так как основной целью Гёте было доказать, что Ньютон ошибочно считал цвет объективным свойством света53.
Разумеется, в арсенале Гёте не было различения стимула и ощущения, и он не мог предвидеть самостоятельную и в то же время совместимую с физическими фактами психологию восприятия. Признавая существование симультанного контраста, он подчинял его контрасту последовательному (выявляемому остаточным образом дополнительного цвета), поскольку последний, с его точки зрения, неопровержимо доказывал, что цвета «принадлежат субъекту, самому глазу»54. В итоге —путем, который позднее подхватит и разовьет символизм,—Гёте, с одной стороны, усматривал этот субъективный принцип перцептивного контраста самой химической материи в виде оппозиции кислота/щелочь, а с другой —приписывал этому принципу всевозможные психологические, эстетические, символические, духовные, мистические, естественные и имманентные свойства. Таким образом, он оказывается важнейшим идеологическим предшественником — по крайней мере в том, что касается цвета,—пражского, венского и мюнхенского символизма, прямыми наследниками которого были Кандинский и Купка.
Впрочем, это не означает, что от идеологии была чиста французская традиция, заложенная Шеврёлем. Далеко превосходя Гёте в научной строгости, Шев-рёль вместе с тем еще откровеннее, чем Гёте, вступал на эстетическую территорию. Его эстетика —это эстетика представления, подражания и сетчаточного реализма. Она была благосклонно встречена французскими художниками в ясные дни позитивизма и принесла в качестве следствия несколько догматическую теорию дивизионизма, построенную Синьяком. Если в Германии прием, оказанный Гёте, который субъективистски трактовал все вплоть до химической материи, усилил экспрессионистскую идеологию искусства и сопряженную с ней тенденцию к общей субъективизации природы, то французский прием Шеврёля, ко всему вплоть до эстетических решений живописца подходившего объективистски, оказал поддержку импрессионистской (или неоим-прессионистской) идеологии искусства с ее скрытым или явным позитивизмом. У Сёра, который, вне сомнения, прожил слишком мало, чтобы превзойти заданные границы, позитивистский симптом особенно ощутим в строгом следовании строю представления. У Синьяка, лишенного оправдания в виде ранней смерти, этот симптом вездесущ—именно о нем свидетельствуют яростные призывы к искусству, «направляемому традицией и наукой»55.
Можно, таким образом, с учетом неизбежных упрощений противопоставить две традиции цвета. Одна из них, доминирующая в Центральной Европе, берет начало в «Теории цвета» Гёте, ее идеология — символистская, психологизирующая и субъективистская, а ее стилистические следствия достигают зрелости в рамках экспрессионизма, от Мунка до Франца Марка. Источником второй, особенно характерной для Франции, является диссертация Шеврёля, ее идеология — позитивистская, технологизирующая и объективистская, а ее стилистические следствия достигают наиболее полного выражения в два периода, разделяемые Сезанном и кубизмом: это дивизионизм Сёра и Синьяка и симультанизм Делоне. Почленно противопоставляя эти традиции, нельзя отрицать, что они сосуществовали, оказывали друг на друга влияние и даже перемешивались. В конце концов, венские символисты не были совершенно чужды науки, знали о теории Гельмгольца, да и Шеврёля, а в Париже, как свидетельствует об этом круг знакомств Синьяка, литературный символизм неплохо ладил с живописным позитивизмом. Но одно дело наложение двух традиций и другое — их теоретическое взаимодействие. Под последним я имею в виду контакт, при котором традиции самоустраняются в качестве источников и порождают новый культурный факт. Такой контакт, мне кажется, состоялся в творчестве Купки, когда он «изобрел» свою версию абстрактной живописи: две выставленные им на Осеннем салоне 1912 года картины — «Аморфа. Фуга двух цветов» и «Аморфа. Теплая гамма» — сохраняют связь с орнаментальным символизмом, в традиции которого художник формировался, включают элементы заявившей о себе в «Дисках Ньютона» перцептивной объективности и уже не сводятся ни к одному из этих источников. Затрагиваемая в них новая проблема, возможность практического разрешения которой как раз и предоставляется этим теоретическим взаимодействием, опять-таки оказывается проблемой цвета как языка, условия законности перехода к абстрактной живописи.
Речь вновь идет о нахождении «центральной метафоры», которая могла бы лежать в основе языка чистой живописи. В 1912 году символистская теория соответствий уже устарела. Она не только стала общим местом, но и оказалась слишком хрупкой для «основоположников языка». Она допускает любые переводы —для Рембо А —черное, я для Шеффлера белое,—и все их делает бессмысленными в сочетании с всецело персональным и лишенным коммуникативной силы идиолектом. Ей явно не хватает некоей укорененности, которая предотвращала бы излишнюю субъективность — и литературность — символов и связывала бы их с природой. С их природой символов, но и с символом их природы. Изгнав природу в качестве референта-изображаемого, живописец берется вернуть ее в качестве означающего. И этим базовым означающим, этой основополагающей метафорой становится опять-таки цвет. Но на сей раз не как сопряжение его бытия и имени, как в решении Кандинского, а как понятие — понятие чистого цвета.
Но что такое чистый цвет? Если чистый цвет должен стать элементом языка, на котором заговорит живопись, то что — прежде — позволяет самому живописцу говорить о чистом цвете? В силу чего выражение «чистый красный» или «чистый синий» уже устанавливает между картиной и ее адресатом связь понимания, тогда как «чистый коричневый» абсурден? В связи с этими вопросами, очевидно, и вмешивается Шеврёль.
Обращение к химику в исторический момент, когда перед целым поколением художников встала проблема абстракции, никак не связано с интересом к нему со стороны Сёра и Синьяка. В основе дивизионизма лежала совершенно классическая эстетика гармонии и характерно позитивистская вера в то, что «залогом гармонии является систематическое приложение законов, руководящих цветом»56. Техника раздельного мазка и запрет смешивания цветов как на палитре, так и на холсте суть следствия этого систематического приложения, словно «законы, руководящие цветом» прекращают действовать, как только художник отходит на шаг в сторону от простейшего хроматического кольца, на основе которого их вывел Шеврёль. Но, помимо этого механического наблюдения «законов» цвета, обращение дивизионистов к Шеврёлю обусловливалось недавним опытом импрессионизма. Понятие чистого цвета возникло у них не иначе, как вслед за склонностью импрессионистов усиливать тон — и в пику академическому пристрастию к «грязным» цветам и пресловутому «трубочному нагару». Возможно, у дивизионистов уже созрела идея языка живописи, означающими элементами которого являются мазок (в плане формы) и чистый цвет (в плане цвета), но ставкой она для них еще не была, и возможность соотносить язык с живописью через описание рефе-рента-изображаемого сохранялась. Ставкой, и первостепенно важной, эта идея стала, конечно же, с появлением абстракционизма. Теории Шеврёля, после их первого позитивистского приема ненадолго ушедшие в тень, вернулись в творчестве Купки и, особенно, Делоне, и понятие чистого цвета стало краеугольным камнем лингвистической (или семиотической) концепции живописи.
В самом деле, по прошествии времени и с приобретением привычки понимать живопись в семиотических терминах очевидно, что теория Шеврёля является «соссюровской» до Соссюра и вводит формальные условия «лингвистической» трактовки цвета. Подобно тому как Соссюр рассматривает язык в качестве коррелятивного среза двух аморфных масс, Шеврёль рассматривает цветовой спектр как коррелятивный срез континуума физиологических ощущений и психологических восприятий. Подобно тому как Соссюр оставляет фонетике и фонологии, которые придут затем, заботу определения степени, в какой означающее должно подвергнуться артикуляционной подготовке, чтобы перейти из разряда физических звуков в статус акустического образа, Шеврёль оставляет физикам и физиологам, с одной стороны, и экспериментальной и гештальт-психологии—с другой, труд уточнения связи между стимулом и ощущением. Подобно тому как Соссюр усматривает различие и даже оппозицию в основе всякого знака, Шеврёль усматривает в основе восприятия цвета контраст. Подобно тому как Соссюр дает языку преимущество над речью, а синхронии — над диахронией, Шеврёль говорит о существовании системы хроматического круга до его использования и придает симультанному контрасту больший теоретический вес по сравнению с последовательным. Подобно тому как Соссюр предлагает своему читателю восстановить в уме отсутствующие термины парадигмы, из которых складываются смысл и значение данного термина, Шеврёль напоминает живописцу, что, накладывая один цвет, он тем самым призывает другой, его отсутствующий дополнительный. Параллели можно продолжать; mutatis mutandis57 они объясняют новое обращение к диссертации Шеврё-ля в период, когда вопрос об имманентном живописи языке острейшим образом встал перед художниками, которые будут подкреплять свои абстрактные дерзновения концепцией чистого цвета. Из них отнюдь не следует, что усилиями Шеврёля цвет действительно стал языком. Но они убеждают в том, что соссюровская лингвистика, наверняка неизвестная художникам этого поколения, предоставляет нам — знающим о ней—-орудие эпистемологической расшифровки тенденций, приближавших в это время рождение абстрактной живописи.
И возвращают нас — после отступления — к той точке, где мы расстались с Кандинским: чистый цвет — это имя, или, точнее, фундаментальная сопряженность ощущения и имени. Это цвет, который в прямом смысле слова заслуживает своего имени, то есть относится к своим соседям и антиподам в хроматическом круге так же, как его имя относится к их именам в системе языка. Шеврёль сам логически пришел к этому убеждению, продолжив свою первую диссертацию о «законе симультанного контраста» второй, названной им так: «Изложение способа определения и наименования цветов согласно точному экспериментальному методу»58.
Понятно, что Шеврёль —кто угодно, только не номиналист, в отличие от Дюшана, чей номинализм стоит подчеркнуть и в отношении проблемы чистого цвета вкупе с той сложной традицией, которую она породила. Шеврёль —не номиналист, поскольку ему не приходит в голову замыкать имя на имя, чтобы оно в конечном итоге не означало ничего кроме того, что оно имя. Но в то же время он и не символист. Дорогая Гёте и подхваченная Кандинским идея о том, что цвет может быть «непосредственно связан с духовными переживаниями», причем даже «безотносительно к природе или форме предмета»59, Шеврёлю чужда. Он ограничивается тем, что предоставляет живописцам механику перцептивной работы цвета. С точки зрения эстетики он не может, следуя представлени--ям своей эпохи, вообразить себе, чтобы цвет служил чему-либо помимо «верной передачи модели». Однако возвратное историческое прочтение его теории спустя годы после ее позитивистского приема осуществляет прощание с моделью и отказ от подражания во имя чистого цвета. Последний уже не является выразительным символом, как в воспоминании Кандинского, где он вылезает из тюбика исполненным эмоциональной силы и со всеми своими символическими коннотациями. Понятие чистого цвета —это историческая версия основополагающей метафоры, оправдывающей переход к абстракции. Но его бытие ничем не обязано символистской по сути идее естественного соответствия цвета движениям души. Бытие чистого цвета по Шеврёлю —это оппозициональ-ное бытие знака по Соссюру. Для концептуального определения одного чистого цвета нужна как минимум пара дополнительных: красный требует голубого, а зеленый —пурпурного, точно так же как тот или иной сектор хроматического круга требует противоположного ему. Таково свойство системы, «требование структуры»60.
Благодаря Шеврёлю или, точнее, второму обращению к нему, чистый цвет предоставляет «подступ к символическому». Что, конечно, не означает, будто он может рассматриваться с этого момента как элементарный знак нового живописного языка. Его бытие основано на оппозиции, так же как бытие знака по Соссюру. Это не реальный факт, а эпистемологическое условие, которое создало историческую возможность изобретения самостоятельного живописного языка. Абстрактная живопись, и в том числе живопись Купки, вскоре пустит его в свободное употребление. Преодолев символическую стадию решения о своей законности, она всецело раскроется в пределах воображаемого и —у Купки это очевидно-быстро потеряет свою историческую значимость.
Но, как бы то ни было, неотъемлемым смыслом перехода к абстракции был для Купки и многих других «подступ к символическому»; эти переход и подступ прослеживаются в группе произведений, обозначающих точку теоретического взаимодействия; и эти произведения, создававшиеся, можно сказать, у Дюшана под носом, в соседней с его братьями мастерской, следуют в 1911-1912 годах хронологии, строго параллельной его собственному пути через кубизм.
Мне интересны не влияния, которые могли иметь место между Купкой и Дюшаном, и не их возможные общие черты. Мне интересен даже не биографический вопрос о том, сколь длительным, регулярным и глубоким могло быть общение двух живописцев. Хорошо известно, что Купка был циклотимиком и частые, особенно в 1912 году, депрессии заставляли его избегать встреч с другими художниками. Но он жил по соседству с Жаком Вийоном и, по крайней мере, от случая к случаю наверняка участвовал в собраниях группы Пюто. Что же касается Дюшана, опять-таки известно, что он не стремился к общению с коллегами, особенно старшими. И все же едва ли он мог избежать встреч с Купкой в Пюто и не побывать хотя бы единожды у него в мастерской. Поэтому вопрос следует поставить иначе, нежели в терминах биографии или влияний. Он должен касаться целей, преследовавшихся несколькими живописцами, пусть даже независимо друг от друга, в этот решающий для истории модернизма год.
Мне кажется крайне маловероятным, чтобы Дюшан, в сентябре 1911 года очень серьезно и с описанными выше противоречивыми чувствами вступивший на путь преодоления кубизма, который год спустя приведет его к «отказу» от живописи, мог остаться в стороне от проблемы абстракции и амбициозных инициатив в направлении «основополагающего языка», «чистой живописи» и «бытия цвета». Биографических и даже стилистических фактов как таковых недостаточно, чтобы это подтвердить. Факты нам известны, и они говорят о том, что в 1911-1912 годах Дюшан оставался чужд проблем, занимавших совсем рядом с ним Купку или, чуть дальше, Делоне. Поиск «чистой живописи», создание живописного языка и т. п. его, судя по всему, не интересовали. К тому же в его творчестве нет и намека на абстракционистские опыты. Но мы располагаем и другими фактами: едва добившись признания в качестве живописца, он отказался от живописи, предпочел ей живописный номинализм и оставил в этот период множество заметок об условиях живописного языка, свидетельствующих как минимум о том, что вся его стратегия может быть понята исключительно в свете вопросов, поднимавшихся перед живописью в сей переломный момент ее истории. Сам резонанс его творчества склоняет к предлагаемой нами интерпретации: если отказ от живописи носит стратегический характер, в чем нет сомнения, то эта стратегия в принципе равнозначна отказу Мане от светотени, Сезанна —от перспективы и Малевича —от предметности. Поэтому есть все основания заключить, что проблема абстракции присутствует в творчестве Дюшана, хотя ни одного абстрактного произведения у него нет.
Но есть и еще кое-что. В Мюнхене, как мы видели, разрешились его борения, связанные со становлением живописцем, в Мюнхене он написал свою лучшую картину и сел в поезд размышлений, который вскоре привезет его к отказу от живописи. А в Париже, до Мюнхена, он так и не познакомился с Купкой, живя с ним рядом, и прошел мимо идеи чистого цвета, владевшей его живописью. Можно предположить, что именно отъезд из Парижа в Мюнхен заставил Дюшана открыть на нее глаза. Она не была совершенно ему неведома, а лишь подавлялась кубистской ортодоксией, служившей в то же время тем контекстом, в котором он пытался доказать плодотворность своего выхода из кубистского тупика. Цвет Купки, как, впрочем, и цвет Делоне, был по большому счету невидим кружку во главе с Глезом и Метценже. Купка, никогда кубистом не являвшийся, невзирая на соседство с братьями Дюшан, пребывал в изоляции. Вопрос его участия в салоне «Золотое сечение» остается открытым. Но, так или иначе, две «Аморфы», выставленные им в Осеннем Салоне, были приняты отрицательно, даже Аполлинером, которого в связи с этим можно заподозрить в ксенофобии. Впрочем, в самом конце 1912 года он прозреет к цвету, и его восторженная поддержка орфизма Делоне позволит забыть о том, как долго он его не замечал.
Тем временем в Мюнхене цвет господствовал всюду, и Дюшан, ощутив свободу от сезаннистского бремени, открыв для себя возможность «сецессио-нистской» живописной стратегии, увлекшись иронической практикой «искусств и ремесел», не мог не заметить там возврата цвета, вытеснявшегося в Париже.
Выразиться в его творчестве как влияние идея чистого цвета просто не успела. В Париже вытесненная, в Мюнхене она, несомненно, явилась его взору, но уже с тем, чтобы посредством одного из характерных для него скачков, еще ожидающих изучения, открыть путь не к абстракции, а к реди-мейду, не к отказу от изображения, а к отказу от живописи. Но, что еще примечательнее, реди-мейд, который, как мы
увидим, отвечает на вопрос о чистом цвете, тем самым возвращает этот вопрос в ту самую точку теоретического взаимодействия, в которой он внезапно возник для Купки,—туда, где Шеврёль, воспринятый на фоне символизма, а не позитивизма, открыл цвету «подступ к символическому». В связи с этим неудивительно, что Дюшан — следуя стратегии, которая уже становится для нас привычной,—замкнул этот «под--ступ к символическому» на себя в номиналистском смысле, согласно которому он оказывается отвлечением-откровением.
1
Duchamp М. Notes. Op. cit. N. 185, 186 (приведенная заметка дана на двух страницах). Заметка 251 из этого же издания, явно более поздняя и содержащая своего рода check-list [реестр (англ.)] «Большого стекла», вновь упоминает буквенный номинализм. Она начинается со слов: «1.—Воссоздать буквенный номинализм; 2. —явление и явленность?».
2
С опережением, заранее (англ.). — Прим. пер.
«Запах сивухи (амил...) пробудил во мне, очевидно, воспомина
ние о целом ряде: пропил, метил и т.д. Сновидение произвело, однако, перемену: мне приснился пропил в то время, как я слышал запах амила» (Фрейд3. Толкование сновидений. Указ. соч. С. 96).
3
Duchamp М. Boîte blanche//DDS. P. 109.
Там, где было Оно, должно стать Я (нем,.). —Прим. пер.
4
Из ничего (лат.). — Прим. пер.
5
раньше или же вас там не было» {Лакан Ж. Семинары. Кн. 2. Цит. соч. С. 420-421).
6
«С тех пор как мой отец умер, я чувствую себя лишенным вех.
Отцы и вехи... Я уже не могу ни в чем быть уверенным» (интервью Дюшана Дени де Ружмону от 3 августа 1945 г.—Marcel Duchamp, mine de rien//Preuves. [Fevrier 1968]. № 204. P. 44). Дюшан-отец умер 3 февраля 1925 года.
7
«Нет смысла продолжать то, что сделал ваш отец. Нет смысла
быть еще одним Сезанном» — Интервью Дюшана Фрэнсису Робертсу («I propose to strain the laws of physics»//Art News. [December 1968]. Vol. 67. № 8. P. 64).
8
«Человек никогда не может начать с нуля. Он должен начать с го
товых вещей, как, скажем, его мама с папой» [англ.). — Прим. пер.
9
Duchamp М. Boîte blanche//DDS. Р.110.
10
Ibid.
11
Duchamp М. Boîte blanche//DDS. P. 111.
12
Ibid. P. 110.
13
Ibid. P. 110-111.
14
Duchamp М. Boîte verte//DDS. Р.48.
15
Duchamp М. Boîte blanche//DDS. P. 109.
16
Неологизм «voyable» [«показуемый»] вводится в связи с «де
вятью вытянутыми» в «Большом стекле» (Duchamp М. Boîte verte//DDS. P.54). Между «записываемым» [«scriptible» — ср. иллюминаторный скрибизм] и «произносимым» имеет место то же отношение возможности/невозможности, что и между «показуемым» и видимым.
17
Duchamp М. Boîte blanche //DDS. P. 110.
18
Duchamp M. Boîte verte // D D S. P. 48.
19
Подчеркнем, что Дюшан берет слово «литература» в квадратные
скобки —прием, в его письме часто равнозначный использованию кавычек, обозначающих сомнение или иронию. Это относится и к слову [буквенный] в названии заметки «Номинализм [буквенный]», где скобки указывают на то, что Дюшана-грам-матика интересует «момент буквы» в живописи, а не более или менее явное возвращение к «книжным картинам» [peinture lettree].
20
Ребенком {лат.). —Прим. пер.
21
Так, Ельмслев, чтобы продемонстрировать, что непрерывный цве
товой спектр подразделяется в различных языках согласно различным парадигмам, сравнивает современные европейские языки с кимрийским, в котором, например, слово glas охватывает весь наш синий и частично наши серый и зеленый, слово llwyd—весь наш коричневый и часть нашего серого, а слово gwyrdd обозначает лишь некоторые оттенки нашего зеленого (Hjelmslev L. Prolégomènes à une théorie du langage. Paris: Minuit, 1968. P 77).
22
Duchamp М. Boîte blanche//DDS. Р.123.
23
Duchamp М. Boîte blanche//DDS. P. 113.
24
Ibid.
25
Ibid. P. 112.
26
Ibid. P. 113.
27
Ibid. P. 112.
28
Duchamp М. Boîte verte //DDS. P. юо.
29
Ibid.
30
Ibid.
31
Duchamp М. Boîte verte//DDS. P. 77-78.
32
Ibid.
33
Duchamp М. Boîte bianche//DDS. Р.112.
34
Duchamp М. Boîte verte//DDS. P.98-100.
35
Duchamp М. Boîte blanche //DDS. Р.121 (вся заметка —p. 120-122).
36
Комментарий 1965 года, данный в качестве примечания к «физи
ческой окраске» (DDS. Р. 122). А на с. 121 Дюшан в том же году прокомментировал «появление в прирожденных цветах»: «эти цвета содержатся в молекулах».
37
кой Дюшана, и написал вместо «вещественных» [matiérels—еще один неологизм Дюшана, прямо образованный от matière, материя, вещество] «материальных» [;matériels — от matériau, материал]. Однако почерк Дюшана, четко разделяющий буквы и свидетельствующий о замедлении письма на этом слове, не оставляет сомнений в намеренности этой перестановки.
38
Duchamp М. Notes. Op. cit. N. 118. См. также п. 115.
39
Duchamp М. Boîte blanche //DDS. P. 117-118.
40
Duchamp М. Boîte blanche//DDS. P. 118. N.1.
41
жок или цвет, но только не выдавленный из тюбика. Этот цвет я получил, написав на реди-мейде фразу, которая тоже, кажется, имела поэтический характер и точно была лишена обычного смысла, основывалась на игре слов или чем-то подобном; теперь я ее уже не помню, тем более что утрачен и сам реди-мейд» (неопубликованное интервью Жоржу Шарбонье, Французское телевидение RTF, 1961).
42
The Artist’s Voice Talks with Seventeen Artists. New York — Evanston:
Harper & Row, 1962. P. 83.
43
« [Я хотел уйти] как нельзя дальше от описательного названия,
фактически устранив само понятие „название"»,—пишет Дюшан Сержу Стофферу (в неопубликованном письме от 19 августа 1959 г°Да) по поводу «Взять в подмастерья солнце» — произведения, в котором можно усмотреть тематическую связь между «Обнаженной, спускающейся по лестнице» и реди-мей-дом «Велосипедное колесо».
44
Duchamp М. Notes. Op. cit. N. 164.
45
«Я знал имя Делоне, не более того» (PC. Р-45)-
46
Ср.: Rowell М. Kupka, Duchamp et Marey//Studio International. Janvi
er-février 1975. Vol. 189. N2973- P. 48-51; ChalupeckyJ. Nothing but an artist //Ibid. P. 32-33.
47
Цит. по: Rowell М. Frantisek Kupka (catalogue). New York: The Solo
mon Guggenheim Foundation, 1975. P. 130.
48
London, 1879 (фр. пер.: Rood O.N. Théorie scientifique des couleurs. Paris, 1881).
49
Ср.: MladekM. Central European influences //Rowell M. Frantiéek Kup-
ka. Op. cit. P. 17,19.
50
Ср.: Nanni M. Frank Kupka et le symbolisme viennois//Cahiers du Mu
sée national d’art moderne. 1980. N25- P. 380.
51
«Абстрактный орнамент с использованием симультанного контра
ста цветов» {нем..). —Прим. пер.
52
«Все наблюдаемые мной явления зависят от простейшего закона,
который может быть сформулирован в самом общем виде так: когда глаз видит одновременно два смежных цвета, он видит их максимально различными по оптическому составу и по насыщенности тона» (Chevreul E. De la loi du contraste simultané des couleurs et de l’assortiment des objets colorés considéré d’après cette loi. Paris: Pitois-Levrault, 1839. P. 14).
53
I.W. von Goethe. Farbenlehre [1810]. § 725-726.
54
ю. I. W. von Goethe. Farbenlehre. § 1.
55
и. Signac Р D’Eugène Delacroix à Néo-impressionnisme. Paris: Hermann, 1978. p. 204.
56
Ibid. Р. 128.
57
С необходимыми оговорками (лат.). — Прим. пер.
58
Chevreul Е. Exposé d’un moyen de définir et de nommer les couleurs
d’après une méthode précise et expérimentale/Mémoire de Г Instti-tut. Paris: Académie des sciences, 1861.
59
Goethe I. W. Farbenlehre. Op. cit. § 758.
60
В понимании Купки: «Требование структуры: только в силу такого
требования цвет может казаться холодным или теплым» (цит. по: Nanni М. Art. cit. P. 386).
Делоне и вопрос ремесла
Впрочем, если не в терминах влияний, а, скорее, в терминах целей следует рассматривать отношения между Дюшаном и Купкой, то же самое относится и к его отношениям с Делоне, мюнхенская репутация которого в 1912 году стремительно росла. То, что Дюшан не встречался с ним, не позволяет воздержаться от анализа проблем, которые могли быть общими для двух художников1.
Делоне, перешедший к абстракции между 1911 и 1913 годами, как и Купка, еще в большей степени стремился к теоретическому осмыслению живописной практики. И еще явственнее, чем у Купки, его теория — симультанизм — отсылает к Шеврёлю: «См-мулътанизм. Симультанность цветов, симультанные контрасты и все многообразие непривычных ритмов, основанных на цвете, в их экспрессивном изобрази-
тельном движении,— вот единственная реальность, на которой должна быть основана живопись»2. В серии «Окон», написанных весной 1912 года, Делоне, который, в отличие от Купки, участвовал в кубистском движении, начал отход от него в сторону абстракции: «Название „Окна" как таковое остается напоминанием о конкретной реальности, но с точки зрения выразительных средств в этих работах уже чувствуется изобразительная новизна. Это окна в новую реальность, которая представляет собой не что иное, как алфавит выразительных средств, черпаемых исключительно в физической природе цвета, творца новой формы»19.
Подчеркнем вновь заявляющую о себе в связи с тенденцией к чистому цвету тему «подступа к символическому»: «алфавит выразительных средств, черпаемых исключительно в физической природе цвета». «Первый диск» (1912), своей геометрической структурой, ровной закраской, а, главное, круглым форматом затрудняющий пространственное прочтение по схеме «фигура/фон», является, вне сомнения, наиболее радикальным выражением этого алфавита. Картина недвусмысленно взывает к созданию нового языка и возникает в творчестве Делоне внезапно, без явных предвестий («Пейзаж с диском» 1906-1907 годов, хотя он и свидетельствует о дивизионистском интересе к Шеврёлю, проникнут космическим символизмом, который в «Первом диске» начисто отсутствует), но по большому счету не получает и продолжения. Работы, следующие за ним,—«Круглые формы», «Солнце №1», «Солнце и луна» и т.д.—возвращаются как в названиях, так и в кубистской про-странственности к «напоминанию о конкретной реальности», без которого обходится «Первый диск». Делоне вмешивается в проблематику «создателей языка» на краткое мгновение.
Практически он на ней не задерживается — при том что именно к ней склоняется в теории. Особенно странной — именно здесь, быть может, узел противоречия,—кажется его привязанность к понятию ремесла. «Конечно, мы остаемся в области формы—то есть ремесла,—и не беремся философствовать об искусстве»3. Похвальная скромность со стороны практика, стремящегося избежать уклона в теорию, свойственного Глезу и Метценже. Но этот практик, основатель нового «изма», ясно сознающий, какое теоретическое наполнение он в него вкладывает, ставит знак равенства между практикой и ремеслом. «Новую реальность» живописи, основанную, по его словам, на симультанном контрасте и «непривычных ритмах», он постоянно, почти навязчиво, отождествляет с «новым симультанным ремеслом». Делоне словно опасается — больше, чем кто-либо из его соратников,—что отказ от изображения будет воспринят как отказ от технических сложностей живописи. В своих текстах он сплошь и рядом доказывает, что импрессионисты, Сёра, Сезанн, «одно время пытавшиеся разрушить старинное ремесло живописи», исторически готовили не что иное, как «начало более глубокого исследования», «исследования чистой живописи», «самодостаточного» цвета. И это исследование — «техническое»4. Склонность к монументальности, незадолго до «Первого диска» ярко выразившаяся в «Парижской мэрии», а вскоре после него —в «Команде Кардифа», не позволила Делоне оценить по достоинству собственный теоретический, эпистемологический скачок. Он тоскует по «большой живописи»: «Парижская мэрия» не лишена переклички с Пюви де Шаванном, а «Команда Кардифа» —с Таможенником Руссо, «этим добросовестным тружеником»5. Момент вдохновения между ними, давший рождение «Первому диску», остался не возымевшей эпистемологических следствий вспышкой. «Как только удивление проходит, только ремесло...» может, согласно Делоне, оправдать притязание живописи на ранг языка чистого цвета23. «Ибо вдохновение и ремесло неразрывно связаны, и их соотношение всегда должно быть точным»6.
Случай Делоне объясняет скорый тупик других версий абстракционизма — Кандинского и Купки. Кандинскому начало абстрактной живописи открылось с заложенным в ней опыте внутренней необходимости. Откровение воображаемого, которое позволит ему расширить метафору и спроецировать язык чистой живописи в фантазматический и идеальный мир, останется, вопреки всем его педагогическим усилиям, оторванным от его символической функции в реальном обществе. У Купки то же самое начало, очертившее место теоретического взаимодействия, окажется неустойчивым и не сможет раскрыть свои следствия. После «Вертикальных плоскостей» (1912-1913), еще сохраняющих радикальность «подступа к символическому», он вернется к космическо-теософскому символизму, и его живопись, утратив созвучность с эпистемологией эпохи, станет вскоре не более, чем декоративной.
Малевич и вопрос отказа
Два рассмотренных случая весьма поучительны для понимания — по контрасту — причин исторической значимости живописцев, придавших появлению абстрактной живописи устойчивый эпистемологический смысл. Я имею в виду, разумеется, Малевича и Мондриана. Вопреки распространенному мнению, дело не в том, что они разработали более «корректную», более «современную» или более «материалистическую» теорию живописи, нежели Купка и Кандинский. Понятно, что супрематизм многим обязан туманному мистицизму Успенского и что Мондриан не меньше, а может быть, и больше Купки почерпнул из теософии. Важно преобразование, которому подвергся весь этот идеализм в их живописи, важно, что он использовался ими — подчас невольно — в качестве идеологической поддержки решений, источник которых на самом деле был иным, связанным с острейшей восприимчивостью художников к историческим тенденциям живописи. А эти тенденции, в том числе и теоретические, имели отношение к ремеслу—в этом правота Делоне не пошатнулась. Чего он, однако, не понимал и что в тот же исторический период поняли Малевич и Мондриан, так это что ремесло и отказ от ремесла — одно и то же. Что следовавшие один за другим отказы, которые составляют предшествующую им историю модернизма,— отказ Мане от светотени, Сезанна от перспективы, их самих от изображения,—были не оздоровительным очищением, неким возвратом к пустоте перед строительством нового здания, а как раз таки ремеслом. Что авангардистская живопись, отрицая, казалось бы, старые ценности, тем самым утверждала новые и что в качестве достаточного оправдания этого утверждения, или созидания, как раз и требовалось видимое уничтожение традиции. Ведь это уничтожение и впрямь только видимое: художники отказывались лишь от уже мертвого, убитого не ими, а историческими, социальными, экономическими, технологическими условиями, которые в процессе индустриализации сделали живопись невозможным ремеслом.
В этом смысле Малевич и Мондриан, подобно Дюшану, не склонны к фантазму чистого листа. Тем более — к фантазму возврата к классике, всегда, даже у Делоне, являющемуся симптомом живописного регресса. Они знают, что великая живопись XX века может быть лишь живописью, отвергающей «великую живопись», и что «новое ремесло» должно бежать, как чумы, всего, что связано с «ремеслом». Отсюда механическая, «неумелая» и намеренно лишенная всяких примет мастерства манера Малевича и Мондриана. И отсюда же, вопреки всем формальным расхождениям, их глубокое родство с Дюшаном.
Скажут, что Малевич и Мондриан, в отличие от Дюшана, не отказались от живописи. Это так, и интуитивно, и эмпирически. Но с эпистемологической точки зрения они отказались от живописи в той же мере, в какой Дюшан от нее не отказался. Если присущая искусству функция истины заключается главным образом в том, чтобы выявлять реальные условия создания искусства, то реди-мейд Дюшана точно так же выявляет условия выживания живописи в обществе, которое делает ее ремесло невозможным, как «Черный квадрат» Малевича —невозможность заниматься живописью в обществе, которое продолжает идеологически обосновывать это ремесло. «Черный квадрат» не требовал от его автора никакого мастерства. Ремесло доступно кому угодно, в этом, очевидно, и состоит не только провокационная сила картины, но и ее эпистемологическая утвердительная мощь. Та же, что и у ре-ди-мейда, с поправкой на симметрию: реди-мейд обращается к историческим, и прежде всего технологическим условиям живописи как мертвой живописи. Он негативным образом — не будучи живописью — утверждает, что живопись может пережить свою смерть, лишь установив ее причину. И, будучи промышленным объектом, позитивно утверждает эту причину: индустриализация, которая убила ремесла, убила в том числе и ремесло живописи. «Черный квадрат» обращается к идеологическим следствиям этого же убийства. Он позитивно — оставаясь-таки живописью — утверждает, что живописная практика продолжает жить, поскольку не желает более быть ремеслом, и предает смерти идеологические импликации последнего. И будучи «рукотворным» негативно утверждает эти импликации: ремесло, павшее под ударами индустриального молота, представлено в «Черном квадрате» своим отсутствием.
Но, хотя эпистемологический скачок у Дюшана и Малевича с учетом симметрии один и тот же, хотя они избавляются от ремесла, чтобы заявить, что живопись мертва или жива, поскольку не является ремеслом, ошибкой в оценке следствий этого скачка было бы заключить, что «Черный квадрат» —это еще живопись, а реди-мейд — уже нет. Стратегия реди-мейда—действительно та же, что и в случае прочих отказов живописного модернизма от Мане до Малевича. Вопреки видимости, он не заводит «логику» отказа дальше, тем более, как сказали бы некоторые, слишком далеко — туда, где нить традиции в самом деле прерывается. По видимости, «Черный квадрат»—еще картина, а реди-мейд — уже просто объект. Однако граница между «еще живописью» и «уже не живописью», между «картиной» и «вещью» — обман зрения.
Тот же самый обман лежит в основе формалистического прочтения модернизма, самым твердым сторонником которого является Клемент Гринберг. Он резко отвергает Дюшана и старательно избегает включения Малевича в свою концепцию истории модернизма, кульминационной точкой которой оказывается «живопись по-американски» и плоский иллюзионизм какого-нибудь Олитски25. Но он не может избежать молчаливого учета эпистемологических следствий их реального места в истории живописи. Так, в отличие от других критиков, Гринберг ясно понимает, что ремесло и отказ от ремесла — одно и то же. Правда, основывается при этом (и небеспричинно) не на Малевиче, а на Поллоке и Ньюмане. Не менее ясно он понимает, что граница между «еще живописью» и «уже не живописью» — это диалектическая граница, смещающаяся по ходу истории. Например, в 1863 году она могла проходить между Энгром и Мане, а в 1947-м — уже между Пикассо и Поллоком. Ее смещают сами художники, добиваясь от публики запоздалого признания значимых живописных нововведений, которые на первый взгляд всегда предстают как отказ от ремесла и конвенций живописи. Но Гринберг считает, что у этого смещения есть предел — его невольная конечность, и что модернисты одну за другой устраняли «побочные конвенции» живописи лишь для того, чтобы яснее выявить неустранимый остаток, образуемый ее сущностными конвенциями. Тем самым он неизбежно приходит к фетишизации формальных характеристик картины, пусть даже не написанной, словно в них заключена неоспоримая власть проведения границы между тем, что заслуживает имени живописи, а что —нет. Поскольку в пределе эти характеристики не зависят от ремесла, их вместилищем оказываются эмпирические условия станковой картины, плоский и пространственно ограниченный холст, натянутый на подрамник: «К настоящему времени кажется установленным то, что неустранимая суть живописного искусства заключена в двух свойственных ему нормах, или конвенциях: плоскость и ограничение плоскости. Иными словами, простого следования двум этим нормам достаточно, чтобы создать объект, который может рассматриваться как картина: так, натянутый на подрамник или прибитый к нему холст уже существует в качестве картины, не обязательно при этом будучи картиной удачной»7.
Тезисы Гринберга свидетельствуют о тупике, в который ведет онтологическая концепция специфичности живописи, доводя ее до абсурда. Стремясь показать что «модернистская живопись» одну за другой демонтирует исторические конвенции живописи, чтобы крепче укоренить последнюю в ее неприводимом бытии, они в конце концов локализуют это бытие в формально-технических характеристиках чистого холста, реди-мейда, купленного в магазине художественных принадлежностей! Зачем же останавливаться на этом прекрасном пути, не признавая имени живописи за дюшановским писсуаром? Или даже раньше, отказываясь называть живописью «Черный квадрат» Малевича, монохромные работы Родченко или унизм Стржеминского? Собственно, Гринберг молча не признает и их. Его слепота к Дюшану сопровождается слепотой к русскому конструктивизму, не говоря уж о польском, которого для него просто не существует. Но даже если ограничиться американским абстракционизмом, знамя которого он сознательно нес, как иначе объяснить его недовольство семью белыми картинами Раушенберга («White Painting», 1951), его молчание по поводу «черного периода» Рейнхардта, его невнимание к «решеткам» Агнес Мартин, его замешательство перед черными картинами Стеллы? Как только художник решает буквально следовать его определению «фундаментальных условий живописи», Гринберг отказывается его понимать. На то были веские причины, поскольку в противном случае ему пришлось бы либо засвидетельствовать смерть живописи, либо пересмотреть всюсвою теорию и предпочесть, как делаю вслед за Дюшаном я, эссенциализму номинализм8.
Таким образом, слепоту Гринберга к реди-мей-ду следует расценить как следствие непреодолимой склонности определять специфичность живописи онтологически и нежелания рассмотреть ее в номиналистском ракурсе. Но ведь в конечном счете между готовым, ready made, холстом и реди-мейдом как таковым оспаривается не картина, а имя живописи. Конечно, Гринбергу известно, что исторически решающей в вопросе специфичности живописи является отнюдь не априорная логическая категория и что основанием для присвоения тому или иному объекту имени живописи не может быть раз и навсегда определенное понятие. Решение принимается посредством ценностного суждения — эстетического суждения, апостериорным следствием которого выступает сужение или расширение понятия живописи и установление тем самым исторического уровня ее специфичности. Гринберг понимает это лучше большинства критиков. То, что он называет неприводимостью живописного искусства, видится ему как результат исторического процесса, от начала и до конца образуемого сменой эстетических суждений. Поэто-му-то он и останавливается на пороге последнего суждения: «натянутый на подрамник или прибитый к нему холст уже существует в качестве картины, не обязательно при этом будучи картиной удачной». Только ведь и до последнего суждения или исторического момента, когда необходимые и достаточные условия картины окажутся приведены к ее плоскости и контуру, ставкой каждого эстетического суждения является имя. Со времен Мане и Малларме «жюри не в состоянии сказать ничего, кроме: „Это картина11 или „Это не картина1'». Задолго до Дюшана и Малевича институциональная история современной живописи придала эстетическому суждению вербальную форму наименования.
После Дюшана история решила, что реди-мейд был искусством, присвоила ему это родовое имя. Но следует ли нам, оборачиваясь назад, сказать также, что реди-мейд — это «живопись», можно ли сознательно утверждать, что он заслуживает этого специфического имени? Сказать: нет, сославшись на то, что реди-мейд создан не художником, что он не обнаруживает признаков ремесла — как «старинного ремесла живописи», разрушенного еще Сёра и Сезанном, так и «нового ремесла», чаемого Делоне,—значит решить, что «Черный квадрат» Малевича, в котором ремесла не больше, чем в дюшановском писсуаре, тоже не может быть назван живописью. Сказать: нет, сославшись на отсутствие оснований связывать реди-мейд с живописной традицией и в том числе с традицией «модернистской живописи», поскольку он уже не соответствует «фундаментальным условиям» картины (даже как чистого холста), значит заявить о готовности назвать живописью готовый холст из магазина и «Черный квадрат», но не писсуар Дюшана. Оба решения неприемлемы. Отказав в статусе живописи «Черному квадрату», мы лишим историю модернизма самой значимой части, с кем бы она для нас ни ассоциировалась —с Малевичем или с шедшими параллельными путями и не в меньшей степени, хотя и по-своему, отметавшими живописное ремесло Лисицким, Родченко, Мохой-Надем, всеми конструктивистами, Мондрианом, Поллоком, Ньюманом, Стеллой и т.д. Перечеркнув же знак равенства между готовым холстом и реди-мейдом, который холстом не является, мы сочтем незыблемыми условия вовсе не фундаментальные, а только лишь соответствующие послеренессансной станковой живописи. А это, в свою очередь, значило бы не признать не только существования множества живописцев, работающих сегодня на не натянутом холсте и других основах, но и —задним числом —того, что когда-ли-бо занимались живописью древние греки, писавшие на вазах и щитах, которые не отвечают «фундаментальному условию» плоскости. В таком случае надо сказать: да, реди-мейд следует называть живописью? Можно попробовать, сославшись на то, что факт его непринадлежности художнику радикализует тот самый отказ от ремесла, что придает исторический и эстетический вес «новому ремеслу» живописи. От Мане до Малевича отказ от ремесла является ремеслом и ничто так, как его отрицание, не утверждает живописца в качестве живописца. К этому следует добавить, что именно демонтаж живописных конвенций образует историю модернизма — демонтаж, также действующий посредством отказа,—и потому реди-мейд, сводя счеты с конвенциями холста и подрамника, утверждает свою принадлежность к традиции с предельным радикализмом. Впрочем, этот путь очень быстро приводит к неразрешимому парадоксу: готовый писсуар должен быть признан более чистой «живописью», чем готовый холст, а Дюшан — в большей мере живописцем, чем Малевич. По большому счету имени живописи заслуживает только тот, кто радикальнее всех откажется от всяких видимостей и конвенций. В этом случае имя живописи—не что иное, как синоним мертвой живописи, не более чем номинальный след ремесла, суммы конвенций и традиции, окончательно исчезнувших из истории. Но для чего же тогда сохранять это имя? Парадокс в том, что, хотя реди-мейд должен быть назван живописью, это имя обозначает лишь расширение его собственной способности именования. Живописи больше нет, есть искусство. И это решение также неприемлемо, ибо оно, во-первых, исключает из истории модернизма все, что соответствует той или иной живописной конвенции; во-вторых, незаконно отождествляет стратегию отказа, являющуюся лишь частью модернистского демонтажа, со всей совокупностью его стратегий; и, в-третьих, в конечном счете оправдывает фантазм чистого листа и уподобляет современную невозможность живописи полной утрате памяти о ее прошлом. В конкретном смысле это значило бы решить, что после Малевича и Дюшана, особенно после Дюшана, не только нельзя быть художником, не будучи нехудожником или антихудожником, но и что к тому же нужно забыть, что живопись некогда существовала. Выражением подобной иллюзии является идея, будто после абстракции нельзя возвращаться к изображению, после монохромности — к живописной пространствен-ности, а после концептуального искусства — к отсталой практике живописи как таковой. Эта идея упускает из виду различие между возвратом в прежние конвенции ремесла и возвратом к этим конвенциям, признает первый временной закон авангарда — необратимость, и не признает второй — возвратное действие. Множество художников нашли бы себе место в этой антимодернистской истории, но самые значительные живописцы после Дюшана, как, например, Рихтер или Райман, оказались бы выброшены за ее пределы именем амнезического авангардизма.
Сверхузкое
Итак, реди-мейд должен быть назван живописью и не может быть назван живописью. Это противоречие не разрешить, заявив, что он —одновременно и живопись, и «нечто другое». Реди-мейд не приводит понятие живописи к противоречию самому себе, но вносит неразрешимость в акт наречения живописью28.
Этот акт — эстетическое решение, к которому реди-мейд подталкивает зрителя, и оно симметрично тому, что подтолкнуло Дюшана к наречению реди-мейда. Неразрешимость характеризует оба эти решения, словно бы стороны «живопись» и «не-жи-вопись» оборачиваются одна другой, как на ленте Мёбиуса, и «решитель» оказывается в безвыходном double bincP9. Его суждение соскальзывает с одной стороны на другую, ни там, ни там не удерживаясь или цепляясь за сверхузкую кромку .
Два эти понятия — сверхузкое и эстетическое суждение — глубоко родственны в мысли и словаре Дюшана. Выбор реди-мейда — это суждение, произносимое при «полном отсутствии хорошего или плохого вкуса»9. Возможно, это уже и не суждение вкуса, но эстетическое суждение в новом смысле, который Дюшан не вводит, а регистрирует и выявляет,—суждение не утилитарное, моральное или идеологическое. Именно поэтому оно напрашивается в отношении «красоты безразличия» и призывает применительно к ней неразрешимое именование . Каковое —не имя. Оно призывает имя, подталкивает к нему и в то же время к отказу в нем, сводится к двоякому договору, который придаст ему вес одновременно в перспективах согласия и несогласия. Это именующий акт, и как таковой он не может быть именем. Будучи неразрешимым, эстетическое суждение оказывается сказом, замершим между двумя высказываниями: «это живопись»/«это не живопись». Оно — сверхузкий переход и безразличное различие между ними, нечто, не имеющее имени и тем более понятия. Эстетическое суждение — это опыт, уклоняющийся от всякого понятийного уяснения. «По его поводу едва ли возможно что-либо, кроме примеров»10,—говорит Дюшан о сверхузком в ответ на вопрос Дени де Ружмона о его понятийном определении.
Вот несколько таких примеров: «при выдохе табачного дыма два запаха смешиваются в сверхузком»; «сверхузкое тепло кресла (с которого только что встали)»; «шуршание бархатных штанов от трения ног (при ходьбе) — это сверхузкое разделение, указываемое звуком»; «сверхузкое разделение между звуком выстрела из ружья (с близкого расстояния) и появлением пулевого отверстия на мишени» и т.д.11
Все эти примеры описывают чувственный опыт, который читатель может представить себе или, при желании, испытать. Но, кроме того, они призваны очертить различие (само по себе не чувственное), на которое ощущение может только указать12. Это различие —двойное: его «полнота» затрудняет переход, а его «пустота» приглашает к нему: «Сверхузкое разделение —лучше, чем перегородка, поскольку обозначает промежуток (в одном смысле) и перегородку (в другом смысле); у разделения два смысла —мужской и женский» .
Сверхузкое разделение безусловно имеет место, когда оно отличает то же от того же, когда оно дифференцирует индифферентное или дифференциальное тождество: «Отличие (в размерах) между двумя предметами, изготовленными серийным способом [по одной матрице], будет сверхузким при соблюдении максимума (?) точности»13. Когда же оно обращается одновременно к согласию и несогласию, оно является эстетическим суждением: «Обмен между тем, что преподносится взглядам [всяким продуктом, к ним обращенным (из любой области)], и ледяным взглядом публики (который замечает и тут же забывает) очень часто имеет значение сверхузкого разделения (в том смысле, что чем больше вещь восхищает и привлекает к себе взгляды, тем меньше места остается для св.-уз. раздел.)»38.
Наконец, смысл этого эстетического суждения, подталкивающего одновременно к «да» и «нет», сводится к стрелке, вектору времени, и к реакции, вызывающей его возвратное действие на себя же, к промежутку, который делает опережение художника и запаздывание зрителей одновременными: «Дверцы метро: пассажиры, вбегающие в самый последний, сверхузкий момент» Значение знака стрелки вызывает сверхузкую реакцию на направление подразуме-ваемого перемещения» .
Но, главное, эстетическое суждение —эстетическое именование — не является самим именем: «сверхузкое (прил.)-не имя, его нельзя субстантивировать»14.
Сверхузкое — не имя, хотя оно представляет собой промежуток, переход между двумя именами, например, передачу имени живописи имени искусства. Не имя, хотя оно представляет собой решение, замершее между двумя противоположными именованиями, которое не может решить, не уничтожившись в то же мгновение. Не имя ни для зрителя, призванного решать «с учетом всех отсрочек», ни для автора, загодя проецирующего это решение. «Я не человек решений. Я не решал покончить с живописью, или работать на стекле, или делать реди-мейды»41. «В искусстве я в конечном итоге дойду до точки, где мне уже не нужно будет принимать решений — решений, так сказать, художественного порядка»15.
Не то чтобы мы — зрители, бессильные решить, должен ли реди-мейд называться живописью,—ожидали от автора, чтобы он решил за нас. Со стороны автора эстетическое суждение столь же неразрешимо, как и со стороны зрителя. Оно не является делом решения, намерения, проекта, но не является и делом нерешительности, отсутствия намерений, неуверенности по поводу проекта. Оно — сверхузкий, сверхкраткий факт промежутка, различия и нехватки: «На самом деле в цепи реакций, сопровождающих творческий акт, не хватает одного звена; этот пропуск, отражающий невозможность для художника полностью выразить свой замысел, это различие между тем, что он намеревался осуществить, и тем, что он осуществил, есть заключенный в произведении личный „коэффициент содержания". Иначе говоря, личный „коэффициент содержания11 есть своего рода арифметическое отношение между „тем, что было в проекте, но не выразилось11 и „тем, что выразилось ненамеренно » .
С почти клинической ясностью, точностью Дюшан указывает здесь отсутствующее звено творческого акта, помещая его в сверхузком различии между тем, что было решено, но так и не попало в произведение, и тем, что в нем присутствует, но не было решено. Сколько бы зритель ни «создавал картину», он не в силах восстановить отсутствие этого звена. Он может ее повторить, может поставить на ее место свою картину, направив произведение вслед за своим желанием. В положенный час он примет решение. «Реди-мейд это не живопись!»— таков его наиболее вероятный вердикт, продиктованный здравым смыслом, который, впрочем, не более чем смысл ожидаемый. Тот, кто ждет от живописи удовлетворения своего желания —желания видеть, желания прекрасного, желания ремесла и т.п.,—неизбежно испытает фрустрацию при виде реди-мейда и вынесет отрицательное решение. Тот, кто ждет от живописи пресечения своего желания и в то же время нового импульса для него, тот, кто ждет от нее неожиданности, зная, что «видение», «прекрасное» и «ремесло» — ценности весьма подозрительные, открыт обратному решению. Для него отсутствующее звено —самое главное, для него важнее всего, чтобы звено отсутствовало. Собственно, в этом условие «подступа к символическому», условие возможного именования. Поэтому он решит назвать реди-мейд живописью. Но он должен понимать, что подобное именование дозволяется ему в последний раз. Ведь то, что он сейчас назовет,—уже мертвая живопись, смерть живописи. Решать выпадает нам — опаздывающим зрителям. И это весьма серьезное решение, ибо оно распространяет наши суждения за пределы искусства Дюшана, на то что составляет нашу историю и именуется модернизмом. Мы называем себя постмодернистами, это слово в моде, но мы не знаем, что мы говорим. Связь или разрыв с ближайшим прошлым обозначает это «пост»? Является ли оно хронологически последним выражением фантазма чистого листа, а мы в таком случае — модернистами, потому что более не хотим ими быть? Или же оно —возвратное действие, дающее прошлому новое истолкование, а мы в таком случае —уже не модернисты, потому что на модернизм ссылаемся? Таков наш исторический выбор. Это не выбор абстракции или «основополагающего языка», ибо основоположникам языка мы уже не верим. Но вместе с тем это выбор суждения, которое мы вынесем о них. И это суждение остается неразрешимым.
Наш шанс заключается в том, что некоторые из основоположников нового языка тоже не верили в этот проект. В 1913 году в него не верил Малевич, Дюшан не верил в него всю жизнь. Реди-мейд, хотя он вводит «условия языка», всеми силами старается им не удовлетворить. И, наоборот, поиск «пер-вослов», обнаруживая «острейшее стремление очистить наши изобретения от всех чуждых им значений, словно его цель —не оставить им возможности быть языком»16, не помешал зрителям разматывать вокруг них бесконечный текст. Этот текст может служить проводником лишь их собственного желания, а может и говорить правду. Возможно. И до поры до времени. При условии того, что он не решает и понимает, что неразрешимость реди-мейда по-прежнему является его историческим потенциалом и дает живописи, именуя и не именуя ее, неограниченную отсрочку.
Так относится ли реди-мейд к «живописи»? Вопрос не имеет смысла. Уже не имеет смысла, если живопись умерла с пришествием модернизма, и еще не имеет смысла, если постмодернистская живопись пока не родилась. Временно — то есть на время отсрочки, задержки, «притирки», продолжающейся с 1913 года по сей день,—реди-мейд не имеет имени. Он — черта между двумя именами, неразрешимое означающее и означающее неразрешимости, нечто раздвоенное, как оговорка, промах, потеря равновесия.
Среди вещей, которые Дюшан окрестил реди-мей-дами, есть одна, более других значимая для уха, настроенного на имя «живопись». Она точно и беспристрастно датирована, а также имеет надпись (то есть, напомним, дополнительный цвет) впрочем, белую. Это расческа вроде тех, какими кубисты имитировали рисунок древесины, причем, как подчеркивает Дюшан, расческа железная. Надписанная в 1916 году, в 1937-м она вернулась на обложке авангардистского литературного журнала под названием «Передача». Буквы этого слова опрокинуты и словно бы находятся в общей с расческой перспективной плоскости. Сразу под ними легкий цветовой нюанс фона обозначает разрыв. Что же за разрывающую связь передачу означает расческа, если не ту, о которой без буквенных упущений говорит —применительно к вещи —ее имя?17 «Написал бы я!» вместо «пишу». Такова номиналистская манера, в которой реди-мейд называет возможной живописью вещь, которую невозможно назвать живописью.
Передачи
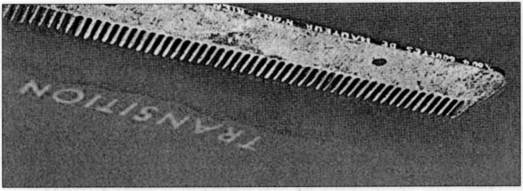
Ja, die reinen Farben nicht einmal besondere allgemein gebrauchte Na-men, so wenig wichtig sind sie uns1.
Людвиг Витгенштейн
ДЕНИ ДЕ РУЖМОН: «Что такое гений? Марсель читает свой ответ: Невозможность железа. И добавляет: „Опять каламбур, разумеется"»2.
По одну сторону неразрешимой черты — «невозможность делания», по другую —«изображение возможного»3. Переходом и передачей между ними, «перегородкой» и «промежутком», хиастическим смешением мужского и женского является реди-мейд. А все потому, что речь по-прежнему идет о завоевании женщины/живописи, но согласно коммандитной симметрии.
1. Да, чистые цвета подчас не имеют общеупотребительных имен, но это не делает их менее важными для нас (нем.). —Прим. пер.
2. Rougemont D. de. Marcel Duchamp, mine de rien. Art. cit. P. 45.
3. «Изображение возможного (не как противоположного невозможно му, в определенной степени вероятного или отчасти правдоподобного). Возможное — всего лишь физическая „протрава“ [вроде купороса], разъедающая любую эстетику или каллистику [от греч. калос — прекрасный.— Прим. пер.]». (DDS. Р. 104. — Заметка 1913 года, не включенная в «Коробки»).
Становлению-женщиной в «Переходе от девственницы к новобрачной» соответствовало становление-живописцем самого Дюшана. Игра имен живописи и живописца разворачивалась там вокруг андрогинного и неразрешимого означающего Сезанн/Сюзанна. Но, ведя от девственной картины к полотну в прошедшем времени, «Переход» решал в пользу обеих его сторон, говоря, что он делает, и делая, что говорит, осуществляя желание «Не сестра!» и называя путника, совершающего переход, по имени. Тогда как передача, которая на сей раз идет от живописи в прошедшем времени к девственному реди-мейду, не решает ни в чью пользу: она удерживает становление-не-живописью вокруг андрогинной подписи бывшего живописца готовым к переходу, но его не совершающим. Марсель Дюшан, живописец, скрепляет подписью невозможность живописи, а Рроза Селяви, художница, тем временем расписывает возможность искусства. Или же — нехудожник Марсель Дюшан обозначает возможность живописи, а неживописец Рроза Селяви живописует невозможность искусства. Или, наконец, Рроза Селяви притворяет означенный знак, тогда как Марсель притворяется повешенной самкой... «Опять каламбур, разумеется».
В парадоксальных играх коммандитной симметрии род слов с легкостью меняется местами с полом людей, будущее обменивается на отказ, утверждение отрицается, а отрицание утверждается. Прервем эту круговерть: «задаток живописи — женского рода»18. Неразрешимость транссексуальной личности Мар/Сель доходит до точки, где отсутствующее звено предоставляется сверхштатным означающим: у Рро-зы в наличии достаточно/?, чтобы внести задаток живописи, который Селяви пустит на нужды весьма необычного искусства. «Остается знак а/б [или Р/С], который их разделял (знаксогласования) или, скорее... чего?... искать»5.
Оставим этот знак, ведь мы-то знаем, где его искать. «Прежде всего, у греков», — говорит Сюке, называющий его фаллосом. У Лакана, сказал бы я, ибо он имеется у него в готовом виде, ready made, и опять-таки написанный по-гречески.
Лакановская формула субъекта

была выведена в 1913 году Дюшаном:

Он, разумеется, этого не знал. Его формула —не теоретическая. Он, простодушный живописец, всего лишь следовал за отсутствующим звеном своего творческого дара. Он следовал за ним, искал его, он, наконец, тоже от него отказался, убежденный в том, что его произведения позволят этому звену явить себя в самом своем отсутствии, как черту согласования, которой повинуется «личный коэффициент искусства» «вкладывающегося живописца», которым Дюшан/Се-ляви не решается стать.
Ведя, таким образом, от перехода к передаче, путь нашего эвристического параллелизма не заканчивается. Лакановская парадигма изоморфна дюшанов-ской формуле. Первая, как кажется, может бесконечно интерпретировать вторую. Объекты, афоризмы, замечания Дюшана неизменно будут находить в ней подтверждение своей таинственности. А вторая может бесконечно призывать вторую, поддерживая
идеальное круговращение, и составлять вместе с нею слаженную теоретическую холостую машину. Поэтому пришло время оставить их на параллельных траекториях. Историку эвристический параллелизм искусства и сновидения дал все, что мог дать, позволил найти все, что в нем можно было искать, использовал все ресурсы своей действенности. Сообщаемая им истина, если истина в нем есть, не обязательно является истиной психоанализа или искусства в последней инстанции. Это не более чем автореферентная истина выпадающих им на параллельных путях функций истины, охватывающих, будучи параллельными, один и тот же промежуток времени —время двух трассировок в одной и той же эпистеме. С приходом Лакана новая траектория прокладывается в деле, начатом Фрейдом: теория субъекта формулируется по-новому — как риторика подчинения означающему. С приходом Дюшана, если интерпретировать его творчество с точки зрения буквенного номинализма, трассировке подвергается начатая Сезанном и пионерами модернизма разработка живописи: по-новому—так же, как и у Лакана с Фрейдом,—формулируется практика субъекта-художника.
Нельзя сказать, что мы получили тем самым законченную теорию или практику. Субъект по Лакану—не более «истинный», чем декартовский. Но он эффективен сегодня, для эпистемологии как истории или для истории как эпистемологии, все равно. Таким же образом живопись и невозможность живописи по Дюшану не более «истинны», чем живопись по Сезанну. Но подобно тому как сезанновское пространство эффективно интерпретируется в свете феноменологического понятия «субъект-тело», авторская практика Дюшана эффективно интерпретируется в лакановской парадигме субъекта. В этом заключается единственное подлинно теоретическое следствие эвристического параллелизма, который не может быть для историка искусства чем-то большим, нежели методологическое заимствование. Оно затрагивает лишь один аспект его практики историка искусства, связанный с принимаемой им в качестве своей теории автора. Ведь историк искусства, если он рассчитывает подняться выше уровня историографа, должен быть также эстетиком. А если он рассчитывает создать свою эстетику, ему придется включить в нее теорию отношений между произведением и его автором (а также зрителями), то есть теорию субъективного измерения художественной практики.
В идеале он целиком извлечет ее из произведений, во всяком случае из тех, которые им и его временем признаются значимыми. Они — место образования индивидуального субъекта-художника. Но также и место, в котором историческое общество приводит в действие и в то же время запечатлевает технологии образования субъекта, используемые им во всех социальных практиках. Одна из функций истины плодотворного произведения искусства (и один из аспектов его исторической эффективности), вне сомнения, как раз и заключается в том, чтобы привести их в действие и в то же время отобразить посредством того движения самоотсылки, которое для него характерно, но которое отсылает также и не к нему. Ведь, обращаясь к самому себе, плодотворное произведение обращается за пределы себя, и самый из ряда вон выходящий художник говорит для всех. То, что он говорит о характере своего образования в качестве субъекта-художника,—там, в его произведении. Но это заключено там не теоретически или, в крайнем случае, как скрытая теория, которую не прочесть без внешней поддержки. Такую поддержку историк искусства может найти в существующих теориях, предоставляемых ему эпистемологическим устройством, к которому он принадлежит. Он не судья этим теориям в их собственном поле, поскольку не является их практиком, и, кроме того, ограничен в своем выборе, безоговорочно некомпетентен (мой случай) на взгляд специалистов. И все же, скромно признавая свою некомпетентность, он рискует больше, чем привлекая к делу теорию, которая кажется ему как нельзя более созвучной изучаемому им искусству и как нельзя более важной для современного состояния его дисциплины. Ведь как историк искусства он не может обойтись без эстетики и, следовательно, без теории автора. И на серьезный риск он пойдет, приняв некую эстетику необдуманно, следуя сословному обычаю. Так, для многих историков искусства автор — это только подпись, печать подлинности, всегда связное и тождественное себе «я», развивающееся проторенными путями влияния, разрыва и созревания. Когда эта схема впускает в себя рефлексию, последняя слишком часто сводится лишь к «невинному» заимствованию философских или психологических теорий субъекта, предшествующих произведению, к которому их прилагают: таковы, например, романтический субъект в поисках идентичности, или художник как самовыражение, или, позднее, бессознательное или влечение как спонтанная творческая сила.
Между тем существует — во всяком случае в модернизме—имманентная произведениям искусства историческая специфичность, которая не может не поднимать вопрос об эпистемологической устойчивости прилагаемых к ним теоретических орудий. Это неотступное беспокойство, словно водяной знак, пронизывает нашу работу. Оно-то и побудило меня сделать ставку на эвристический параллелизм, метод, который (утопически) позволяет, как кажется, заимствовать без механического переноса, и в нашем случае черпать из фрейдовско-лакановской теории субъекта действующие понятия, интуитивно кажущиеся как нельзя более подходящими для выявления функции истины, намечаемой субъективной практикой художника Марселя Дюшана.
Этот эвристический параллелизм не заканчивается здесь заключением не к окончательной истине, а к временному соответствию: сегодня дюшановская формула функции автора изоморфна лакановской парадигме субъекта. Возможность подобного заключения требовала, чтобы две параллельные трассировки пришли к точке схода, уклоняемые встречными движениями самоистолкования. Искусство сравнивалось со сновидением, это искусство —с этим сновидением, в соответствии с той неизменно эвристической функцией, какую сновидения Фрейда выполняли в его самоанализе. И сравнение оказалось действенным, ибо позволило выявить в искусстве Дюшана эквивалентную фрейдовской самоаналитическую функцию отвлечения/откровения. Ничто не мешает воспроизвести, разыграть ее в аналитическом поле, ввести туда художественную автореферентность или, наоборот, воспроизвести, разыграть в эстетическом поле Фрейда и Лакана, ввести туда значение сновидения (Traum-Deutung). Подобные опыты выходят за рамки параллелизма, тяготея к практике встречной деконструкции. Они имеют собственную ценность и регулируются своими законами, но, на мой взгляд, бесплодны для историка искусства по достижении некоторой переводимости, прозрачности параллельных полей, то есть когда изучаемое искусство оказывается изоморфным изучающей его теории, практически ее предугадывая и явно отчасти ее зная6. Поэтому остановить их в момент, когда трассировка произведения, его задержка, порождает теоретическое отвлечение/откровение.
6. Это таинственное «знание» часто отмечали — например, Октавио Пас: «Дюшан знает, что бредит» (Paz О. Le château de la pureté//Marcel Duchamp: l’apparence mise à nu. Paris: Gallimard, l977- P- 23)> или Юбер Дамиш: «А если эта игра бессознательного была намеренной? Если Дюшан просто-напросто имитировал игру бессознательного, если в этом заключалась его истинная хитрость?» (Damisch H. La défense Duchamp. Art. cit. P. 115).
Дюшан — Пьеру Кабанну, в ig66 году: «Задержка в стекле, как мне это нравится! Если прочесть наоборот, это кое-что да значит»7. Почему бы не остановка сновидения?
Теоретический палиндром, читаемый историком искусства сразу в двух смыслах: от «невозможности железа» к «изображению возможного» и обратно. Дело в нем всегда идет одновременно о рождении и смерти, вокруг стержня, каковой —не что иное, как появление субъекта, так же. «Madam I’m Adam» — говорит известный английский палиндром; первый человек обращается к новобрачной, к отсутствующей матери. Такова возможно, формула «Рая», первой картины-симптома, в которой Дюшан решил сыграть свадьбу с живописью. «Король и королева в окружении быстрых обнаженных» переворачивают палиндром, «читая рай наоборот». «Madam I’m Adam»: текст не меняется, с поправкой на реторсию, на то, что вокруг стержня я, /, течение времени разворачивается и необратимая спешка быстрых обнаженных, стремящихся преодолеть авангард своего времени, занимает место адамического фантазма восхождения к началу.
Очередная реторсия, или «тальонизм»,—в «Переходе от девственницы к новобрачной». На сей раз необратимость достигнута, и разворачивается уже не течение времени, а его исторический смысл для субъекта. Становиться — стать — живописцем? Но, главное, и в то же самое время: не пожениться на мертвой? Остановка у черты: ее преодоление — не во времени. После чего речь уже не будет идти о свадьбе, а, значит, и о разводе — только о безбрачии: писать и перестать писать — одно и то же, изображение возможного — не что иное, как невозможность железа, если прочесть ее наоборот.
«Невозможность железа»
Как помыслить этот вывод в его историческом резонансе? Как он связан с историей современной живописи? И с ее реальными социальными условиями? Нужно вернуться к «Расческе». Это расческа из железа, следовательно — расческа из делания (а если уж идти до конца, не упуская еще одного созвучия, то и расческа-ад). Первое, что скрывается за этим вполне реальным железом, занимающим место невозможного делания, это предмет искусства: «Ведь слово „искусство" этимологически означает „делать11, просто-напросто „делать11. Делать чем-то, если угодно, и почти наверняка делать руками. Поэтому искусство—это все, что сделано руками, и, в общем и целом, руками индивида»19.
Такова первая посылка силлогизма, за которой в этом же интервью следует вторая: «Что такое делать? Делать что-то —значит брать тюбик синей краски, тюбик красной, затем понемногу выдавливать на палитру, всегда выбирать что-то синее, что-то красное и всегда выбирать место, куда они будут положены на холсте, всегда выбирать».
Вывод остается за нами: если искусство — это делание, а делать — это выбирать, то искусство — это выбор. Так можно заключить в общем виде, в каком Дюшан сформулировал первую посылку: «Искусство — это все, что сделано руками». Но вторая посылка переводит рассуждение на уровень частного, совершенно особого с точки зрения «всего»: «Делать что-то — значит брать тюбик синей краски, тюбик красной...», словно это что-то обязательно должно быть картиной, словно делание искусства относится исключительно к специфическому полю живописи. В самом деле, исходя именно из этого поля, рассуждение продолжается до своего странного заключения, сводящегося к выбору реди-мейда: «А чтобы выбирать, можно пользоваться тюбиками с краской или кистями, а можно и готовыми вещами, которые были сделаны — либо машинным способом, либо даже, если угодно, руками кого-то другого,—и присваивать их, так как выбираете именно вы. Выбор — самое главное в живописи, даже в обыкновенной»9.
Нет никаких сомнений: реди-мейд имеет живописное происхождение. Именно из поля живописи, «даже обыкновенной»,—из материнского поля, обрабатываемого («сельскохозяйственная машина») именем-отца — он появляется, как родовой побег (искусство — это делание... искусство — это выбор) этого специфического семейства (делать — значит выбирать тюбик синего...). Метафора расчески из делания вытесняет под свою черту неразличимости не что иное, как объект возможного/невозможного выбора —тюбик синего, тюбик красного. Невзирая ни на какие переходы и передачи Дюшана-худож-ника и /или живописца, именно живопись — в сослагательном наклонении — остается объектом его желания искусства и под чертой всех его объектов-колкостей вырисовывается в качестве означающего-парадигмы тюбик с краской.
Дюшан, конечно, не создал готовый тюбик с краской—то ли цензура ему запрещала, то ли он сам вполне сознательно выстраивал эту цензуру для нужд зрителей, которые будут создавать картины. В 1916 году он выбрал «Расческу» менее чем полмесяца спустя после того, как —еще один ляпсус —сам был выбран словами текста под названием «Встреча б февраля 1916 года», в котором, в частности, фигурировало «заключение: после стольких усилий ради расчески, какая жалость»10.
Можно решить, что в 1916 году эти расчески являются «петлями» бессознательной означающей цепи. Но, вне сомнения, она уже не является бессознательной на закате жизни Дюшана, когда в многочисленных интервью он с ослепительной ясностью дает «краткое объяснение» реди-мейда.
В мае 1961-го, в ответ на вопрос Кэтрин Кью: «Допустим, вы использовали тюбик краски; однако вы его не сделали — вы купили его и использовали как реди-мейд. Даже если вы смешали два тюбика киновари, это все равно смесь двух реди-мейдов. Человеку никогда не удается начать из ничего, он должен начинать с готовых вещей, ready-made, даже если это его собственные мать и отец»20.
В октябре 1961-го, на коллоквиуме по искусству ас-самбляжа: «Поскольку тюбики с краской, используемые художником, являются готовыми серийными товарами, мы должны заключить, что все без исключения картины суть доработанныереди-мейды, что они сделаны путем ассамбляжа»21.
В октябре 1963-го, в беседе с Фрэнсисом Робертсом: «Реди-мейд — это, в упрощенном виде, произведение искусства без художника, который бы его сделал. Используемый художником тюбик с краской им не сделан — он сделан предпринимателем, который выпускает краски. Поэтому живописец на самом деле создает реди-мейд, когда пишет с использованием серийных продуктов, называемых им красками. Вот и объяснение»22.
В трех этих цитатах, к которым следует добавить приводившуюся выше выдержку из интервью Шар-бонье, данного Дюшаном в том же 1961 году, тюбик с краской неизменно выступает в качестве примера, призванного «объяснить» происхождение реди-мей-да. Со всей откровенностью демонстрируя его истину простодушно-дидактического, как кажется, примера, он тем лучше ее скрывает. Возникает желание поискать более «глубокое» объяснение реди-мейда между строк, тогда как достаточно в эти строки вчитаться. Все в них — начиная с отсылки к матери-(тюбику) — живописи и к реди-мейду как имени-отца и кончая социальной причиной реди-мейда как мертвой живописи: это индустриализация, с которой сопряжено отсутствие художника как автора-собственника своего выбора. Даже эротизм — который, как известно, Дюшан намеревался сделать новым художественным «измом»,—находит в тюбике с краской свое выражение: «Эротизм близок к жизни, ближе, чем философия или что-либо подобное; этот животный феномен, имеющий множество обличий, занятно использовать, подобно тюбику с краской, вводя его, так сказать, в ваше произведение»23.
Тюбик с краской — это отсутствующее историческое звено, связывающее реди-мейд с живописной традицией. Аргумент Дюшана неотразим: выбирая готовый объект, я на самом деле не порываю с живописью, ибо все живописцы делают то же самое, выбирая тюбики с краской. Этот исходный выбор они обычно продолжают другими, которые и составляют их делание: «всегда выбирать что-то синее, что-то красное и всегда выбирать место, куда они будут положены на холсте, всегда выбирать», пока картина не покажется законченной. Вывод: «все без исключения картины суть доработанные реди-мейды».
А обратный вывод? Прочтем палиндром наоборот: все реди-мейды суть картины. Не будучи озабочен законченностью, я предпочитаю оставить этот последний выбор зрителю, а сам удовольствоваться исходным. Как только тюбик с краской избран, пусть зритель доделывает картину, пусть потомки заканчивают реди-мейды, каковые суть потенциальные, возможные картины.
«Изображение возможного»
«Возможное — это сверхузкое. — Возможность нескольких тюбиков с краской стать картиной Сёра служит конкретным „объяснением" возможного как сверхузкого»24. Таково еще одно «объяснение», черным по белому. Эта заметка не датирована, но нет никаких сомнений, что она записана задолго до «кратких объяснений» реди-мейда, данных Дюшаном в начале 1960-х годов25. Но и там, и тут объяснение — точнее было бы сказать: разъяснение — остается тем же: готовый тюбик с краской —это возможная картина.
И в этом возможном, оставленном в неопределенности, мы находим потенциальность эстетического суждения, замершего между двумя противоположными наименованиями: живопись/неживопись. Тюбик с краской — еще не картина, а реди-мейд — уже не картина. Но если скрытой парадигмой реди-мей-да является тюбик с краской, тогда все реди-мейды — это потенциальные картины. Зрителю остается их создать, а значит — их выбрать, а значит — их наречь. Никак иначе, нежели в сослагательном наклонении: что ни говори, а расческа — все-таки не картина! Остается неразрешимое суждение на сверхузкой грани между двумя именами.
Но почему Сёра? Почему разъяснение отклоняется, не говоря без обиняков: «возможность нескольких тюбиков с краской стать картиной Дюшана»? Сознательное желание спутать карты? Или работа цензуры? В последнем случае смещенное имя, бесспорно, оказывается именем-отца, а Сёра по отношению к «сестра» — то же самое, что Сезанн — по отношению к Сюзанне: «Из импрессионистов Сёра для меня интереснее, чем Сезанн»26; «Единственным человеком прошлого, которого я действительно чтил, был Сёра, который делал большие картины, как плотник, как ремесленник»27; «Величайшим научным умом XIX века —превосходящим в этом смысле Сезанна — был Сёра, умерший в возрасте тридцати двух лет» .
С тем, что Сёра в воображаемом Дюшана отбирает у Сезанна символическое положение отца, можно согласиться, лишь учтя, что Сёра — не такой необязательный и безобидный отец, как, допустим, Редон. Его историческая роль в авангарде реальна и по значению почти равна роли Сезанна. Что делает его доступным смещению, так это, возможно, его статус мертвого отца —я имею в виду: умершего молодым, не успев оставить по себе наследие, которое было бы по-настоящему серьезным препятствием. Это есть в тексте Дюшана: Сёра, быть может, значительнее Сезанна, потому что он сумел красиво уйти в 32 года, не преградив мне путь. Но есть там и другое — что указывает на важность Сёра не только в качестве воображаемого субститута, а именно противоречие следующих утверждений: 1) Сёра был величайшим умом своего времени; 2) Сёра был плотником, то есть ремесленником. Иначе говоря, в одном человеке оказались объединены считавшиеся несовместимыми представления об искусстве как теоретической мысли, «сером веществе», и как о скромном ручном труде, «глупости художника». Фразу Дюшана о Сёра как ремесленнике следует рассматривать в ее контексте. Она была произнесена им в ходе объяснения отказа от живописи «после Мюнхена» — объяснения, включающего обвинение в адрес «лапищи [живописца]». И имела продолжение: «Он [Сёра] не позволял руке стеснять ум. И, как бы то ни было, в 1912 году я решил прекратить занятия живописью в профессиональном смысле»20. Складывается впечатление, что решение Дюшана отказаться от живописи «в профессиональном смысле», как ремесла, явилось непосредственным выводом из урока Сёра: его ум и рука стали работать независимо. Его рука стала простой исполнительницей, не ведающей о мозге, который ее направляет.
Выше я уже говорил, что в модернизме ремесло и отказ от ремесла — одно и то же. Но необходимо уточнить, в чем заключается этот отказ — в демонтаже и поиске предпосылок «нового ремесла» на руинах старого или же в повторении формальных результатов старого ремесла без изменений, но явным образом лишенными содержания. Сезанн представляет первую стратегию, Сёра —вторую. Его ум —глаз и мозг — «работает» как камера, автоматически воспроизводящая перспективный строй, тогда как рука заодно с холстом кодирует запись света подобно зернистой фотопластинке. Таким образом, он осознает несостоятельность Представления не хуже Сезанна, но не демонтирует его, а лишает содержания и воспроизводит как мертвый каркас. Разве это уже не стратегия реди-мейда? Поверхность же картины нагружается взамен явственно теоретическим измерением. Эта «теория» — позитивистская семиотика, построение точечного кода видимого, предъявление элементарных частиц светового изображения и их воссоединение в глазах зрителя.
Сёра, повторим, не участвовал в разработке проблематики нового языка, коль скоро та стремилась обосновать чистую живопись с точки зрения означающего, а не сигнала. Но он готовил ее и, во всяком случае, может считаться в истории современной живописиизобретателем кода. Важно следующее отсюда раздвоение: «Он не позволял руке стеснять ум». Раздвоение, которое было для Сёра приемлемым и даже желательным, без всякой заботы о его диалектическом разрешении, каковая постоянно дает о себе знать у Сезанна («сомкнуть растерянные руки природы»). Сезанн работал с болью от этого раздвоения, а Сёра —с наслаждением. Ибо его живопись, можно сказать, нашла в нем свою социальную причину: ремесло живописца оказалось подвергнуто разделению труда. Глаз и мозг—господа, рука — рабочий, исполнитель, раб или машина. В этой позиции есть очевидный позитивизм и, возможно, признание наличного общественного строя. Но также с точки зрения живописи она замечательно объясняет условия невозможности живописи как ремесла — «невозможности железа».
Синьяк от имени Сёра и всего дивизионизма заявляет: «Рука будет иметь второстепенное значение; решающая роль отойдет мозгу и глазу живописца»28. Он ссылается на Делакруа и Рёскина. Первый говорил: «Следует, как огня, бояться владения кистью». А второй: «Я глубоко презираю все, что напоминает о ловкости рук»29. Дюшан вторит им, в ответ на вопрос Дженисов по поводу «Образцов для штопки»: «Видите ли, мои руки к тому времени успели мне надоесть». И добавляет: «Я не хотел делать что бы то ни было руками. Я хотел как раз обратного — чтобы вещи являлись на поверхность холста сами собой, и по возможности из моего подсознания» . И еще, Фрэнсису Робертсу: «Рука стала к 1912 году моим врагом. Я хотел избавиться от палитры»30. Множество раз Дюшан говорил о неприязни, отвращении к руке, о «тальонизме» или, в интервью Отто Хану, о своем желании «обесценить идею руки»25.
Отсюда — как уже у Сёра — абсолютное, не диалек-тизированное, раздвоение. С одной стороны, невозможное делание, парадоксальным образом создающее потенциальную картину, с другой —тяжкий труд ремесленника, «плотника», пишущего картину, которая уже не может быть «сетчаточной». Это же раздвоение повторяет «Большое стекло»: его проект, явившийся «по возможности из подсознания», в 1913 году был практически закончен. В 1915-1923 годах Дюшан исполняет его, как копиист: «Это не была оригинальная работа, это была копия идеи, исполнение, техническое исполнение, подобно тому как пианист исполняет пьесу, сочиненную не им. Так же и с этим стеклом — оно было простым исполнением идеи»31.
Исполнитель — не композитор, «автор» «Большого стекла» — субъект, явным образом раздвоенный. «Автор» реди-мейда доводит это раздвоение до точки отвлечения/откровения. Он ведет себя не так, как некий — пусть даже «подсознательный» — обладатель идеи, который затем исполняет ее как можно более механическим образом, чтобы в конце концов удовольствоваться подписью на готовой вещи. Он открывает, что функция автора — «в живописи, даже в обыкновенной» — есть то, что располагает субъекта — бессознательного — на самой черте его неразрешимого решения. Живописное делание всякий раз сводится к выбору, который выбирает живописца, к выбору, который, чтобы быть значимым, должен нарушать общепринятый вкус, непроизвольно. Дюшан, доводя стратегию выбора до «красоты безразличия» его предельной неразрешимости, открывает также, что «невозможность железа» — это невозможность выбора. И как раз потому, что функция автора такова «в живописи, даже в обыкновенной», ре-ди-мейд парадоксальным образом рисует возможную картину.
«Холостяк сам растирает свой шоколад»
Впрочем, не какую угодно картину — картину Сёра. Условием «возможности нескольких тюбиков краски стать картиной Сёра» является как раз невозможность делания, которую Сёра признал, разделив мозг и руку и низведя «кухню» живописца до следующих одна за другой процедур выбора из «нескольких тюбиков краски». Именно здесь Дюшан —как я уже намекал выше —возвращает вопрос о чистом цвете в ту точку теоретического взаимодействия, из которой он на мгновение явился Купке. Дивизионистская теория, в которой поверхность холста оказывается вместилищем позитивистской семиотики — или сигнальной системы — цвета, как мы выяснили, напрямую восходит к Шеврёлю. Она «подступает к символическому», будучи воспринята уже не в позитивистском контексте, а в контексте, который отрывает вопрос о чистом цвете, пусть и совсем ненадолго, от других —символистских—его корней и сообщает ему стремительное развитие в качестве центральной метафоры, призванной лечь в основу абстракции как языка.
Поддержкой такого шага послужила соссюровская до Соссюра форма, приданная Шеврёлем понятию чистого цвета. Но есть и другое, куда менее сложное определение чистого цвета, до глупости эмпирическое и простовато-позитивистское: это цвет, каким он залит в тюбик, смешан изготовителем и определен согласно номенклатуре, в которой нет ничего теоретического или структурного,—согласно имени на этикетке.
Реди-мейд выявляет здесь то, что у Сёра только подразумевалось. «Невозможность железа», парадоксальным образом допускающая «возможность нескольких тюбиков краски стать картиной Сёра», извлекает выводы из того же технологического и, стало быть, социального и исторического условия — из существования красок в тюбиках. Иначе говоря, из того, что холостяк уже не растирает свой шоколад сам.
Тщетно пытаться ответить филологически на вопрос об отказе от живописи. Когда Дюшан перестал писать? В 1912 году, после Мюнхена? В 1914-м, после «Дробилки для шоколада»? В 1918-м, после «Ты меня...»? В 1923-м, после неокончания «Большого стекла»? Или вообще так и не перестал? Или переставал всегда, с каждым переходом и с каждой передачей, например, когда оставил юношеский эклектизм и пустился на штурм кубизма или когда, углубляясь в кубизм, начал от него отходить? Где кончается живопись? Надо перевернуть этот вопрос, как Дюшан перевернул его в «Девственнице»: где начинается живопись, с какого конкретного действия начинается это особое ремесло, именуемое живописью?
Ответ Дюшана отмечен некоторой ностальгией — той самой, что побуждала его грезить о «родных цветах»: «Холостяк сам растирает свой шоколад». Существует множество прочтений этой знаменитой «поговорки о спонтанности», наиболее частое —в перспективе онанизма. И мы не пойдем с ними вразрез, если с опорой на тождество живописного ремесла и «обонятельной мастурбации» переведем: живописец (настоящий) сам растирает краски.
Как известно, старинные трактаты о живописи содержали массу технических рекомендаций, полезных советов и хитростей в том, что касается живописной кухни32. Не с таланта или оригинальности, не с подражания, композиции или перспективы начинается искусство живописи, а с прилежного приобретения навыков: как шлифуют доску, как натягивают холст на подрамник, как его грунтуют и, главное, как правильно растирают краски. Вот, скажем, Ченнино Чен-нини: «Начинай растирать краску ею же: возьми не слишком гладкий кусок порфира длиною в пол-локтя с каждой стороны, возьми — чтобы тереть — другой кусок того же порфира, снизу плоский, наподобие миски, и немного поменьше первого, чтобы рука крепко держала его и легко водила туда-сюда. Налей на свою краску масла и три полчаса, час, сколько захочешь, ибо, даже если ты будешь тереть год, краска станет только лучше»33.
Все, включая онанистически-холостяцкие коннотации «длительного повтора», уже есть в этом тексте. И в любом случае он показывает, какое значение придавали авторы старинных трактатов этой начальной стадии искусства живописи, которую мы склонны считать второстепенной. Самое удивительное, что этой традиции остаются верны даже современные трактаты, написанные после индустриализации, словно не желающие признать, что живописцы от нее отказались. Так, Макс Дёрнер начинает главу о масляной технике с фразы, в которой почти угадывается голос Дюшана: «Желательно, чтобы художник сам смешивал краски» .
Дюшан работал над «Большим стеклом» как добросовестный, но и туповатый ремесленник: бездну времени он потратил на самую что ни на есть механическую работу вроде процарапывания «Свидете-лей-окулистов». Вместе с тем он мыслил «Стекло» как ироническую инсценировку ремесла и его тупости, словно хотел, с одной стороны, свести ремесло живописца к элементарной — во всех смыслах этого слова — процедуре растирания красок, а с другой — освободить живопись как чистое «серое вещество» и cosa mentale34 в широчайшем разрыве между рукой и мозгом.
Среди смысловых слоев «холостой машины» —изображение живописца-ремесленника за работой в условиях ремесла, ставшего бесполезным35. Ключевой деталью этой инсценировки, вне сомнения, является «Дробилка для шоколада». Она изображает живописца как того, кто сам растирает краски, и/или живописца как того, кого заменила машина, растирающая краски вместо него. Справа от дробилки — «осветительный газ», превратившийся в жидкость,—желание живописца, ставшее цветом,—минует «склоны стекания», чтобы в конце концов разлететься брызгами в скопическом влечении «Свидетелей-окулистов».
Над дробилкой ее переход в «Семь сит» завершает растирание, дополняя его действием «измельчителей и разжижителей», наводящих на мысль о том, что «Сита» изображают своего рода цех переработки пигментов. Но слева от дробилки газ по «Волосяным трубкам» — привет, расческа! — поступает из «Девяти мужематриц», называемых также «трубками эротического сжатия»32. Подобно «возможной картине Сёра», это в некотором роде «несколько [пустых] тюбиков краски», «покрасневших в ожидании, пока каждому достанется свой цвет». Растирание «цвета-шоколада» было бы бесполезным, если бы «Матрица Эроса» уже была названа «Кладбищем униформ и ливрей», а в истоке удовольствия от живописи уже обнаружился готовый тюбик краски и его следствие — мертвая живопись.
Реди-мейд изолирует черту неразрешимости в одновременном наречении живописи возможной/невозможной. Его стратегия сводится к значащему указанию, которое неумолимо напрашивается после мюнхенского откровения: нельзя ждать от живописи чего-либо иного, нежели объявление ее имени в совершенном прошедшем — имени мертвой живописи. Стратегия «Большого стекла», «проект» которого также развивался под влиянием мюнхенских событий, совершенно другая. Она работает вокруг черты и совершает траур по живописи уже не как по возможной/невозможной, но как по бесполезной.
Живописный процесс в целом, включая, что особенно важно, его начальное, врожденное условие — растирание красок,—вот что шаг за шагом воспроизводит холостая машина, неизменно обращаясь к замужней живописи, пребывающей слишком высоко и недоступной ее желанию. Эта работа траура не отменяет смерть живописи, но «прорабатывает» возможную долю меланхолии в желании смерти. Отсюда многочисленные фантазмы вечного движения, расшатывающие вращение «Дробилки для шоколада», возвратно-поступательное движение «Ползунка» и подъемный конвейер «Бутылок бенедиктина». Работа траура — это работа бенедиктинцев. Подобно тому как их работа внезапно оказалась бесполезной с изобретением Гутенберга, изобретение Ньепса сделало бесполезной работу живописца, если, конечно, это не работа траура по живописи36. Наряду с фотографией, выпуск красок в тюбиках явился самым непосредственным следствием индустриализации для практики живописцев. Первую «Большое стекло» в равной степени воодушевленно и боязливо ассимилирует: «сверхкороткая выдержка» —это фотографический аспект готовой, ready made, встречи в «знаке согласования». Вокруг второго он вершит свой траур, возвращаясь с каждым бесполезным оборотом дробилки к нестерпимому факту того, что холостяк уже не растирает свой шоколад сам.
В подготовительных замечаниях к «Стеклу» различаются три функции цвета: цвет фона, цвет предмета и родной цвет. Между тем все они соотносятся с «бесполезностью дробилки», то есть ее дробления:
1. — Цвет фона: «Чтобы добиться „точности", перед началом работы закрасить холст черным». Первое действие живописца перед чистым холстом встречает уже подготовленную поверхность, и черный оказывается таким же цветом девственности, как и белый. Еще нетронутый художником, он, однако, уже растерт, если учесть дюшановскую Witz, обыгрывающую английский вариант выражения: цвет фона=ground color = растертая краска. Но надо отметить, что перед началом работы холст подвергается черной закраске, а не живописи. Закраска предшествует живописи —это предвосхищение окажется перевернуто согласно коммандитной симметрии, когда в 1922 году в Нью-Йорке, перед тем как оставить «Стекло» окончательно незаконченным, Дюшан откроет именно красильню37.
2. — Цвет предмета: «Необходимость описания цвета». Имеется в виду такое же описание, как на этикетке тюбика: все цвета предметов «будут иметь: l) название; 2) химический состав; 3) внешний вид; 4) свойства». Коль скоро живопись сводится к выбору, начинается она, вероятно, с выбора названия на тюбике. Но цвет предмета — это не чистый цвет, вылезающий из тюбика в ответ на свое имя. «Белила цинковые» или «кобальт синий» не обозначают цвет цинка или кобальта. «Свое имя, с металлом или без» конечный цвет получит в итоге реторсии, возвращающейся к началу его изготовления: «Для конечных цветов —приготовить все оттенки картины до их нанесения и залить их в тюбики. С этикетками (чтобы можно было исправить, подкорректировать и т.д.)»38. Цвет предмета — не тот, который вылезает из тюбика, а, наоборот, тот, который залезает обратно, «ради конечной пользы оставленный и залитый в сосуд».
3- — Родной цвет. Меланхолия холостяка, который сам растирает свой шоколад, пусть и загоняя его в тюбики. Онтологическая ностальгия, желание появления «родной шоколадной поверхности». Как совершить траур по живопис-цу-ремесленнику, не повторив много раз совет Ченнино Ченнини: «Даже если ты будешь тереть год, краска станет только лучше»? Как заручиться рождением цвета, высказывающего тем самым свою сущность, предпочтительно молекулярную, растертую до молекул? Напрасный труд — холостяк, «окончательно не закончив» траур по живописи, более не прикоснется к кисти. Но попробует в деле шоколад, «с учетом всех отсрочек» и на сей раз готовый, ready made. 21 августа 1953 года Дюшан создаст «идеальный пейзаж», который, согласно заметке 1913 года, должен был служить фоном для « Дробилки». Это будет «Лунный свет на Бассвудском заливе», исполненный без обычных для живописи орудий и красок, и одним из его цветов — растертым самим холостяком — послужит именно шоколад.
Все три цвета соотносятся, таким образом, с растиранием и бесполезностью. Все три грезят о том, чтобы вернуть историю живописи к Ченнино Ченнини, а живописную практику—к врожденной невинности общества до разделения труда. Madam I’m Adam: это признание адресовано «Замужней даме», которая должна ответить, что осталась девственницей. Но не забудем прочесть палиндром наоборот. Вечное движение возводит время к началу не иначе, как «снисходительно» низводя его вместе с тем к концу: девственный холст «Образцов для штопки» уже закрашен, девственница — это «Повешенная самка» и т. д. А живописец остается ее холостяком, так же, не иначе как чтобы «прятать пятна у себя в тайнике» для свершения траура по ним. Вся холостая машина—это машина возвращения к моменту потери этого прирожденного условия живописи. Одно из двух начал культуры живописца (второе — взгляд, привязанный к мотиву; он исчез с изобретением фотографии) оказалось утрачено с исчезновением этой поварской науки, заключавшейся в том, как смешивать в должных пропорциях масло и глину, измельченные металлы и камни. Живописец больше не растирает краски сам, он покупает их готовыми.
«Большое стекло» не утаивает этот факт, как и его причину — индустриализацию. Но оно работает над избавлением живописца от его адамовых мечтаний, раздувая содержание машинных субститутов практики растирания красок, которую от отныне вынужден, ради своего же блага, всякого содержания лишить.
Традиция и промышленность
В Мюнхене Дюшан одновременно далек от решения «отказаться» от живописи и совсем близок к нему. Он хорошо знает, что, стоя перед девственным холстом, живописец приступает к работе с «несколькими тюбиками краски» под рукой. Он даже указал единственную марку краски, удовлетворяющую его запросам,—«Берендт». Он еще не догадывается, что однажды она вернется под обманчивым именем «Дробилки для шоколада» как «коммерческая формула», проставленная внизу картины, несомненной функцией которой, даже и без его ведома, будет свершение траура по живописи, коль скоро живописец «уже не растирает свой шоколад сам».
Но «Переход от девственницы к новобрачной» с его особенностью делать то, что он говорит, и говорить то, что он делает, уже воплощает этот парадокс.
«Берендт» — это промышленная марка, имя —случайное в-себе, осеняющее своего рода авторством цвета предметов и прочие, упоминаемые Дюшаном в перечне на тетрадных листках, которые он сохранил, словно уже зная, что в скором времени они станут частью нареченной живописи, живописного номинализма. И для «Перехода» он по большому счету сам растирает свой шоколад. Напомним комментарий Лебеля: «Тщательное изучение цветов и их свойств привело Дюшана к выбору красок немецкой марки „Берендт", после чего он пользовался исключительно ими. Кроме того, он отказался от кисти и, подобно скульптору, моделировал красочный слой пальцами, чтобы придать ему большую плотность. У этих картин столь плотная и гладкая фактура, что она кажется напрямую наследующей старым мастерам»36.
Такое внимание к живописной технике, тем более к технике «старых мастеров», Дюшан не проявлял более никогда, ни до, ни после Мюнхена. «Большое стекло» тоже свидетельствует об исключительной, до навязчивости, технической тщательности, однако оно основано на соединении разнородных материалов, не отсылающем к традиционной живописи. «Переход» и «Новобрачная» — единственные картины, для которых Дюшан если и не растирает краски в прямом смысле слова, то во всяком случае замешивает и наносит их на холст сам, пальцами. В символическом смысле это почти одно и то же. И, по меньшей мере, заслуживает постановки вопрос о том, что могло побудить его к этому уникальному опыту.
Прежде всего надо вернуться к сказанному выше о художественном климате Мюнхена: его действие на Дюшана выразилось в ряде данных им себе разрешений — в том числе обойти Сезанна, открыться чистому цвету и допустить, что сецессионистская стратегия куда лучше, чем стратегия отказа, подходит для новаторских решений, не демонстрируя при этом разрыв с традицией.
Не следует ли решить, исходя из последнего разрешения и из ремесленной тщательности «Перехода», что летом 1912 года Дюшан не просто (как мы знаем) избегал контактов с мюнхенскими авангардистами, но, напротив, общался с традиционалистами? Ничто не подкрепляет эту гипотезу. Биографические свидетельства на этот счет отсутствуют. Но мы в очередной раз находим совпадения, придающие мюнхенскому периоду дополнительный резонанс.
В 1912 году Макс Дёрнер, художник и специалист по технологии живописи, чей совет живописцам самостоятельно растирать краски я цитировал выше, приобрел известность в местной Академии. До выхода книги «Художественные материалы и их использование в живописи» (1921), которая создаст ему реноме в области живописной техники, было еще далеко, но с 1911 года он служил доцентом в Королевской академии Баварии и в 1910-1913 занимал пост президента Deutsche Gesellschaft zur Fôrderung rationeller Malverfahren (Немецкого общества поддержки рациональных методов в живописи), в котором сотрудничал многие годы. В начале зимнего семестра 1912 года Дёрнер приступил к чтению публичных лекций в Академии, проходивших по субботам с десяти до двенадцати часов39. Эти лекции, посвященные технике живописи и, по замыслу автора, решительной защите традиционного ремесла, сопровождались практическими занятиями, наверняка отчасти в стиле Тома Тита, что вполне могло бы заинтересовать Дюшана. Но он точно не посещал лекции Дёрнера, так как в это время уже уехал из Мюнхена. К тому же Дёрнер был совершенно чужд авангарда и к живописи своего времени относился скорее враждебно. Он ценил Маре и Бёк-лина, которых встречал в Италии в молодости. Даже Штук казался ему излишне эксцентричным.
Таким образом, всякие предположения о возможном знакомстве Дюшана с Максом Дёрнером беспочвенны, тем более догадки о влиянии последнего на возвращение к «старым мастерам», о котором свидетельствуют «Переход» и «Новобрачная». Однако присутствие на мюнхенской сцене такого человека, как Дёрнер, а также традиции, с которой связано его имя, указывает на проблематику, которая сама по себе придает «Переходу от девственницы к новобрачной» оттенок, сближающий их с реди-мейдом и «отказом» от живописи.
Каково было призвание Немецкого общества поддержки рациональных методов в живописи40? Оно имело множество аспектов, неизменно, впрочем, связанных с потребностью в адаптации живописного ремесла и его передачи к новым промышленным условиям. В результате индустриализации «холостяк уже не растирает свой шоколад сам», художник теряет всякий контроль над изготовлением красок41. Теперь они производятся не в мастерской, а в лаборатории и на фабрике. Художник более не является обладателем особой техники, которая всегда считалась частью не только его ремесла, но и его искусства, а теперь перешла во владение химика и инженера. И помимо разделения труда тем самым заявляет о себе меркантилизм. Рождавшиеся в стенах мастерских рецепты, которые живописцы со времен Ван Эйка берегли, как зеницу ока, от любопытства своих собратьев и передавали только лучшим ученикам, отныне вынесены на публику в качестве ставок конкурентной борьбы, сталкивающей между собой уже не художников на эстетическом поле, а фабрикантов—на поле экономическом. Живописная техника, которая сама по себе была носительницей традиции еще для Рейнольдса, теряет свой эзотерический характер и становится, с одной стороны, знанием научного происхождения, а с другой — товаром, успех которого связан с ходом технологического прогресса и рентабельностью.
В таких условиях Общество отвечало вполне очевидным запросам. Прежде всего, оно выступало посредником между художниками и производителями красок, организуя их встречи на собраниях, конференциях и на страницах журнала «Технические новости для художников». Оно было основано по инициативе группы живописцев и первейшей целью поставило себе отстаивание их интересов и требований перед предпринимателями. В свою очередь, инженерам и людям науки, представляющим свою продукцию, давалась трибуна для изложения технических новшеств и их обоснования в критической дискуссии. Это была попытка поместить производителей красок, так сказать, под наблюдение, предоставив художническому цеху возможность контролировать технические новшества, предлагаемые рынком. Живописцы стали потребителями химической промышленности, и Общество взяло на себя двоякую функцию потребительской ассоциации. Разумеется, за этим скрывалась ностальгия по золотому веку, когда художник был своим собственным поставщиком материалов. Но необходимо учесть три связанных друг с другом обстоятельства. В экономическом плане не было оснований добиваться того, чтобы художники «сами растирали свой шоколад», и, сколько им не советовали, подобно Максу Дёрнеру в 1921 году, поступать именно так, они почти все как один оставили сей старинный обычай, предпочтя готовые тюбики, предложенные промышленностью. В техническом плане можно было, конечно, жалеть об утрате эмпирического знания, накопленного веками опыта, но бороться с исследовательскими силами, которые готова мобилизовать на создание продукта промышленность, не имело смысла. И, наконец, в плане культурном складывалось осознание того, что промышленное производство красок грозит крушением системы передачи живописной традиции, некогда основанной — во всем вплоть до ее эстетических следствий — на непременной зависимости ученика от учителя, который не только воспитывал его глаз и руку, но и предавал в качестве гарантии посвящения секреты мастерской.
Начать следует с последнего пункта, ибо именно он показывает, насколько побудительные мотивы Общества и, в частности, Макса Дёрнера коренились в ностальгии по ремесленному прошлому живописи. Самым фундаментальным из всего, что уничтожила индустриализация, был связывавший учителя и ученика контракт посвящения. Воспитание живописца более не подразумевает ритуальную передачу технического знания, единственным обладателем которого был прежде учитель и которое поэтому привязывало к нему ученика до конца его посвящения. Передача секретов мастерской была даром старшего младшему, совершавшимся при условии того, что младший будет сочтен достойным, и потому имела значение подлинной эстетической коронации. Углубленное знание технических особенностей пигмента служило залогом долговечности картины, и оно же должно было обеспечить долговечность традиции. Но все перевернулось после того, как доступность тюбика сделала это знание экзотерическим, живописцы получили возможность упражняться в своем ремесле независимо друг от друга, а традиция отказалась от притязания на долговечность и включилась в сезонный ритм индустрии.
Как можно было исправить положение? Прежде всего, встать на защиту академического образования, которое в меру возможности сохраняет в рамках публичного института отношения учителя и ученика, существовавшие прежде в частной мастерской. Кроме того, пользоваться Академией в качестве трибуны для обращения к публике с речью о живописной технике. Что и делает Макс Дёрнер: президент Общества с 1910 года, в 1911-м он становится доцентом Академии и в 1912-м приступает к чтению курса публичных лекций. Возможен вопрос: к кому могли быть обращены его в общем сугубо технические рассуждения? Вне сомнения, Дёрнер повиновался фантазму, желая вернуть рассеянное сообщество живописцев в лоно технической традиции и, коль скоро сопротивляться свободному рынку художественных материалов нет смысла, основать контракт посвящения, связывавший учителя с учеником в частном пространстве мастерской, на авторитетном и в высшей степени публичном рассуждении. Отсюда нескрываемый дидактизм его лекций, да и статей в «Технических новостях», словно он стремился внушить художникам чувство исторической ответственности и вместе с тем заставить производителей признать, что моральная ответственность за передачу традиции лежит и на них.
Последнее обстоятельство выявляет, бесспорно, прогрессистский аспект деятельности Общества поддержки рациональных методов в живописи. Поскольку живописец объективно перестал быть изготовителем пигментов и привычное для него эмпирическое знание столь же объективно утрачено, нужно приложить все силы к тому, чтобы ввести строжайший научный контроль за индустриальным выпуском красок. Отсюда вторая задача Общества, вполне очевидная: оказывать нажим на промышленность, чтобы та беспрекословно уважала требования живописцев и выступала по отношению к ним в качестве сознательного и честного поставщика. Кайм и Дёрнер не щадили усилий в стремлении обязать производителей выпускать только стойкие, химически чистые и снабженные добросовестным описанием на тюбике краски. Цель этого неусыпного контроля — впрочем, так и не достигнутая — сводилась к тому, чтобы защитить живописцев от меркантильных злоупотреблений отдельных фабрикантов, которые то добавляли в тюбики нейтральный наполнитель, снижавший укрывистость пигмента, то выпускали под привычными названиями синего кобальта или желтого хрома краски, похожие на них, но иные по химическому составу, то, наконец, выбрасывали на рынок новые краски, не прошедшие надлежащую проверку и через некоторое время начинавшие выцветать или трескаться. Случай пресловутых «битумных» красок, для своего времени новых, остался в истории. Макс Дёрнер напоминает в своей книге, что конфликт, разгоревшийся в 1907 году между производителями и недовольными низким качеством битума художниками, дошел до суда, хотя дело в итоге так ничем и не закончилось40.
Эта защита качества в полной мере следовала идеологии Веркбунда. Для последнего Qualitàt было чем-то куда большим, чем просто лозунг, поощряющий технологическую и торговую конкуренцию в немецкой промышленности. В нем содержался призыв к нравственному перевооружению индустрии, к осознанию ею культурной ответственности перед «немецким народом» или даже «немецкой душой». И Немецкое общество поддержки рациональных методов в живописи также ставило себе целью защиту технического, эстетического и нравственного качества живописной традиции, которая породила Дюрера и Грюневальда, а теперь совместными усилиями беззастенчивого авангарда и безответственной индустрии оказалась под угрозой упадка. Единственное расхождение между Обществом и Веркбундом заключалось в том, что первое заботилось исключительно о выживании ремесла, тогда как для второго стремление к качеству легло в основу промышленной эстетики.
В ноябре 1911 года Веркбунд организовал в Вюрцбурге представительную Конференцию по проблемам цвета, самые яростные дискуссии на которой, впрочем, типичные для «Трудового союза», вызвал вопрос стандартизации42. Целью конференции было утвердить нормативную «сетку цветов», дающую точное название каждому оттенку. Нормативный цвет —это, прежде всего, цвет «чистый» и «правильно названный»43. Затем это воспроизводимый цвет. Промышленность всегда рассматривает восприятие цвета как объективное и передаваемое без потерь, то есть без учета его субъективной изменчивости и тем более психологических коннотаций, которые для Гёте или Кандинского составляли самую его суть. Именно в этом направлении работали Шеврёль и Руд, с воодушевлением принятые живописцами. Мы вновь сталкиваемся с противоречивым слиянием искусства и промышленности, предоставлявшим функционализму пространство мысли, Веркбунду — территорию практической деятельности, и очертившим, как мы выяснили выше, зону резонанса, в которой после визита Дюшана в Мюнхен исторически подготавливалось объявление реди-мейда.
Не будь в нем «иронизма», дюшановский список атрибутов «предметных цветов» вполне мог бы прозвучать на вюрцбургской конференции и в том же порядке: l) название; 2) химический состав; 3) внешний вид; 4) свойства. В свою очередь в том, чтобы добиться соответствия названия краски химическому составу, весь смысл усилий по защите потребителей, предпринимавшихся Обществом поддержки. Чистый цвет —это тюбик краски с честной этикеткой, осведомляющей живописца о том, что он может доверять «Дробилке для шоколада», контроля над которой уже не имеет. А если так, то кухонное знание, потерянное им с тех пор, как он «не растирает свой шоколад сам», может быть с лихвой возвращено — в готовом виде, ready made,— вместе с контролем над номенклатурой. Возможно даже, что никакого другого знания, да и таланта ему уже не требуется. После Шеврёля название цвета считается автоматически обозначающим его место в хроматическом круге рядом со своим дополнительным и всеми промежуточными градациями. До превращения круга в готовую, ready made, гармонию отсюда один шаг, каковой и совершил на Конференции по проблемам цвета некто Карл Шнебель, по профессии живописец. Отнюдь не желая никого рассмешить, он представил собравшимся аппарат собственного изобретения, без ложной скромности названный «колориметром Шне-беля», автоматически определяющий полную гамму оттенков, гармоничных данному .
Наряду с этим прибором демонстрировались «анализатор цвета, запатентованный Каллабом» и «хромоскоп д-ра Аронса»44. Последний, судя по всему, несколько более серьезный, чем остальные, позволял при помощи призм, кварцевых пластинок и поляризационных фильтров обозначить любой образец цвета двузначным числовым индексом и таким образом передавать его на расстоянии, «например, по телеграфному кабелю», чтобы адресат мог без труда воспроизвести его вслепую. Сразу приходят на память знаменитые «картины по телефону» Мохой-Надя, несомненно, родственные стратегии реди-мейда и являющиеся одним из самых радикальных ответов живописца на ситуацию возможности/невозможности живописи «в эпоху ее технической воспроизводимости». И, конечно, Дюшан, для которого «реди-мейд — это вещь, на которую даже не смотрят»45, а «3) внешний вид» —то, на что не смотрят тем более, ибо он «будет обозначен схематическими и условными средствами».
Центральным на вюрцбургской Конференции был вопрос об имени цвета, исторические и эстетические импликации которого выявил под давлением стратегии живописного номинализма Дюшан. По следам форума в «Технических новостях для художников» вышла статья, опять-таки отмеченная (вне сомнения, ненамеренно) долей дюшанов-ской иронии. Снабженная заголовком «Наименование оттенков цвета», она начинается с сетования по поводу того, что из-за крайней надуманности названий невозможно представить себе некоторые цвета, прочитав или услышав их имя. Примеры отобраны с изрядным остроумием, в них почти узнаются «униформы и ливреи» из «Большого стекла»: автор иронизирует над «маршальским коричневым», который префект берлинской полиции предписал в качестве обязательного цвета местных полицейских машин, спрашивая, что бы это название могло означать для иногородних. Еще более едкая насмешка достается жандармам, которые, согласно вполне серьезному исследованию, оказались неспособны правильно определить «синий жандармский». К концу статьи веселье только усиливается. Обсуждая систему —еще одну, на сей раз предложенную неким О. Празе,—позволяющую безошибочно именовать до 8оооо оттенков, автор в порыве вдохновения так резюмирует пользу, которую может извлечь из нее «художник-творец»: «Сколь удивительную игру красок являет, скажем, вечернее небо сразу после заката, вызывая у живописца желание передать сей атмосферный эффект силами своего искусства! Увы, чаще всего коварно подкравшаяся ночь стремительно прерывает это явление и приводит начинания художника к преждевременному концу. Как же удобно было бы в этом случае зафиксировать черты красочной феерии в нескольких знаках, получаемых даже при слабом свете и не требующих сложной записи, чтобы затем воссоздать ее днем, не считая отведенные тебе минуты!»45. И все-таки торжествующее заключение вселяет сомнения: система г-на Празе, живописца — невольного соперника Дюшана и, подобно ему, стенографа цвета — «сохранит его непосредственное впечатление в первозданной свежести».
Таков непритязательный пример аберраций, возможных при смешении в художественной области позитивизма и пассеизма. Позиция автора статьи, а вместе с ним Макса Дёрнера и Общества поддержки рациональных методов в живописи, неизменно сводится к следующему: нужно адаптироваться к техническим и экономическим последствиям индустриализации для живописного ремесла, чтобы с тем большей слепотой отвергнуть ее эстетические и идеологические выводы. Сначала они из лучших побуждений укрепляются на «благородных» плацдармах традиции, а в конечном итоге вполне серьезно соглашаются с бессознательной механизацией художником всего своего труда, лишь бы только сохранялась привычная видимость и традиционная эстетика выглядела незыблемой. И вот живописец признает, что он «уже не растирает свой шоколад сам». Это первая его уступка промышленному натиску, которой он, впрочем, не признает. За ней следуют другие. Веря, несомненно, что он обращает технологический прогресс на пользу живописной традиции, художник в конце концов принимается запечатлевать закаты (уже штамп!), как записывающая машина, преобразуя каждый мазок будущей картины в элемент шифра. Вернувшись в мастерскую, он восстанавливает эффект заката в традиционной технике, целиком и полностью отменяющей имевший место до этого производственный процесс. Одно из двух: либо этот художник знает, что делает, но скрывает это от других,—тогда он циник, изготовляющий китч; либо он скрывает то же самое и от себя, как в апологии г-на Празе,—тогда перед нами академизм. Он верит, что продолжает и защищает традицию, на самом деле оставив ее умирать под ударами механизации, овладевшей им, хотя он этого и не заметил.
На фоне подобного фарса позиция Сёра открывает всю свою силу, а восхищение, которое испытывал к нему Дюшан,—интерпретативную действенность. Идеологические постулаты дивизионизма один за другим приобретают глубокий смысл л) Пле-нэризм: нравственно принять анахронизм ремесла—значит продолжать производственный процесс таким, каков он есть, отвергая разделение труда.. Природа остается идеологическим референтом живописи, поэтому следует ограничить практику ее изображения условиями производства на месте. Ремесленник демонстрирует промышленности (в данном случае — фотографии), что может делать то же, что она, и даже лучше. 2) Импрессионистская палитра: эстетически принять тот факт, что живописец уже не растирает краски сам, значит использовать чистый цвет, вылезающий из готового тюбика, и трактовать его согласно нормативной логике, отсылающей семь цветов призмы к реальным условиям их производства. Натуралистический референт всегда приводится лишь в виде оправдания (черного в природе не существует), но с социальным и техническим референтами художник-импрессио-нист открыто соперничает как ремесленник, который принимает промышленность как предварительное условие своей работы и прямо говорит об этом. 3) Дивизионистское ремесло: технически принять экономический приговор ремесленнику — значит «индустриализировать» тело живописца за работой. Краска не только не растирается в мастерской, но и не смешивается ни на палитре, ни даже на холсте. Приходится отказаться от натуралистического эффекта, чтобы яснее выявить процесс, имитирующий промышленное производство: доиндустриаль-ную непрерывность делания сменяет дискретная серия «рабочих жестов», процедур выбора. И разделение труда прямо признается в призыве к зрителю завершить смешение красок у себя на сетчатке.
Результатом является синтез, и ремесленник-живописец утверждает свою способность конкурировать с промышленностью на общей для них (если прибегнуть к игре слов) территории искусственности, синтетики. Натуралистический референт сохраняется, но распределяется между двумя ответственными головами в производственном процессе, который не отчуждает ни художника, ни зрителя.
Все прочие элементы старой традиции, за исключением этого референта, исчезли. Но вся традиция целиком была передана. Исключительную важность того безобидного факта, что «холостяк больше не растирает свой шоколад сам», наиболее ярко продемонстрировал Сёра — и как раз в том, в чем он оказался симптоматичным для Макса Дёрнера. Практика растирания красок была средоточием фундаментального обряда посвящения, посредством коего живописная традиция переходила от учителя к ученику. Теперь это в прошлом. С изменением условий изменились и следствия: традиция стала передаваться по другим каналам, имеющим все нравственные признаки упадка, все стилистические признаки отказа и все институциональные признаки бунта или отречения. Сёра ведет себя, в общем и целом, как живописец из фарса,—индексирует каждый мазок элементами шифра. Но индексирует на мотиве и с кистью в руке. Он не использует систему, которую преподносит ему промышленность, как construzione d’aiuto*1, призванную служить эффекту, репродуцирующему традицию. Он становится этой системой и принимает на себя ее риски. Он субъективирует ее, отсылает ее к самой себе, то есть к промышленности, из которой она происходит. И в итоге уже не репродуцирует традицию, но производит ее измененной и передает это изменение. Кому?
Среди прочих —Дюшану, который в свою очередь вновь меняет его и сообщает живописной традиции дополнительный оборот спирали. Нет, история искусства не заканчивается фарсом, она передается посредством «иронизма утверждения», который осмеивает сам фарс, но вместе с тем осуществляет функцию истины Сёра, l) Возврат к пленэризму: нравственно принять анахронизм ремесла — значит отказаться • от мастерской и мотива и распрощаться с натуралистическим референтом. Предмет искусства приобретает промышленный «вид», свидетельствующий о том, что художник, недвусмысленно оставляя позицию ремесленника в техническом смысле, с тем большим основанием остается ремесленником идеологическим. Выбор индивидуализирует предмет и символически освобождает его от статуса продукта разделения труда. 2) Возврат к импрессионистской палитре: эстетически принять тот факт, что живописец уже не растирает краски сам, значит прямо соотнести избранный предмет — будь то тюбик краски, писсуар или расческа —с условиями его производства. Натуралистический референт отброшен, его место занимает промышленная продукция в целом, новая «природа» современного человека. 3) Возврат к ди-визионистскому ремеслу: технически принять экономический приговор ремесленнику — значит довести уравнение Сёра «делать = выбирать» до крайнего вывода, выявляющего его исходное условие: ремесленник больше не работает. С забвением натуралистического референта обязательная доля в разделении труда достается зрителю. Труд создания картины всегда возлагается на него — но это труд, основанный уже не на сетчаточном синтезе, а на анализе посредством «серого вещества».
Путь, ведущий от дивизионизма к реди-мейду, обнаруживает свой исторический смысл при его прохождении в обоих направлениях, подобно палиндрому, в котором «изображение возможного» оказывается эквивалентом «невозможности железа». И смысл его смысла —быть адресованным нам.
В свой исторический момент объявление реди-мейда представило борромеев узел, в котором переплелись настоятельные вопросы эпохи: вопрос о живописной стратегии как отказе — в пору, когда многие живописцы почувствовали, что пришло время отказаться от натуралистического референта; вопрос о возврате вытесненного-цвета и в связи с этим о преодолении кубизма —в пору перепрочтения Шеврёля уже не в позитивистской, а всимволистской перспективе и предложения тезиса чистого цвета в качестве возможной концептуальной основы автономного языка; вопрос об абстракции, не являющейся неизо-бражением — в пору, когда в качестве формулы центральной метафоры явилась, с забвением фигуры, тайна субъекта живописи; и, наконец, вопрос об имени живописи — в пору, когда эстетическое суждение, дойдя до неразрешимости, ощутило на себе неслыханную историческую ответственность за наречение ее особого бытия.
В наш исторический момент узел развязывается, и означающее-реди-мейд, это «слово, не обозначающее ничего кроме того, что оно — слово» открывает в себе силу «интерпретанта», исполненного всех исторических смыслов поля условий, в которых отзывается его факт.
1
«,,Окна“ Делоне я, должно быть, увидел в 1911 году [на самом деле в 1912-м] в Салоне Независимых, где была выставлена, по-мо-ему, и „Эйфелева башня41. Эта „Эйфелева башня“, вероятно, произвела на меня впечатление, коль скоро Аполлинер в своей книге написал, что Брак и Делоне оказали на меня влияние. Не спорю! Когда общаешься с людьми, испытываешь их влияние, даже если не отдаешь себе в этом отчета» (PC. Р.46-47).
2
Цит. по: Cohen A. A. (ed.). The New Art of Color. The Writings of Rob
ert and Sonya Delaunay. New York: The Viking Press, 1978. P. 74.
3
FrancastelP. (éd.). Op. cit. P. 120 (ср. также p. 181).
4
Ibid. P. 120-121 (ср. также p. 119, 82-83).
5
Ibid. Р. 189.
6
Ibid. Р. 118.
Насколько мне известно, Гринберг упоминает Малевича крайне редко — например, в эссе «Живопись по-американски», где причисляет его наряду с Мондрианом к «геометрической абстракции» и усматривает в «Белом квадрате на белом фоне» не более чем «экспериментальный перехлест» (Greenberg С. Art and Culture. Boston: Beacon Press, 1961. P. 221, 225). Что же касается его претензий к Дюшану, то их аргументацию можно найти в следующих текстах: Greenberg С. Seminar Six// Arts Magazine. June 1976. Vol. 50. P 90-93; Counter Avant-Garde//Art International. May 1971. Vol. 15. N0.5.
7
Greenberg С. After Abstract Expressionism//Art International. 1962. Vol. 6. N0.8 (фр. пер.: Greenberg С. Après l’Expressionnisme abstrait//Claude Gintz (éd.). Regards sur l’art américain des années soixante. Paris: Editions Terriroires, 1979. P. 18).
8
Слово «номинализм» я, разумеется, употребляю здесь в дюшанов-ском смысле, а не в философском, принятом со времен Абеляра и Оккама. Но в дальнейшем, возможно, надо будет задаться вопросом о том, не затрагивают ли оба эти номинализма одну и ту же проблему универсалий, с существенной оговоркой: если для средневековых мыслителей имена были знаками вообще, то имена искусства или живописи, трактуемые номинализмом Дюшана,—это имена собственные.
А равно и в акт наречения искусством: «Можно ли созда
вать произведения, которые не были бы искусством?» [Duchamp М. DDS. Р. 105). Хотя наречение искусством — не то же самое, что наречение живописью. У него свои условия высказывания и свои исторические следствия, и они выходят за рамки нашей работы, касающейся перехода от имени живописи к имени искусства.
9
Duchamp М. A propos des «ready-mades»//DDS. P. 191.
10
(«Я отправил вещь за пределы Земли, на планету эстетики» [англ.]),— объяснял Дюшан Харриет и Сидни Дженисам в неопубликованном интервью 1953 года, говоря о реди-мейде.
11
Duchamp М. Notes. Op. cit. N. и, 4, 9, 12 (заметки 1-46 в этом изда
нии касаются почти исключительно сверхузкого).
12
«Очертить сверхузкое! Как его очертить...» (Ibid. N. 29).
13
Ibid. N.18.
14
Ibid. N.5.
15
Интервью Фрэнсису Робертсу (Art. cit. P. 63).
16
LeirisM. Arts et métiers de Marcel Duchamp//Fontaine. N254 (été 1946). P. 118.
17
См. прим. 27 на с. 42. — Прим,, пер.
18
«Arrhe по отношению к art —то же самое, что merdre по отношению к merde.

Грамматически: задаток [arrhe] живописи —женского рода» (Коробка 1914 года —DDS. Р.37).
19
Цитированное выше интервью Дюшана Жоржу Шарбонье (1961). И еще, Фрэнсису Робертсу: «Art, etymologically speaking, means „to make“. Everybody is making, not only artists, and maybe in coming centuries there will be the making without noticing» [«Искусство этимологически означает „делать“. Все делают, не только художники, и, быть может, через века делание будет обходиться без специального названия» — Прим. пер.] (Duchamp М. I propose to strain the laws of physics. Art. cit. P. 62).
ю. «Встреча в воскресенье 6 февраля 1916 года в 1:45 пополудни», машинописный текст на четырех почтовых карточках (1916).
20
и. Duchamp М. Interview avec Katherine Kuh. Art. cit. P. 90.
21
«О реди-мейдах», выступление Дюшана на коллоквиуме, организованном Уильямом К. Зейтцем 19 октября 1961 года в Музее современного искусства (Нью-Йорк) в рамках выставки «Искусство ассамбляжа» (по-французски см.: DDS. Р. 192).
22
Duchamp М. I propose to strain the laws of physics. Art. cit. P. 47.
23
«Говорит Марсель Дюшан», неопубликованное радиоинтервью
Джорджу X. Гамильтону и Ричарду Гамильтону (радиостанция ВВС, 1959)- Отрывок из него цитируется в кн.: SchwarzA. The Complete Works of Marcel Duchamp. Op. cit. P. 80. Об эротизме как художественном «изме» см.: PC. Р. 166.
24
Duchamp М. Notes. Op. cit. N. i.
25
Самая поздняя из заметок, связанных с темой сверхузкого, от
носится к 29 июля 1937 года (Duchamp М. Notes. Op. cit. N.35).
26
рс. Р. 177.
27
Цит. по: Tomkins С. The Bride and the Bachelors. New York: The Vi
king Press, 1965. P. 24.
28
Signac P. D’Eugène Delacroix au Néo-impressionnisme. Op. cit. P. 46.
29
Там же. P. 131.
30
Duchamp М. I propose to strain the laws of physics. Art. cit. P. 46.
31
Интервью Харриет и Сидни Дженис (1953)-
32
Заметка, опубликованная Полем Матиссом, свидетельствует о том, что Дюшан не гнушался обращением к этим ремесленным уловкам и хитростям, хотя в его время они, очевидно, уже не могли претендовать на место в трактатах. Он дает такую ссылку: Desaint. Trucs d’atelier, 2000 formules, ch Juliot et Coquet éd. Dourdan (S. et O.) (Duchamp M. Notes. Op. cit. N. 126).
33
Цит. по: LanglaisX. de. La technique de la peinture à l’huile. Paris:
Flammarion, 1959. P332-333. Вместо определения растирания красок Лангле напоминает, что таковое представляет собой куда более сложную работу, чем кажется на первый взгляд: «Прежде чем приступать непосредственно к проблеме растирания красок, небесполезно будет уточнить значение слова „растирание". Этим термином живописцы (или изготовители красок) обозначают, хотя и совершенно противозаконно, не только измельчение сухих пигментов до состояния пудры, но и их превращение в пасту с помощью клея или какого-либо связующего» (р. 323)-
34
Дело ума (итал.).— Прим. пер.
35
Вспомним заметку 118: «В дробилке все, что можно назвать „бес
полезностью“ дробилки, должно быть передано следами кисти на пятнах, которые прячет у себя в тайнике холостяк».
36
Интерпретацию реди-мейда как отголоска изобретения фотографии см. в моей статье «По поводу реди-мейда» (De DuveT. A propos du ready-made//Parachute. N0.7, été 1977. P. 19-22).
37
В 1922 году Дюшан открыл вместе с Леоном Хартлем коммерче
скую красильню, через полгода прекратившую существование. В январе или феврале 1923-го, как раз тогда, когда он «решил» оставить «Большое стекло» незаконченным, этот факт отозвался в работе «Разыскивается»: «Operated bucket shop in New York» (bucket shop означает красильня, но также и контора черного маклера), где нечестность окраски подчеркнута почти черным цветом. Андре Жерве комментирует: «А dyeing business is a dying business» [«Красильный бизнес —мертвый бизнес» (англ.).— Прим. пер.] (GervaisA. La raie alitée d’effets. Op. cit. P. 165).
38
Duchamp M. Notes. Op. cit. P. 80.
39
Краткое изложение цели и содержания этих лекций, составленное автором, см.: DoemerM. Einiges iiber die Ausgestaltung von Vor-tràgen über Maltechnik und Malmaterialienkunde fiir Kunststud-ierende//Technische Mitteilungen fur Malerei. 15 mars 1913. Bd. 29. №18. S. 165-167.
40
Основанное в 1884 году Адольфом Вильгельмом Каймом, Фран
цем фон Ленбахом и Максом фон Петтенкофером общество выпускало официальный бюллетень «Технические новости для художников», в качестве автора многих статей на страницах которого выступал Дёрнер.
41
Первые масляные краски серийного производства, упакован
ные в тюбики, появились около 1840 года, хотя изобретение металлического тюбика для хранения красок восходит к более раннему периоду: оловянные и медные тюбики уже в конце XVIII века использовались в Англии для акварели. Пионером выпуска масляных красок в оловянных тюбиках был американский художник Джон Рэнд.
42
Eine Farbenkonferenz des Deutschen Werkbundes betr. Herstellung
einer vollstàndigen und billigen Farbenkarte//Technische Mittel-lungen für Malerei. 15 Dezember 1911. Bd. 28. №12.
43
«Все краски должны быть чистыми, свободными от искажений,
и их названия не должны использоваться для заменителей или других красок» (Doemer М. The Materials of the Artist. Op. cit. Р-94)-
44
Kallabs patentierter Farbenanalisator//Technische Mittelungen für
Malerei. [1 Januar 1912]. Bd. 28. №13. S. 116-119; Das Aronssche Chromoskop//Ibid. S. 138-139.
45
Die Benennung der Farbentone//Technische Mittelungen für Malerei. [15 April 1912]. Vol. 28. № 20. P. 184.
Дырявая кастрюля
Приостановленный на время задержки, потребовавшейся ему для раскрытия своего значения, этот ин-терпретант получал различные имена, в том числе «Фонтан», «Потеря равновесия» или «Расческа». Имена, нерешительно замершие между искусством и живописью, имена самой неразрешимости. Интерпретировать их через самих себя означало не устанавливать их имена, а прочесывать вверх-вниз, во всех направлениях, возможные/невозможные условия их именования. До сих пор мы шли вверх, восходили, и это требовалось сделать сначала, потому что, прежде чем искать отзвуки реди-мейда в историческом и современном авангарде, надо было покончить с авангардизмом, этой «детской болезнью» модернизма. Прежде чем задаваться вопросом о том, какова историческая значимость сегодняшнего искусства, чем оно обязано Дюшану и в каком смысле оно ему этим обязано, надо было подтвердить ничью в споре традиционалистского мнения, для которого «авангард» означает забаву юнцов и бессмысленный упадок, и мнения самого авангарда, для которого он означает чистый лист, самопорождение или новизну любой ценой. И поскольку обе стороны считали Дюшана одним из главных виновников нынешней ситуации, если не самым главным, надо было точно очертить степень его ответственности и установить его вину.
Ни один индивидуальный художник, как Дюшан, так и кто угодно другой, не может считаться ответственным за исторические условия, в которых он родился. В нашем случае это, говоря широко, индустриализация, а в более узком смысле —специфическое влияние индустриализации на традиционную живописную практику, а именно изобретение фотографии и машинное производство красок, «ответственные» за положение, которое сохраняется вот уже полтора столетия: живопись —невозможное ремесло.
Ни один индивидуальный художник не может также считаться ответственным за широту собственного влияния. Последнее — всего лишь обманчивый и чрезмерно доверяющий причинности образ, будто все происходит между художниками, отрезанными от мира. На самом деле то, что делает художник, отзывается или не отзывается в совокупности условий, в которых он это делает. И, наоборот, эта совокупность условий, если художник нажимает нужные клавиши, под влиянием сделанного им входит в резонанс. В этом его ответственность за будущее, и в этом же пределы того, что он передает желающим стать художниками после него. Им в свою очередь выпадает интерпретировать это поле резонанса, рассматривая его в качестве изменившихся условий своей практики. Что они и делают с разной степенью убедительности, предоставляя себя интерпретациям, которые вернутся из их будущего к ним.
Но будучи местом ответственности художника за свое будущее исторический резонанс художественных условий является также местом его ответственности перед своим прошлым. Условия, которые входят в резонанс под влиянием его деятельности, являются для него безусловно предварительными. Их составляет главным образом то, что в социально-истори-ческой реальности привели к резонансу его предшественники. Именно поэтому продукт его творчества выступает интерпретантом: он регистрирует резонанс резонанса и передает будущему подвластное пе-реинтерпретации прошлое.
Одно дело — возвращаться к прошлому в качестве художника, тоже творя. И совсем другое — возвращаться к прошлому в качестве историка искусства, что предполагает некоторую этику. Подобно художнику, историк искусства не свободен в выборе своих условий, но и не несет ответственности за них. Если он считает искусство своего времени посредственным или упадочным, его право сменить профессию, но не осуждать это искусство от имени прошлого. Возможно, история — не то же самое, что прогресс, но она необратима, и, не признавая этого, историк обрекает себя на ограниченность. Его ответственность, таким образом, заключается во внимании к тому, что делают художники вокруг него. Это участие в современности необходимо, как необходим и его периодический пересмотр. Ибо оно является местом отбора, где суждение совершается по возможности «в полном отсутствии хорошего или плохого вкуса»,—местом определения важнейших интерпретантов, которые в свою очередь по-новому интерпретируются современниками.
Отобрать случай реди-мейда было нетрудно. Все самое значительное, что создано современным искусством более чем за тридцать последних лет, работает над интерпретацией его резонанса —то его настойчивой повторяемости, то присущей ему доли резкого отрицания, то, наконец, его значимого возобновления, так или иначе, по крайней мере косвенно, его признавая.
Нельзя было продолжать считать все это не более чем жестоким заблуждением и тем не менее заниматься историей искусства. Но нельзя было и продолжать думать, что новая культура родилась в тот период во всеоружии, вполне готовой и в то же время началась с чистого листа. Революции, вне зависимости от их области, перестали сдерживать свои обещания. Поэтому первейшей теоретической задачей историка современного искусства должно было стать восстановление его основных интерпретантов в их исторической преемственности. Отсюда —приоритет восхождения к началу и стремление показать, что реди-мейд был вовсе не случайной и беспочвенной фантазией Дюшана, но его главным вкладом в современное искусство, ибо убедительность, с какой он переинтерпретирует прошлое, сообщает последнему новый резонанс. Отсюда и акцент на связи с традицией и на «прогрессистской» реабилитации этого слова. Отсюда, наконец, сосредоточение на точке индивидуального перехода в жизни и творчестве Дюшана, поскольку она указывает на точку сдвига, совпадающую с центральным вопросом в культурной проблематике общества, несколько поспешно названного постиндустриальным: ожидает ли в скором времени нынешнее искусство с его многочисленными эпитетами («новый реализм», «поп-арт», «оп-арт», «кинетическое», «минимальное», «бедное», «концептуальное», «телесное» или «нарративное», «видео», «перформанс», нео-то, ретро-это, вплоть до недавнего «трансавангарда») полное растворение в индустрии развлечений, массовой информации и генерализованного китча, или оно выдерживает сравнение с искусством Учелло, Рубенса и Мане, являясь проводником традиции (что подразумевает не менее строгие, чем прежде, качественные требования), которая значительно трансформировалась, вплотную соприкоснувшись с условиями своей невозможности?
Понятно, что на подобный вопрос нельзя ответить, провозгласив некие общие установки. Его разрешение, если оно вообще возможно, требует разбора отдельных случаев, произведений. Умножение ярлыков не составляет единого суждения, но является симптомом весьма необычной ситуации, виновником которой сплошь и рядом называли Дюшана, хотя на самом деле он лишь ее выявил: в каждом эстетическом суждении заново разыгрывалось имя. Суждение «это прекрасно» незаметно превратилось на словесном уровне в «это —живопись», и живописная традиция вступила на модернистский путь неистового поиска своей специфичности. Замыкая имя на имя, Дюшан демонстрирует нам этот живописный номинализм, свойственный отнюдь не ему, а истории, к которой он принадлежит. Мы не перестаем удивляться тому, что поначалу только в пластических искусствах, а, например, не в музыке и не в литературе, распространилось столько «измов», которые умалчивали слово «живопись», чтобы с большей вероятностью присвоить его себе, и что затем слова «живопись» или «скульптура» стали заменяться словом «искусство», снабженным различными эпитетами, так что сегодня для многих из нас оно уже не подразумевает совокупность «изящных искусств», а идентифицируется, от чего дело, впрочем, не становится яснее, с выражением «пластические искусства».
Складывается впечатление, что на определенном историческом этапе специфичность живописи достигла границ своих приведенных к чистоте «сущностных условий», после чего эстетическое суждение «это — живопись» более не может быть произнесено. В результате как в среде художников, так и в среде критиков возникли два клана.
Первый клан (это чаще всего традиционалисты, в том числе и модернистских убеждений) объединяет чистых и твердых приверженцев специфичности. Они могут доходить до монохромии или даже до готового холста, но где-то ими проводится нормативная граница того, что может быть названо живописью. В своей попытке сдержать историю искусства они рано или поздно приходят к фетишистской фиксации на слове «живопись», обычно сопровождающейся фиксацией на ремесле, как можно было убедиться не так давно на примере течения «живо-пись-живопись», симптоматичного в навязчивой сдвоенности своего названия. Как правило, представители этого клана ссылаются на историчность своего заведомо специфичного медиума, осененную отцовской фигурой Сезанна.
Второй клан — это преимущественно авангардисты—объединяет тех, кто стремится шагнуть вперед. Перед объектом, который нельзя назвать живописью, они пытаются избежать эстетического суждения, в то же время оценивая приписываемое ему неклас-сифицируемое эстетическое качество. Его нарекают «искусством», прибавляя к этому имени эпитет, призванный его респецифицировать, который на время, пока его не заменят другим, фетишизируется. Основываясь на величайшем историческом недоразумении по поводу ответственности за эту замену имени «живопись» именем «искусство», представители этого клана ссылаются на Дюшана.
Необходимо рассеять это недоразумение. Не существует двух историй модернизма, одна из которых всецело определяется наследованием отцу-Сезанну и не гнушается своей принадлежностью к истории живописи, тогда как другая всецело определяется отрицанием отцовства холостяка-Дюшана и считает, что заново изобретает совершенно новое искусство, отвергая его живописную специфичность. Есть только одна история модернизма, и задача историка — ее выявить. Не удастся сделать это путем категорического суждения, устраняющего одно течение в пользу другого, ибо тем самым окажется устранена и половина фактов, которые историк должен интерпретировать. В связи с этим он вынужден стать теоретиком и выработать некий план, включающий оба течения, доказывающий их совместимость, допускающий для каждого из них особые ценностные суждения и возвращающий всю совокупность в контекст истории как таковой, которая тоже только одна.
Теперь нет причин удивляться, что эта задача свелась, прежде всего, к интерпретации «Перехода от девственницы к новобрачной», ибо эта картина-узел, в котором завязываются обе истории, черта, у которой отказ Дюшана от живописи обнаруживает принадлежность к той самой истории, которую осеняет Сезанн. И этот же «Переход», интерпретированный с точки зрения его непосредственного продолжения — реди-мейда, передает имя живописи имени искусства, вместе с тем передавая нам —зрителям, которые создают картины,—теоретическую ответственность заключения неразрешимого договора.
Если мы должны заключить его по поводу расчески из железа, которую передал нам Дюшан, кто в таком случае его расторгнет, кто развяжет этот узел? Как долго в живописи, выживающей в «невозможности делания», будет прочитываться «изображение возможного»? Вне сомнения, пока будет длиться провокация. Пока произнесение имени будет оставаться без ответа, пока живописный номинализм, словно бритва Оккама, будет «оставлять отрез на потом», пока мы не решим назвать «мертвой живописью» все искусство, родившееся в лучах славы Дюшана.
Wishful thinking? Несомненно. Художественные стратегии — это всегда «дырявые кастрюли», и Дюшан, находясь в зените признания, требование которого содержалось уже в «Переходе», прекрасно это понимал: «Вы знаете, что являетесь одним из самых знаменитых художников в мире? — Ничего такого я не знаю. Во-первых, простые люди не знают моего имени, хотя многие из них все же слышали о Дали, Пикассо, даже о Матиссе. Во-вторых, если кто-то знаменит, он, думаю, не может этого знать. Быть знаменитым—это как быть мертвым: не думаю, что мертвые знают, что они мертвы. И в-третьих, если бы я был знаменитым, я не мог бы этим особенно гордиться; это была бы отчасти знаменитость клоуна, связанная с сенсацией, которую некогда произвела „Обнаженная, спускающаяся по лестнице". Хотя я, конечно, допускаю, что, коль скоро подобный позор продолжается пятьдесят лет, в нем есть что-то еще, кроме скандала. —Что еще? —Это.—Это? —Это. То, что не имеет имени»1.
1
Duchamp: Fifty years later/interview with Francis Steegmuller. Art. cit. P. 29.

Последние комментарии
2 часов 43 минут назад
2 часов 51 минут назад
9 часов 3 минут назад
9 часов 7 минут назад
9 часов 17 минут назад
9 часов 24 минут назад