На пути [Жорис-Карл Гюисманс] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]

Жорис Карл Гюисманс «На пути»
Лариса Винарова Тёмная ночь литератора Дюрталя
Господь сказал, что он благоволит обитать во тьме[1]
 Русскому читателю представлен новый перевод романа Жориса Карла Гюисманса «На пути», второй из цикла, повествующего о духовном падении, воскресении и преображении человеческой личности. Его герой, писатель, или, точнее, литератор Дюрталь, alter ego автора, переживает глубокую личную драму и в результате этого обращается к Богу и католической Церкви. Мы видим все происходящее глазами героя. Наблюдения Дюрталя точны с психологической точки зрения. Он одарен глубиной переживаний, острой страстью к самонаблюдению и способностью выразить свои ощущения литературным языком.
В первом романе, «Без дна», Дюрталь — декадент с болезненным пристрастием к макабру — совершает тяжкие грехи: вступает в связь с сатанисткой, присутствует при служении черной мессы, оскверняет гостию. Кроме того, составляя жизнеописание маршала Франции Жиля де Рэ, которого Гюисманс считал виновным в приписываемых ему злодеяниях — многочисленных убийствах детей, чернокнижии и т. д., — Дюрталь на символическом уровне идентифицировался со своим героем[2]. Тогда Дюрталь дошел до последней степени падения и настолько опротивел сам себе, что дальше должно было начаться его духовное восхождение. Религиозному обращению часто предшествует отчаяние[3].
Русскому читателю представлен новый перевод романа Жориса Карла Гюисманса «На пути», второй из цикла, повествующего о духовном падении, воскресении и преображении человеческой личности. Его герой, писатель, или, точнее, литератор Дюрталь, alter ego автора, переживает глубокую личную драму и в результате этого обращается к Богу и католической Церкви. Мы видим все происходящее глазами героя. Наблюдения Дюрталя точны с психологической точки зрения. Он одарен глубиной переживаний, острой страстью к самонаблюдению и способностью выразить свои ощущения литературным языком.
В первом романе, «Без дна», Дюрталь — декадент с болезненным пристрастием к макабру — совершает тяжкие грехи: вступает в связь с сатанисткой, присутствует при служении черной мессы, оскверняет гостию. Кроме того, составляя жизнеописание маршала Франции Жиля де Рэ, которого Гюисманс считал виновным в приписываемых ему злодеяниях — многочисленных убийствах детей, чернокнижии и т. д., — Дюрталь на символическом уровне идентифицировался со своим героем[2]. Тогда Дюрталь дошел до последней степени падения и настолько опротивел сам себе, что дальше должно было начаться его духовное восхождение. Религиозному обращению часто предшествует отчаяние[3].
Впрочем, хотя у него еще оставались тревоги и колебания, но не было уже твердого намерения оставить все как есть: в принципе он принял мысль о перемене образа жизни и только пытался оттянуть день, отдалить час, словом, выиграть время.Первое время Дюрталь исследует католичество, как медиевист средневековые тексты или турист руины Парфенона. Некоторые вещи — в частности, монашеское церковное пение — приводят его в восторг. Как и большинство новообращенных, в свою новую жизнь он тащит все, что составляло его прежнюю личность: интеллигентскую и сословную гордыню и т. д.
Как будто большой приют для престарелых весь разом обратился к Богу; в нем было нечто и от табльдота в пансионе с улицы Ла-Кле, и от провинциальной ризницы.На первом этапе он взыскует не Бога, а себя в Боге, но имеет достаточно честности, чтобы сформулировать это и высказать самому себе. Следует заметить, что обращение Дюрталя развивается на его внутреннем пространстве. О том, как его состояние проецируется на его взаимоотношения с другими людьми, мы ничего не знаем. У него нет обширных социальных связей; он «вольный художник». Дюрталь не обременен семьей, у него нет близких людей, которые тем или иным образом реагировали бы на его обращение и, возможно, препятствовали бы ему. Он не вынужден трудиться бок о бок с другими людьми, зарабатывать на хлеб. Он может позволить себе посещать различные церкви, сравнивая качество месс, уровень церковного пения, но прежде всего его интересует анализ собственных ощущений. Дюрталь (по крайней мере, непосредственно на страницах романа) общается в основном с духовником. На практике такая ситуация едва ли может возникнуть. Гюисманс описывает, так сказать, душу в чистом виде; душу, помещенную в колбу. Дюрталь беспощаден к себе не менее, чем блаженный Августин в его «Исповеди». На определенном этапе он действительно берет на себя крест Христов. В действии, обращенном вовне, к миру, это пока не выражается — это внутренний акт веры. Искренность и глубина раскаяния Дюрталя становятся залогом очищения и преображения его души.
Дюрталь сидел на стуле, запрокинув голову, в таком изнеможении, что и мыслей в голове не было, оставался без чувств, не имея сил страдать. Затем замороженная душа понемногу оттаяла, и полились слезы. Слезы принесли облегчение; он плакал о своей судьбе, и она казалась ему такой злосчастной, такой жалкой, что тем паче нельзя было не надеяться на помощь; тем не менее он не смел обратиться к Христу, Которого считал не столь доступным для человека, а тихонько разговаривал с Божьей Матерью, моля Ее за него заступиться; он шептал ту молитву, в которой святой Бернард напоминает Богородице: от века не было слышно, чтобы Она оставила кого-либо, прибегавшего к Ее милости.По рекомендации знакомого священника литератор отправляется на неделю в бенедиктинский монастырь, где исповедуется в грехах, получает отпущение и Святое Причастие. Страницы, описывающие пребывание Дюрталя в монастыре, необычайно глубоки с точки зрения религиозной психологии. Возможно, это одно из лучших описаний обращения за пределами непосредственно религиозной литературы. В монастыре Дюрталь переживает Темную ночь:
До сей поры в его внутренней атмосфере то шел дождь самообвинений, то бушевала буря сомнений, то раздавался громовой удар сладострастия — теперь наступила тишина и смерть. Совершенная тьма сгустилась в нем. Он вслепую ощупывал свою душу и чувствовал, что она не движется, ничего не сознает, почти окоченела. Тело его было живо и здорово, но рассудок, способность суждения и прочие душевные способности постепенно затихали и застывали. В его существе происходил процесс, аналогичный и вместе с тем противоположный тому, что оказывает на организм яд кураре, разносясь с кровотоком: члены парализуются, ничего не болит, но подступает холод, и, наконец, душа заживо погребается в мертвом теле; здесь тело было живо, но душа в нем мертва. Подгоняемый страхом, он величайшим усилием избавился от оцепенения, хотел осмотреть себя, увидеть, что с ним, но, как моряк, спускающийся в трюм на корабле, где объявилась течь, он вынужден был отпрянуть: лестница обрывалась, под нижней ступенькой была бездна. Как ни колотился в сердце ужас, он, завороженный, склонился над зияющей дырой и, убедившись, что все черно, начал нечто различать в этой темноте; в закатном свете, в разреженном воздухе он увидел в глубине самого себя панораму своей души: сумеречную пустыню, у горизонта объятую ночью; в неверном освещении она была похожа на безлесную дюну, на болото, усыпанное булыжниками и пеплом; место, где находились грехи, выкорчеванные духовником, было видно, однако там ничего не росло, кроме еще стлавшейся по земле поросли старых пороков[4].Что же такое эта Темная ночь, о которой столько говорят герои и через которую прошла душа литератора Дюрталя — вероятнее всего, душа литератора Гюисманса. Следует дать здесь определение Темной ночи, сказав хоть несколько слов о святом Хуане де ла Крус, который первым дал это определение. Не обойтись и без краткого экскурса в историю католической мистики.
* * *
Святой Хуан де ла Крус (Иоанн Креста, Хуан Йепес д’Альварес) — мистик, богослов и поэт — родился в 1542 г. в Фонтиверосе, маленьком городке между Саламанкой и Авилой. Отец Хуана, дон Гонсало де Йепес, происходил из богатой семьи толедских торговцев шерстью. Путешествуя по ярмаркам, он встретил Каталину Альварес, бедную девушку-сироту, удочеренную местной ткачихой. Красота и добродетель Каталины настолько пленили дона Гонсало, что он предложил ей руку и сердце. Отцовская семья не простила мезальянса: Йепесы все же имели дворянский герб и звались идальго. Молодых предоставили самим себе. Вначале дон Гонсало, который был обучен грамоте, зарабатывал тем, что писал письма для неграмотных крестьян. Приблизительно в 1530 г. родился старший сын, Франсиско, спустя пять или шесть лет — средний, Луис. Дела у семьи шли все хуже, и дону Гонсало пришлось обучиться ткацкому ремеслу. На этой ниве он не преуспел — в Фонтиверосе и без него было полным-полно безработных ткачей. Вскоре он умер, умер молодым, не выдержав борьбы за существование. Каталина, которой суждено было пережить мужа почти на сорок лет, осталась вдовой с тремя маленькими детьми. Ей пришлось просить милостыню: богатая толедская родня мужа в помощи отказала. Они перебрались в Медину-дель-Кампо — в городе побольше легче было прокормиться. Хуана отдали в приют, где он обучался ремеслам башмачника, скорняка, столяра и живописца. Литературу, философию и богословие он штудировал у иезуитов, а средства к существованию добывал, работая в мединской больнице для сифилитиков… Саламанкский университет, куда поступил юный Хуан Йепес, был крупнейшим в Европе: к концу XV в. в нем насчитывалось 7000 студентов. В 1563 г. Хуан Йепес принял постриг в ордене кармелитов под именем Хуана де Сан Матео (святого Матфея). Примерно в то же самое время начала претворять в жизнь свои реформы Тереза де Хесус (Тереза Санчес де Сепеда-и-Аумада, 1515–1582 гг.), вошедшая историю как святая Тереза Авильская. Тереза де Хесус была первой женщиной-писательницей в Испании — и первой женщиной-богословом. Ее перу принадлежат сочинения «Книга моей жизни» (La vida), «Книга оснований» (Libro de las Fundaciónes), «Путь к совершенству» (Camino de perfectión), «Обители» (Las Moradas, в русском переводе — «Внутренний замок») и, кроме этого, около сорока песен. Значение созданного ею даже с литературной точки зрения трудно переоценить. «Книга моей жизни», написанная кристально четким, абсолютно непереводимым языком, — самое переводимое произведение испанской литературы, за исключением «Дон Кихота»! Как и святая Екатерина Сиенская, она признана Учителем Церкви; наряду со святым Иаковом считается небесной покровительницей Испании… Первая встреча будущих великих реформаторов произошла в Медине-дель-Кампо летом 1567 г. (Ему было тогда 25 лет, Терезе — 52 года.) Тереза убедила его присоединиться к реформе и помочь ей возвратить орден кармелитов к первоначальному уставу. Реформа мужской ветви ордена была даже более важна, чем реформа женской, потому что мужской ветви легче было осуществить слияние молитвы и миссии, созерцания и действия… Орден кармелитов раскололся; реформированная ветвь получила название descalsas — босоногие, по аналогии с францисканцами. Ночью в Авиле его схватили противники реформ и, завязав глаза, кружным путем привезли в Толедо, где бросили в монастырскую тюрьму. Это произошло в ночь с 2 на 3 декабря 1577 г. Но с Хуаном де ла Крус обращались так, что Тереза де Хесус писала королю Филиппу II: «Лучше бы он попал в руки мавров, ибо мавры были бы милосердней». В крохотной — размером полтора на два метра — каморке, куда поместили брата Хуана, источником воздуха и света служила щель под потолком шириной в два пальца. Света в зимний день было так мало, что узнику приходилось вставать на табурет, чтобы читать бревиарий. Одежда, в которой его привезли из Авилы и которую не позволяли стирать, истлела. Летом его мучила жара, зимой терзал холод. И голод — ему давали кусок хлеба в день и кувшин воды; по понедельникам, средам и пятницам — две сардины. Или одну. Или половинку — это зависело от произвола тюремщиков. Каждую пятницу брата Хуана приводили в трапезную, где, стоя на коленях, он выслушивал увещевания приора. Раз от раза эти речи становились все более формальными — видимо, приор понял, что тщедушного упрямца не сломить. Затем каждый из братьев ударял узника бичом по спине. Шрамы остались на всю жизнь, но, должно быть, гораздо сильнее голода, холода и насекомых его терзало другое… В течение девяти месяцев — долгих двухсот семидесяти дней — узник был лишен Евхаристии и возможности служить мессу… Ждать помощи было неоткуда. Король Филипп II не мог послать альгвасилов, чтобы они обыскивали каждый монастырь в поисках пленника, — это вызвало бы очень большой скандал. Папский нунций дал клятву покончить с босоногими, подчинив их начальству нереформированной ветви и освободив от «вредоносного» влияния Терезы де Хесус, которую назвал «надоедливой женщиной-бродягой, посвятившей себя сочинению книг вопреки повелению апостола Павла: “Жены ваши в церквах да молчат” — и основанию монастырей без папской лицензии»… Наступила весна 1578 г., и узнику сменили тюремщика. Новый тюремщик был молодым и добрым; его имя заслуживает того, чтобы быть помянутым потомками, — Хуан де Санта Мария. Он спросил заключенного, не нужно ли ему чего-нибудь, и тот попросил карандаш и бумагу… «Источник», «На реках Вавилонских», «Романс» и большая часть «Духовной песни» были написаны в тюрьме. Проведя в заточении девять месяцев, брат Хуан нарушил обет послушания и решился бежать. Это произошло ночью, между 10 и 12 августа — точная дата неизвестна. Он потихоньку расшатывал замок своей камеры, пока не сумел его сломать. Затем по веревке, свитой из одежды, спустился с галереи на берег реки Тахо. Маленькую тетрадку со стихами беглец ухитрился унести с собой. Войдя в ворота де Камброн, брат Хуан постучал в дверь монастыря босоногих кармелиток. Он был так слаб и истощен, что едва мог говорить… Затем он укрылся в монастыре босоногих в Хаене и продолжал реформу, основывая новые обители по всей Андалусии. Был избран викарием провинции, и даже приором Гранады. Приблизительно в этот период он написал свои прозаические сочинения, сделавшие его учителем мистического богословия. В основном это комментарии к его собственным стихам. В отличие от поэзии, эти трактаты написаны не с целью передать мистический опыт, а с сугубо педагогической целью. В связи с этим следует заметить, что святой Игнатий Антиохийский (кон. II — нач. III в.) измерял подлинность мистического познания его пригодностью для пастырской деятельности. Реформа не везде проходила гладко. Под конец жизни Хуан де ла Крус был лишен званий и должностей из-за конфликтов внутри ордена босоногих. Он был практически сослан в горную глушь, в Убеду, куда приехал уже тяжело больным. Умер он 13 декабря 1591 г. в возрасте 49 лет. Когда он умирал, братья начали было читать вслух благочестивое наставление душе умирающего — нечто вроде барочно-католического Бардо Тёдол. Но брат Хуан прервал их и попросил почитать ему Песнь Песней… Через два года его мощи тайно перевезли в Сеговию, где в монастыре босоногих кармелиток и поныне находится гробница. В 1622 г. Тереза де Хесус была канонизирована и признана Учителем Церкви. Хуан де ла Крус был канонизирован намного позже, в 1726 г., а Учителем Церкви объявлен в 1891 г. Рецепция произведений Хуана де ла Крус и Терезы Авильской в России была незначительна из-за отсутствия адекватных переводов. Русские читатели знают их в основном по книге Дмитрия Мережковского «Испанские мистики»[5]. В России богословие Сан Хуана де ла Крус нашло свое отражение в трудах Лосского, Николая Бердяева, православного мыслителя Николая Арсеньева. Интересовал Хуан де ла Крус и Вячеслава Иванова, автора усвоенной современным богословием метафоры, уподобляющей две Церкви двум легким.* * *
Святой Хуан де ла Крус оставил миру всего десять стихотворений, а также несколько вариаций на темы народных песен. Основу богословского наследия мистика из Фонтивероса составляют так называемые глоссы — трактаты с построчными, едва ли не дословными комментариями к его стихам. Они были написаны позже, чем стихи, и тоже на родном кастильском наречии, а не на латыни (как и сочинения святой Терезы). «Огонь живой любови» (Llama de amor viva) и «Песнь души» (Cantico espiritual) глоссируют одноименные поэмы. Двойной трактат «Восхождение на гору Кармель» (Subida del Monte Carmelo) и «Темная ночь» (Noche Oscura) комментирует маленькую, всего в 8 строф, поэму «Темная ночь души». Несомненно, Хуан де ла Крус был автором эпохи Возрождения, в чём-то предвосхищавшим грядущий стиль барокко, но говорил он на языке средневековой риторики. Литература XVI в. еще не так далеко ушла от «Романа о Розе», и метафора, развернутая на 250 страниц трактата, как в «Обителях» (Las Moradas) святой Терезы Авильской[6], воспринималась как нечто само собой разумеющееся. Но барочно-морализаторский стиль эпохи сочетался у Хуана де ла Крус с евангельской радикальностью. Считается, что «Восхождение на гору Кармель» и «Темная ночь» — два различных трактата, во многом повторяющих друг друга. Но, возможно, они представляют собой разные части одного произведения. Его структурный нерв — поэма «Темная ночь», им предпослан общий пролог, их объединяет тема и метафора ночи. В своем предисловии к собранию сочинений Хуана де ла Крус о. Федерико Руис писал: «“Восхождение” и “Ночь” чересчур схожи, чтобы существовать обособленно, и чересчур различны, чтобы их можно было объединить»[7]. «Восхождение на гору Кармель» комментирует только первые две строфы поэмы. Комментарий, озаглавленный «Темная ночь», также не окончен. Самые прекрасные строфы, воспевающие единение души с Богом, остались непрокомментированными, но существуют трактаты «Огонь живой любви» и «Духовная песнь». Автор вводит в свое символическое и метафорическое пространство, и далее читатель уже ориентируется в нем сам. Общие идеи трактатов — «узкий путь, ведущий в жизнь», отсечение привязанностей. Фактически диптих является развернутым объяснением того, что включено в заповедь «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостию твоею» (Мк. 12: 30) Апостол Петр говорил: «Нас сотворили, чтобы мы сделались причастниками Божеского естества» (2 Пет. 1: 4). Святой Максим Исповедник (580–662 гг.) сказал, что Сын Божий сделался человеком для того, чтобы человек сделался Богом. «Святой Хуан де ла Крус, почитавший христианское совершенство и постоянно ориентировавшийся на него, в то же время перемещает акцент на единение человека с Богом через любовь… Описание этого единения — одна из особенностей этого автора. В нем сосредоточено все то, что другие духовные писатели называют святостью, совершенством, христианской жизнью, аскезой и мистикой, духовностью, духовной жизнью и т. д. И более того: под общим наименованием “Ночей” он описывает пасхальную мистерию, парадоксальным образом представляющую собой единение со Светом в двойной Ночи — мистерии божественной и мистерии человеческой, которые объединяются через любовь в Ночи веры»[8]. То, что другие христианские богословы называют совершенством, он называл единением с Богом. Темная ночь души — ключевое понятие мистики Хуана де ла Крус, сформулированное им самим. «В христианском богословии есть линия света и линия тьмы. Этими двумя путями следуют две мистических традиции. Великие богословы света — Ориген, святой Августин Гиппонский, святой Бернар Клервоский, святой Фома Аквинский. Великие богословы тьмы — святой Григорий Нисский, Псевдо-Дионисий Ареопагит, святой Хуан де ла Крус. Эти два пути идут бок о бок. Современные гениальные богословы не видят препятствий в том, чтобы объединить эти два пути, синтезируя воззрения Фомы Аквинского и Хуана де ла Крус. Ряд величайших мистиков — Ян ван Рёйсбрюк, святая Тереза Авильская и сам Хуан де ла Крус, описывали оба аспекта дискурса — “свет” и “тьму”»[9]. Чистилище — selva oscura Данте; «зарождение во тьме» Нигредо… Согласно иудейской формуле, тварному миру предшествовала Небесная Тора, написанная белым огнем по черному огню. Как писал Анри Корбен: «Речь здесь идет о двойственном аспекте Тьмы: есть Тьма, которая является не чем иным, как Тьмой; она способна перехватывать и помрачать свет, держать его в заточении… Эта тьма, будучи предоставлена сама себе, не может стать светом. Но есть и другая Тьма; именно ее мистики называют Ночью света, сияющей Чернотой, черным светом»[10]. Эти слова, сказанные о суфийской мистике, можно отнести и к мистике христианской. Ночь и тьма, до того как стать символами, были природными и физическими явлениями, феноменами, чьи характеристики не нуждаются в описании. «Говоря об образе Ночи, нужно заметить, что это название относится в первую очередь к ночи космической и от нее переносится на ночь мистическую, чтобы посредством знакомого и привычного объяснить незнакомое и трудное для понимания, но имеющее схожие черты»[11]. Рассмотрим корень, происхождение и узус этого символа в пределах иудео-христианской традиции. Библия содержит широкий спектр символических значений слов «ночь» и «тьма», как негативных, так и позитивных. (В трактатах святого Хуана де ла Крус символ Ночи также амбивалентен; в поэме же Ночь имеет негативный аспект (темная) и позитивный аспект — благословенная). Слово «ночь» употребляется в Библии 68 раз, не считая прилагательного «ночной» и обстоятельства времени «ночью». «Библейско-христианская духовная традиция предпочитает символы света, огня и дня символам тьма, мрак и ночь, говоря о Боге и описывая отношения между человеком и Богом»[12]. «Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы» (Ин. 1: 5); «Все вы — сыны света и сыны дня: мы — не сыны ночи, ни тьмы» (1 Фес. 5: 5). В Священном Писании образы тьмы и ночи используются для описания ситуаций отделения от Бога, страдания и смерти (см. Иов. 10: 2; Пс. 88: 7–13; 107: 10–14). Но вместе с негативной интерпретацией символа в библейско-христианской традиции встречается и другая, которую невозможно игнорировать, то есть: тьма, мрак и ночь как время/место теофании — явления Бога человеку, встречи человека с Богом. Это — видение, ниспосланное Аврааму (Быт. 15), ночь, когда Иаков увидел во сне лестницу (Быт. 28), и ночь, когда он боролся с ангелом (Быт. 32), ночь бдения (Исх. 12) и ночь перехода через Чермное море (Исх. 14), теофания (Исх. 19–20 и 24: 16), откровение, явленное Элифазу (Иов. 4). Многочисленные примеры этой интерпретации можно встретить в Псалтири, как то: «Скажу ли: “может быть, тьма сокроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью”. Но и тьма не затмит от Тебя, и ночь светла, как день: как тьма, так и свет» (Пс. 138: 11–12). «День дню передает речь, и ночь ночи открывает знание» (Пс. 18: 3). Это — ночь в Песни Песней, когда Невеста ищет своего Возлюбленного, и ночь, когда Он приходит, но Она не отпирает. Как говорил святой Бернард Клервоский в своей проповеди на Песнь Песней:На ложе моем ночами искала я того, которого любит душа моя, искала его и не нашла его. (…) И сначала она ищет его на своем ложе, но не находит. Тогда она встает, обходит город, его улицы и площади, но не встречает его, и он не появляется. Она расспрашивает тех, кого встречает, но никто не сообщает ничего определённого. И это не один раз, не одну только ночь длились эти поиски и это разочарование, ибо она говорит: «искала ночами». (…) В этом мире есть свои ночи, и их немало. Но что я говорю: «есть свои ночи»? Ведь почти весь мир — ночь, и всегда он погружён в потёмки!. Ночь — это вероломство иудеев, ночь — невежество язычников, ночь — извращённость еретиков, и ночь — плотская и животная жизнь католиков… Но некто говорит мне, что Невеста не настолько глупа или слепа, чтобы искать свет во тьме, искать Возлюбленного среди тех, кто не знает и не любит его[13].Можно вспомнить также Ночь суда в Книге Премудрости (18: 14–15) и, наконец, Книгу Товит — неканоническую книгу, очень странную и темную, рассказывающую историю Товита и его сына Товии. (Исследуя ее, нужно помнить, что текст Вульгаты не вполне согласуется с Синодальным переводом[14].) В Новом Завете слово «ночь» встречается около 50 раз (в синодальном переводе 47 раз). Это ночь бегства в Египет (Мф. 2: 14). Ср. также: «Ибо как Иона был во чреве кита три дня и три ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи» (Мф. 12: 40). Это ночь в притче о 10 девах, и — самое главное — Рождество и Пасха. Как писал Хосе Дамиано Гайтан: «Не следует забывать, что здесь нам показывается пасхальная диалектика Смерти — Воскресения»[15]. Итак, в богословии Хуана де ла Крус Темная ночь символизирует (не взаимоисключающим, но взаимодополняющим образом) следующие вещи:
1. «Бог есть не что иное, как Темная ночь для души». 2. Темная ночь есть вера. Путь, которым следует душа сиречь вера, темен, как ночь. 3. Процесс очищения, отсечения привязанностей и др., приводящий к этому состоянию. Состояние души, характеризующееся отрешенностью от всех телесных и духовных вещей, духовной наготой, самоуничижением и т. д. Путь через отрицание к единению и его свойства. 4. Путь или способ достичь цели, то есть Бога. В самом пути есть привкус цели. 5. Созерцание. 6. Страдание. Парадоксальным образом определение «Темная ночь души» вошло в современную психологию как обозначение депрессии или пограничных состояний сознания[16]. 7. Ночь — время теофании, Богоявления. 8. Ночь в трактатах «Восхождение» и «Ночь» — комбинация ночи в Песне Песней и ночи страдания Иова. «Следовательно, символ покрывает весь путь, его человеческие и божественные аспекты, от начала до конца, охватывает и заключает в себе все: он мультивалентен, многозначен и динамичен и обозначает различные вещи в разных точках пути[17].К. Г. Юнг отмечал сходство между состоянием, именуемым темной ночью души, и «зарождением во тьме» нигредо. Алхимия спроецировала на материю одну из основных функций души — страдание — для достижения очищения и преображения, применив ту же самую «философию операционизма», которую применяли христианские мистики. Святой Хуан де ла Крус отчасти использует их терминологию (трактаты по алхимии, хранившиеся в библиотеке Саламанкского университета, были ему, конечно же, знакомы). Приведем минимальный компендиум терминов, необходимых для понимания дальнейшего. Великое Делание алхимиков завершается мистическим браком и трансформацией (преображением). В процессе трансформации материя (душа) проходит три стадии — нигредо, почернение; альбедо, убеление; и рубедо, покраснение. Можно сравнить их с тремя ночами, описанными в первой части «Восхождения на гору Кармель», через которые проходит душа, чтобы достичь единения с Богом и преображения в него. Стадия нигредо (почернение); синонимы — putrefactio (гниение), mortificacio (умерщвление) — процесс, происходящий в куколке бабочки. На символическом уровне нигредо представляет собой смерть материи (души). Святой Хуан де ла Крус говорит об умерщвлении души, оставившей влечение ко всему мирскому и временному. Многие исследователи задают вопрос, выполнимы ли духовные советы, данные в «Восхождении» («Ночи»)? Попытаться ответить на вопрос означает также ответить, выполнимо ли то, что велит Евангелие. «Духовным упражнениям» святого Игнатия Лойолы предпослано предупреждение, что они написаны не для праздного читателя, а исключительно для того, кто станет их практиковать. Анонимный автор английского мистического трактата XIV в. «Облако неведения» (The Cloud of Unknowing) предупреждает взявшего эту книгу в руки о том же самом. В общем прологе, предпосланном трактатам «Восхождение» и «Ночь», сказано, что они предназначены только для монахов и монахинь ордена кармелитов первоначального (то есть более строгого) устава.
Я изначально не собирался обращаться ко всем, но только к некоторым людям нашей святой веры, а именно братьям и сестрам Горы Кармель изначального устава, просившим меня дать сии разъяснения. Это люди, которых Бог, по милосердию Своему, препровождает на стезю сей горы и которые, уже вполне обнажившись от бренных вещей мира сего, тем легче поймут науку обнажения духа[18].Но Дюрталь проходит через подобное очищение, не будучи монахом. Видимо, это проявление Божественного милосердия. Отец Этьен говорит Дюрталю, что Господь удостоил его Темной ночи.
Он рухнул на стул и попытался описать им ужасающую голгофскую муку, которую претерпел. Это длилось больше девяти часов, говорил он, но в любом случае я никогда бы не поверил, что душа может так страдать! Тогда лицо монаха озарилось. Он сжал руки Дюрталя и сказал ему: — Радуйтесь, брат мой, с вами здесь обошлись как с монахом! — Как это? — спросил ошарашенный Дюрталь. — Да ведь эта агония — ибо нет другого слова, чтобы передать ужас такого состояния, — одно из самых важных испытаний, которые нам посылает Бог; это одна из станций на пути очищения; радуйтесь и веселитесь, ибо великую милость послал вам Иисус Христос! — И это доказательство тому, что ваше обращение крепко, — убежденно добавил живущий.Как уже было сказано выше, светская психология позаимствовала термин испанского кармелита из психологии религиозной. А примерно в сороковых годах XX в. появилась тенденция рассматривать Темную ночь Хуана де ла Крус не только на персональном уровне, но и как определенное состояние, переживаемое обществом, всем человечеством, страдающим очень жестоко и, кажется, бессмысленно. Папа Иоанн Павел II в своей работе о святом Хуане де ла Крус писал о коллективной Темной ночи, пережитой человечеством: Учитель-мистик привлекает сегодня внимание многих верующих и неверующих своим описанием Темной ночи как одного из видов человеческого и христианского опыта. В нашу эпоху было немало трагического, приходилось испытывать моменты тягостного ощущения того, будто Бог молчит или отсутствует: опыт бедствий и несчастий, как войны или Холокост, во время которого погибло множество невинных людей. Все это позволяет глубже постичь значение символа «ночь», придать ему смысл чего-то всеобщего, чего-то такого, что имеет отношение к бытию в целом, а не к одному только отдельному этапу духовной жизни. Сегодня учение святого призвано дать объяснение величайшей мистерии людского страдания… Страдания — физические, нравственные или духовные (такие, как недуг, голод, войны, несправедливость, одиночество, потеря смысла жизни, непрочность человеческого существования, болезненное испытание греховности, видимое отсутствие Бога) являются для верующего опытом очищения, который можно назвать ночью веры[19].
При таком широком, универсальном понимании опыт, описанный святым Хуаном де ла Крус и Ж. К. Гюисмансом, представляет собой не только исследовательский интерес. Он актуален и сегодня — как путь каждой души.
Лариса Винарова

Жорис Карл Гюисманс НА ПУТИ[20] Роман

Объяснение литер на реверсе медальона Святого Бенедикта
В верхней части медальона монограмма Иисуса Христа I.H.S. (Jesus Hominum Salvator — Иисус спаситель человеков). Далее, в четырех сегментах, промежуточных между ветвями креста, в кружочки вписаны такие буквы: C.S.P.B. — начальные буквы слов Crux Sancti Patri Benedictis (Крест святого отца Бенедикта).На ветвях же креста литеры расположены так:
 Расшифровка вертикального столбца: Crux Sacra Sit Mihi Lux (Крест святой буди мне свет).
Расшифровка горизонтальной строки: Ne Draco Sit Mihi Dux (He диавол буди мне вождь).
Наконец, по краю круга, в эксерге, сверху по часовой стрелке читаются следующие литеры:
V. R. S. N. S. M. V.
S. M. Q. L. I. V. B.
Это инициалы такого двустишия:
Расшифровка вертикального столбца: Crux Sacra Sit Mihi Lux (Крест святой буди мне свет).
Расшифровка горизонтальной строки: Ne Draco Sit Mihi Dux (He диавол буди мне вождь).
Наконец, по краю круга, в эксерге, сверху по часовой стрелке читаются следующие литеры:
V. R. S. N. S. M. V.
S. M. Q. L. I. V. B.
Это инициалы такого двустишия:
Предисловие
Я не люблю вступлений и предисловий и, насколько возможно, воздерживаюсь от того, чтобы предварять свои книги пустыми фразами. Следовательно, чтобы решиться выставить несколько строк перед новым изданием романа «На пути», нужен был серьезный мотив, нечто вроде законного повода к самообороне. Вот он, этот мотив. С тех пор как это сочинение поступило в продажу, моя переписка, и без того весьма обширная из-за споров, возбужденных романом «Без дна», стала такой огромной, что я был принужден или перестать отвечать на приходящие письма, или забросить всякую работу. Впрочем, не имея возможности принести себя в жертву требованиям незнакомых людей, вероятно менее, чем я, занятых в жизни, я принял решение оставлять без удовлетворения вопросы, вызванные прочтением «На пути», но и выдержать этот приятный образ поведения не мог, потому что в некоторых случаях он мог бы стать весьма дурным делом. В самом деле, отправителей таких писем можно разделить на две категории. Одна — просто любопытные; под предлогом интереса к моей скромной персоне они хотят знать массу вещей, которые их не касаются, предъявляют претензию вламываться в мое жилище и разгуливать по моей душе, как по публичному месту. Тут проблем не возникает: такие письма я сжигаю, и весь сказ. Но с другой категорией подобных посланий дело обстоит совсем иначе. Эти письма, куда более многочисленные, приходят от людей, тревожимых благодатью, сражающихся с собою, призывающих и в то же время отталкивающих обращение к вере; нередко они присылаются и страждущими матерями, желающих получить в болезни или дурном поведении своих детей молитвенную помощь от монашествующих. И все они просят меня откровенно сказать, существует ли на самом деле описанное мной аббатство, и если да, то помочь завязать сношения с ним; все желают, чтобы я упросил брата Симеона — ежели только я его не выдумал и ежели он действительно святой, как я это описал, а силой своей молитвы заступил за них. И тут мое положение становится гораздо хуже. Не имея мочи отказать таким просьбам, я в конце концов пишу два послания: одно отправителю письма, пришедшего мне, другое в монастырь; иногда, если что-то надо уточнить или получить более подробные сведения, приходится писать и больше. А мне, повторяю, такая всепоглощающая роль усидчивого посредника между монахами и мирянами, совершенно не дает работать. Как же быть, чтобы удовлетворить людей и не слишком погрешить против совести? Я нашел только один способ: ответить здесь всем добрым людям на все, раз и навсегда. В общем, вопросы, которые мне обыкновенно задают, сводятся к следующим: «Мы искали в перечне траппистских обителей Нотр-Дам де л’Атр и не нашли; нет его и в монастырских ежегодниках; итак, не выдумали ли вы его?» И другой: «Вымышленное ли лицо брат Симеон, а если вы писали его с натуры, то не приукрашен ли он, не канонизирован ли, так сказать, ради целей вашей книги?» Ныне шум вокруг «На пути» унялся, и я могу не придерживаться всегда соблюдавшейся мной прежде скрытности насчет обители, где жил Дюрталь. Итак, сообщаю: Обитель Нотр-Дам де л’Атр на самом деле называется Нотр-Дам д’Иньи и находится в департаменте Марна близ Фима. Приведенные мной описания точны, сообщенные сведения об образе жизни в этом монастыре доподлинны, написанные мною портреты монахов списаны с реальных людей. Из соображений приличия я переменил лишь имена. Скажу еще, что история Нотр-Дам де л’Атр, о которой рассказано в четвертой главе второй части, по всем пунктам относится к Иньи. Аббатство действительно было основано в 1127 году святым Бернардом, имело во главе истинных святых, таких, как блаженный Гумберт, блаженный Геррик, мощи которого хранятся в раке под алтарем, необычайный Петр Одноглазый, почитавшийся Людовиком VII. Как и все сестры обители, она хирела при коммендатариях[21], погибла при Революции; воскресла она в 1875 году. В этом году тщанием кардинала-архиепископа Реймсского маленькая колония цистерцианцев из монастыря Святой Марии в пустыне вновь населила древнее аббатство святого Бернарда и скрепила молитвенную связь, разорванную смутой. Что же до брата Симеона, я сделал его простой и честный портрет без прикрас, фотографию без ретуши. Я ничего, как на это подчас намекают, не выпячивал, ничего не преувеличивал в интересах своего дела. Я написал его натуралистическим методом, таким, каков он есть — святым! Я думаю об этом человеколюбивом и боголюбивом человеке, которого как раз на днях опять видел. Теперь он так стар, что больше не может ходить за своими любимыми свинками. Его определили чистить овощи на кухне, но отец настоятель благословил его навещать прежних питомцев, и те не остались неблагодарными: когда брат Симеон подходит к хлевам, они встают на дыбы с радостным кличем. Он же улыбается своей безмятежной улыбкой, пару минут хрюкает с ними и возвращается в благотворную немоту монастыря. Но когда, по иным случаям, высшие разрешают его от обета молчания, этот избранный муж дает нам краткие наставления. Приведу наудачу одно. Однажды отец настоятель попросил его помолиться за некоего больного. Он ответил: «Молитвы из послушания имеют больше всего силы, так что прошу вас, высокопреподобный отец мой, скажите, какие мне именно молитвы читать». «Что ж, прочтите три раза Отче наш и три раза Богородицу». Старец покачал головой, а на вопрос несколько удивленного аббата пояснил, что его смущает: «Довольно и Отче наш и Богородицу прочесть по разу, но как следует, от всего сердца, а больше будет уже маловерие». И этот инок совсем не исключение, как можно было бы подумать. Подобные ему есть во всех бернардинских обителях, а также и в других орденах. Я лично знаю еще одного; когда мне дозволяется видеть его, он переносит меня во времена Франциска Ассизского. Этот подвижник живет в экстазе, а голова его, как ореолом, окружена кругом птичек. Ласточки гнездятся над его убогим ложем в каморке брата-привратника; они весело кружатся прямо над ним, а их птенчики садятся ему то на голову, то на руки, сам же он с непременной улыбкой продолжает молитву. Животные явно сознают святость, любящую и охраняющую их, ту чистоту, которую мы, люди, больше не ощущаем. Совершенно ясно, что в наш век высокоученого невежества и пошлых идей отец Симеон и этот брат-привратник кажутся чем-то невероятным: для ученых они идиоты, для мещан безумцы. Величие дивных монахов, поистине смиренномудрых, поистине простых, им непонятно. Они возвращают нас в Средние века, и слава Богу; ибо такие души непременно должны существовать; это божественные оазисы в дольнем мире, благие пристанища, где обитает Господь после бесплодного обхода душевных пустынь других людей. Не во гнев будь сказано господам литераторам, эти персонажи так же достоверны, как и те, что нарисованы в моих прежних книгах: просто они живут в том мире, которого светские писатели не знают. Так что я ничего не преувеличил, говоря в своем сочинении о необычайной силе молитв, которой обладают эти иноки. Надеюсь, моих корреспондентов удовлетворит ясность ответов; во всяком случае, моя роль посредника может быть окончена без ущерба для человеколюбия, поскольку теперь всем известны имя и адрес обители. Мне остается извиниться перед дом Огюстеном, высокопреподобным аббатом бернардинской обители Нотр-Дам д’Иньи за то, что я раскрыл псевдоним, под которым год назад вывел его монастырь. Я знаю, что он ненавидит всякий шум и не желает, чтобы его и братий выводили на сцену, но знаю и то, что он очень любит меня и простит мне, помыслив, что эта бестактность пойдет на пользу многим несчастным душам, а мне при том даст возможность немного поработать в покое.Часть I
I
Была первая неделя ноября: время седмицы по усопшим. Вечером, в восемь часов, Дюрталь вошел в Сен-Сюльпис.{1} Он любил ходить в эту церковь, потому что там пели певчие, большой толпы не бывало и можно было в уединении спокойно разобраться в себе. Поздним вечером кошмар главного нефа, перекрытого тяжелыми арками, скрадывался, низкие боковые нефы чаще всего бывали пусты, немногие светильники горели тускло. Там можно было копаться в душе, оставаясь невидимым; там было уютно. Дюрталь устроился за главным алтарем слева, в той галерее, что вдоль улицы Сен-Сюльпис; зажглись фонари у органа на клиросе. Вдали, на кафедре посреди полупустого нефа, священник говорил проповедь. По вазелиновой гладкости звука, по маслянистому выговору Дюрталь понял, что этот упитанный батюшка по привычке изливал на слушателей самые пресные фразы из числа привычных. Почему они все до такой степени не умеют говорить? — думал он. — Из интереса я слушал многих священников — все друг друга стоят. Только голоса и различаются. Одни маринуют голос в уксусе, другие вымачивают в масле, смотря по темпераменту. Умелого сочетания не встретишь никогда. Тут он вспомнил ораторов, популярных, как тенора: Монсабре, Дидона — этих церковных Кокленов. Безликая продукция католической консерватории, а еще ниже этих — аббат Юльст,{2} задиристая клячонка! Впрочем, что ни говори, думал он дальше, такие бездарности как раз и нужны горстке богомолок, которые слушают их. Если бы эти кухмистеры душ были талантливы, если бы давали окормляемым тонкую пищу, эссенцию богословия, вытяжку молитвы, соки идей, они прозябали бы, не понятые паствой. Так что все, в общем, к лучшему. Нужно священство, мелководностью своей стоящее в уровень с прихожанами, и Провидение, конечно, своей могучей волей попеклось об этом. Мысли его прервались стуком подошв, скрипом отодвигаемых стульев по плитам. Проповедь кончилась. В полной тишине орган взял начальные аккорды и ушел в тень, став лишь поддержкой летящим голосам. Послышалось медленное, скорбное пение: De profundis[22]. Голоса сплетались снопами под сводами, срывались чуть не на взвизги губной гармоники, отзывались острыми тонами бьющегося хрусталя. Опираясь на рокочущее континуто органа, на басы такие глухие, что казались дошедшими до самых основ — словно подземными, — высокие голоса брызнули речитативом первого стиха: De profundis ad te clamavi, Do[23], — остановились в изнеможении и, как тяжкую слезу, выронили последние слоги: mine[24]; а затем эти отроческие голоса, готовые сломаться, выпели второй стих псалма: Domine exaudi vocem meam[25], и вторая половина последнего слова опять осталась подвешенной, но не сорвалась, не упала на землю, не ударилась о нее, подобно капле, а словно из последних сил поднялась и взметнула к небу кличтоски развоплощенной души, нагой в слезах поверженной перед своим Господом. И пауза — и орган, с аккомпанементом двух контрабасов, завыл, унося в своем потоке все голоса: баритоны, басы, тенора, — а оболочкой служил только лишь остриям альтов, но те уж звучали открытым звуком, в полную силу, и все равно их пронизывал, протыкал полет дискантов, похожих на хрустальные стрелочки. Затем новая пауза, и вновь застонали стихи псалма, выброшенные органом, как трамплином, в тишину храма. Внимательно вслушиваясь, пытаясь разложить их на части, Дюрталь, закрыв глаза, видел, как сперва они летят почти горизонтально, затем понемногу набирают высоту, а под конец поднимаются прямо вверх, встают вертикально, с плачем колеблются — и обламываются. Но внезапно, в конце, когда прозвучал антифон: Etlux perpetua luceat eis[26], детские голоса порвались, как тонкая ткань, превратившись в отчаянный крик, в остро отточенный взрыд, и задрожали на слове eis, которое так и осталось висеть в пустоте. Детские голоса, натянутые до предела, острые, ясные, проливали во мрак песнопения лучи рассвета; сливая чистейшие шелковистые звуки с гулом меди звенящей, впрыскивая струйки серебристых родников в темные потоки вод, извергаемые взрослыми певчими, они до невыносимости затачивали стенания, до нестерпимой горечи доводили соленые слезы, но они же внушали и какую-то хранительную ласку, бальзамическую прохладу, очистительную подмогу; от них мерцали во тьме те же проблески, что от благовеста на рассвете; забегая вперед пророческого текста, посреди его ночи они рисовали в бледных лучах своих звуков образ ступающей к нам заступницы — Приснодевы… Несравненно прекрасен De profundis на этот напев! Это возвышенное прошение, разрешающееся в рыданиях в тот миг, когда душа голосов переходит границы человеческого, прошлось по нервам Дюрталя, трещинками пробежало по сердцу. Затем ему захотелось отвлечься, вдуматься прежде всего в смысл угрюмой жалобы, в которой падшая тварь, в слезах, стеная, взывает к своему Богу. Приходил ему на память вопль третьего стиха, где человек, в отчаянии молящий из бездны Спасителя о милости, зная, что он отныне услышан, со стыдом и смущением затихает и не знает, что сказать еще. Приготовленные оправдания кажутся ему пустыми, обдуманные до тонкостей доводы представляются ничтожными, и тогда он лепечет: «Аще назриши беззакония, Господи, Господи, кто постоит?» Как жаль, размышлял Дюрталь, что этот псалом, в первых стихах столь великолепно воспевающий безнадежную скорбь всего человечества, в следующих становится личным высказыванием царя Давида. Да, продолжал он свою мысль, я знаю, что его жалобы следует понимать в символическом смысле, исходить из того, что этот деспот говорит о Божьем деле, как о своем, что враги его — это нечестивцы и неверующие, что сам он, как говорят Учителя Церкви, служит прообразом Христа, — все равно его воспоминания о плотском невоздержании, его надменные поучения своему неисправимому народу сужают размах псалма. По счастью, мелодия живет отдельно от текста, живет собственной жизнью, не замыкается в распрях племени, а распространяется по всей земле, воспевая скорби наступающего времени так же, как времени настоящего и ушедших эпох. De profundis закончился; после недолгой тишины детский хор начал какой-то мотет XVIII века, но Дюрталя не особенно интересовала гуманистическая музыка в церкви. Гораздо более замечательным, нежели самые прославленные произведения театральной и светской музыки, ему казались старые распевы — монотонная, обнаженная мелодия, воздушная, но с тем вместе и замогильная: этот торжественный клич скорби и восторженный — радости, эти грандиозные гимны человеческой веры, некогда пробившиеся в храмах, подобно неудержимым гейзерам, как будто из-под самых подножий романских столпов. Какая музыка, сколь угодно великолепная, или нежная, или печальная, может сравниться с многоголосым De Profundis, с торжественностью Magnificat[27], с величавой энергией Lauda Sion[28], с восторгом Salve Regina[29], со скорбью Miserere[30] и Stabat Mater[31] со всемогущим величием Te Deum[32]? Гениальные художники силились выразить эти священные тексты. Виттория, Жоскен Депре, Палестрина, Орландо Лассо,{3} Гендель, Бах, Гайдн написали чудные вещи; нередко веяние мистики, дуновение самих безвозвратно ушедших Средних веков даже возносило их ввысь — и все же в их сочинениях всегда оставалось нечто мишурное; как бы ни было, эта музыка горделива перед смиренной возвышенностью, трезвым блистанием григорианского пения — а после них все вовсе прекратилось, потому что композиторы стали неверующими. Впрочем, в новое время тоже можно упомянуть кое-какие отрывки церковной музыки: Лесюёра,{4} Вагнера, Берлиоза, Сезара Франка, — но и в них чувствуется, что в уголок сочинения забился художник — художник, желающий выставить напоказ свое умение, помышляющий о своей славе, а вследствие этого забывающий о Боге. Перед нами выступают великие люди — но люди, с их слабостями, с неотчуждаемым их тщеславием и даже с чувственными пороками. Литургическое пение, почти все сотворенное безымянными авторами за стенами обителей, шло от источника неземного, без единой прожилки греха, без единого стежка искусства. В нем воспаряли души, уже освободившиеся от рабства плоти, выплески вались надмирная любовь и чистейшая радость, и это был, кроме того, язык Церкви, музыкальное Евангелие, доступное, как и само Евангелие, величайшим знатокам и величайшим простецам. Так! Вернейшее доказательство истины католичества — это искусство, им созданное, искусство, никем доныне не превзойденное! Это примитивы в живописи и скульптуре, мистики в поэзии и прозе, в музыке — древние распевы, в архитектуре — готика и романский стиль. Все это было положено на один алтарь и горело единым жертвенным огнем; все это сплеталось в прядь нераздельных мыслей: почитать, поклоняться, служить Искупителю, приносить Ему неопороченный залог Его даров, отраженный, как в верном зеркале, в душе Его созданий. Тогда, в ту дивную эпоху Средневековья, когда напитанное сосцами Церкви искусство опережало смерть, устремлялось к самому порогу Вечности, к Богу, тогда в первый и, быть может, в последний раз человечество угадало, смутно приметило представление о божественном, о небесном устроении. От искусства к искусству эти представления перекликались и передавались. У Богородиц были миндалевидные лица, вытянутые, как стрельчатые окна, что создавала готика, освещая таинственные реликвии своих храмов аскетическим, девственным светом. На примитивных картинах лица святых жен становились прозрачными, как воск свещей пасхальных, а волосы белесыми, как пахучие крохи настоящего ладана; выпуклости на отроческом стане едва заметны, лбы округлы, словно стеклянные дароносицы, пальцы подобны веретенам, тела вытянуты, как тонкие колонны. И красота их в каком-то смысле становится литургической. Они живут будто бы в пламенеющих отблесках от витражей: от огней многоцветных розеток — диски их нимбов, голубоватые искры глаз, потухшие угли губ; их одежды вторят цветам оставленных в небрежении тел: те же линялые, лишенные блеска тона переносятся и на ткань, так что их матовость по контрасту утверждает свет серафического взора, скорбную чистоту улыбки, дышащую, следуя праздничной минее, лилейным ароматом Песни Песней или покаянной смирной псалмов. Тогда умы всех художников были скреплены, а души сплавлены. Живописцы и зодчие жили одним идеалом красоты; вместе они приводили храмы со святыней к нерушимому единству, но только, вопреки общему обыкновению, обделывали камень по оправе, мощи по раке. Но и песнопения, певшиеся в Церкви, тесным родством были связаны с холстами примитивных художников. Разве в репонсах Виттории о вечном мраке не то же настроение, не то же миросозерцание, что в «Погребении Христовом» — шедевре Квентина Метсю?{5} Разве в Regina Coeli[33] фламандского музыканта Лассо — не та же ясная вера, не та же причудливо-простодушная стать, что в иных заалтарных статуях или в церковных картинах старого Брейгеля? Наконец, разве в Miserere Жоскена Депре, капельмейстера Людовика XII, не так же, как в творениях бургундских и фламандских примитивов, размах кисти несколько робок, формы тонки, просты, но жестковаты; зато не одна ли там и там поистине мистическая сладость, разве не по-настоящему трогательна неловкость их очертаний? У всех этих произведений один идеал, и везде он, разными средствами, достигается. Согласие мелодии церковных распевов с архитектурой тоже бесспорно. Иногда изгиб напева подобен сумрачному входу в романский храм, задумчив и загадочен, словно круглая арка. Так, медленно, будто высокие закопченные столпы, подпирающие кирпичные своды, вздымается De profundis: как они, медлителен и темен, только во тьме напрягается, только в унылом сумраке подземелья движется. Иногда же, напротив, григорианское пение как будто берет у готики лопасти арок с каменными цветами, расщепленные стрелки, ажурные люкарны,{6} легкие и устойчивые, как детские голоса, кружева. Тогда оно переходит от крайности к крайности: от глубины отчаяния к бесконечной радости. Бывает, что древняя церковная и порожденная ею новая христианская музыка, вслед за скульптурой, покоряются народному веселью, сближают себя с невинными забавами, со смешными статуями на старых папертях. Тогда в ней, например в рождественском песнопении Adeste fideles[34] или в пасхальном O filii et filiae[35], возникают площадные плясовые ритмы; гимны становятся маленькими и привычными, как домашнее Евангелие, служат скромным нуждам бедняков, дают им легко ложащиеся на память праздничные мотивы, сажают простые души на колесницу мелодий и уносят в светлые дали пасть ниц к стопам всемилостивого Господа Иисуса. Древний распев Церковью создан и ею взращен в певческих школах Средних веков; это воздушная, подвижная парафраза неподвижной архитектоники соборов; это нематериальное, текучее толкование живописи примитивов, это окрыленное выражение и в то же время строго-складчатое облачение латинских гимнов, некогда, в незапамятные времена, вознесшихся в монастырских стенах. А теперь его переделали, перекроили, заглушили пошлым громом органов и поют как Бог на душу положит. Большинство хористов, как нарочно, сразу начинает булькать горлом, словно вода урчит по трубе; другие забавляются, вереща, как трещотка, ухая, как копер, вскрикивая, как журавли. Но непроницаемая красота мелодии сохраняется, не замечая клекота беспомощных певчих. Внезапно наступившая в церкви тишина встряхнула Дюрталя. Он поднялся и огляделся: в его углу не было никого, только два бедняка спали, положив ноги на перекладины, скреплявшие стулья, и уронив голову на колени. Немного подавшись вперед, Дюрталь увидел, как в темной капелле рубином блещет ночной фонарь в красном стекле. Ни звука: лишь вдалеке мерные шаги обходившего церковь служки. Дюрталь сел обратно. Вся прелесть уединенного места, в котором стоял запах теплящегося воска, смешанный с уже выветрившимся воспоминанием о дыме кадильниц, разом сошла на нет. По первым же аккордам органа, взятым во всех регистрах, Дюрталь узнал Dies irae[36], полный отчаяния средневековый гимн. Он непроизвольно наклонил голову и стал слушать. Это уже не та смиренная мольба, что в De profundis: не страдание, верящее, что будет услышано, различающее светлую тропку, по которой идет в ночи, не та молитва, что еще хранит довольно надежды и не трепещет, но крик совершенной безнадежности и страха. Поистине гнев Божий в буре дышал в этих строках. Они, казалось, обращены не к Богу милостивому, не к всеблагому Сыну, а к неумолимому Отцу, к Тому, Кто в изображении Ветхого Завета дрожит от ярости и насилу умиротворяется жертвенным дымом, несказуемыми чарами всесожжений. В песнопении он виделся еще страшнее: грозил наслать потоки обезумевших вод, сокрушить горы, растворить ударами молний хляби небесные. Сама земля испускала крик ужаса. Хрустальный голос, чистый детский голос в тишине храма жалобно возвещал наступление катаклизма; потом весь хор пел новые строфы, в которых при душераздирающих звуках труб неумытный Судия приходил очистить огнем гной мира сего. Затем наступал черед глубокого, гулкого, словно из погреба церкви исходящего баса, и с ним еще страшнее казался ужас этих пророчеств, еще ошеломительней сила этих угроз. После краткого ответа хора альт повторял их, выделял отчетливей, но когда перечень кар и наказаний в жутких стихах исчерпался — тогда тонким-тонким фальцетом маленького мальчика впервые звучало имя Иисуса Христа, и оно становилось просветом среди смерчей; весь мир, задыхаясь, всеми голосами хора твердил нескончаемые мольбы Спасителю о милости и прощении, заклинал очистить свои грехи, как некогда Он отпустил их благоразумному разбойнику и кающейся Магдалине. Но в скорбно-упрямой мелодии вновь и вновь бушевала буря, захлестывая своими валами увиденные сквозь тучи небесные прибрежья, и солисты, перебиваемые стонущими рефренами хора, на разные голоса по-прежнему друг за другом воплощали каждый свой особенный стыд, каждый ему лишь присущий род самозабвенного ужаса, каждый — новый этап рыданий. В конце же все голоса, перемешавшись, все еще смятенные, погнали по широкому разливу органных звуков превеликое множество обломков человеческих скорбей, спасательные круги молитв и слез, а потом упали, изможденные, парализованные ужасом, застонали, подобно всхлипам ребенка, уткнувшегося лицом в ладони, тихонько пробормотали Dona eis requiem[37] и, совсем обессилев, закончили таким жалобным «аминь», что он едва прошелестел, как выдох, поверх рыданий органа. Какой человек мог вообразить такое отчаянье, представить в уме такие катастрофы? И Дюрталь сам себе ответил: никакой. Ведь истинная правда, что все ухищрения отыскать автора этой музыки и этих стихов оказались тщетными. Их приписывали Франджипани, Фоме Челанскому, святому Бернарду{7} и множеству других, но они остались безымянными: просто порождением потоков скорбей своего времени. Dies irae, казалось, сперва упал в исступленные души людей XI века, как семя отчаяния, затем пустил в ней росток и медленно прорастал, питаясь соками уныния, орошаясь дождями слез. Наконец он дорос до того, что явился в полной зрелости, причем, быть может, ему чересчур обрубили сучья, ибо известны ранние редакции с исчезнувшей впоследствии строфой, рисовавшей великолепно-варварскую картину Земли, вращающейся, изрыгая пламя, созвездий, разлетающихся от взрыва, неба, складывающегося пополам, как книга. «Все это не значит, — подумал наконец Дюрталь, — что трехстишия Dies irae, сотканные из мрака и холода, с чеканными рифмами, перекликающимися подобно громкому эху, что суровое полотно его музыки, облекающее текст, словно саван, и проявляющее жесткость его черт, не изумительны. Но меня этот стесненный напев, с такой силой передающий глубину и силу гимна, эта мелодия, которая может, не меняясь сама, выражать то молитву, то ужас, меньше волнует и поражает, чем De profundis, хотя там нет ни такого размаха, ни такой пронзительности. Но когда этот псалом поют на три голоса в октаву, он становится удушливо-землистым. Он исходит из самого гроба, a Dies irae — всего лишь от порога усыпальницы. Первый — голос самого покойника, второй звучит голосами живущих, его погребающих, а покойник плачет, но и набирается смелости в то время, когда погребающие его уже отчаялись. В конечном счете текст Dies irae мне нравится больше, чем De profundis, а мелодия De profundis больше, чем Dies irae. Надо и то сказать, — заключил Дюрталь, — что здесь средневековый гимн обновлен, поют его театрально, без необходимой величавой поступи унисона. А вот это, между прочим, совсем неинтересно, подумал он, отвлекшись от размышлений, чтобы послушать новую музыкальную пьесу, которую тянул теперь хор. О, кто же, наконец, решится запретить эту игривую мистику, эти источники вод сливных, открытые Гуно? Решительно, для капельмейстеров, допускающих в храме музыкальный онанизм, следовало бы ввести строжайшие наказания! Вот, кстати, точно так же сегодня утром было в Мадлен,{8} где я случайно попал на бесконечное отпевание старого банкира: там играли военный марш под аккомпанемент виолончелей и скрипок, колоколов и туб — светский героический марш, чтобы почтить кончину и разложение финансиста!» И, не слушая больше пение в Сен-Сюльписе, Дюрталь перенесся мыслями в Мадлен, снова во весь опор уносясь в мечтаниях… В самом деле, говорил он себе: ежедневно приглашая Христа снизойти в церковь, у которой на фасаде вообще нет креста, а внутренность похожа на большую залу Континенталя или Лувра, духовенство уподобляет Его туристу. Но как же дать священникам понять, что безобразие — святотатство, что ничто не сравнится со страшной греховностью этой мешанины греческого с римским, с этими восьмиугольными картинами, с этим плоским потолком, окруженным овальными слуховыми окнами, через которые в любую погоду текут скупые лучи дождливого дня, с этим пошленьким алтарем, изображающим хоровод ангелочков, в пристойном исступленье неподвижно отплясывающих мраморный ригодон в честь Приснодевы? Между тем в часы погребения, когда открывается дверь и гроб с покойником вдвигается в светлый проем, даже в Мадлен все совсем по-другому. Литургия, как неземной антисептик, как нерукотворный фенол, очищает, дезинфицирует нечестивое уродство этого места. Перебирая утренние воспоминания, Дюрталь, закрыв глаза, увидел перед собой в глубине полукруглой апсиды процессию красных и черных облачений, белых стихарей, сходившихся перед алтарем, вместе спускавшихся по ступеням, вперемежку подходивших к катафалку, вновь расходившихся по обе стороны гроба и опять сходившихся, смешиваясь в широком проходе между стульями. Это медлительное немое шествие, которое предваряли статные служки в несравненных траурных одеждах, со шпагами, в черных генеральских эполетах, двигалось, осененное крестом, перед трупом, покоившимся на салазках; свет из-под крыши смешивался с огнем свечей, зажженных вокруг катафалка и на алтаре, и в этом освещении тонкие свечки в руках священников вдали исчезали из вида: казалось, люди идут просто с поднятыми руками, указывая на какие-то звездочки, что шествуют вместе с ними, мерцая над их головами. Наконец, когда священство обступило гроб, из жертвенника громыхнул De profundis, запетый невидимыми певцами. И это было хорошо, вспоминал про себя Дюрталь. Детские голоса в Мадлен писклявые, слабенькие, а басы мутноватые и перезрелые — это, конечно, не певчие Сен-Сюльпис, и все равно это было роскошно. А какой момент — причащение священника, когда из завываний хора над покойником вдруг вырывается тенор, выпуская на волю великолепное моление древнего распева: Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis![38] Такое чувство, как будто после всех воздыханий De profundis и Dies irae сюда, на алтарь, нисходит Бог, принося утешение, утверждая законность высокой гордости и доверенности этой мелодической фразы, которая без тревог и без плача взывает к Христу. Тут месса кончилась, предстоятель ушел, и в тот самый момент, когда внесли тело, все духовенство со служками впереди направилось к гробу, а один из священников, в полном облачении, прочел могучие отходные молитвы. После этого литургия становится еще возвышенней и восхитительней. Церковь, посредница между грешником и Судией, устами своего пастыря умоляет Бога все оставить несчастной душе: «Господи, не вниди в суд с рабом твоим…» Когда же весь хор вместе с органом выдыхает «аминь», среди тишины поднимается голос, говорящий от имени усопшего: Libera me…[39], — и хор за ним продолжает древнее песнопение X века. Так же как и в Dies irae, куда перенесена часть этого слезного моления, в нем пламенеет Страшный суд, и неумолимые ответы являют покойному, что поистине есть чего страшиться, что, когда прейдет время, в громовой канонаде явится Судия карать мир. И священник широкими шагами обошел вокруг катафалка, окаймил его перламутром святой воды, окадил — окутал ладаном несчастную стенающую душу, взял ее к себе, покрыл ее кровом епитрахили и опять взял слово, чтобы Господь после всех трудов и скорбей дал окаянной уснуть в бесконечном покое вдали от шума земного. Нет, никогда, ни в какой другой религии человеку не доверено столь милостивой миссии, столь величавой роли. Вознесенный своим саном над всеми людьми, превращенный хиротонией почти в божество, священник может, пока земля исходит стоном или погружается в безмолвие, подойти к краю бездны и предстать за душу, окропленную Церковью во младенчестве, хоть эта душа, конечно, забыла о ней и, может быть, до самой смерти ее гнала. И Церковь никогда не падала духом, делая это. Стоя перед месивом из плоти, упакованным в ящик, она видела в нем помойку для души и восклицала: «Господи, от врат адовых изми ю». Но в конце отпевания, когда кортеж поворачивается и направляется к ризнице, появлялось впечатление, что она тоже встревожена. Казалось, наступает мгновенье, когда она оценивает все дурное, сделанное мертвецом при жизни, сомневается, что молитва ее дойдет, и это сомнение, хотя его и не было в словах, звучало в последнем «аминь», которое в Мадлен детский хор выпевал шепотом. Робкое, отдаленное, жалобное, нежное, это «аминь» говорило: мы сделали что могли, но… И в траурной тишине, повисшей после ухода священства из храма, оставалась только низкая действительность — пустая скорлупа, вырванная у людей из рук и брошенная в повозку, да еще отбросы мясной лавки, которые поутру унесут и омылят в салотопне. А если наряду с этими тягостными моленьями, с этим велеречивым прощаньем вспомнить брачную мессу, до чего же все иначе! — думал дальше Дюрталь. Там Церковь обезоружена, музыка для литургии почти никакая. Приходится уж играть марши всякого Мендельсона, занимать веселья у безбожников, чтобы воспеть краткую и пустую телесную радость. Можно ли себе представить (хотя так и делают), чтобы песнь Богородицы величала радостное нетерпение девицы, ожидающей, как сегодня вечером после обеда ее испортит некий господин? Вообразимо ли, чтобы «Te Deum» воспевал блаженство мужчины, который нынче на постели изнасилует женщину потому только, что не нашел другого способа отнять у нее приданое? Впрочем, ведь и погребальная церемония стала теперь всего лишь доходной повседневностью, официальной рутиной; молитвы машинально ворочают, словно лебедкой тянут, не думая о них. Органист, играя, вспоминает домашние дела, перебирает в памяти свои огорчения; человек, мехами нагнетающий воздух в трубы, думает, сколько же с него сойдет сегодня потов; тенора и басы рассчитывают эффекты и любуются собой в несколько потускневшем зеркале своих голосов; мальчики из хора предвкушают, как порезвятся после мессы; при том и те, и другие, и третьи поют по-латыни, ни слова не понимая, да к тому же сокращают текст: например, из Dies irae у них выброшены некоторые строфы. И так далее: церковная прислуга высчитывает выручку от покойника, и даже сам священник, утомленный молитвами, которые читал уже тысячу раз, торопится к обеду и ускоряет службу, молится механически одними губами, а присутствующие тоже хотят, чтобы служба, которой они и не слушают, закончилась поскорее: тогда они пожмут руки родным мертвеца и разойдутся. Невнимание полнейшее, скука глубочайшая. А ведь страшно то, что стоит там, на катафалке, то, что дожидается погребения там, в церкви: это же пустой, навеки оставленный хлев тела, и хлев этот уже рушится. Вонючий навоз, исходящие газы, гниющее мясо — вот и все, что осталось. «А что будет с душой теперь, когда жизни больше нет и начинается главное? Об этом никто не помышляет: даже семья, утомленная долгой службой, погруженная в свое горе и жалеющая, в общем-то, лишь о видимом присутствии того, кого потеряли; никто, — размышлял Дюрталь, — кроме меня и еще немногих знатоков, которые все вместе бывают поражены Dies irae и Libera, слова и смысл которых понимают! И так вот, внешним звучанием слов, без помощи сосредоточения, даже без опоры на рассудок делает свое дело Церковь. И в этом чудо ее литургии, власть ее слова, непостижимое вечное возрождение речений, сложенных истекшими временами, молитвословий, выделанных исчезнувшими столетиями! Ничего не осталось, все, что возведено в эти века, прошло. А эти периоды, произносимые безразличными голосами, исходящие от пустых сердец, несмотря ни на что, заступничают, рыдают, умоляют, действуя своей нематериальной мощью, талисманической силой, неотчуждаемой красотой, всемогущей достоверностью веры. И это Средневековье завещало их нам, помогая, если возможно, спасти душу от хари современности — мертвой хари! Теперь, — подумал под конец Дюрталь, — в Париже ничего чистого и не осталось, кроме почти одинаковых церемоний погребения и монашеского пострига. Беда лишь в том, что, если покойник был важный, тут как тут является похоронное бюро. И уж оно-то вытащат такое, что вздрогнешь: жуткие посеребренные статуи Богородицы, цинковые посудины, в которых пылают зеленые пуншевые чаши, жестяные канделябры с ножками, похожими на пушки, задранные вверх жерлом, на которых торчат опрокинутые на спину пауки, зажавшие меж лапок горящие свечи, — словом, всяческий похоронный хлам наполеоновских времен, украшенный чеканными патерами, акантовыми листьями, песочными часами с крылышками, меандрами и кессонами! И та еще беда, что для последних штрихов торжественной обстановки играют Массне и Дюбуа, Бенжамена Годара и Видора,{9} а то и что похуже: какие-то поповские плясовые, мистические пьяные песни, как поют женщины на майских собраниях духовных братств! И наконец, — увы! — бушующий орган и скорбно-величавые распевы теперь можно услышать лишь на проводах благотворителей. Бедным не полагается ничего — ни органа, ни хора: пригоршня молитв, три взмаха кропила, и покойник готов, его уносят. А ведь Церковь знает, что труп богача воняет так же, как труп бедняка, душа же еще больше; знает, но сбывает отпущение грехов по дешевке, уцененные мессы; она, как и все, разложена жаждой наживы!» Дюрталь ненадолго оторвался от размышлений, а потом подумал: и все-таки не стоит слишком плохо отзываться о пышных похоронах: ведь им благодаря, в конце концов, я имею возможность слушать восхитительную похоронную литургию. Может быть, эти люди ничего доброго не совершили при жизни, но после смерти, сами того не зная, хоть кому-то делают доброе дело… Шум вокруг вернул его в Сен-Сюльпис. Певчие собрались уходить, храм закрывался. Надо было бы попробовать помолиться, подумал Дюрталь, чем так по-пустому мечтать, сидя на стуле, но как молиться? Я вовсе этого не хочу; я заворожен католичеством, его запахом воска и ладана; я брожу вокруг него, тронутый до слез его молитвами, проникнутый до мозга костей его причитаниями и песнопениями. Мне совершенно опротивела моя жизнь, я очень устал от себя, но отсюда еще так далеко до другой жизни! И пожалуй, вот еще что: в храме я взволнован, но, выйдя из него, сразу становлюсь холоден и сух. «В сущности, — заключил он, следуя к дверям вместе с последними посетителями, которых подгонял служка, — в сущности, мое сердце задубело и закоптилось в разгуле. Ни на что я уже не годен».II
Как же он возвратился к католической вере? Как случилось это? Вот как отвечал себе Дюрталь: не знаю; знаю только, что много лет был неверующим и вдруг уверовал. Погоди! — думал он. — Попробую все-таки порассуждать: предмет темный, но не кроется ли там где-нибудь и внятный смысл? Если в общем, то мое удивление связано с предвзятыми идеями о том, как происходят обращения. Я слыхал, что это бывает внезапным, мощным потрясением, громовым ударом, а бывает, что вера в конце концов взрывается в долговременно и умело подведенном подкопе. Совершенно очевидно, что обращение может совершиться и тем, и другим способом — ведь Бог творит что хочет, — но должен существовать и третий способ, самый обыкновенный: им-то и воспользовался Творец в моем случае. И состоит этот способ в чем-то неопределенном: примерно так желудок переваривает пищу, а человеку это незаметно. Не было у меня пути в Дамаск,{10} из ряда вон выходящего события; ничего не произошло, но в одно прекрасное утро ты просыпаешься, а это случилось, неизвестно как и почему. Так-то так, но и этот вариант, в общем-то, сильно напоминает взрыв мины: ведь без глубокого подкопа она не взорвется. Или нет — потому что в этом случае видно, как делается дело, понятно, какие препятствия стоят на пути; тогда я мог бы рассуждать, проследить, как бежал огонек по шнуру, а сейчас не могу. Я взлетел на воздух внезапно, без предупреждения, даже не догадываясь, что под меня так упорно подкапывались. Но тем более это не удар молнии: разве что я соглашусь, будто бывает молния тайная и немая, ласковая, диковинная… И даже так не может быть, ибо это внезапное душевное потрясение почти всегда происходит вследствие несчастья или преступления — словом, какого-то известного события. Нет, нет; только одно, кажется, ясно: надо мной совершился благодатный Божий промысел. Что же тогда: нет никакой психологии обращения? Полное впечатление, что так и есть! Ведь я тщетно пытаюсь восстановить этапы того пути, которым прошел. Конечно, кое-где на этой дороге я могу рассмотреть кое-какие вехи: любовь к искусству, наследственность, утомление от жизни… Даже могу припомнить позабытые детские впечатления, потаенные лабиринты идей, возникавших, когда я заходил в церковь, но вот чего никак не могу: связать воедино эти нити, собрать их в единую связку; вот чего никак не пойму: внезапной и беззвучной вспышки света, совершившейся во мне. Когда пытаюсь объяснить себе, как именно я вчера был неверующим, а сегодня, в единую ночь, стал верующим, вот тут-то я ничего и не нахожу: момент Божьего дела прошел, не оставив следов. Он ненадолго прервал свои размышления, потом продолжил: Совершенно понятно, что в таких случаях на нас действует Дева Мария: Она пропитывает нам душу и предает в руки Сына Своего, — но у нее такие тонкие, невесомые, ласковые персты, что душа, которую они перевернули, не почувствовала ничего. Однако если станций и остановок моего пути к обращению я не знаю, то предположить хотя бы, каковы мотивы, которые после долгой безразличной жизни привели меня к церковным пределам, водили вокруг да около и, наконец, подтолкнули к самому входу, могу. Причин три, без околичностей говорил себе Дюрталь. Прежде всего, наследие благочестивой семьи, разбежавшейся по монастырям. Из детства он вспоминал кузин и теток в монастырских комнатах для посетителей: важных и смиренных, белых, как незабудки. Он робел от их тихих голосов, ему становилось не по себе, когда они на него смотрели и спрашивали, хорошо ли он себя ведет. Он пугался, прятался к матери в юбку, содрогался, когда, уходя, надобно было подставить лоб под бесцветные губы, вытерпеть дыхание холодного поцелуя. Теперь, за далью лет, он припоминал эти посещения, что портили ему детство, и они уже казались ему изумительными. Память наделяла их всей полнотой монастырской поэзии; нагие стены комнат она пропитывала слабым запахом воска и дерева; виделись Дюрталю и монастырские сады, благоухавшие горько-соленым запахом букса, обсаженные большими деревьями, увитые виноградом с никогда не поспевавшими зелеными ягодами, обставленные скамейками, на источенном камне которых виднелись старые дождевые пятна. Во множестве подробностей вспоминались ему эти мирные липовые аллеи, дорожки с черными кружевом от ветвей на земле, по которым он бегал. Об этих садах, которые казались ему тем больше, чем старше он становился, он сохранял туманное воспоминание, где, перепутавшись, трепетали образы старого епископского парка и фруктового сада на севере Франции, который даже под жарким солнцем оставался сыроват. Не было ничего удивительного, что эти ощущения, изменившиеся от времени, впрыснули в него капельки религиозных идей, и когда в мечтах он приукрашивал их, эти идеи проникали глубже. Может быть, тридцать лет все это исподволь бродило в нем, а нынче тесто поднялось. Но еще действенней должны были быть две других известных ему причины. Вот они: отвращение от жизни и страсть к искусству; отвращение усугублялось одиночеством и праздностью Дюрталя. Некогда его дружба кочевала по воле случайных встреч, душа нарывалась на связи с людьми совершенно чуждыми, и вот, после долгих бессмысленных скитаний, наконец осела на месте. У него были близкие друзья: доктор Дез Эрми — врач, одержимый демономанией, — и звонарь в Сен-Сюльпис бретонец Каре. Это были привязанности совсем не того рода, что знал он прежде: не поверхностные, не фасадные; они были глубоки и объемны, основаны на единомыслии, на нерасторжимой смычке душ, но вдруг оборвались и они. С разницей в два месяца Дез Эрми и Каре умерли: одного унесла тифозная горячка, другого простуда, свалившая Каре после того, как он весь вечер звонил на церковной башне. То и другое для Дюрталя было страшным ударом. Жизнь его неприкаянная сорвалась с последних якорей и понеслась по волнам; он метался без курса, отдавая себе отчет, что это окончательный срыв, что он уже не в том возрасте, когда можно опять собраться. Так он и жил — один, в своем углу, со своими книгами; когда он был занят, когда сочинял, то стойко переносил одиночество, когда же оставался праздным, оно становилось невыносимо. Целыми днями, забившись в кресло, Дюрталь уносился в мечтах, и вот тогда-то особенно гуляли в нем навязчивые идеи; рано или поздно за его закрытыми веками начинали разыгрываться целые феерии, всегда одни и те же. В его сознании при звуках псалмов плясали нагие женщины; задыхаясь и злясь, он оправлялся от этих видений; если бы тут случился священник, он был готов со слезами пасть к его ногам, а если бы в его комнате оказалась девка, тут же предался бы наигнуснейшим гадостям. «Так прогоню эти бредни работой!» — кричал он в мыслях своих. Но над чем работать? Выпустив в свет биографию Жиля де Рэ,{11} которая, кажется, заинтересовала кое-каких художников, он остался без сюжета: сидел в засаде и выжидал новую книгу. Не признавая в искусстве середины, он перепрыгивал из крайности в крайность; в повествованье о маршале де Рэ Дюрталь перешерстил весь средневековый сатанизм; теперь ему казалась интересной только жизнь какой-нибудь святой. Несколько строк, на которые он наткнулся в сочинениях Гёрреса и Рибе о мистике, навели его на след блаженной Лидвины;{12} теперь следовало найти о ней новые сведения. Положим даже, что он их раскопает, но сможет ли раскрыть ее житие? Он полагал, что нет, и это мнение покоилось на вполне убедительных, как казалось ему, основаниях. Агиография — ныне забытая отрасль искусства; с ней случилось то же, что с деревянной скульптурой и с миниатюрами древних служебников. В наши дни ею занимаются одни лишь попы да ктиторы — порученцы казенного стиля; кажется, в их писаниях на ломовой подводе слога едва ухватишь соломинку мысли. В их руках житийная проза превратилась в собрание общих мест пустосвятства, статуэтками в духе Фрок-Робера, хромолитографиями в духе Буасса, перенесенными в книги. Так что путь был свободен, и поначалу казалось, что катить по нему легко, но, чтоб передать все очарованье легенд, нужен наивный язык отошедших столетий, чистые словеса опочивших эпох. Как ныне выразить страдальческую суть и непорочный аромат «Золотой легенды» Иакова Ворагинского?{13} Как соединить в одном невинном букете печальные цветы, что растили монахи в своих вертоградах, если агиография — родная сестра варварского и прелестного искусства миниатюристов и витражистов, пылкой и целомудренной живописи примитивов? А ведь нечего и думать сочинить прилежную имитацию таких произведений, пытаться равнодушно им подражать! Тогда остается выяснить, можно ли средствами современного искусства очертить смиренно-возвышенный облик святой жены, а это было по меньшей мере сомнительно, потому что уклонение от действительной простоты, слишком хитроумно раскрашенный стиль, ухищрения старательного рисунка и фальшь наляпанного колорита наверняка превратит блаженную в каботинку.{14} Получится не святая, но актриса, умело, а то и неумело, сыгравшая роль святой; и чары сразу рассеются, чудеса покажутся театральными эффектами, каждая сцена нелепой. А еще, еще… да! желая извлечь свою героиню из могилы, дать ей новую жизнь в своем сочинении, надо иметь такую веру, чтоб была поистине живой, надо верить, что героиня — святая. Что-что, а это совершенно непреложно. Вот сам Гюстав Флобер написал замечательную повесть по мотивам легенды о святом Юлиане Милостивце.{15} Строки его проходят перед вами в роскошном правильном порядке; течет превосходный язык, чья видимая простота создана сложнейшими приемами немыслимого искусства. Все есть в этой повести, кроме одной черты, и без нее-то она не становится настоящим шедевром: с этим сюжетом под великолепными фразами должен гореть огонь, а его-то и нет; нет возгласа изнемогающей любви, дара сверхчеловеческой оставленности, нет духа мистики! А вот «Лики святых» Элло{16} — это стоит прочесть. Вера бьет ключом из каждого изображенья, восторг изливается в каждой главе, неожиданные сближенья закладывают между строк неисчерпаемые цистерны для мысли. Но что же? Элло до того не художник, что самые дивные легенды рассыпаются у него в руках, едва он их коснется; скудный слог обедняет и чудеса, делает их пресными. Чтобы изъять эту книгу из разряда бесцветных, мертвых трудов — искусства-то и не хватает! Пример этих двоих — не было двух более противоположных друг другу писателей, и меж тем один из них не мог сделать совершенной легенду о святом Юлиане, потому что ему не хватало веры, а другой не достиг совершенства из-за невосполнимой нехватки мастерства — совсем обескуражил Дюрталя. Нужно было бы стать тем и другим вместе, при том оставаясь собой, думал он, сидя в кресле. А иначе зачем и браться за такое дело? Тогда уж лучше молчать; и он в отчаянии хмурил брови. Тогда в нем быстро возрастала ненависть к своей пустынной жизни; он вновь и вновь задумывался: чего же ради Провидение так мучает все потомство первых осужденных Богом? Ответа он не находил, но должен был хотя бы признать, что Церковь подбирает весь человеческий мусор из-под развалин, принимает потерпевших крушение, возвращает на родину, дает им надежное жилище на остаток дней. Подобно Шопенгауэру, от которого Дюрталь некогда с ума сходил (но теперь ему надоели его инвентарные списки, постыли высушенные гербарии), подобно Шопенгауэру, Церковь не завлекала человека, не сбивала его с толку, воспевая достоинства жизни: она знала, что жизнь подла. Во всех богодухновенных книгах она вопияла об ужасе бытия, оплакивала непременную повинность существования. Экклесиаст, Иисус Сирах, книга Иова, Плач Иеремии каждой строчкой свидетельствуют эту скорбь. Средние века в «Подражании Христу» тоже прокляли эту жизнь,{17} во весь голос воззвав к смерти. Церковь еще ясней Шопенгауэра объявила, что на этом свете нечего желать, нечего ожидать, но там, где философ заканчивал свое следствие, она шла дальше, переходила чувственные границы, обнажала цель, указывала на средства. Да ведь если подумать, размышлял Дюрталь, хваленый довод Шопенгауэра против существования Творца — ничтожество и несправедливость мира — не так уж, разобравшись хорошенько, неотразим: ведь мир не таков, каким его создал Бог, а таков, каким его сделал человек. Прежде чем обвинять небеса в наших бедах, следовало, конечно, посмотреть, через какие добровольные падения, через какие свободно принятые состояния прошла тварь, пока не оказалась в том зловещем мороке, по котором плачет. Надо было проклясть пороки предков и собственные страсти, от которых происходит большая часть болезней; надо признать, что Бог вменил нам испражнение, но человек грехами своими к нему добавляет гной; надо изблевать цивилизацию, которая сделала жизнь невыносимой для чистых душ, а не Господа, который, быть может, не для того нас создал, чтобы нас разрывало пушками на войне, чтобы нас в мирное время эксплуатировали и грабили бандиты-купцы и банкиры-разбойники. Что все-таки остается непонятным, так это изначальный, в каждом из нас заложенный ужас существования, но это уж такая тайна, которую ни одна философия не объяснит. Так вот! — думал он дальше. — Если вообразить этот ужас, это омерзение от жизни, что год от году возрастало во мне, как же не понять, что меня принудительно направило к единственной гавани, где я мог укрыться, — к Церкви? Раньше я презирал ее, потому что у меня был колышек, за который я хватался, когда налетали злые ветры тоски: я верил в свои романы, работал над историческими трудами, у меня было искусство. В итоге я осознал, что этого совершенно недостаточно, что это все никак не может принести счастья. И тогда же я понял, что пессимизм годится разве что подбодрить тех, кто не имеет настоящей нужды в утешении, — понял, что его теории соблазнительны, когда ты молод, богат и здоров, но становятся очень-очень хилыми, безнадежно фальшивыми, когда уходят годы, приходят болезни, когда все рушится… И я пошел в лечебницу душ — в Церковь. Там вас хотя бы встретят, дадут приют, уход, а не так, как в клинике пессимизма: объявят диагноз да повернутся спиной! Наконец, к вере Дюрталя привело искусство. Оно даже больше, чем отвращение от жизни, стало тем неудержимым магнитом, что привлек его к Богу. Однажды вечером, просто от нечегоделать, он зашел в храм, куда много лет не заглядывал, и услышал, как тяжко одно за другим падают моления заупокойной вечерни, а певцы, сменяя друг друга, поочередно, как сено в стога, мечут лопаты стихир, и душа его потряслась до самых глубин. Он выслушал в Сен-Сюльписе дивные песнопения седмицы по усопшим и понял, что эти вечера навек пленили его, но еще больше его подавили и покорили песнопения Страстной недели. О, сколько церквей он обошел в ту неделю! Они открывались, как заброшенные дворцы, как разоренные Божьи кладбища. Они смотрели зловеще: занавешенные картины, Распятия в косоугольных лиловых драпировках, молчащие органы, онемевшие колокола. Толпа деловито, бесшумно текла понизу, по большому кресту, образованному главным нефом и трансептом, проникала сквозь раны дверей, восходила к алтарю, туда, где находилась окровавленная голова Христа, и, преклонив колени, жадно лобызала Распятие, лежавшее под головой, как преграда. И, растекаясь по крестообразному миру храма, толпа сама превращалась в огромный живой и многоглавый, мрачный и безмолвный крест. В Сен-Сюльписе, где оплакивать неправду земного суда, осудившего Бога на смерть, собиралась вся семинария, Дюрталь слушал неподражаемые службы этих унылых дней, этих черных минут, внимал бесконечной скорби Страстей, которую вечерние службы столь глубоко и благородно передают протяжной псалмодией, пением плачей и псалмов. Но когда он вспоминал о них потом, больше всего его бросало в дрожь от явления Богородицы после заката в четверг. Вся Церковь, прежде поглощенная скорбью и павшая ниц перед Крестом, восставала и рыдала при виде Матери. Всеми голосами хора она сплачивалась вокруг Девы Марии, усердствовала утешить ее, мешая с Ее слезами рыдания Stabat, музыкального стенания жалобы и скорби, выдавливая из ран этих стихов кровь и воду, подобно истекшим из язв Христовых. Дюрталь выходил, утомленный долгими молитвенными бдениями, но соблазны против веры рассеивались в нем. Он более не сомневался; ему казалось, что благодать сопутствует красноречивому великолепию литургий в Сен-Сюльписе, что в мрачной печали голосов содержится призыв к нему самому; и он испытывал сыновнюю признательность к этому храму, где прожил столь сладкие и столь горестные часы! Между тем, в обычное время он туда не ходил: эта церковь казалась слишком большой и холодной, к тому же такой безобразной! Дюрталю больше нравились храмы поменьше и потеплее, в которых еще сохранялись следы Средних веков. Так в дни бесцельных прогулок, выйдя из Лувра, где подолгу забывался перед полотнами примитивных художников, он забредал в старую церковь Сен-Северен,{18} затерянную в одном из беднейших уголков Парижа. Туда он переносил образы тех картин, которыми восхищался в Лувре: он вновь созерцал их там, где и было их настоящее место. И то были прекрасные часы, когда он носился в тучах гармоний, прорезаемых громами органа и яркими молниями детских голосов. Там, даже не молясь, Дюрталь чувствовал, как в него проникает жалостливое томление, неясная тревога. Сен-Северен его очаровывал, помогал, как никакой другой храм, внушить себе неизъяснимое впечатление радости и жалости, а иногда, в минуты размышлений о похабстве чувственности, даже выстлать душу раскаянием и страхом. Он ходил туда часто — чаще всего по воскресеньям к десяти часам, к великой мессе. Он садился за алтарем, в той изящной меланхолической апсиде, что, словно зимний сад, будто обсажена редкими диковатыми древесами. Она похожа на каменную колыбель, окруженную старыми-старыми деревьями, в цветах, но без листьев, — лесом квадратных или граненых колонн с аккуратными канавками у основания, по всей длине желобчатыми, как черешки ревеня, и перистыми, как сельдерей. На вершинах этих стволов не раскидывалась крона: они переплетали на сводах свои обнаженные ветви, соединялись, дотягивались друг до друга и в точках соединения, в глазках прививки выпускали необыкновенные букеты геральдических роз, аристократических ажурных цветов. Вот уже четыреста лет, как сок в этих деревьях остановился и рост прекратился. Навек изогнутые цветоножки остались нетронутыми; белая кора колонн лишь чуть-чуть потрескалась, но большая часть цветов изветшала, геральдические лепестки поотламывались, от некоторых замковых камней остались только чаши слоистого камня, шероховатые, как птичьи гнезда, пористые, как губки, мятые, как порыжевшие кружева. И среди всей этой мистической флоры, среди этих разметавшихся деревьев было одно, странное и прелестное, наводившее на фантастическую мысль: как будто сизый стелющийся дым благовоний сконцентрировался, свернулся, побледнев от времени, закрутился и из него получилась спираль этой колонны; она крутилась вокруг своей оси и наконец распускалась снопом переломанных стеблей, падавших от самого верха свода. Тот угол, в котором хоронился Дюрталь, еле-еле освещался через стрельчатые витражи с черной ромбовидной сеткой — крохотными квадратиками, потемневшими от вековой пыли, еще вдобавок затененные стропилами капелл, доходившими до их середины. Эта апсида была, так сказать, застывшим массивом деревянных скелетов, теплицей вымерших пород семейства пальмообразных, напоминавших какие-то невероятные фениксы, немыслимые латании; но помимо того, своей полумесячной формой, своим полумраком она приводила на память нос затонувшего корабля. К тому же через ее иллюминаторы с маленькими стеклышками в решетке черных свинцовых переплетов доносился приглушенный шорох, подобный шуму реки (на самом деле катились по улице экипажи), в желтоватых водах которой мерцают потускневшие искорки дневного света. По воскресеньям в час великой мессы в этой апсиде никого не было. Вся публика заполняла неф перед главным алтарем, а кое-кто проскакивал дальше, в капеллу Богоматери. Поэтому Дюрталь оставался чуть не один, но даже те, кто проходил через его убежище, не были ни смущены, ни рассержены на него, как прихожане других церквей. Квартал был нищий, и люди все очень бедные: старьевщики, перекупщики, сестры милосердия, детвора, оборванцы; больше всего было женщин в лохмотьях: они ступали на цыпочках, становились на колени, не оглядываясь; бедняжек смущала даже чахлая пышность алтарей; они едва смели с покорностью поднять глаза, а когда за спиной проходил привратник, склонялись до земли. Дюрталь, растроганный немым смирением этих неимущих, слушал мессу, которую пел небольшой, но хорошо выученный хор. Капелла Сен-Северен лучше, чем в Сен-Сюльписе (где службы, впрочем, совершались гораздо пышнее и правильнее), исполняла чудо древнего распева — Credo[40]. Она возносила его до самой вершины хоров, и когда негромкий голос певчего отпускал в медленный, благоговейный полет стих et homo factus est[41], напев с широко распростертыми крыльями словно парил над ниц лежащей паствой. Он был и лапидарен, и текуч, нерушим, как сами члены Символа веры, вдохновлен словами, которые Дух Святой говорил апостолам, в последний раз собравшимся возле Христа. В Сен-Северене сперва гулкий бас возглашал начало стиха, а затем детские голоса, поддержанные остальными певчими, продолжали его, и вместе с тем утверждались непреложные истины: в солирующем мужском голосе они становились обдуманнее, важнее, внятнее и жалобнее, и даже, пожалуй, робче, но уж потом, в непрерываемом мальчишеском порыве, привычней и веселей. В этот миг Дюрталю казалось, что он сам взлетает, и он восклицал про себя: невозможно ведь, чтобы наитие веры, сотворившее эту музыкальную очевидность, оказалось ложным! Эти фразы звучат как сверхчеловеческие; так далеки они от светской музыки, которая никогда не достигала неприступного величия этого обнаженного пения! Впрочем, в Сен-Северене превосходна была вся месса: глухо-торжественное Kyrie eleison[42]; Gloria in excelsis[43], разделенное между большим и малым органом; первый пел сам, а второй, направляя и поддерживая хор, пробуждал в слушателях радость; Sanctus[44], горячий и почти страшный, когда хор восклицал Hosanna in excelsis[45], взметавшееся до самых сводов; и Agnus Dei[46], еле звучащий в чистой умоляющей мелодии, в смирении своем не смевшей звучать громче… Словом, кроме Salutaris[47], контрабандой вброшенного сюда, как и во все остальные церкви, в Сен-Северене по рядовым воскресеньям сохранялась музыка старинной литургии; ее там исполняли почти благоговейно, ломкими, но красиво окрашенными детскими голосами, с опорой на крепко зацементированные басы, из глубин которых исходили могучие звуки. И радостно было Дюрталю засиживаться в этой дивной средневековой атмосфере, в этом пустынном сумраке, среди песнопений, звучавших у него за спиной, так что он не видел гримас поющих, и они его не раздражали. Кончалось тем, что в нем, потрясенном до глубин души, сотрясающемся от нервных рыданий, всплывала вся горечь его жизни. Полон неясных страхов, смутных поползновений, что угасали, так и не найдя выхода, он проклинал свое подлое существование, клялся подавить беспокойство плоти. Затем, когда месса кончалась, он проходил по всему храму, восхищался взлетом этого нефа, который строился четыре столетия: они запечатлели на нем свои знаки, оставили свои неповторимые признаки, отпечатки своих преданий, явственно зримые под опрокинутыми колыбелями арок. Столетия соединялись, чтобы положить к стопам Христовым сверхчеловеческое усилие своего искусства, и можно было поныне видеть, что именно каждый из них принес. XIII век вытесал низкие, приземистые столбы с капителями, увенчанными нимфеями, трехлистными вахтами, широкоплоскостными листьями, изгибавшимися крюками и завивавшимися, как верхушки епископских посохов. XIV век возвел колонны боковых пролетов, на которых пророки, иноки, святые поддерживали своими телами пяты арочных сводов. XV век и XVI сотворили апсиду, алтарь, отчасти даже витражи над клиросом, и даже те сапожники, которые все это реставрировали, все-таки сохранили их варварскую грацию, трогательную наивность. Казалось, витражи были рисованы предтечами эпинальских картинок{19} и тут же раскрашены самыми беспримесными цветами. Благотворители и святые, проходившие процессией на этих светлых картинах в каменных рамах, все были неуклюжие, задумчивые, одеты в гуммигутовые платья — бутылочно-зеленые, лазорево-синие, смородинно-красные, баклажанно-лиловые, виноградно-бордовые; эти цвета казались еще насыщеннее рядом с фрагментами тел, ненаписанными или утраченными — во всяком случае, их стеклянная кожа оставалась не окрашена. В одном из окон Христос на кресте казался даже совсем прозрачным и весь светился меж голубых пятен неба и красно-зеленых стекол, изображавших крылья ангелов, лики которых были тоже как будто высечены из хрусталя и исполнены света. Эти витражи отличались от окон других церквей, что поглощали солнечные лучи, не преломляя. Очевидно, их специально сделали небликующими, чтобы не оскорблять наглой веселостью горящих камушков задумчивую печаль этой церкви, стоявшей, как угрюмый редут, посреди квартала, населенного мазуриками и попрошайками. Тогда Дюрталя охватывали размышления. Новые базилики в Париже были инертны, глухи к молитвам, разбивавшимся о ледяное равнодушие их стен. Как можно сосредоточиться в галереях, где никто не оставил частицы души, где и ныне душа, готовая отдаться Богу, вынуждена выпрямиться и подобраться, оттолкнутая освещением фотографической мастерской, оскорбленная самой наготой алтарей, на которых никогда не совершал литургию ни один святой? Казалось, Бог ушел из них, возвращаясь, только чтобы исполнить обетованье явиться в момент освящения Даров, но тут же опять выходил, презирая жилища, построенные не для Него, потому что пошлые формы делали их пригодными и для мирского употребления, а главное — не имея святости, эти храмы не приносили Господу и единственно угодного Ему дара: дара искусства, который Он Сам даровал человеку, чтобы смотреться, как в зеркало, в малое подобие творения Своего, радоваться, как произрастает растительность, семена которой Он посеял в душах, заботливо отобранных и, вослед святым, воистину избранным. О любвеобильные храмы Средних веков! Влажные прокопченные капеллы, исполненные древних песнопений, превосходных картин, запаха погашенных свечей и тлеющего ладана! В Париже осталось лишь несколько образцов этого искусства истекших лет, лишь несколько алтарей, камни которых действительно источали Веру, и среди них Сен-Северен казался Дюрталю самым изящным и самым надежным. Только там он чувствовал себя дома и думал, что, если хочет наконец молиться по-настоящему, делать это надо именно здесь. Он говорил себе: в этом храме жива душа сводов. Не может быть, чтобы усердные молитвы, отчаянные рыдания Средних веков не пропитали навек эти столпы, не продубили эти стены; не может быть, чтобы в вертограде скорбей, где некогда святые собирали горячие гроздья слез, не сохранились эти дивные времена — эманации, на которых держится страх греха, истечения, которые до сих пор вызывают слезное покаяние! Как святая Агнесса осталась невинной в блудилищах,{20} этот храм остался невредим среди мерзости, хотя вокруг него — в «Красном замке», в молочном кафе Александра, буквально в двух шагах — сброд нынешних низких гуляк прилагал злодейство к злодейству, глушил с проститутками напитки преступлений: темный абсент и крепкую водку! И на этой заповедной земле дьяволопоклонства стояла она — маленькая, скромная, зябко прикрытая тряпьем кабаков и притонов, далеко возносила она над крышами легкую колокольню, похожую на воткнутую острием вниз иголку с ушком, в котором, качаясь, словно над наковальней, виднелся крохотный колокол. Именно так она была видна с площади Сент-Андре-дез-Ар. Хотелось сказать, что эта наковальня — простой обман зрения — и этот совершенно настоящий колокол символизируют призыв милосердия, вечно отторгаемый душами, ожесточившимися в горниле грехов. И подумать только, мыслил Дюрталь, только подумать, что невежды-архитекторы и археологи-неумехи собирались содрать с Сен-Северена его рубище, обсадить деревьями, заточить в темницу сквера! Ведь этот храм так и жил всегда в переплетенье черных проулков! Он нарочно сделан таким смиренным ради согласия с жалким кварталом, который он окормляет! В Средние века это был домашний памятник, он не принадлежал к числу величественных базилик, стоявших на виду, на больших площадях. Нет, это было место молитвы бедных, церковь коленопреклоненная, а не прямо стоящая, так что было бы совершеннейшей нелепостью изъять ее из ее среды, отнять у нее вечно сумрачное освещение, что оживляет ее скорбную красу молящейся служанки, загороженной рядом гнусных вертепов! О, если бы можно было ее окунуть в пылающий воздух Нотр-Дам де Виктуар да прибавить к чахлой капелле могучий хор Сен-Сюльпис — больше нечего было бы желать! — восклицал Дюрталь. Но — увы — в этом мире нет ничего законченного, ничего совершенного! Наконец, с точки зренья искусства он тоже только Сен-Севереном и восхищался. Ведь Нотр-Дам слишком велик, слишком истоптан туристами; к тому же служат там редко, выдают не более положенной порции молитв, и большинство капелл заперто; наконец, голоса соборных мальчиков напоминали дырявую бумажную тряпку — раз за разом ломались, когда еще хрипели старые басы. В Сент-Этьен дю Мон и того хуже: снаружи церковь прелестна, но хор — филиал желтого дома; ты словно попал на псарню, где на разные голоса заливается свора собак. Ну а прочие храмы Левого берега никакие; к тому же там по мере возможности упразднялось древнее пение: повсюду нищету голосов прятали за распутством мотивчиков. А ведь на Левом берегу храмы еще получше берегли: ведь парижский церковный округ ограничивается этим берегом, обрывается прямо за мостами. В общем, подводя итоги, он мог сказать, что Сен-Северен своей атмосферой и красотой, Сен-Сюльпис богослужением и пением привели его к христианскому искусству, а то направило к Богу. И, устремившись единожды по этому пути, он последовал по нему и дальше: вышел из области архитектуры и музыки, вступил в таинственные земли других искусств; и долгие посещения Лувра, изучение требников, книг Рейсбрука, Анджелы из Фолиньо, святой Терезы, святой Екатерины Сиенской, Маддалены Пацци{21} еще больше укрепили его представленья о вере. Но переворот в мыслях, испытанный им, был еще слишком свеж, чтобы душа могла уравновеситься и устояться. Временами она явно стремилась назад: тогда Дюрталь выбивался из сил, чтобы ее удержать. Изнемогая в спорах с собой, он доходил до сомнения в искренности своего обращения, думая так: ведь в конце-то концов меня держит в церкви только искусство, я и хожу туда лишь затем, чтобы смотреть и слушать, а не чтобы молиться, ищу не Бога, а удовольствия. Это же несерьезно! Как в теплой ванне я не чувствую холода, пока сижу неподвижно, и мерзну, стоит мне пошевелиться, так же и в церкви при малейшем движении мое благочестье скукоживается: в самом храме я пылаю, на паперти уже холоднее, а выйдя за порог, совершенно заледенел. Все это литературные мечтания, сотрясения нервов, скачки мысли, схватки духа: все что угодно, только не вера. Но еще больше, чем потребность в пособляющих средствах для умиления, его беспокоило, что беспутные чувства его раздражались, соприкоснувшись с мыслями о божественном. Он болтался, как брошенный хлам, между Развратом и Церковью, и обе стороны попеременно отталкивали его: приблизившись к одной, он поневоле тотчас возвращался к тому, что покинул; доходило уже до того, что он спрашивал сам себя: не стал ли я жертвой обмана моих низменных инстинктов, стремящихся возбудиться, благодаря подкрепляющему ложной набожности, так, что я сам этого не сознаю? И вправду сказать: сколько раз, едва он отходил от слез в Сен-Северене, с ним словно чудом случалась одна и та же гнусность: исподтишка, без всякого перехода, без связи ощущений, без единого проблеска в сознании его чувства воспламенялись, и ему не хватало сил дать им угаснуть самим по себе, воспротивиться им. Потом его тошнило — но это уже потом. И тогда случался возвратный ход: ему хотелось тотчас бежать в церковь, омыться там — и он так был противен себе самому, что несколько раз подходил к самым дверям, но не смел войти. А бывало так, что он бунтовал и в ярости восклицал про себя: что за чушь, в конце концов, — я испортил себе единственное удовольствие, которое мне оставалось: плотское! Раньше я развлекался и горя не знал; нынче за эти пустые забавы плачу муками совести. В моей жизни стало одной печалью больше. Ох, начать бы сначала! Но он напрасно лгал себе, выдумывал оправдания, внушал себе сомнения. А вдруг это все неправда? Вдруг ничего нет? Вдруг вольнодумцы правы, а я заблуждаюсь? Но тут ему приходилось презрительно усмехнуться над собой: ведь он в глубине души чувствовал очень ясно, что обладает несокрушимой очевидностью истинной веры. И рассуждения эти жалки, и извинения, которые я ищу своей мерзости, гадки, думал он, — и в нем вспыхивал факел восторга. Как же можно сомневаться в истине догматов, как отрицать божественную мощь Церкви — ведь она так ясна! Прежде всего у нее есть это сверхчеловеческое искусство, есть мистика, а потом: разве не удивительно упорство побежденных ересей в суете? С тех пор как мир стоит, для всех пружиной была плоть. Логически, человечески она должна была победить, ибо позволяет мужчине и женщине удовлетворять свои страсти, якобы не греша, даже оправдывая их, как гностики, служившие Богу самыми гнусными извращениями. И что с ними стало? — все потонули. Церковь же, столь непреклонная в этом вопросе, стоит в целости. Она велит телу молчать, душе — страдать, а человечество, против всякого вероятия, слушает ее и выметает, как навоз, увеселения, которыми его соблазняют. И разве не решающий аргумент — жизненная сила, хранящая Церковь, несмотря на всю тупость церковников? Она вынесла невыносимую глупость своего духовенства, ей не повредили даже неумелость и бездарность ее защитников! Вот это мощь! Нет, восклицал Дюрталь: чем больше думаю, тем более чудесной, единственной я нахожу ее, тем более убежден, что она одна владеет истиной, что вне ее — одни лишь выверты разума, ложь, срам! Церковь — Божий питомник и небесная лечебница душ; она, она их выкармливает, воспитывает, перевязывает; она же, когда приходит время, возвещает им, что истинная жизнь начинается не с рождения, а со смерти… Церковь непогрешима, Церковь сверхдивна, Церковь неисследима… Так — но тогда надо следовать ее предписаниям, приступать к таинствам, как она требует? Дюрталь качал головой, не зная, что ответить себе…III
До обращения он, как и все неверующие, говорил себе: если бы я верил, что Христос — Бог и вечная жизнь не обман, я бы, ни минуты не колеблясь, переменил все свои привычки, следовал бы церковным правилам, елико возможно, и уж по крайней мере соблюдал бы целомудрие. Он недоумевал, как это его знакомые, которые такую веру имели, вели себя не лучше, чем он сам. Для себя он давно привык находить самые снисходительные извинения, но становился чрезвычайно нетерпим, когда заходила речь о католиках. Теперь он понял, как несправедлив бывал его суд, осознал, что между верой и церковной жизнью лежит пропасть, перешагнуть которую всего труднее. Дюрталь не любил подробно задерживаться на этой мысли, но она все равно возвращалась к нему, преследовала его, и ему наконец приходилось признать, как пошлы были его доводы, как ничтожны причины его противления. Зато ему хватало честности думать так: я уже не мальчик; если я верую, если принимаю католичество, то не могу представлять его себе тепленьким и полужидким, вечно разогреваемым на водяной бане показной набожности. Я не желаю компромиссов и отсрочек, не хочу то грешить, то каяться, чередовать разврат с благочестием — нет, все или ничего, измениться до самой сути или уж ничего не менять! И он тотчас в ужасе пятился, силился бежать от настоятельного выбора, изощрялся в самооправданиях, часы напролет упражнялся в казуистике, выдумывал самые дурацкие причины, чтобы остаться прежним, чтобы не трогаться в путь. Как же быть? Если не буду слушать повелений, которые, как я чувствую, все больше крепнут во мне, сам себе уготовлю жизнь, полную тревог и угрызений совести: ведь я прекрасно знаю, что не должен мешкать на пороге, а должен войти в святилище и там оставаться. Если же я решусь… да нет, как же это… ведь тогда придется подчиниться куче строгих правил, претерпеть одно за другим множество испытаний, ходить на мессу по воскресеньям, поститься по пятницам. Придется жить по-ханжески, по-дурацки… И чтобы еще больше распалить свое противление, он вспоминал, как нелепы, как угрюмы усердные прихожане: на пару человек, с виду разумных и порядочных, сколько же приходится пришибленных святош! Все какие-то темные, говорят елейным голосом, глаза отводят, очков не снимают, ходят в черном, как пономари; все напоказ перебирают четки; все интриганы и плуты хуже любого безбожника — ближнего осуждают, а от Бога удаляются. Хороши и богомолки: приходят в церковь большой толпой, расхаживают, словно у себя дома, всем мешают, толкают стулья, толкают вас и даже прощенья не просят, а потом надменно преклоняют колени, изображают из себя кающихся ангелов; молитвы бормочут нескончаемые, а выходят из храма злей и заносчивей прежнего. То-то радости думать, что и ты замешаешься в это стадо благочестивых ослов! — восклицал про себя Дюрталь. Но тут же сам себе возражал, причем невольно: тебе нечего заниматься другими, был бы ты сам смиреннее, тебе и эти люди не казались бы такими противными; у них есть хотя бы та смелость, которой тебе-то и не хватает: они не стыдятся своей веры и не страшатся при людях пасть ниц перед Господом. И тогда Дюрталь конфузился: ведь он знал, что удар этот меткий. Смирения ему и вправду не хватало, ничего не скажешь, а что, пожалуй, еще хуже — он не мог не заботиться о людском мнении. Ему так не хотелось выглядеть глупцом; от предчувствия, что его будут видеть стоящим в церкви на коленях, волосы у него вставали дыбом; мысль, что будет нужно причащаться, а значит, вставать с места и идти к алтарю под чужими взглядами, была для него нестерпима. И если настанет такое время, как тяжело будет это вынести! — думал он. — Но это же идиотизм: какое мне, в сущности, дело до мнения незнакомых людей? И все-таки сколько он себе ни повторял, что его тревоги нелепы, преодолеть их, избавиться от страха показаться смешным он так и не мог. «Но в конце концов, — твердил он себе дальше, — предположим, я смогу перепрыгнуть эту пропасть, решусь исповедаться и причаститься — тогда все равно не уйти от проклятого вопроса о чувственности. Придется определить себя на то, чтобы избегать плотских искушений, не ходить больше к девочкам, принять вечное воздержание. Уж этого-то я никак не смогу! Не говоря о том, что сейчас, как ни крути, совсем не время: ведь никогда меня так не мучили искушения, как после обращения. О, сколько нечистых мечтаний возбуждает католическая вера, когда ходишь вокруг да около и не входишь!» И на этот возглас отвечал другой: Так что же? Значит, надо войти! Дюрталя раздражало это круженье на месте — все одном и том же месте; он пытался уйти от этих разговоров, как от разговора с другим, задающим неприятные вопросы, но возвращался к ним опять и опять. В досаде он собирал все силы рассудка и призывал их на помощь. Надо же все-таки постараться как-то определиться, хоть как-то! Очевидно, с тех пор, как я стал ближе к Церкви, меня стало чаще и сильней тянуть на сладенькое. И вот еще очевидный факт: за двадцать лет половой жизни я достаточно износился, чтобы уже не иметь плотских потребностей. Так что, в общем, я мог бы, если бы захотел, хранить целомудрие — но для этого надо отдать приказание моему блудливому мозгу, а у меня нет силы! В конце концов, это же страшно, что я теперь похотливей, чем в молодости, потому что ныне мои желания стали непоседливы: им надоело обычное пристанище, они ищут другого, дурного. Как это объяснить? Может быть, это своего рода понос души, разучившейся переваривать обычную пищу, желающей питаться острыми приправами грез, соленьями мечтаний? Тогда именно нечувствительность к здоровой пище и породила тягу к причудливым яствам, стремление убежать от себя, хоть на миг сойти с торных путей для чувств. В таком случае католичество получается и отвлекающим средством, и депрессантом. Оно, быть может, стимулирует мои нездоровые желанья, а в то же время лишает сил, оставляет без защиты против нервного возбуждения… Так он все время вслушивался в себя, блуждал мыслью — и кончил тем, что оказался в тупике, придя к такому выводу: я не живу по вере своей, потому что поддаюсь нечистым инстинктам, а нечистым инстинктам поддаюсь потому, что живу не по вере. Но и в эту стенку он еще продолжал стучаться лбом: задавался вопросом, верно ли это наблюдение. Ведь никто не сказал, что после причащения похоть не нападет на него еще сильнее. Это было даже весьма вероятно, потому что бес воюет с теми, кто ищет спасения. Но тут сам Дюрталь, возмутившись собственной трусостью, прикрикивал на себя: это ложь! ведь я знаю, что, если буду сопротивляться хотя бы для вида, сразу получу могучую помощь свыше. Наловчившись изводить сам себя, он все больше натаптывал в своей душе одну и ту же тропку. Предположим невозможное, думал он: я усмирил свою гордыню, приструнил свое тело. Предположим, что вот уже сейчас мне осталось только встать и пойти вперед — но я опять никуда не пойду: есть последнее препятствие, которое боюсь преодолеть. До сих пор я мог идти один, без земной помощи, безо всяких советов. Уверовать я мог, ни на кого не опираясь, но теперь уже не могу ни шага сделать без поводыря. Никак нельзя подойти к алтарю без услуг путеводителя, без указаний пастыря. И тут он вновь отступал, потому что некогда бывал кой у кого из духовенства и нашел этих людей такими бездарными, такими безразличными, а главное, столь не приемлющими мистику, что от мысли поведать им, к чему пришли его колебанья и сетованья, Дюрталю становилось не по себе. Они не поймут меня, думал он. Они ответят мне, что мистика представляла интерес в Средние века, но теперь вышла из моды — во всяком случае, совсем не согласна с новыми веяниями. Они примут меня за сумасшедшего, а впрочем, станут убеждать, что Богу так много не нужно, будут улыбаться и уговаривать не оригинальничать: делать, как все, а мыслить, как они. Конечно, у меня нет претензий самому вступить на путь мистиков, но пусть они мне позволят хотя бы завидовать им, пусть не навязывают мне свой мещанский идеал Бога! Ибо нечего лукавить: католичество — не только та теплохладная вера, которую нам тут предлагают, оно не только в приношениях на храм и уставных молитвах; не все оно заключено в простенькие обряды, в побрякушки для старых дев — ту святошескую дешевку, что продается по всей улице Сен-Сюльпис: в нем есть еще иная чистота, иная возвышенность. Но если так — надо войти в его огненную сферу, искать его в Мистике, а Мистика — это искусство, это сущность, это душа самой Церкви. А значит, чтобы воспользоваться ее могучими средствами, надо опустошить самого себя, обнажить свою душу так, чтобы Христос, будь на то Его воля, мог туда снизойти; надо дезинфицировать это жилище, омыть его хлоркой молитвы, сулемой Святых Даров — словом, надо быть готовым, когда Хозяин жилища придет и велит нам перелиться в Него, а Он переплавится в нас. Нет-нет, я знаю: обычно эта божественная алхимия, трансмутация человека в Бога невозможна: как правило, Господь дарует эти чрезвычайные милости только избранным Своим. Но всякого, как бы ни был тот недостоин, Он считает способным достичь этой грандиозной цели, ибо один Бог решает, а не человек, который может лишь смиренно помогать Ему. Воображаю, как я буду рассказывать это священникам! А они мне ответят, чтобы я не забивал себе голову мистическими идеями, подсунут взамен полуверу какой-нибудь богачки, захотят вмешиваться в мою жизнь, угнетать мне душу, прививать свои вкусы; начнут убеждать меня, что искусство опасно, а сами станут черпаками в меня вливать богоугодный бульончик! А я себя знаю: поговорю с такими раза два и взбунтуюсь, стану опять безбожником! Тут Дюрталь вздрагивал, приостанавливался и только потом думал дальше. Надо все-таки понимать: белое духовенство и не может не быть отходами — ведь молитвенные ордена и армия миссионеров год от года отбирают лучший цвет душ. Мистики — те из священства, что алчут жертв и жаждут слез, — заключают себя в монастыри или изгоняют себя к дикарям, которых просвещают. Так снимаются сливки, а прочее духовенство — конечно, обрат, опивки семинарий… Но в конце-то концов, продолжал он, не в том ведь дело, умны они или глупы; не мое дело разбирать священников по косточкам и обнаруживать под освященной коркой человеческую пустоту; не мое дело осуждать его недалекость: они ведь, в общем-то, приспосабливаются к пониманью толпы. Да и не больше ли отваги и смирения в том, чтобы склонить колени перед тем, чья умственная убогость тебе известна? Постой, постой… ведь можно без этого обойтись: я ведь знаю в Париже одного настоящего мистика. Что, если сходить к нему? Дюрталь вспомнил про аббата Жеврезене, с которым был когда-то знаком: он не раз встречал его в книжной лавке отца Токана на улице Сервандони, где попадались чрезвычайно редкие книги по литургике и житиям святых. Узнав, что Дюрталь ищет сочинения о блаженной Лидвине, аббат заинтересовался им, и, выйдя из лавки, они еще подолгу беседовали. Он был очень стар, ходил с большим трудом и рад был опереться на руку Дюрталя, а тот провожал его до дверей. — Превосходный сюжет — жизнь этой жертвы грехов своего времени, — говорил аббат. — Вы ведь помните? — И дальше по пути он в общих чертах рассказывал ее житие. Лидвина родилась в конце XIV века в Голландии, в Схидаме. Она была необычайно красива, но пятнадцати лет от роду заболела и стала безобразной. Выздоровев и окрепнув, она пошла с приятелями кататься на коньках по городским каналам, упала и сломала ребро. С тех пор до самой смерти она оставалась прикована к постели; ее преследовали самые жестокие недуги; в ранах ее началась гангрена, так что в гниющем мясе завелись черви. Антонов огонь, ужасная болезнь Средневековья, также ее пожирал. Вся правая рука была им изъедена: только на одном оставшемся нерве она еще держалась и не отваливалась от тела. Все лицо от лба до подбородка набухло, один глаз ослеп, а другой так ослаб, что вовсе не мог выносить света. Тем временем всю Голландию, в том числе ее городок, опустошала чума. Лидвина заболела первой; у нее вскочило два волдыря: один под мышкой, другой возле сердца. Два волдыря хорошо, сказала она Господу, а три лучше — в честь Святой Троицы. И тут же у нее на лице вскочил и лопнул третий волдырь, так что получилась язва. Тридцать пять лет она прожила в подвале, не ела твердой пищи, плакала и молилась. Зимой она так мерзла, что по утрам слезы застывали на ее щеках ледяными ручьями. Но она считала себя еще слишком счастливой и молила Господа не щадить ее: своими скорбями она заслужила у Него искупление чужих грехов. И Христос слышал ее, приходил к ней вместе с ангелами Своими, причащал из рук Своих, возносил в небесных видениях, и гной ее ран благоухал дивными ароматами. В час смерти Он был с Лидвиной и восстановил ее несчастное тело в прежнем виде. Давно пропавшая красота вновь воссияла. В городе поднялось смятение; увечные толпой устремились к покойной, и все, кто подошел к ней, исцелились. Это была настоящая покровительница недужных, — закончил речь аббат и после недолгого молчания продолжил: — С точки зрения высшей мистики Лидвины — истинное чудо: ведь на ней проверяется метод замещения, который был и остается достославным обоснованием монастырской жизни. Дюрталь ответил немым вопросом. Аббат пояснил: — Вы ведь знаете, сударь, что во все времена монашество приносило себя в жертву ради искупления людей. Есть множество житий святых, принесших такую жертву и своими страданиями, которых они пламенно домогались и которые терпеливо сносили, очистивших чужие грехи. Но эти дивные души стремятся и к другой цели, достигаемой еще большими тяготами и трудами: не просто смыть грехи других людей, а предупредить их, не дать им свершиться, поставив себя на место тех, кто по немощи не может выдержать натиска страстей. Почитайте святую Терезу: вы увидите, что она молитвой взяла на себя искушения некоего священника, который не мог их вынести, и не поддалась им. Таким замещением сильная душа избавляет слабую от страхов и опасностей, и это одно из великих правил мистики. Иногда это чисто духовное замещение, иногда же оно связано только с телесными недугами. Святая Тереза выступала поручительницей за страждущие души, а сестра Катарина Эммерих{22} занимала место немощных — во всяком случае, тяжело больных; например, она смогла претерпеть мучения женщины, болевшей чесоткой и водянкой, чтобы та в мире приготовилась к смерти. Так вот — Лидвина вобрала в себя все телесные недуги, жадно искала физических страданий, наслаждалась своими язвами. Она, можно сказать, сжинала и увязывала муки, а кроме того, была урной, куда всякий изливал избыток своих недугов. Если вы захотите говорить о ней не так, как измельчавшие агиографы нашего времени, постигните сперва этот закон замещения, чудо всецелой любви, сверхчеловеческую победу мистики: замещение станет стволом вашей книги, и все деяния Лидвины сами собой, естественно прилепятся к нему. — Что же, — спросил Дюрталь, — этот закон и до сих пор существует? — Да, я знаю монастыри, в которых он применяется. Кроме того, такие ордена, как кармелитки и клариссы,{23} всегда соглашаются принять на себя искушения, которыми страдают люди; так что их монастыри, если угодно, учитывают векселя, которые сатана предъявляет неимущим душам, и таким образом полностью оплачивают их долги. — Но ведь, — покачал головой Дюрталь, — чтобы согласиться вот так вот вызвать на себя штурм, направленный на другого, надо быть совершенно уверенным, что сам не погибнешь под огнем? — Монахинь, Господом нашим избранных как очистительные жертвы всесожжения, в общем-то, немного, — ответил аббат. — Обычно, и особенно в наш век, они обязаны собираться вместе, соединяться, чтобы не слабея выносить бремя искушающего их зла: ведь душа, которая могла бы в одиночку вынести сатанинские приступы, часто весьма жестокие, должна быть поистине избранной Богом и иметь помощь ангельского воинства… — Старый аббат помолчал и сказал еще: — У меня есть некоторый опыт, чтобы говорить об этом: я был исповедником монахинь-искупительниц в монастырях. — Подумать только, что мир еще спрашивает, зачем нужны молитвенные ордена! — воскликнул Дюрталь. — Это громоотводы общества, — с необычайной силой промолвил аббат. — Они навлекают на себя демонские флюиды, как фильтр, поглощают соблазны порока, молитвами своими покрывают тех, кто, подобно нам, живет во грехе; наконец, они умиряют гнев Всевышнего и не дают Ему наложить интердикт на всю Землю. О, конечно, сестры, посвятившие себя уходу за больными и калеками достойны восхищения, но насколько же их задача легка в сравнении с теми, кого вбирают в себя ордена строгой жизни: ордена, в которых покаяние никогда не прекращается, где даже ночи на ложе проходят в рыданиях! Он, что ни говори, интересней своих собратьев, подумал Дюрталь, когда они расставались. Аббат пригласил его заходить, и несколько раз Дюрталь бывал у него. Старик всегда принимал его ласково. Дюрталь то и дело неприметно прощупывал его на предмет разных вопросов. Когда дело касалось других священников, аббат отвечал уклончиво. Впрочем, судя по тому, что он сказал, когда Дюрталь вновь завел речь о Лидвине — магните скорбей, — Жеврезен и не придавал их качествам большого значения: — Видите ли, душе слабой, но честной лучше во всех отношениях выбрать себе духовника не из приходского духовенства, которое потеряло всякое чувство мистики, а из монахов. Только они знают, как действует закон замещения, и если видят, что, вопреки их усилиям, кающийся не может устоять, избавляют его от греха, принимая его искушения на себя или переводя в какой-нибудь монастырь в провинции, где твердые духом началят их. В другой раз Дюрталь показал ему газету, где обсуждался вопрос о национализме; аббат, пожав плечами, отмел шовинистическую ахинею: «Для меня родина там, где мне хорошо молится». Кто же он — этот аббат? Толком Дюрталь так о нем ничего и не знал. Книгопродавец рассказал, что из-за возраста и немощей аббат Жеврезен уже не мог регулярно совершать службу. «Но я знаю, что по возможности он еще служит мессу в монастыре, думаю, что исповедует некоторых братьев, — продолжал Токан и добавил презрительно: — Ему едва хватает на жизнь, и в епархии к нему из-за его мистических идей вряд ли хорошо относятся». Вот и все о нем сведения. Он явно прекрасный священник: даже по лицу видно, вновь и вновь говорил себе Дюрталь. Рот и глаза у него в таком противоречии, которое явно говорит о совершенной доброте: губы, довольно толстые и синеватые, всегда влажные, улыбаются приветливо, но почти печально, а голубые детские глаза под густыми белыми ресницами на красноватом лице, усеянном лопнувшими сосудиками по щекам цвета спелого абрикоса, смеются наперекор этой печали. «Так или иначе, — заключил Дюрталь, очнувшись от грез, — напрасно я не продолжил знакомства с ним». Так-то так, но ведь нет ничего труднее, чем завязать по-настоящему близкое знакомство со священником: во-первых, уже само семинарское воспитание приучает его не сосредотачиваться на личных привязанностях; во-вторых, священник, как и врач, неуловим и вечно в хлопотах. Когда их ни встретишь, один бежит с исповеди на исповедь, другой с визита на визит. И при том нельзя быть уверенным в искренности священника, когда он любезно встречает тебя: он говорит так со всеми, кто к нему обращается. Наконец, я не иду к аббату Жеврезену за помощью или опекой, потому что боюсь поставить его в неловкое положение, отнять его время. Искать с ним встречи казалось просто нескромным. Теперь мне это досадно. Постой, а если ему написать или зайти как-нибудь поутру; но что я ему скажу? Ведь чтобы докучать просьбами, надо хотя бы знать, о чем просишь. Если я приду просто поплакаться, он ответит, что надо пойти причаститься, а я что на это? Нет, нужно так: встретить его как бы ненароком — на набережных, где иногда он роется в старых книгах, или у Токана. Тогда я смогу более непринужденно — менее официально, так сказать, — поделиться с ним моими колебаниями и сетованиями. Дюрталь принялся гулять по набережным, но ни разу не повстречал аббата. Зашел он и в книжную лавку будто бы полистать книги, но, едва услыхав фамилию Жеврезена, Токан замахал руками: нет-нет, он ничего о нем не знает, тот уже два месяца не заходил! «Нечего больше вилять, подумал Дюрталь, придется побеспокоить его дома; но ведь он спросит, почему я так долго не заходил, а теперь пришел? Мне и так всегда неловко бывать у людей, с которыми давно не встречался, а тут еще такая неприятная мысль, что аббат сразу же заподозрит в моем приходе корыстную цель. Нет, оно и вправду неудобно; надо бы иметь благовидный предлог: скажем, это самое житие Лидвиньг, которым он интересовался; можно было бы его о чем-нибудь расспросить. Да, но о чем? Я давным-давно ею не занимался; надо хотя бы перечитать ее голландские жизнеописания… Собственно, проще и достойней вести дело прямо; так и сказать ему: я пришел потому-то и потому-то; хочу спросить у вас совета, которому сам еще не решил следовать, но мне так нужно просто поговорить, облегчить душу, и я вас очень прошу о милости потратить на меня часок… А он, конечно, от всего сердца согласится. Так что же, решено? Завтра? — подумал он, и тут его передернуло. Это ведь не срочно, всегда успеется, надо быеще подумать… Ах, что же я! Ведь Рождество на носу; будет совсем неприлично в это время беспокоить священника: он же должен исповедовать своих духовных чад, в это время многие причащаются. Пусть его страда пройдет, а там видно будет». Сначала ему очень понравилась эта надуманная отговорка, но после пришлось признаться себе, что она не особенно хороша: ведь этот священник не служил ни в каком приходе и никто не сказал, что он будет так занят исповедями. Скорее всего, совсем не будет; но Дюрталь постарался убедить себя, что это все же не исключено. В конце концов, он устал от споров с самим собой и остановился на середине. На всякий случай, он пойдет к аббату после Рождества, но не позже даты, которую сам себе назначит. Он взял записную книжку и, поклявшись сдержать слово, пометил четвертый день после праздника.IV
Ох уж эта полуночная рождественская месса! Не в добрый час пришло ему в голову сходить на нее. Он пошел в Сен-Северен и увидел: на месте капеллы стоят какие-то институтки и вяжут на спицах тоненьких голосков изношенную пряжу напева. Бросившись в Сен-Сюльпис, Дюрталь застал там толпу народа, бродившую по храму и болтавшую, словно на свежем воздухе; он выслушал марши для духового оркестра, вальсики для кафешантана, арии для праздника с фейерверком и в ужасе вышел вон. В Сен-Жермен-де-Пре{24} Дюрталь решил вообще не заходить: эту церковь он терпеть не мог. Мало того, что ее тяжелый, кое-как залатанный свод уже навевает тоску — там еще клир какой-то особо уродливый, так что становится не по себе, и хор поистине гадкий. Какая-то сплошная тошниловка: детские голоса харкают кисло-сладким соусом, а старые певчие словно разогревают в духовке своего горла хлебную тюрю, и получается одна каша вместо звуков. В церковь Фомы Аквинского{25} его тоже не потянуло: там веселенькая музыка и певчие лают. Оставалась базилика Святой Клотильды{26}: там хор поет хотя бы стоя и не потерял всякий стыд, как у Святого Фомы. Он зашел туда, но и там наткнулся на бал с разудалыми песенками, на музыкальный шабаш. Кончилось тем, что он в ярости пошел спать, думая про себя: умеют же в Париже подобрать музычку на крестины Богомладенца! На другой день, проснувшись, Дюрталь не нашел в себе сил идти в церковь: там продолжается вчерашнее кощунство, подумал он. Погода была неплохая, поэтому он вышел из дома, побродил по Люксембургскому саду, дошел до перекрестка проспекта Обсерватории с бульваром Пор-Рояль и пошел по нему, а затем машинально свернул на бесконечную улицу Санте. Он давно ее знал, часто задумчиво прохаживался по ней. Ему приятна была в ней нищенская домовитость убогой провинции, к тому же она располагала к размышлениям, потому что ее правую сторону занимают стены тюрьмы Санте и приюта умалишенных Сент-Анн, с левой стоят монастыри. На самой улице были и воздух, и свет, но по сторонам все казалось черно: так сказать, дорожка в тюремном дворе, а по сторонам казематы, в которых одни поневоле терпели временные страдания, другие же добровольно — вечные. Представляю себе, как бы ее написал примитивный художник из Фландрии, думал Дюрталь: вдоль мостовой, хорошо прорисованной терпеливой кистью, стоят дома, распахнутые во всю высоту, как шкафы. С одной стороны — толстостенные камеры с железными кроватями, кувшинами из грубой глины, глазками в дверях, запертых на мощные засовы; в этих камерах сидят разбойники и злодеи, все с длинными прямыми волосами: они скрючились, скрежещут зубами, ревут, как дикие звери. С другой стороны — кельи с такими же кувшинами, убогой утварью, распятиями; в них тоже тяжелые запертые железные двери, а внутри на каменном полу стоят на коленях со сложенными руками монахини и монахи, возведя очи к небу; их лица окружает пламень нимбов, возле них кувшины с лилиями; они возлетают в экстазе. Наконец, на заднем плане, меж двумя рядами домов, уходит вверх широкая аллея, в конце ее в небе с мелкими облачками восседает Бог-Отец с Христом одесную, а вокруг них серафимские хоры играют на дудочках и виолах. Бог же Отец сидит недвижно в высокой тиаре, на грудь падает длинная борода, а в руках у Него весы с уравновешенными чашами: ведь заточенные святые своим покаянием и молитвами в должную меру искупают богохульства злодеев и безумцев. Надо признать, думал Дюрталь, что это очень необычная улица; вероятно, другой такой и нет в Париже: на всем ее протяжении пороки и добродетели собраны вместе, меж тем как в других кварталах, несмотря на все усилия Церкви, они чаще всего разбросаны как можно дальше друг от друга. С этими мыслями он подошел к Сент-Анн. Здесь улица стала светлее, а дома ниже: двух- или трехэтажные, не больше; постепенно они расступились, соединенные между собой только облупившимися пролетами стен. Ну и что же, думал Дюрталь, в этом месте улица не так впечатляет, зато она уютнее. По крайней мере, здесь не приходится любоваться нелепыми украшениями современных агентств, выставляющих в витринах, словно роскошные деликатесы, тщательно подобранные штабеля дров, а рядом антрацитовые драже и коксовые пирожные в хрустальных компотницах. А вот и совсем забавная улочка! Он заметил проход, круто спускавшийся в сторону от главной улицы; на стене дома виднелся трехцветный флаг, нарисованный на потускневшей цинковой пластинке. Дюрталь прочел название: улица Эбро[48]. Он свернул туда. Улочка меньше десяти метров длиной; всю правую сторону занимала стена. В ней были проездные ворота с квадратной калиткой, а за ней виднелись покосившиеся хибары, крытые куполами. Чем дальше вниз шла улочка, тем выше становилась стена; в ее дальнем конце были пробиты круглые окошки, а на углу стояло маленькое здание с крохотной — даже ниже трехэтажных домов напротив — колокольней. По другой стороне вдоль улицы сползали три домишка, приткнувшиеся друг к другу. По стенам, как виноградные лозы, тянулись и ветвились цинковые трубы; окна над изъеденными свинцовыми подоконниками были полуоткрыты. Видны были и широкие, страшно захламленные дворы: в одном стояло стойло, где дремали коровы, в другом — сарай с ручными тележками, в третьем — распивочная с решетчатой дверью, из-за которой выглядывали горлышки закрытых бутылей. Ба, да это же церковь! — подумал Дюрталь, глядя на колоколенку и стену с черной шершавой штукатуркой, где, как дыры в наждачной бумаге, были прорезаны три-четыре круглых окна. — Где же вход? Вход оказался за поворотом проулка: он выходил на улицу Гласьер. Крохотная дверца вела внутрь здания. Дюрталь толкнул дверь и оказался в большом, похожем на сарай помещении, с крашеными желтыми стенами и простым потолком. Балки потолка были покрыты серой шпаклевкой с голубой каемкой, на них торчали газовые рожки, какие бывают у виноторговцев. В глубине стоял мраморный алтарь, с шестью зажженными свечами, украшенный бумажными цветами и позолоченной мишурой, вокруг него подсвечники с горящими свечками, а на алтаре крохотная дарохранительница с Дарами, блестевшая в свечном свете переливчатым блеском. Стояла чуть ли не темень, потому что окна прямо по стеклу были размалеваны темно-синими и канареечно-желтыми полосами; было зябко: печка не топилась, а на церковном полу, выложеном кухонным кафелем, ни дорожки, ни коврика. Дюрталь, как мог, укутался и сел. Мало-помалу его глаза привыкли к темноте в помещении, и он разглядел странную картину: на стульях прямо против клироса — ряды человеческих фигур, полностью накрытых волнами белой кисеи. Все они сидели недвижно. Вдруг из боковой двери, тоже с головы до пят облаченная покрывалом, вошла монахиня. Она прошла вдоль алтаря, остановилась посреди церкви, пала ниц, поцеловала землю и, даже не помогая себе руками, одним усилием спинных мускулов, встала. Монахиня пошла дальше через храм, прошла мимо Дюрталя. Под кисеей он разглядел великолепную белоснежную рясу, крест слоновой кости на шее, веревочный пояс и белые четки на нем. Монахиня подошла к входной двери и по лестничке поднялась на кафедру, нависавшую над помещением церкви. Что же это за орден, если в нем носят такие богатые одеяния, а ютится он в жалкой часовенке на окраине? — подумал Дюрталь. Церковь понемногу наполнялась. Алтарники в красных одеждах с кроличьей опушкой зажгли подсвечники, вышли и вернулись вместе со священником в потертой мантии, украшенной большими цветами. Священник был молодой и худощавый. Он сел и низким голосом запел первый антифон вечерни. И тут Дюрталь невольно обернулся: с кафедры, под звуки фисгармонии, священнику ответили незабываемые голоса: не женские, а почти детские — голоса умягченные, очищенные, на конце заостренные — и еще мужской, но также зачищенный, тоньше и разреженней обыкновенного. Бесполые голоса, процеженные литаниями, просеянные через молитвословия, провеянные на решете адораций и слез… Не вставая с места, священник закончил первый стих всенепременного псалма Dixit Dominus Domino meo[49]. И Дюрталь высоко вверху на трибуне увидел высокие белые статуи с черными книгами в руках. Они пели медленно, возведя очи горе. На минуту светильник осветил одну их этих фигур; она наклонилась чуть вперед, вуаль приподнялась, и Дюрталь увидел сосредоточенное, скорбное, очень бледное лицо. Песнопения вечерни стали чередоваться: одну песнь пели монахини наверху, другую затворницы внизу. Часовня почти наполнилась; одну сторону занял девичий пансион в белых пелеринках, с другой сидели мещанки в бедных темных одеждах и девочки с куклами. Еще несколько простых женщин в деревянных башмаках — и ни единого мужчины. Почуялось странное. Решительно холод этого помещения таял на костре душ. Это был не пышный ритуал, какой бывает на воскресной вечерне в Сен-Сюльписе, а вечерня бедных, сельское богослужение, которому с необычайной ревностью, в немыслимо сосредоточенной тишине внимали богомольцы. Дюрталю показалось, что его перенесло далеко за заставы, в деревенскую глушь, в монастырь. Он расслабился; душа, убаюканная монотонной ширью песнопений, только по Gloria Patri et Filio[50], отделявшему псалмы друг от друга, определяла их конец. Это был истинный порыв вдаль, глухое желание и ему вместе со всеми молить Неисследимого; весь, до мозга костей, он пропитался флюидами окружающего, и ему показалось, что он как бы растворяется и, может быть, хотя бы издалека участвует в соединении любви этих ясных душ. Он стал вспоминать молитву — и вспомнил ту, которой святой Пафнутий научил куртизанку Таис,{27} прокричав ей: «Ты недостойна произносить имя Господне; молись ему лишь так: “Сотворивший мя, помилуй мя”»! Дюрталь пробормотал эти смиренные слова, молясь не из любви и не из раскаяния, а из-за отвращения к себе: потому, что не имел сил уйти от себя; потому, что жалел, что не может любить. Затем ему пришло в голову прочитать «Отче наш», и он споткнулся на мысли, что эту молитву, если скрупулезно взвесить ее слова, читать всего труднее. Разве же мы там не уверяем Бога, что прощаем должникам нашим? И многие ли из произносящих эти слова действительно простили другим? Сколько среди католиков не солгали Всеведущему, что нет в них злобы? Из этих размышлений его вывела тишина, внезапно наступившая в церкви. Вечерня закончилась; фисгармония опять взяла аккорд, и все голоса монашек — внизу, на клиросе, на кафедре — полетели ввысь с пением древнего рождественского гимна «Родился нам Младенец Бог». Он слушал, смутясь простотой этой музыки — и вдруг, сам не понял как, поза девочек, ставших на колени на сиденья стульев, вызвала в нем гнусные воспоминания. Он в ужасе передернулся, хотел прогнать скверные мысли, но они не уходили. Ему явилась извращенная женщина, и он лишился рассудка. Под шелковыми кружевными платьицами мерещилось голое тело; дрожащими руками он подбирался к срамным местам, к соблазнительным чашечкам… Внезапно наваждение исчезло. Глаза Дюрталя машинально обратились к священнику. Тот глядел прямо на него и что-то тихонько говорил сторожу. Дюрталь обомлел: ему почудилось, что священник понял его мысли и прогоняет его, — но это было так нелепо, что он, пожав плечами, рассудил более здраво: очевидно, мужчин не пускают в женский монастырь; настоятель храма заметил его и велит сторожу вывести. Тот в самом деле направился прямо к нему. Дюрталь взялся было за шляпу, но служка скромно и просительно сказал: — Сейчас начнется процессия; по нашему обычаю за Святыми Дарами следует мужеский пол. Вы здесь один мужчина, сударь, но его преподобие подумал, что не откажетесь пойти с нашим шествием. Ошеломленный такой просьбой, Дюрталь сделал неопределенный жест, который сторож принял за согласие. «Нет, нет, — думал Дюрталь, оставшись один, — я совсем не хочу лезть в эту церемонию; самое главное, что я ничего не знаю и опозорюсь». Он уже приготовился тихонько ускользнуть, но не успел: привратник дал ему в руки свечу и пригласил идти за ним. Пришлось волей-неволей смириться, и, повторяя про себя: «смотрюсь, должно быть, балда балдой!», Дюрталь последовал за служкой к алтарю. Сторож остановил его и велел стоять смирно. Все в часовне стояли; пансионерки разделились на две колонны; перед каждой колонной шла женщина с хоругвью. Дюрталь встал впереди всех монахинь. Покрывала, опущенные перед непосвященными, открылись перед Святым Причастием — перед Самим Богом. Дюрталь успел бросить взгляд на сестер и поначалу совершенно разочаровался. Он воображал их бледными и строгими, как та монашка, которую заметил на кафедре, но тут почти все были краснощекими, веснушчатыми, перебирали четки некрасивыми, толстыми, потрескавшимися пальцами. Лица у них были одутловатые; у всех словно то ли начинались, то ли кончались месячные. Все они явно были деревенские девки, причем послушницы, которых можно было отличить по серым рясам, еще вульгарней монахинь. Ясно: доярки, батрачки… Но, видя, как они устремлены к алтарю, уже не замечались их туповатые лица, жуткие посиневшие от холода руки, обгрызенные ногти: смиренные целомудренные глаза с длинными ресницами, всегда готовые испустить слезы поклонения Богу, превращали грубость лиц в святую простоту. Погрузившись в молитву, они даже не замечали его любопытного взгляда, не подозревали, что мужчина может здесь подглядывать за ними. И Дюрталь позавидовал дивной мудрости бедных девушек: они одни поняли, что желание жить безумно. Он подумал: невежество ведет к тому же, что и знание. Среди кармелиток попадаются богатые красавицы, жившие в свете и бросившие его, бесповоротно убедившись в тщете своих удовольствий, — а эти монашки, не знающие, очевидно, ничего, просто почувствовали пустоту мира, для чего тем понадобились долгие годы опыта. Разными путями они пришли к одной точке. И притом какую дальновидность показывает их постриг! Ведь не прими Христос этих несчастных, кем бы они стали? Женами пьяниц, вечно битыми; трактирными служанками — утехой хозяев и потехой других слуг; их ожидали бы тайные роды, позор уличной жизни, опасности от заманивания клиентов… Ничего этого они не знали и всего избежали; они остались невинными, удалившись от этих угроз и от этой грязи, приняли бремя службы небесчестной, избрали такой род жизни, который сам приведет их, если они будут достойны, к наичистейшим радостям, которые может ощутить человек! Может быть, они и остались подобны скотине — но теперь стали Божьей скотиной. Пока он так размышлял, сторож подал ему знак. Священник сошел с алтарных ступеней, держа в руках маленькую дароносицу; девичья процессия тронулась и пошла перед ним. Дюрталь оказался впереди тех монахинь, которые не участвовали в шествии; со свечой в руке он шел рядом со сторожем, который нес над священником раскрытый белый шелковый зонтик. Тут с клироса тягуче, как огромный аккордеон, зазвучала фисгармония. Звук ее наполнил всю церковь, и хор монашек запел старое песнопение в ритме марша: Adeste fideles, а те монахини и прихожанки, что были внизу, после каждой песни речитативом проговаривали нежный, трогательный припев Venite adoremus[51]. Процессия несколько раз обошла капеллу, после каждого круга останавливаясь и в клубах фимиама, которым кадили алтарники, склоняя головы перед настоятелем. «Ну что ж, — подумал Дюрталь, когда они вернулись к алтарю, — я еще неплохо отделался». Он было решил, что сыграл свою роль, но тут сторож, уже не спрашивая разрешения, поставил его на колени на перекладину для причастников перед престолом. Дюрталю стало не по себе. Во-первых, его смущало, что за спиной у него весь монастырь с пансионом; во-вторых, поза была непривычная: ему казалось, что под колени вбиты клинья, что его пытают, как в Средние века. Свеча тоже мешала ему: она оплывала, грозила закапать одежду. Он потихоньку ерзал на месте, пытаясь подстелить под колени полы пальто, но, шевелясь, делал себе только хуже: перекладина еще сильнее врезалась в тело, коленки натирало и жгло. Он нервничал, покрывался потом, боялся упасть, нарушив молитвенное настроение; а церемония длилась и длилась, монахини на хорах пели и пели, но он их уже не слушал, а только негодовал на долготу службы. Наконец настал момент освящения Даров. И тогда, помимо воли, видя себя в такой близости к Богу, Дюрталь забыл, что ему больно, и низко склонил голову, стыдясь, что стоит перед девами в белых одеждах вот так, словно командир перед ротой солдат; и когда в полной тишине прозвучал звонок и священник, обернувшись, медленным крестообразным движением благословил собравшихся Дарами, когда вся часовня пала на колени, Дюрталь, весь подавшись вперед и закрыв глаза, желал куда-нибудь спрятаться, стать совсем маленьким, чтобы там, наверху, его не заметили в толпе молящихся… Псалом Laudate Dominion omnes gentes[52] еще не допели, когда сторож взял у Дюрталя свечу. Вставая, Дюрталь чуть не вскрикнул от боли; затекшие колени трещали, суставы не разгибались. Все же он кое-как доковылял до места, дал толпе пройти, подошел к сторожу и спросил, что за монастырь и что за орден, которому принадлежит церковь. — Это францисканки — миссионерки Девы Марии, — ответил сторож, — но храм принадлежит не им, как вам показалось: капелла относится к приходу Сен-Марсель в Мезон-Бланш; она просто соединена переходом с домом позади нее на улице Эбро, где живут сестры. Собственно говоря, они ходят сюда на службу точно так же, как и мы с вами, да еще держат школу для окрестных детей. Умилительная часовенка! — подумал Дюрталь, оставшись один. Она так под стать окрестным местам, даже мутному потоку, текущему вдоль кожевенных мастерских рядом с улицей Гласьер. Она так же относится к Собору Богоматери, как ее соседка Бьевра[53] к Сене. Она — ручеек Церкви, «кушать подано» веры, нищее предместье богослужения! Но как изящны и скупы эти бесполые, потускневшие голоса монашек! А ведь я, бог знает почему, терпеть не могу женский голос в святом месте: что ни говори, в них всегда будет нечто нечистое. Мне все кажется, что женщины приносят с собой непроходящий скверный запах своих недужных дней, что от них створаживаются псалмы. К тому же в мирских голосах непременно звучат суета и похоть; их вскрики под орган — всего лишь вопли зова плоти; даже в самых мрачных гимнах стенания их одними устами обращаются к Богу: ведь, в сущности, женщины оплакивают лишь пошлый идеал земного удовольствия, которого не могут достичь. И как я понимаю, Церковь не допускает их к богослужению и в гимнах своих, дабы не портить их музыкальной ткани, употребляет голоса мужские, детские, а то и кастратов! Но в женских монастырях все иначе: несомненно, что молитва, частое причащение, воздержание, монашеские обеты очищают тело, душу и исходящий от них аромат голоса. Духовные воды даже самым необделанным голоса монахинь дают целомудренные модуляции, бесхитростную нежность чистой любви, возвращают их звуки к состоянию детской невинности. В некоторых орденах с этих голосов даже как будто бы обрубают все сучья, оставляя для течения соков лишь слабенький стебелек: он вспомнил монастырь кармелиток, где иногда бывал, их зыбкие, полумертвенные голоса, лишь в трех нотах сохранявшие остаток жизни, потерявшие весь ее музыкальный колорит, все оттенки, присущие большому хору; казалось, в монастырском напеве отражены цвета одеяний и только: звуки были белые и бурые, чистые и мрачные. Кармелитки! Он вспоминал о них теперь, идя вниз по улице Гласьер. Приходила на память церемония пострижения: это впечатление врезалось в него всякий раз, как он представлял себе монастырь. Он вновь и вновь видел себя утром в маленькой капелле на проспекте маршала Саксонского: готической, испанского стиля, с такими темными витражами в узеньких окошках, что свет застревал в цветных стеклах, ничего не освещая. В глубине, во мраке, стоял главный алтарь на шести ступенях, слева была большая железная решетка стрельчатой формы, забранная черным занавесом, и с той же стороны, но почти у самого алтаря, на глухой стене намечена еще одна арочка удлиненной формы, а в ней посередине зиял проем, похожий на квадратный люк, на раму без картины, на ход в пустоту. Тем утром капелла, темная и холодная, переливалась огнями свечей, и ладан, не испорченный, как в других храмах, примесью камеди и бензоя, наполнял ее ароматом и густым дымом; народу было полно. Дюрталь, примостившись в уголке, обернулся и вместе с соседями следовал взглядом за спинами кадилоносцев и священников, направлявшихся к входу. И вдруг дверь резко распахнулась, и во внезапно ворвавшихся лучах солнца явился красным видением кардинал-архиепископ Парижский; он прошел через неф, тряся головой с лошадиной челюстью и громадным носом в очках, высокий, но сгорбленный и скособоченный, благословляя своих помощников скрюченной, как клешня краба, рукой. Архиепископ со свитой взошел к алтарю, преклонил колени на молитвенной скамеечке. Потом с него сняли пелерину, подали шелковую ризу, шитую серебром и с серебристым крестом, и началась месса. Незадолго до момента причащения черную завесу осторожно отодвинули, и в голубоватом освещении, похожем на лунную ночь, Дюрталь увидел, как скользят некие белые призраки, как мерцают в воздухе звезды, а на земле у самой решетки неподвижную коленопреклоненную женскую фигуру со свечой, на конце которой тоже была звезда. Женщина не шевелилась, но звезда подрагивала; когда же началось причащение, она встала, отошла, и ее голова, как отрезанная, явилась в окошке маленькой арки. Тогда Дюрталь подался вперед, и на секунду ему явилось мертвое лицо с закрытыми глазами — белое и безглазое, как античные мраморные статуи. И тут же его закрыл кардинал с дароносицей, склонившийся к окошку… Это произошло так быстро, что Дюрталь подумал, не померещилось ли ему. Месса окончилась. Из-за железной решетки послышалось унылое монотонное чтение, затем медленные распевы, тянувшиеся на одной и той же плачевной ноте. В текучей синеве ладана пробегали случайные проблески света и проплывали белые фигуры. Монсеньор сидел с митрой на голове и задавал вопросы ищущей пострижения, которая вернулась на прежнее место и, преклонив колени, стояла перед ним за решеткой. Кардинал говорил тихо: так, что ничего не было слышно. Вся капелла подалась вперед, чтобы услышать, как новоначальная приносит обеты, но не разбирали ничего — только долгий шепот. Дюрталь припоминал: он растолкал людей локтями и добрался до самых хоров; там, за перекрещенными прутьями, он увидел женщину в белом, лежавшую ничком на полу в обрамлении цветов; весь монастырь проходил мимо, склоняясь к ней, пел погребальную песнь и кропил святой водой, как покойницу… Восхитительно! — воскликнул он прямо посреди улицы, весь загоревшись при этом воспоминании. Что за жизнь! как живут эти женщины! — думал он дальше. Спать на соломенной подстилке с колючим конским волосом, без подушки и простыни; держать строгий пост семь месяцев в году, кроме воскресений и праздников; есть только стоя, только овощи и прочую постную пищу; зимой не зажигать огня; часами читать псалмы, стоя коленями на ледяных плитах; смирять плоть и самой смиряться: родившись белоручкой, безропотно мыть посуду, исполнять самые грязные работы; молиться с утра весь день до полуночи, пока не упадешь в изнеможении: молиться до смерти! Поистине они должны глядеть на меня с жалостью: их дело — искупить безумие мира сего, который считает их сумасшедшими истеричками, ибо не способен понять скорбные радости таких душ! Не приходится собой гордиться при мысли о кармелитках и даже об этих скромных францисканках, хоть они и вульгарнее. Эти, правда, не из молитвенного ордена, но их устав тоже довольно суров и жизнь довольно тяжела, так что и они своими молитвами и делами могут возместить излишества города, стоящего под их обороной. Он думал о монастырях и все больше воспламенялся духом. Так и зарыться бы в них, схоронить себя среди невежд, забыть, издаются ли книги, выходят ли газеты, вообще не знать, что происходит вне кельи; и в такой замурованной жизни идти путем блаженного молчания, питаясь благими делами, утоляя жажду старыми распевами, пресыщаясь неисчерпаемыми яствами Литургии! А там — кто знает? — силой благоволения и горячей мольбы наконец приблизиться к Нему, беседовать с Ним, ощущать Его вблизи себя, и Он, быть может, будет почти доволен творением Своим! На память приходило веселье, царившее в тех аббатствах, где обитал Иисус Христос. Он припомнил необыкновенную обитель Унтерлинден близ Кольмара, где в XIII веке не одна, не две монахини, а весь монастырь, преступив рассудок, с радостными кликами возносился к Христу: одни сестры взлетали над землей, другие слышали ангельское пение, источали миро из своих изможденных тел; третьи становились прозрачными, окружались звездными нимбами: все явления молитвенной жизни становились видимы в этом монастыре — высшей школе мистики! Погруженный в мысли, он уткнулся в собственную дверь, даже не соображая, какой дорогой шел, вошел в комнату, и душа его распахнулась, расцвела. Хотелось благодарить, просить милости, просить у кого-то чего-то: он не знал, чего и у кого. И вдруг эта потребность раскрыться, выйти за собственные пределы стала ясной и определенной. Он упал на колени и обратился к Пресвятой Деве: — Помилуй мя, послушай мя; хуже нет, чем оставаться так, продолжать эту жизнь разорванную, бесцельную, эту пустую гонку! Прости, Матерь Божья, мне, подлому, что не имею смелости объявить себе войну, с собой сражаться! О, была бы воля Твоя! знаю, Владычица, что велико дерзновение молить Тебя, когда сам не решился обратить душу свою, опрокинуть ее, как ведро помоев, закрутить пресс, чтобы весь отстой вытек, чтобы вся накипь отошла, но… но… как быть! я так слаб, так неуверен в себе, что, правду скажу, не смею приступить! И все же как бы я хотел оказаться за тысячу миль отсюда, от Парижа, в какой-нибудь малой обители! Господи! что за глупости я говорю Тебе: я же двух дней не проживу в монастыре, да меня туда и не возьмут. И он стал размышлять… Раз в жизни я оказался менее сух и нечист, чем обычно, и то могу обратиться к Богородице с одними глупостями и бессмыслицами, а ведь так было бы просто — просить у Нее прощения, молить, чтобы Она сжалилась над моей пустынной жизнью, помогла мне отказаться от дани моим порокам: не платить, как я плачу, по обязательствам нервов, по квитанциям чувств! — Что же, хватит, — проговорил он, вставая. — Сделаю хотя бы что могу: теперь же, не откладывая, пойду к аббату, расскажу ему про свои душевные терзания — а там посмотрим!V
Как же стало легко на душе, как только горничная сказала: «Господин аббат дома»! Дюрталь вошел в малую гостиную и стал дожидаться, когда священник, с кем-то говоривший в соседней комнате, освободится. Он огляделся. С его последнего посещения ничего не изменилось: в комнатке все тот же бархатный диван, когда-то ярко-красный, а теперь розоватый, как малиновое варенье, пропитавшее кусочек хлеба. Еще стояли там два вольтеровских кресла по обеим сторонам камина, на камине часы в стиле ампир и фарфоровые вазы, из которых торчал воткнутый в песок сухой камыш. В углу у самой стены под древним деревянным распятием стояла сильно потертая молитвенная скамеечка, посередине комнаты овальный стол, на стенах несколько гравюр духовного содержания, и больше ничего. Похоже на гостиницу или на жилье старой девы, подумал Дюрталь. Дешевая мебель, выцветшие дамастовые шторы, бумажные обои с маковыми и полевыми цветами неопределенных колеров действительно наводили на мысль о недорогой меблирашке, но кое-какие детали: прежде всего педантичная чистота в комнате, вышитые подушечки на диване, плетеные круглые подстилочки на стульях и гортензия, похожая на раскрашенную цветную капусту, в кашпо с кружевной накидкой — напоминали холодную прилизанную квартиру пожилой богомолки. Не хватало, правда, клетки с канарейками, фотографий в плюшевых рамочках, раковин и булавочных подушечек. В таких размышлениях застал Дюрталя аббат. Он подал ему руку и кротко упрекнул, что писатель забыл о старике. Дюрталь, как мог, извинился необычайной якобы занятостью и вечными хлопотами. — А как продвигаются дела с нашим житием блаженной Лидвины? — О, даже не принимался; честное слово, я не в том состоянии духа, чтобы к нему приступить. Отчаяние в голосе Дюрталя удивило отца Жервезена: — Что такое? что с вами? Могу ли я вам быть полезен? — Не знаю, господин аббат; право, мне немного стыдно занимать вас такими пустяками… И вдруг его прорвало: не разбирая слов, он излил свои жалобы, признавался, что сомневается в своем обращении, рассказал о распре со своим телом, и как он боится чужого мнения, и как далек от церковной жизни, и как ему противны каждодневные обряды, всякое наложенное иго. Аббат, не перебивая, слушал, подперев рукой голову. — Вам уже за сорок, — сказал он, когда Дюрталь замолчал. — Вы не в том возрасте, когда восстание плоти пробуждает соблазны прежде мысленного влечения: теперь вы в таком периоде, когда сначала воображению представляются непристойные помыслы, а уже потом содрогаются чувства. Поэтому и сражаться следует не с утомленным телом, а с душой, которая подстегивает и смущает тело. С другой стороны, вам некуда теперь девать собрание запоздалых нежных чувств: для этого нет ни жены, ни детей; итак, в конце концов вы принесете привязанности, подавленные безбрачием, туда, куда им с самого начала и следовало направиться. Вы стремитесь утолить душевный голод, устремляясь в храмы, но поскольку колеблетесь, поскольку вам не хватает смелости остановиться на одном решении, раз и навсегда порвать со своими пороками, вы и пришли к такому странному компромиссу: сердечную нежность отдаете Церкви, а проявления этой нежности блудницам. Вот, если не ошибаюсь, итог ваших счетов. Боже мой, что же: совсем не стоит так сокрушаться; ведь главное, видите ли, в том, чтобы любить женщину только телесно. Раз Небо даровало вам эту благодать — нетронутость чувств, — надо лишь немного доброй воли, и все устроится. «Какой снисходительный батюшка», — подумал Дюрталь. — Да, но все же, — продолжал аббат, — вечно вы не можете сидеть на двух стульях; придет время, когда надо будет выбрать один, а другой оттолкнуть. Аббат увидел, что Дюрталь, не отвечая, повесил голову… — Но вы хотя бы молитесь? Я вас не спрашиваю, творите ли вы утреннюю молитву: все, кто приходит на путь к Богу после долгих лет странствий по бездорожью, никогда не зовут Господа, как только проснутся. Поутру душе кажется, что она здорова, крепка, и, пользуясь этой преходящей энергией, она тотчас же забывает о Боге. Но с ней все то же, что и с телом больного человека. Когда спускается темнота, недуг обостряется, утоленная на время боль возбуждается, спавшая горячка возобновляется, гной поднимается, раны кровоточат, и тогда душа жаждет Божьего чуда, вспоминает о Христе. Так молитесь ли вы по вечерам? — Бывает… но это так нелегко! Ранним вечером — еще может быть, но вы сами сказали: как только наступает темнота, пробуждается зло. И тогда у меня в голове так и скачут непристойные мысли! Как же в такое время собраться духом? — А если у вас нет сил сопротивляться на улице или дома, почему бы вам не найти приют в храме? — Но ведь они закрыты как раз тогда, когда больше всего в них нуждаешься! Духовенство укладывает Христа спать, едва стемнеет… — Знаю, знаю; да, большинство церквей закрыто, но в некоторые пускают до довольно-таки позднего часа. Постойте, ведь и Сен-Сюльпис в их числе, и есть еще одна, открытая каждый вечер; там посетителю в любой час не откажут в спасительной молитве и пении. Это Нотр-Дам-де-Виктуар. — Верно, господин аббат. Она безобразна до слез, претенциозна, вычурна, а певчие делают из звуков какой-то прогорклый маргарин. Я не пойду туда, как в Сен-Северен и Сен-Сюльпис, восхищаться искусством старых «домохозяев Господних», не пойду слушать глубокие, родные мелодии древних распевов, хоть и перевранные. С эстетической точки зрения Нотр-Дам-де-Виктуар — пустое место, но я там иногда бываю, потому что только она во всем Париже сохранила неотразимое обаяние надежного боголюбия, только там осталась нетронутой утраченная душа времени. В какой час туда ни придешь, там в совершенном безмолвии молятся простершиеся ниц люди; она полна сразу по открытии и остается полна до самого закрытия; все время туда приходят богомольцы со всех концов Парижа, приезжают со всей провинции, и кажется мне, что каждый из них своей молитвой подкладывает хворост в безмерный костер Веры, пламя которого вечно пробивается из-под угасшего пепла, подобно тому как тысячи свечей, сменяя друг друга, с утра до вечера горят перед статуей Божьей Матери. Так вот: я всегда ищу в храме самый укромный уголок, самое неосвещенное место, ненавижу толпу, но с этой смешиваюсь едва ли не с удовольствием. Там каждый наедине с собой и при том все помогают друг другу: даже не замечаешь обступающих тебя тел, но чувствуешь окружающие тебя души. Как бы ни был ты огнеупорен и влажен, в конце концов, соприкасаясь с ними, возгоришься и с удивлением увидишь самого себя не таким подлым. Кажется, будто молитвы, исходящие из моих уст, что в другом месте падают оземь, бессильные и холодные, здесь возносятся, поддержанные другими, и нагреваются, и воспаряют, и живут! Я и в Сен-Северен испытывал это чувство подмоги, истекающее от его опор, льющееся со сводов, но, разобравшись хорошенько, там эта поддержка слабее. Может быть, со Средних веков эта церковь уже износилась, не получая новых притоков небесных флюидов. А в Нотр-Дам-де-Виктуар Божья помощь брызжет из-под плит и непрестанно животворится непрерывным присутствием толпы горячих молитвенников. Там вас подкрепляет намоленный камень, само здание храма, здесь же вера множества людей, наполняющих церковь. И еще у меня есть странное впечатление, что Пресвятая Дева, которую здесь так часто призывают, в другие церкви только заходит на время, только гостит, здесь же, в Нотр-Дам-де-Виктуар, действительно пребывает. Аббат улыбнулся. — Вижу, вы действительно знаете и любите этот храм, а ведь он не на Левом берегу, вы же мне как-то говорили, что на Правом нет ни одной стоящей церкви. — Да, и это меня очень удивляет, тем более что она стоит в самом торгашеском квартале, в двух шагах от Биржи; она может слышать гнусные крики, доносящиеся оттуда! — А ведь она и сама была раньше биржей, — заметил аббат. — Как это? — Некогда ее освятили два монаха и она служила капеллой босым августинцам, во время же революции ее обесчестили, разместив биржу в ее стенах. — Этого я не знал! — воскликнул Дюрталь. — Но с ней, — продолжал аббат, — случилось то же, что с некоторыми подвижницами, которые, если верить их житиям, молитвами вновь обрели утраченную девственность. Церковь омылась от мерзости и теперь, хоть она и не очень стара, напиталась эманациями святости, вобрала в себя ангельскую силу, просолилась божественной солью, стала для недужных душ тем же, чем горячие воды становятся для тел. Там проходят курсы лечения: творят многодневные молитвы — и получают исцеление. Но вернемся к нашим баранам. Так я говорю, что вы очень разумно поступите, если в дурные вечера станете ходить к вечерне с возношением даров в эту церковь. Я очень удивлюсь, если вы не выйдете оттуда отрешившимся от суеты и поистине с миром. «Ну, если он только это может мне предложить, так это немного», — разочарованно подумал Дюрталь, немного еще помолчал и ответил: — Господин аббат, но ведь пока соблазны преследуют меня, если даже я буду ходить в эту церковь и на службу в другие, пусть даже исповедаюсь и приступлю к причастию, что это мне даст? Я выйду, встречу женщину, вид которой разожжет мои чувства, и все будет точно так же, как в те вечера, когда я, возбужденный, выхожу из Сен-Северен. Само умиление, навеянное в храме, меня погубит: я расслаблюсь и пойду за женщиной. — Не говорите, чего не знаете! — Аббат внезапно встал и принялся шагать по комнате. — Вы не имеете права так говорить, ибо сила Святого Причастия безусловна. Причастившийся уже не один: он получил оружие против других и доспех против самого себя. — Он встал прямо против Дюрталя, скрестил руки на груди и возгласил: — Погубить душу ради того, чтобы извергнуть из себя немного нечистой материи — ведь это и есть ваша людская любовь! Что за безумие! Но с тех пор, как вы осуждаете себя, разве вам самому это не противно? — Противно, но лишь после того, как удовлетворится мое скотство… О, если бы я только мог прийти к истинному раскаянию! — Не беспокойтесь. — Аббат снова сел на кресло. — Вы уже пришли к нему. Дюрталь покачал головой; аббат сказал в ответ: — Вспомните слова святой Терезы: «Беда новоначальных в том, что они не умеют распознать, истинно ли их раскаяние в прегрешениях, но оно таково, и доказательство тому — их искреннее желание служить Богу». Поразмыслите над этой фразой: она применима и к вам; ведь отвращение от своих грехов, которое вас так мучает, свидетельствует, что вы не упорствуете в них, что имеете желание служить Богу, и свой бой вы ведете в конечном счете, чтобы прийти к Нему. Оба помолчали. — Так что же вы мне наконец посоветуете, господин аббат? — Молиться! Дома, в церкви, везде и как можно больше. Я не прописываю вам никаких специальных религиозных лекарств, а прошу вас в простоте душевной воспользоваться кое-какими правилами церковной гигиены. Потом посмотрим. Дюрталь посмотрел нерешительно и недовольно, как те больные, что сердятся, когда врачи порядка ради прописывают им одни безвредные пилюльки. Аббат засмеялся. — Признайтесь, — проговорил он, глядя Дюрталю прямо в лицо, — что вы сейчас думаете: нечего было все и затевать, проку нет никакого; батюшка, видно, занимается одним симптоматическим лечением; мне нужны сильные лекарства, чтобы снять приступ, а он советует ложиться пораньше и одеваться потеплее… — Что вы, господин аббат! — попытался возразить Дюрталь. — Но я не хочу говорить с вами как с ребенком или с женщиной. Итак, послушайте. Нет никаких сомнений в том, каким именно образом состоялось ваше обращение. Случилось то, что мистика именует божественным касанием; впрочем, и это примечательно, Господь, приводя вас на путь, который вы более двадцати лет назад оставили, обошелся без всякого человеческого вмешательства, даже без посредства священника. Рассуждая разумно, мы не можем предполагать, что Он действовал необдуманно и теперь желает оставить Свое дело недоделанным. Значит, Он завершит его, если вы тому не воспрепятствуете. В общем, вы сейчас подобны дикому камню в Его руках. Что Он сделает? Не знаю. Но раз Он Сам решил вести вашу душу, доверьтесь Ему. Подождите немного, и Он все объяснит; доверьтесь Ему, и Он вам поможет; исповедуйте с псалмопевцем: «Научи мя творити волю Твою, яко Ты еси Бог мой» — и довольно. Говорю вам еще раз: я верую в предупредительную, безусловную силу Святого Причастия. Я очень хорошо понимаю систему отца Миллерио, который людей, впавших опять в оставленные грехи, принудительно заставлял причащаться. Вместо всякой епитимьи он велел им только причащаться вновь и вновь, и так, давая Святые Дары в больших дозах, в конце концов очищал этих людей. Это очень реалистичное и очень возвышенное учение… Но не бойтесь, — продолжал аббат, заметив, что Дюрталю стало как будто не по себе, — я не собирался проверять эту методу на вас. Напротив: мое мнение таково, что, поскольку мы не знаем Божьей воли, вам надо воздержаться от святых таинств. Надобно, чтобы вы их возжелали, чтобы это желание шло от вас или, вернее, от Него, и такая жажда покаяния, такой голод по евхаристии у вас раньше или позже появится — будьте благонадежны. И вот когда вы уже не сможете держаться, когда запросите о прощении и будете умолять, чтобы вас допустили до Священной Трапезы, — тогда мы посмотрим, тогда спросим у Господа, как будет лучше для вашего спасения приступить к этому. — Но, мне кажется, не бывает разных способов исповеди и причащения… — Несомненно; я вовсе не это хочу сказать. Так-так… погодите… Аббат замялся, подыскивая слова. — Ясно, — вновь заговорил он, — что искусство было главным средством, которое Спаситель использовал, чтобы вы впитали в себя веру. Он нашел ваше слабое место… или сильное, если вам так угодно. Он поразил вас мистическими шедеврами, убедил и обратил вас не столько через рассудок, сколько через чувства — но это, право же, весьма особенный случай, что очень нужно принимать в расчет. С другой стороны, душа у вас не простая, не смиренная; она у вас недотрога и свернется от малейшей неосторожности или неловкости вашего духовника. Стало быть, чтобы не отдавать вас на милость неприятных впечатлений, надо принять кое-какие меры. В том состоянии слабости, изнеможения, в котором вы сейчас находитесь, хватит сущей мелочи, чтобы обратить вас в бегство: несимпатичного лица, неудачного слова, неприятной обстановки… не так ли? — Увы! — вздохнул Дюрталь. — Вынужден ответить вам, что вы судите верно. Но, господин аббат, мне, кажется, не придется бояться подобных разочарований, если, когда настанет объявленный вами момент,вы позволите мне исповедаться у вас. Священник помолчал, потом ответил: — Конечно, раз я встретил вас, то, наверное, для вашей пользы, но мне думается, что моя роль — лишь указать вам путь; я буду связующим звеном, не более. Вы закончите так, как начинали: один, без помощи… — Аббат еще ненадолго задумался, покачал головой: — Впрочем, оставим это: мы ведь не можем судить о воле Божьей. Лучше я так вам скажу в коротких словах: старайтесь подавлять свои плотские страсти молитвой. Сейчас для вас не так важно быть или не быть побежденным, как прилагать для этого все усилия. Он увидел, что Дюрталь совсем уныл, и ласково продолжал: — Если падете, не отчаивайтесь, не опускайте рук. Скажите себе, что похотливость, если на то пошло, не самый непростительный из грехов: это один из тех двух пороков, за которые человек платит сразу, а значит, хотя бы частично искупается смертью. Помните: алчность и сладострастие не дают кредита и не ждут; и действительно, тот, кто погрешает плотью, почти всегда бывает наказан при жизни. Одним приходится воспитывать незаконнорожденных, другим — больных жен; тут и мезальянсы, и разбитая жизнь, и кошмарные обманы от тех, кого любили… С какой стороны ни подойди к женщине, будешь страдать: ведь это одно из сильнейших орудий скорбей, данных человеку Богом! То же и со страстью к наживе. Всякий, кто дает овладеть собой этому мерзкому греху, обычно расплачивается за него прежде своей смерти. Возьмите хоть «Панаму». Кухарки, консьержки, мелкие рантье, дотоле жившие спокойно, не искавшие чрезмерных барышей, чересчур неправедных доходов, вдруг, как полоумные, бросились в эту аферу. У них осталась одна мысль: деньги, — и вы знаете, как их ошарашило наказание! — Да-да, — засмеялся Дюрталь, — братья Лессепс стали служителями провидения: извлекли сбережения у недотеп,{28} да ведь и те, скорей всего, не добром их нажили! — Словом, — сказал аббат, — вновь и вновь повторяю вам этот совет: станете тонуть — не отчаивайтесь. Не презирайте себя слишком; не робейте после этого приходить в церковь: через малодушие бес и владеет вами. Он внушает вам ложный стыд, ложное смирение, а они-то питают, сохраняют, укрепляют, если угодно, ваше сладострастие. О нет, я не прощаюсь. Заходите почаще. Дюрталь вышел в некотором замешательстве. «Ясно, шептал он про себя, широко шагая по улице, что аббат Жеврезен — умелый часовщик душ. Он так ловко развинтил передо мной движения моей души, заставил ее отбить часы усталости и уныния, но ведь, в общем-то, все его советы сводятся к одному: варитесь в собственном соку и ждите. На самом деле он прав: если бы я доспел, то и к нему пришел бы не поболтать, а исповедаться; странно вот что: судя по всему, он не думает, что это он меня отмоет; а куда же, по его мнению, мне обратиться? К первому встречному, который станет разматывать для меня кишку банальностей, растирать грубыми руками, вслепую? Так… это… ну-ка, который час? — Он посмотрел на часы: шесть, — домой идти не хочется — что же мне делать до ужина?» Он был возле Сен-Сюльпис: вошел и присел, чтобы немного собраться с мыслями. Дюрталь находился в капелле Девы Марии, в этот час почти пустой. Молиться не было никакого желания, и он сидел, оглядывая эту большую золоченую мраморную ротонду: темные театральные подмостки, на которых Богоматерь выступала к верующим, будто на фоне нарисованной пещеры, ступая по гипсовым облакам. Меж тем неподалеку от Дюрталя две монашенки из нищенствующих преклонили колени и замерли, обхватив головы руками. Глядя на них, замечтался… Достойны зависти, думал он, души, которые могут так отрешиться в молитве. Как им это удается? Ведь не так уж легко, как помыслишь о бедствиях мира сего, медоточиво хвалить милосердие Божие. Что толку знать, что Он есть, быть уверенным, что Он благ: в сущности, мы не знаем Его и ничего не знаем о Нем; Он имманентен и перманентен, неприступен и поистине может быть только таким. Если пытаться вообразить Его, приписать Ему человеческую оболочку, придем к наивным представлениям первых веков: Он предстанет нам дедушкой, старым итальянским натурщиком, Тургеневым с большой бородой; и как тут не улыбнуться? До того ребяческим получается портрет Бога-Отца! В общем, Он настолько превышает воображение, все наши чувства, что в молитвах остается чуть ли не пустым звуком, а человеческое почитание направлено на одного Сына; только Сыну можно молиться, потому что Он стал человеком, потому что для нас Он вроде старшего брата, потому что Он проливал слезы в человеческом образе, и мы думаем, что Он станет от этого снисходительнее, скорее снизойдет к нашим бедам. Ну, а третье Лицо еще непонятнее первого. Он-то и есть по преимуществу Непознаваемый. Как представить себе этого Бога бесформенного и бестелесного, ипостась, равную двум другим, от которых исходит? Его воображают в виде сияния, потока, дуновения, но Ему нельзя даже приписать мужское лицо, как Отцу, ибо те два раза, что Он облекался плотью, Его видели в виде голубя и в виде огненных языков, но эти два столь различных образа ничуть не помогают нам уразуметь, как Он может явиться в следующий раз! Решительно мысль о Троице устрашает — это грань безумия, да и Рейсбрук Удивительный писал: «Пусть желающие знать, что есть Бог, и исследовать Его, знают, что сие запрещено: они потеряют разум». Итак, продолжал Дюрталь, глядя на двух сестер-монахинь, которые теперь перебирали четки, как правы эти славные девушки, что не ищут понимания, а просто от всего сердца молятся Матери и Сыну! Ведь во всех житиях святых, которые монахини могли прочесть, они вычитали, что избранным для утешения и ободрения являлись Иисус и Мария… Впрочем, как же я глуп! Взывать к Сыну — то же, что к Отцу и Духу: когда мы молимся одному, молимся всем трем вместе, ибо Они — одно! Однако в то же время ипостаси различны, поскольку Сущность Божия едина и проста, но существует в трояком различии Лиц… Да нет: опять же, к чему углубляться в непостижимое? И все равно, продолжал он раздумья, вспоминая теперь недавнюю встречу с аббатом, как все это кончится? Он все понял: «Я уже себе не принадлежу; мне надо войти в пугающую неизвестность; и если бы ропот грехов хотя бы приумолк, но нет, я чувствую, как бешено они нарастают во мне. Ах, Флоранс… — Он вспомнил одну девчонку, приковавшую его своим развратом. — Она никак нейдет у меня из головы, раздевается за опущенной занавеской моих век; как подумаю про нее, мной овладевает ужасное малодушие». Он и в этот раз попытался прогнать ее, но она лежала перед ним, распахнувшись, и смеялась, а при виде ее вся воля его тотчас рушилась. Он ее презирал, ненавидел даже, но сходил с ума от самой наглости ее обманов; он уходил от нее с омерзением к ней и к себе, клялся никогда не возвращаться — и все же возвращался, зная, что после нее любая другая покажется пресной. Он с грустью думал о женщинах более высокого сорта, куда выше Флоранс, и те были тоже страстными и на все готовыми, но до чего же в сравнении с этой девкой черт знает какого разлива их букет оказывался скудным, аромат скучным! Нет, чем больше он об этом думал, тем больше должен был признать, что ни одна из них не могла так вкусно приготовить гадости, заварить такую порочную кашу. И вот он видел, как она тянется к нему губами, протянул руки, чтобы схватить ее… Дюрталь остановился. «Что за гнусность!» — вскричал он про себя, но видение его не прервалось, а только перенеслось на одну из сестер. Перед ним был ее миловидный профиль; он мысленно стал ее раздевать, неторопливо, наслаждаясь остановками; закрыв глаза, он видел под убогим одеянием формы все той же Флоранс… Дюрталь содрогнулся, вернулся к действительности: он был в Сен-Сюльиисе, в капелле. О, до чего ж противно было так осквернить храм чудовищными видениями! Нет уж, лучше уйти. И он в отчаянье вышел. Я довольно давно не знаю женщин, потому, быть может, и брежу, подумал он. Сходить бы к Флоранс, избавиться от контрабанды мыслей, от злочиния нервов, выплеснуть все желание, убить, наконец, похоть тела, обожравшись ею! Но ему тут же пришлось обозвать самого себя идиотом: он ведь на опыте знал, что разврат не истощается, что сластолюбие тем алчнее, чем больше его питают. «Нет-нет, аббат совершенно прав: нужно именно стать и оставаться целомудренным. Но как? Молитвой? Да как же мне молиться, если даже в церкви я вижу голых баб! В церковке на Гласьер они меня тоже преследовали, и тут являются и сражают меня… Как от них оборониться? Ведь это, в конце концов, ужасно: оставаться одному, ничего не знать, не иметь никаких доказательств, чувствовать, как от тебя уходит молитва, проваливаться в пустоту, в тишину, без единого жеста в ответ тебе, без единого слова ободрения, без единого знака… Не знаешь, где ты, не знаешь, слышит ли Он тебя! Аббат хочет, чтобы я ждал указания свыше — нет, увы, указания мне приходят снизу!»VI
Так прошло несколько месяцев; Дюрталя привычно одолевали то распутные, то благочестивые помыслы. Он не имел сил на них реагировать и только плыл по течению. Однажды, чуть отойдя от апатии, он попытался подвести счеты и в бешенстве воскликнул: нет, ничего не понимаю! — Но послушайте, господин аббат, что же это все значит? Как только во мне ослабевает похоть, слабеет и одержимость верой… — А это значит, — отвечал пастырь, — что враг ставит вам самую коварную ловушку. Он хочет убедить вас, будто у вас ничего не получится, покуда вы не предадитесь гнуснейшему разврату. Он желает вам доказать, что лишь пресыщенность этими делами, отвращение от них приведут вас к Богу, подучивает вас делать это, якобы чтобы ускорить ваше освобождение, вовлекает вас в грех, притворяясь, что бережет от него. Так соберитесь немного с силами, не обращайте внимания на его софизмы, отвергните их. К аббату Жеврезену Дюрталь заходил каждую неделю. Ему нравилась терпеливая скромность старого священника. Аббат не прерывал его, когда Дюрталю хотелось выговориться, слушал его внимательно; совсем не видно было, чтобы раздвоенность и падения литератора удивляли старика. Аббат лишь все время возвращался к своим первоначальным советам: строго настаивал, чтобы Дюрталь регулярно молился и, по возможности, каждый день бывал в церкви. Теперь он даже говорил еще и так: «В какой час ходить, тоже небезразлично. Если вы хотите, чтобы молитва в церкви шла вам на пользу, вставайте пораньше, дабы с рассветом поспеть к ранней мессе — мессе служанок, — и с наступлением сумерек тоже не забывайте заходить в храм». Священник явно набросал про себя какой-то план: Дюрталь еще не понимал его целиком, но не мог не отметить, что этот режим выжидания в сочетании с напряжением мыслей, устремлявшихся к Богу ежедневным посещением церкви, постепенно действовал на него и понемногу массировал душу. Кое-что подтверждало это на деле: столько лет он не мог собраться поутру, теперь же молился, как только вставал. Иногда, даже днем, он чувствовал потребность смиренно поговорить с Богом, неудержимое желание попросить у Него прощения и помощи. И тогда казалось, будто Господь легонько постукивает по его душе, желая так привлечь его вниманье, воззвать к нему, — но когда Дюрталь, смутившись и умилившись, хотел спуститься в собственную глубину, то начинал колобродить умом, сам не зная, что говорит, и не думал о Боге, разговаривая с Ним. Он жаловался на эти блужданья аббату, а тот отвечал: — Жизнь ваша сейчас на пороге очищения; вы еще не можете испытать в молитве сладости близкого дружества. Не огорчайтесь, потому что захлопнуть дверь своих чувств за собой вы не можете, а покуда крепитесь: молитесь дурно, если не можете хорошо: только молитесь. Хорошенько возьмите в голову: те сомнения, что вас томят, знали все, а прежде всего поймите: мы не бредем на ощупь, мистика — наука совершенно точная. Она может предсказывать большую часть явлений, совершающихся в душе, которую Господь предназначил к совершенной жизни; притом она столь же ясно прослеживает духовные процессы, как физиология — различные состояния тел. Из века в век мистика рассказывала всем про ход работ благодати, ее поступь, то стремительную, то неспешную; она даже определила, как изменяются телесные органы, ежели душа целиком переплавилась в Боге. Святой Дионисий Ареопагит, святой Бонавентура, Гуго и Ричард Сен-Викторские, святой Фома Аквинский, святой Бернард, Рейсбрук, Анджела из Фолиньо, оба Экхарта, Таулер, Сузо, Дионисий Картезианец, святая Гильдегарда, святая Екатерина Генуэзская, святая Екатерина Сиенская, святая Маддалена Пацци, святая Гертруда{29} и другие искусно начертали принципы и теорию мистики. Наконец, для создания свода своих правил и исключений она обрела удивительного психолога: святую, проверившую все сверхъестественные состояния, о которых писала, жену со сверхчеловеческой ясностью взора — святую Терезу. Вы читали ее житие и «Замок души»? Дюрталь кивнул. — Значит, у вас есть об этом сведения; вы должны знать, что прежде, нежели достичь отмелей блаженства, пятого жилища внутреннего замка — молитвы единения, когда душа возносится до самого Бога и совершенно равнодушно взирает на все земное и на саму себя, — она должна пройти через самые скудные пустыни, самые мучительные родовые схватки. Итак, утешьтесь; скажите себе, что душевная сухость должна стать источником смирения, а не причиной для беспокойства; словом, сделайте, как велит святая Тереза: несите свой крест, а не влачите! — Меня устрашает эта великолепная и грозная святая! — вздохнул Дюрталь. — Я читал ее творения: знаете ли, она кажется мне лилией непорочной, но металлической, выкованной из металла. Признайтесь, что страждущим не приходится ожидать от нее многого утешения! — Да, в том смысле, что она не занимается тварностью, человеком помимо мистического пути! Она имеет в виду целину уже поднятую, душу, уже освободившуюся от самых сильных искушений и защищенную от новых переломов; для вас ее исходная точка пока что слишком высока и далека: ведь она вообще-то обращается к инокиням, затворницам, живущим вне мира, а значит, ушедшим уже довольно далеко на пути аскезы, по которому их ведет Бог. Но восстаньте умом из своей грязи, отбросьте на миг воспоминание о своем несовершенстве и скорбях и последуйте за ней. Посмотрите тогда, насколько она сведуща в сверхъестественном, как умело и ясно, при всех своих длиннотах и повторах, объясняет механику души, идущей ввысь после того, как Бог прикоснулся к ней! Говоря о таких предметах, от которых слова растворяются, а фразы крошатся, ей удается быть понятной, показать, дать почувствовать и едва ли не увидеть непредставимое зрелище Бога, угнездившегося и веселящегося в душе! Притом она идет в таинственном еще дальше: идет до конца, досягает в последнем порыве до самых небесных врат, но тогда уж ослабевает от благоговения и, не в силах выразить его, начинает кружить, как обезумевшая птица, парит вне себя, испуская любовные крики! — Да, господин аббат, я признаю: святая Тереза глубже всех исследовала неизвестные области души; она в некотором роде географ. Первым делом она составила карту душевных полярных зон, прошла высокие широты созерцательной молитвы, внутренние земли человеческого неба; до нее там бывали другие святые, но они не оставили столь методичной и точной их топографии. Тем не менее я предпочту ей тех мистиков, что не анализируют себя так и меньше рассуждают, но в их сочинениях всегда происходит то, что у святой Терезы совершается лишь в конце: они пылают от первой строки до последней и сгорают в беспамятстве у ног Христа. Таков Рейсбрук — что за жаркий костер его маленький томик, переведенный Элло! Ну а если называть женщин — вот возьмем святую Анджелу из Фолиньо, не столько в «Видениях», которые не всегда трогают душу, сколько в чудесном житии, продиктованном ею своему духовнику брату Армандо. Она также, задолго до святой Терезы, объяснила принципы и действие мистики, но если она не столь глубока, не так умело отмечает тонкости, зато какое красноречие, какая нежность! Что за кошачья ласка души! Что это за вакханка любви к Богу, за менада непорочности! Христос ее любит, она подолгу у Него гостила и запомнила Его слова; эти слова выше любой литературы, прекрасней всего когда-либо написанного. Это уж не суровый Христос, не испанский, не Тот, что прежде всего попирает Свое творение, чтобы размять его, а Христос евангельский, добрый Христос святого Франциска — а мне францисканский Христос нравится больше, чем кармелитский. — Ну а как вам тогда святой Иоанн Креста Господня?{30} — с улыбкой ответил аббат. — Вы сейчас сравнили святую Терезу с железным цветком; вот и он цветок, но цветок клейма: та королевская лилия, которую палачи некогда выжигали на телах осужденных. Как раскаленный докрасна металл, он жарок и темен. У святой Терезы есть страницы, где она склоняется к нашей немощи и жалеет нас: он же всегда непроницаем, заключен в своей внутренней бездне, занят прежде всего описанием скорбей души, некогда распятой своими страстями и прошедшей через «темную ночь», то есть отказ от всего, что идет от чувственности и от тварного мира. Он требует угасить свое воображение, погрузив его в такой анабиоз, чтобы оно утратило способность творить образы, требует замуровать чувства, упразднить душевные способности. Он требует от желающего соединиться с Богом поместить себя словно под стеклянный колпак и создать внутри себя вакуум, чтобы Господь мог, если захочет, сойти туда и Сам довершить очищение, искоренив остатки греха, перепахав последние убежища порока! Тогда страдания, которым подвергается душа, превосходят пределы возможного; она лежит в беспамятстве и в совершенной тьме, падает от изнеможения и отчаяния, считает себя навек оставленной Тем, к Кому взывала: теперь Он сокрылся от нее и не отвечает ей. Счастье еще, если к этой агонии не прибавятся телесные муки и тот ужасный дух, которого Исайя именует духом прельщения, — на деле, болезнь сомнения в себе в острой стадии! Святой Иоанн приводит вас в содрогание, говоря, что ночь души горька и страшна, что переживающий ее заживо находится во аде! Но когда ветхий человек совлечен, зачищен по всем швам, прополот по всем бороздам — тогда проливается свет и является Бог; душа, как ребенок, кидается к нему в объятья, и происходит немыслимое слиянье. Как видите, святой Иоанн глубже других проникает в недра истоков мистического пути. Как и святая Тереза, как и Рейсбрук, он говорит о духовном браке, о наитии благодати, о дарах ее, но он первый дерзнул в подробностях описать те мучительные этапы, которые прежде всегда затрагивали с крайней боязнью. И потом, он не только дивный богослов, но и строгий, светлый святой. В нем нет естественной слабости к женскому полу, он не теряется в блужданиях, не возвращается поминутно на прежнее: он идет прямо вперед, но часто мы видим его в конце пути: грозного, окровавленного и бесслезного! — Постойте, постойте! — воскликнул Дюрталь. — Но ведь не все, кого Христос хочет провести таинственными путями, проходят такие испытания? — Нет, почти все и всегда. — Признаюсь, я думал, что духовная жизнь не так безводна и неустроенна. Мне казалось, что, если соблюдать целомудрие, молиться, насколько хватает сил, причащаться, можно без особых трудов не то чтобы вкусить бесконечную радость — удел святых, — но хотя бы иметь Бога в себе, уютно жить рядом с Ним. И мне было бы вполне довольно такого мещанского счастья, но если за восторги приходится авансом платить такую цену, как пишет святой Иоанн, это смущает… Аббат улыбался и не отвечал. — Но, знаете ли, — продолжал Дюрталь, — если так, то это совсем не похоже на тот католицизм, которому нас учат. Тот, если сравнить с мистикой, такой практичный, добренький, благодушный, не правда ли? — Тот создан для душ теплохладных, то есть почти для всех религиозных душ, живущих вокруг нас; он живет в умеренном климате и не требует ни особых страданий, ни немыслимых радостей; он один приемлем для толпы, и священство право, представляя его таким, ибо иначе верующие ничего бы не поняли или бежали бы в ужасе. Но хотя Бог рассудил, что религия без крайностей подходит массам, — не сомневайтесь: от тех, кого Он удостоил приобщить сверхвосхитительных таинств Своей Личности, Он требует наимучительнейших трудов; необходимо и праведно Ему умерщвлять их прежде, чем дать вкусить сладости всех сладостей — союза с Ним. — В общем, цель мистики — сделать Бога, немого и невидимого для нас, видимым, ощутимым, почти осязаемым? — А нам — устремиться к Нему, в безмолвную бездну радостей! Но чтобы говорить об этом по-настоящему, надо забыть повседневный смысл опороченных выражений. Чтобы как-то определить эту таинственную любовь, мы вынуждены искать сравнения в человеческих действиях, так что Господу приходится стыдиться наших слов. Он велит нам прибегать к терминам «союз», «брак», «жених и невеста», от всего этого несет сальностями! Но как же тогда высказать невыразимое, как нашим низким языком выразить неизреченное погружение души в Бога? — Бесспорно, бесспорно… — прошептал Дюрталь. — Но, возвращаясь к святой Терезе… — И она, — перебил аббат, — говорила об этой «темной ночи», которой вы так боитесь, но только в нескольких строках. Она назвала ее агонией души, скорбью столь горькой, что она тщетно старалась бы ее описать. — Без сомнения, но она мне все же милей, чем святой Иоанн Креста Господня, — она не повергает в такое отчаянье, как этот непреклонный праведник. Признайте, что он прежде всего принадлежит той стране больших кровоточащих распятий в подземельях! — А святая Тереза кто по национальности? — Да, знаю, она тоже испанка, но так неоднозначна, так необычна, что в ней принадлежность к нации сглаживается, не так бросается в глаза. То, что она замечательный психолог, конечно, верно, но в ней видна к тому же какая-то особенная смесь ревностного мистика и холодной деловой женщины. Ведь в ней все-таки есть двойное дно: она удалившаяся от мира молитвенница, но она же и государственный человек — Кольбер женских монастырей.{31} В общем, ни одна другая женщина не была такой тонкой мастерицей и вместе с тем таким грандиозным организатором. Как вспомнишь, что она, невзирая на невероятные трудности, основала тридцать два монастыря и подчинила их уставу — образцу мудрости, который предусматривает и выправляет самые малоизвестные сердечные заблуждения, — так и перестанешь понимать, как это безбожники считают ее полоумной истеричкой! — Один из отличительных признаков мистика, — с улыбкой ответил аббат, — как раз и есть совершенная уравновешенность, всецелое здравомыслие.Эти беседы взбадривали Дюрталя, сеяли в нем семена размышлений, всходивших, когда он оставался один, поощряли его доверять суждениям пастыря, следовать его советам, и ему нравилась такая жизнь — тем более что посещения храмов, молитвы, чтение занимали его бездельную жизнь и он более не скучал. Тихие вечера и спокойные ночи — уже прибыль, думал он. Он знал теперь, как умилительны, как поддерживают силы благочестиво проведенные вечера. Он приходил в Сен-Сюльпис в такие часы, когда в тусклом свете фонарей столбы двоятся и ложатся на землю длинными вечерними тенями. Одни капеллы были затворены, в других стояла темень, а в центральном нефе перед алтарем связка ночников цвела в темноте, как пламенеющий букет красных роз. В тишине слышались то глухой стук двери, то скрип стула, то семенящие женские шаги, то поспешная мужская поступь. В темной капелле, избранной Дюрталем, он был как бы ото всех отрезан — находился так далеко от всего, от города, в двух шагах за стенами жившего полной жизнью. Он становился на колени и так безмолвно стоял; хотел говорить, и нечего было сказать, чувствовал, как душа рвется — и не выходит. В конце концов он впадал в смутную истому; расслабленному телу было уютно и отчего-то хорошо, как в теплой минеральной ванне. Тогда он начинал размышлять о тех женщинах, что кое-где сидели вокруг него на церковных стульях. Вот они — бедные черные полушалки, жалкие чепчики с рюшками, унылые пелеринки, печальный перестук четок, перебираемых в темноте… Одни в трауре и, не утешившись еще, рыдают; другие в глубокой скорби перегнулись пополам и свесили голову набок; третьи молятся, подняв плечи, спрятав лицо в ладонях. Дневные дела исполнены, и те, кто устал от жизни, вопиют о милости. Повсюду коленопреклоненное несчастье: ведь богатые, здоровые и счастливые редко молятся в церкви только бесстрастные вдовы и старушки, да еще оставленные женщины, да еще жены, замученные в браке, — они просят, чтобы стало полегче жить, чтобы унялось распутство мужей, чтобы исправились пороки детей, чтобы те, кого они любят, были здоровы. Воистину букет страданий, грустным ароматом которого кадят Марии Деве… Мужчин на это свиданье скорбей приходило очень мало, особенно молодых людей: они ведь еще мало страдали. Только несколько стариков, несколько инвалидов, передвигавшихся, опираясь на спинки стульев, да еще маленький горбун, которого Дюрталь видел в храме каждый вечер: убогий, которого могла полюбить одна Та, что вовсе не смотрит на тела. Жгучая жалость охватывала Дюрталя при виде несчастных, приходивших просить у Неба немного любви, в которой отказывали им люди; кончалось тем, что он, не умея молиться за себя, молился за них вместе с ними! Равнодушные днем, вечерами церкви становились поистине сладостно привлекательны; с наступлением темноты они словно приходили в волнение, сострадая в тишине горестям немощных и скорбящих, чьи жалобы слышали. И ранняя утренняя месса — месса рабочих и горничных — была не менее трогательна: там не было ни ханжей, ни любопытных, а лишь бедные женщины, приходившие искать в Святых Дарах силу вынести повседневные заботы, подневольные надобности. Выходя из церкви, они знали, что сами они — живая дароносица Церкви, что Тот, Кто был на земле неизменно нестяжателен, только в мансардных душах обретает Себя; знали, что они избраны, не сомневались, что, подавая под видом хлеба воспоминание о Своих страстях, Он требовал от них, чтоб и они всегда были скорбными и смиренными. И что же могли поделать с этим заботы дня, протекавшего в позоре низкой службы? Понимаю, почему аббат так настаивал, чтобы я ходил в церковь именно в эти утренние и вечерние часы, думал Дюрталь. Действительно, только тогда открывается душа. Но он был слишком ленив, чтобы часто бывать у ранней мессы, поэтому довольствовался тем, что заходил в капеллу после ужина. Выходил он оттуда, даже если плохо молился или вовсе не молился, в общем, умиротворенным. Но бывали вечера, когда он чувствовал, что устал от уединения, тишины и мрака — тогда Дюрталь изменял Сен-Сюльпис и шел к Нотр-Дам де Виктуар. В этом ярко освещенном храме уже вовсе не было изнеможения, безнадежности горемык, дотащившихся до ближайшей церкви и там осевших во мраке. В Нотр-Дам паломники приносили доверие непреложное, и эта вера утоляла их страдания, горечь которых разлагалась в выплесках надежд, в бормотании теплых молитв, вырывавшихся из этой веры. Через церковь проходило два потока: молившие о благодати и те, что, получив ее, расточали благодарения и благие дела. Так что у нее было свое выражение лица: не скорбное, а радостное, не столь меланхоличное, более ревностное — по крайней мере по сравнению с другими церквами. Наконец, у нее была такая особенность, что туда ходило очень много мужчин, причем не одни святоши с убегающим или пустым взглядом, а люди всякого общества, не обезображенные ханжеством: только там можно было увидеть ясные глаза и умытые лица; главное, здесь совсем не наблюдалось ужасных гримас рабочих из католического кружка — кошмарных блузников, кое-как почистивших физиономии, но выдававших себя нечистым дыханием. В церкви, увешанной подношениями, до самого верха покрытой надписями на мраморе, славившими услышанные молитвы и полученные благодеяния, перед алтарями Девы Марии, где сотни свечей наполняли воздух благоуханием своих золотистых раскаленных копий, каждый вечер в восемь часов бывала общая молитва. Священник на кафедре читал по четочному кругу, потом иногда пели литании Богородице на странный мотив — нечто вроде музыкального центона, составленного из не пойми чего: очень ритмичный, постоянно менявший тональность, то очень скорый, то очень медленный; на какую-то секунду он напоминал старые напевы XVII века, потом вдруг поворачивал под прямым углом и превращался в мелодию для шарманки, современную и почти пошлую. И между прочим, это нелепое рагу из звуков захватывало! После «Господи помилуй» и начальных прошений Божья Матерь являлась на сцену, как балерина, под танцевальные ритмы, но когда поминались Ее достоинства, именовались Ее символы, музыка становилась на редкость почтительной и торжественной: замедлялась, сдерживалась, трижды повторяя на один и тот же мотив то или иное определение Богородицы, между прочим, Refugium peccatorum[54], а дальше вновь шла в прежнем темпе, вприпрыжку возобновляя благодарения. Когда же, по счастью, не случалось проповеди, сразу начинались изобразительные. Певчие хрипели и стонали, бас кашлял, а пара мальчишек сопела; так они пели литургические песнопения: Inviolata[55], томительный жалобный стих на монотонную протяжную мелодию, такую шаткую, такую болезненную, что ее, казалось, могут петь лишь голоса умирающих; затем Parce Domine[56], печальный умоляющий антифон; наконец, отрывок из Pange lingua[57] — Tantum ergo[58], смиренный и сдержанный, медленный и восхищенный. Когда орган брал первые аккорды, когда начиналась мелодия канонического распева, капелле оставалось только скрестить руки на груди и замолчать. Подобно свечам, загорающимся от одного запального шнура, которым связаны, воспламенялись молящиеся и, ведомые органом, сами запевали смиренно-торжественную песнь. Они преклоняли колени на стульях, падали ниц на плиты, а когда кончались антифоны с репонсами и священник, укутанный в белую шелковую мантию ниже пояса, возглашал: «Господу помолимся», — восходил к алтарю и брал чашу, тогда при тонком частом звоне колокольчиков словно ветер проносился, разом клонивший головы долу. И в этой общности пламенеющих душ возникала полнота сосредоточения, плерома неслыханного безмолвия, покуда колокольчики не призывали, перекрестившись, вернуться к прерванной человеческой жизни. На Laudate[59] Дюрталь уходил из церкви, не дожидаясь конца, пока не выплеснуло всю толпу. Действительно, думал он, горячая вера этих людей — не клиентов из соседнего квартала, как в других приходах, а паломников, пришедших отовсюду, — не в лад пустосвятству нашего глупейшего времени. Кроме того, у Нотр-Дам де Виктуар можно услышать интересные напевы. Дюрталь вновь и вновь возвращался в мыслях к тем странным литаниям, которые только там и слышал: а ведь на каких он только службах не побывал во всех церквах! Например, в Сен-Сюльпис литанию пели на два мотива. Когда певчие были на месте, она следовала на канонические распевы: гулкий бас мычал тему, ему отвечали острые флейты дискантов; но в месяц розария[60] ежедневно, кроме четверга, отчитывать молитвы по вечерам доверяли девицам, и тогда вокруг простуженной фисгармонии собиралась толпа молодых и старых гусынь, у которых Богоматерь кружилась, как на карусели, под ярмарочные напевы. В других храмах, скажем у Фомы Аквинского, где прошения тоже пелись женскими голосами, литания была напудрена, надушена бергамотом и амброй. Там ее приспособили на мотив менуэта, да это было и к месту в оперной архитектуре этой церкви; Дева Мария семенила, придерживая юбочку двумя пальцами, приседала в изящных реверансах, отступала с глубокими поклонами. Это явно не имело ничего общего с духовной музыкой, но хотя бы не было противно слушать; для полноты впечатления надо было только заменить орган на клавесин. Но древние распевы, которые в Нотр-Дам де Виктуар пели довольно дурно, как и везде, однако же пели, кроме больших церемоний, были куда интересней этих светских куплетов. Там не позволяли себе того, что в Сен-Сюльпис и других местах, где Tantum ergo[61]{32} почти всегда звучит под идиотский шум мелодий, годных для военного оркестра или банкета. Церковь запрещает трогать сам текст святого Фомы, но дозволяет какому попало капельмейстеру отказываться от распева, с рождения сопровождавшего этот текст, до мозга костей проникшего в него, спаявшегося с каждой его фразой, имевшего с ним одно тело и душу. Это было чудовищно; надо было потерять не художественный вкус, которого у попов никогда и не было, а самое элементарное литургическое чутье, чтобы согласиться на такую ересь, терпеть в своих церквах подобное святотатство! Вспоминая об этом, Дюрталь выходил из себя, но возвращался мыслями к Нотр-Дам де Виктуар и успокаивался. Сколько он ни рассматривал ее со всех сторон, она оставалась такой же таинственной и единственной, по крайней мере в Париже. В Ла-Салетт, в Лурде были видения.{33} Истинные или вымышленные — неважно, размышлял он, — ведь даже если предположить, что Богородица не была там тогда, когда о том было объявлено, Она привлечена туда и живет там благодаря истечению веры паломников. Там совершались чудеса, и неудивительно, что туда приходят массы верующих. Но здесь, в Париже, никаких видений не было, никакая Мелани или Бернадетта не созерцали, не описывали, как являлась в сиянье «прекрасная Дама». При этой церкви нет ни купален, ни медицинских учреждений, ни принародных исцелений, ни горных вершин, ни пещер — ничего. Как-то раз в 1836 году настоятель этого прихода аббат Дюфриш де Женетт объявил, что, когда он служил мессу, Богородица изъявила желание, чтобы этот храм был специально посвящен Ей, — и этого хватило. Церковь, стоявшая в ту пору безлюдной, больше никогда не пустовала, и тысячи приношений свидетельствуют о дарах благодати, дарованных за эти годы Мадонной тем, кто к Ней приходил! Да, но вообще-то, приходил к выводу Дюрталь, все эти просители духовно вполне обычные люди, в большинстве своем подобные мне: они приходят ради своей выгоды: для себя, а не для Нее. Тут он вспоминал, как ответил аббат Жеврезен, когда Дюрталь поделился с ним этим наблюдением: «Если вы будете приходить туда только ради Нее, значит, уже чрезвычайно далеко прошли по пути к совершенству». И вдруг, после стольких часов, проведенных во храме, наступила реакция: плотский огонь, угасший под пеплом молитвы, снова вспыхнул, и пробившийся из подземелья пожар заполыхал с ужасной силой. Флоранс опять являлась Дюрталю — дома, в церкви, на улице, повсюду; и ему постоянно приходилось беречься прелестей этой шлюшки… Вмешалась погода; небесные хляби прогнили; нагрянуло грозовое лето, а с ним наплыло раздраженье, ослабла воля, вырвалась из клетки и понеслась по рыжеватым лужам дикая стая грехов. Дюрталь холодел, помышляя о кошмаре долгих вечеров, о тоске никак не уходящего дня; в восемь вечера солнце еще не садилось, а в три часа утра он как будто еще и не спал. Вся неделя превращалась в один непрерывный день, а жизнь не останавливалась. Его подавляло бесстыдное бешенство солнца и синего неба, обрыдло купаться в нильских потоках пота, надоело, что из-под шляпы низвергается Ниагара: он выходил из дома, но в уединении мерзость овладевала им. Это было наваждение: в мыслях, в образах, повсюду — похоть, особенно страшная потому, что не блуждала, а сосредотачивалась в одной и той же точке: лицо Флоранс, ее тело, квартирка, где они забавлялись, скрывались из вида, и оставалась только та темная область этой твари, в которой располагалась резиденция его чувственности. Дюрталь пытался сопротивляться, покуда не бежал в ужасе; он хотел изнурить себя долгой ходьбой, развеяться прогулками, но гнусное лакомство доставало его и на ходу, маячило перед ним за столиком кафе, обозначалось в пятнах на скатерти, во фруктах. После долгих часов борьбы кончалось тем, что он сдавался и вваливался, как проваливался, к Флоранс: умирая от стыда и отвращения, чуть не рыдая. При том никакого облегчения от мук он не получал, даже напротив: скверная прелесть не только не уходила, а становилась еще сильней и навязчивей. Наконец, Дюрталь предложил себе и принял такой необычный компромисс. Если, думал он, я пойду к другой знакомой женщине, которая может податься на нормальные ласки, мне, может быть, удастся расслабить нервы, прогнать наваждение, удовлетвориться без этих мук и угрызений совести. Так он и сделал, пытаясь убедить себя, что подобный поступок будет простительнее, что он не так согрешит. Совершенно ясно, что из этого вышло: поневоле сравнив один поединок с другим, он снова вспомнил Флоранс и признал, что ее порочность совершенна. Так он и продолжал к ней шляться, пока несколько дней подряд не испытал такого отвращения к этой кабале, что выскочил из комнатки и убежал. После этого Дюрталю удалось немного собраться, оправиться, и его стошнило от себя. Во время кризиса он почти бросил ходить к аббату Жеврезену, не смея признаться ему в своем окаянстве, но когда по некоторым приметам увидел, что близится новый приступ, перепугался и отправился к священнику. Рассказав обиняками о своей лихорадке, он почувствовал себя таким бессильным и печальным, что на глаза навернулись слезы. — Ну что ж, теперь-то вы уверены, что к вам пришло то раскаяние, которого, как вы говорите, раньше не было? — спросил аббат. — Уверен, а что толку? Если я так слаб, что знаю точно: полечу вверх тормашками при первом же нападении врага! — Это совсем другой вопрос. Вот что: я вижу, вы, по крайней мере, оборонялись, а сейчас действительно находитесь в состоянии такого утомления, которое требует помощи. Итак, успокойтесь; идите с миром и грешите меньше; большинство искушений от вас уйдет; с остальными вы, если захотите, сможете справиться, но имейте в виду: отныне, если вы падете, у вас не будет извинения, и тогда я не отвечаю, если вам станет хуже, а не лучше… Пораженный Дюрталь пробормотал: — Вы полагаете… Аббат ответил: — Я полагаю свою веру в то мистическое замещение, о котором говорил вам, а вы испытаете его на себе самом. Святые жены вступят в борьбу, чтобы пособить вам; они отобьют приступы, с которыми вы не можете справиться; по моему письму в глуши монастыри кармелиток и кларисс станут молиться за вас, даже не зная вашего имени. И действительно, с того дня самые навязчивые припадки отступили. Обязан ли он был этим затишьем, передышкой заступничеству иноческих орденов или тем, что солнце угасло под дождевыми потоками, он не знал; одно лишь было верно: искушения разредились и он мог без последствий сносить их. Мысль о том, что сострадательные монашки могут извлечь его из трясины, в которой он увядал, милосердно вытянуть его на берег, восхищала Дюрталя. Ему захотелось пойти на проспект маршала Саксонского и помолиться вместе с сестрами тех, кто страдал за него. Там не было света и толпы, как в то утро, когда он был у них на пострижении; не пахло воском и ладаном, не проходила процессия пурпурных одеяний и раззолоченных мантий; было пустынно и темно. Он стоял один в сырой неосвещенной капелле, пахнувшей стоялой водой, не вертел колесо четок, не повторял заученные молитвы, а мечтал, пытаясь хоть немного, хоть сколько-нибудь разобраться в своей жизни. Он уходил в себя, а в это время из-за решетки доходили отдаленные голоса: понемногу приближались, проходили через черное сито занавеси, изнуренные, падали вокруг алтаря, неясной громадой видневшегося в полумраке. Благодаря голосам кармелиток Дюрталь рухнул в отчаяние. Он сидел на стуле и думал: коли ты настолько неспособен быть бескорыстным, говоря с Ним, то едва ли не стыдно Его о чем-то просить; ведь в конце концов я только затем о Нем вспоминаю, чтобы получить толику счастья, а в этом смысла никакого нет. В сегодняшнем крушении человеческого разума, желающего объяснить страшную загадку предназначения жизни, среди тонущих обломков мысли выплывает одна лишь идея: идея искупления, которое мы чувствуем, но объяснить не можем; идея, что единственная цель, присущая жизни, — страдание. Каждому выставлен счет на физические и нравственные страдания, и кто не платит по нему при жизни — оплатит после смерти; счастье — лишь заем, который придется отдать; его призраки подобны части, выделенной в счет будущего наследства скорбей. А если так, кто знает, не придется ли платить за анальгетики, усмиряющие телесную боль? Кто знает: вдруг хлороформ — орудие безбожного бунта, вдруг трусость смертного перед страданием — буйство, мятеж против вышней воли? Если так, то по векселям неиспытанных мучений, долговым распискам неслучившихся невзгод, залоговым квитанциям избегнутых бед там придется платить немыслимые проценты, и вот откуда боевой клич святой Терезы: «Господи, дай всегда страдать или умереть!», вот почему святые радуются в своих испытаниях и молят Христа не избавлять их от мук, ибо знают, что надо уплатить налог очистительных горестей, дабы не остаться должником после смерти. Кроме того, глянем правде в глаза, без страданий человечество стало бы чересчур гадким: ведь только они могут очищать и возвышать души! Но все это ничуть не утешает, твердил он. А как идут скорбные голоса монашек к этим унылым раздумьям! О, это действительно ужасно. В конце концов, чтобы рассеять тоску, он бежал в соседний тупик того же имени, приводивший ко входу в другой монастырь, где вокруг аллеи, похожей на пригород, стояло множество клетушек, а за ними начинался сад, в котором вокруг зеленых клумбочек извивались змейки речных камней. Там обитали нищенствующие клариссы богородичной молитвы — орден, еще более строгий, чем кармелитский, но более бедный, менее фешенебельный, более скромный. В монастырский дом входили через дверцу, открывающуюся внутрь; никого не встретив, поднимались на третий этаж и попадали в часовню, через окна которой были видны качающиеся деревья, слышно оголтелоечириканье множества воробьев. Это было тоже место погребения, но не склеп в беспросветном подземелье, как монастырь напротив, а больше похоже на кладбище с птицами, поющими в ветвях, освещенных солнцем; казалось, ты где-то в деревне, за сто верст от Парижа. Правда, декор этой светлой часовни старались сделать помрачнее: он был похож на интерьер винных лавок, имитирующих погреб, — стены расписаны под каменную кладку. Только высота главного нефа выдавала эту ребяческую уловку, вульгарность иллюзии. В глубине на паркете, начищенном до зеркального блеска, стоял алтарь с двумя решетками, занавешенными черным крепом, по сторонам. Согласно предписанию святого Франциска,{34} все украшения: Распятие, канделябры, аналой — были деревянные; глаз не видел ни одного металлического предмета, ни одного цветка; во всей часовне никакой роскоши, кроме двух современных витражей; один из них изображал святого Франциска, другой святую Клару. Дюрталю этот храм казался легким и прелестным, но он не задерживался в нем дольше нескольких минут. Это не то, что у кармелиток: не полное уединение, не беспросветный покой; тут по часовне то и дело пробегали монахини, расставляли стулья и поглядывали на Дюрталя, как будто бы удивляясь его присутствию. Они мешали ему, и он тоже боялся, что им мешает, и он уходил, но этой краткой передышки хватало, чтобы стереть или хотя бы ослабить мрачное впечатление от соседнего монастыря. Так что Дюрталь выходил оттуда совсем успокоенный и очень встревоженный: спокойна была похоть, тревожило, что же делать дальше. Он ощущал, как в нем поднимается, крепнет и нарастает желание покончить с этой нервотрепкой, этими ужасами, но он холодел при мысли, что придется перевернуть всю жизнь, навсегда отказаться от женщин. Впрочем, хотя у него еще оставались тревоги и колебания, но не было уже твердого намерения оставить все как есть: в принципе он принял мысль о перемене образа жизни и только пытался оттянуть день, отдалить час, словом, выиграть время. Потом, как бывает с людьми, изнывающими в ожидании, он в иные дни желал не откладывать больше неизбежный миг и восклицал про себя: скорей бы все кончилось! все лучше, чем так! Но когда казалось, что это желание не исполняется, он тотчас остывал, ни о чем не хотел более думать, горевал, зачем подхватил его этот поток… Немного взбодрившись, он снова пытался прослушать себя самого. «В сущности, я не знаю, где я сейчас, — думал Дюрталь. — Приливы и отливы противоречивых желаний меня измотали, но как я дошел до этого и что со мной?» То, что он испытывал с тех пор, как плоть позволила ему смотреть на себя ясней, было так нечувствительно, так неопределенно и притом так неизменно, что он ничего не мог понять. В общем, как только он пытался сойти в глубину самого себя, перед ним вставала пелена тумана, скрывавшая невидимую и неслышимую поступь неизвестно чего. Возвращаясь к миру, он выносил только одно впечатление: не сам он шел в неизвестное, а неизвестное поглощало его, проникало в него и понемногу овладевало им. Когда он сообщал аббату об этом трусливо-смиренном состоянии, тот лишь улыбался. Однажды он сказал Дюрталю: — Окопайтесь в молитве и не высовывайтесь. — Но мне надоело сгибаться пополам и топтаться на месте! — воскликнул писатель. — А больше всего опостылело, что меня словно толкают в спину и ведут неведомо куда. Так или иначе, пора с этим кончать. — Разумеется. — Аббат встал, посмотрел ему прямо в глаза и очень серьезно сказал: — Ваш путь к Богу кажется вам очень медленным и мрачным, но он так светел и скор, что я удивляюсь. Просто сами вы не двигаетесь и не сознаете, с какой скоростью вас несет. И вот пройдет немного времени — вы созреете и не надо будет уже трясти дерево: плод упадет сам. Остается решить лишь один вопрос: в какой сосуд положить вас, когда вы наконец оторветесь от прежней жизни.
VII
«Однако! — воскликнул про себя Дюрталь. — Надо же все-таки объясниться; в конце концов, мне стали надоедать его невозмутимые экивоки! В сосуд меня положить! Я думаю, аббат не собирается сделать из меня семинариста или аббата: идти в семинарию в мои годы нет никакого смысла, а монастырь… Соблазнительно с точки зрения мистики, а с точки зрения искусства даже до страсти заманчиво, но у меня нет ни физических сил, ни, еще менее, духовной предрасположенности затвориться навеки в монастырских стенах. Так что это побоку; но что же он хотел сказать? С другой стороны, он так настаивал, чтобы я взял у него почитать святого Иоанна Креста: значит, у него есть цель; он не тот человек, чтобы идти на ощупь, а крепко знает, чего хочет и куда направляется. Не воображает ли он, что я предназначен к совершенной жизни, не хочет ли этим чтением предохранить меня от разочарований, которые, по его словам, часто испытывают начинающие? Но если он прямо так мыслит, чутье изменило ему. Правда, я терпеть не могу всяческого ханжества и обрядоверия, но мистические явления, хотя я и вполне их признаю, меня тоже не привлекают. Мне, конечно, интересно наблюдать их у других; мне очень нравится глядеть на них из окошка, но выходить на эту улицу — нет! Я вовсе не притязаю стать святым; я желаю достичь состояния, промежуточного между святостью и святошеством, и только. Вот мой идеал, он ужасно низок, но на практике я только его и могу достигнуть, да и то еще!.. И потом, поди попробуй свяжись с такими делами! Чуть ошибешься, чуть последуешь лживым помыслам — и после чем дальше уйдешь, тем ближе будешь к безумию. А если не имеешь особенной благодати, как узнать, на верном ли ты пути, не устремился ли в ночь и в бездну? Взять, например, беседы Бога с душой, столь частые в мистической практике… Ну и как же быть уверенным, что этот внутренний голос, эти членораздельные звуки, слышимые не телесными ушами, но душой различаемые еще гораздо ясней, еще отчетливей, нежели пришедшие путями чувств, что они истинны? Как убедиться, что они исходят от Бога, а не от нашего воображения, а то и от самого дьявола? Я знаю: святая Тереза во «Внутреннем замке» подробно рассматривает этот предмет и указывает знаки, по которым можно различить происхождение таких слов, но ее приметы кажутся мне не такими простыми, как она полагает. Если речения идут от Бога, говорит она, то всегда сопровождаются неким действием, несут с собой власть, которой ничто не в силах противиться; так, если душа смятенна, а Господь просто скажет ей: «не печалься», буря тотчас уляжется и радость вернется. Эти глаголы оставляют душе нерушимый мир; наконец, они запечатлеваются в памяти и часто уже никогда не стираются. В противном же случае, утверждает святая, то есть когда слова идут от воображения или от беса, ничего подобного не бывает; вас мучает некое беспокойство, тоска, сомнение; кроме того, такие речения испаряются и утомляют душу, которая тщетно пытается восстановить их полностью. Зная все эти вехи, мы, в общем-то, все еще остаемся на зыбкой почве, где с каждым шагом можно утонуть, но тут является святой Иоанн Креста и велит нам вовсе туда не ходить. Что же делать тогда? Он говорит: не надо стремиться к этим сверхъестественным беседам, не надо и задерживаться на них, по двум причинам: во-первых, отказ от веры в них есть совершенное смирение и самоотречение; во-вторых, поступая так, мы избавляемся от труда, без которого не разберешь, истинны наши звуковые видения или ложны, то есть уклоняемся от исследования, не дающего душе ничего, кроме беспокойства и потери времени. Положим; а что, если эти слова действительно сказаны Богом и мы, оставаясь глухими, противимся Его воле?! Да к тому же, как утверждает святая Тереза, не в нашей власти не слушать их: когда Христос говорит душе, та не может размышлять над услышанным! Впрочем, все рассуждения на эту тему нечетки: ведь мы не по одной своей воле вступаем на тесный путь, как зовет его Церковь; туда нас приводят, и часто против нашего желанья, так что сопротивляться нельзя; явления сменяют друг друга, и ничто на свете не в силах изгладить их: примером — святая Тереза, которая, хоть и ставила себе запреты смиренья, падала в исступленье от божественного наития и воспаряла над землей. Нет! все эти сверхъестественные состояния меня страшат, и я совсем не хочу испытать их на опыте. Что же до святого Иоанна Креста, аббат справедливо называет его единственным, и хотя он проходит самые глубокие пласты в душе, достигая таких, до которых люди никогда не досверливались, мне он, при всем восхищении, несколько неприятен: в его сочинениях слишком много кошмаров, и это сбивает с толку; я не совсем уверен, что все эти адские бездны точно таковы, да и некоторые из его утверждений не убеждают меня. То, что он называет «темной ночью», совсем непонятно; на каждой странице он восклицает, что страдания этого мрака превосходят пределы возможного. И тут я перестаю что-нибудь понимать. Я прекрасно (сам не раз испытал) могу представить себе муки нравственные, даже самые страшные, боль от кончины родителей или друзей, от несчастной любви, от разбитых надежд, всякого рода страдания духа, но этой муки, что, по его словам, превосходит все, я не постигаю: она вне человеческих попечений, вне наших чувств, мятется в сфере неприступной, в мире, нам неизвестном и столь далеком от нас! Решительно я боюсь, что этот грозный святой, человек южный, — гонгорист и злоупотребляет метафорами!{35} И вот еще, между прочим, чем аббат меня удивляет. В нем, при всей его доброте, видна склонность к черствому хлебу в мистике: восторги Рейсбрука, святой Анджелы, святой Екатерины Генуэзской трогают его меньше, нежели рассуждения рациональных, суховатых святых. Между тем он советовал мне читать Марию Агредскую,{36} которую не должен особенно любить: ведь в ней нет ничего, за что ценят сочинения святых Терезы и Иоанна. Ну что ж, по его милости я испытал от ее «Таинственного града» ни с чем не сравнимое разочарованье! По репутации этой испанки я ожидал пророческих наитий, великолепных ампанов, невероятных видений: ничего подобного, оказалось просто вычурно и помпезно, тяжело и холодно. Да и риторика в этой книге невыносима; толстенные тома кишат такими вот выражениями: «моя божественная Принцесса», «моя великая Королева», «моя высочайшая Госпожа», говорит она о Богородице, а Та к ней обращается «дорогая моя». Что за манера: Господь Иисус зовет ее «Моя супруга», «Моя возлюбленная», все время называет «предмет удовольствия и услады Моей»; сама она именует ангелов «придворными великого Государя»: утомительно и противно. Все это пахнет париками и брыжжами, реверансами и расшаркиваньями, отдает Версалем: выходит мистика королевского двора, где восседает Христос, разряженный в костюм Людовика XIV. И уж не говоря о том, продолжал он, что Мария Агредская углубляется в весьма экстравагантные подробности. Она повествует нам о молоке Божьей Матери, которое никогда не свертывается, о женских немощах, которым Она не подвержена, объясняет чудо Непорочного Зачатия тем, что три капельки крови будто бы истекли из сердца Марии в матку и там Святой Дух благодаря им зачал Младенца; наконец, она объявляет, будто бы архангелы Михаил и Гавриил исполняли акушерскую должность, в человеческом облике принимая роды Богоматери! Право, это уж чересчур! Я прекрасно знаю, что ответит аббат: не надо-де обращать внимание на эти странности и заблуждения; «Таинственный град» надо читать как книгу о внутренней жизни Пресвятой Девы. Пусть так, но тогда книга г-на Олье{37} о том же предмете кажется мне гораздо интересней и надежней! Не слишком ли сильно забирает аббат, не играет ли какую-то роль? Дюрталь невольно задавал себе этот вопрос, видя, как старый священник в течение какого-то времени держится одних и тех же вопросов. Иногда Дюрталь для пробы пытался перевести разговор, но аббат, ласково улыбаясь, возвращался к желанной для себя теме. Решив, что писатель уже насытился мистическими сочинениями, он стал меньше говорить о них: теперь, казалось, его занимали только монашеские ордена, особенно орден святого Бенедикта.{38} Он очень ловко навел Дюрталя на интерес к этому учреждению: тот стал задавать вопросы, а аббат, раз встав на эту точку, уже не сходил с нее. Это началось, когда Дюрталь разговаривал с ним о древнем распеве. — Вы правы, что любите его, — сказал аббат. — Не говоря уж о литургическом и художественном достоинстве, это пение, если верить Иустину Философу,{39} усмиряет прелесть и похоть плоти, affectiones et concupiscentias carnis sedat. Но позвольте уверить вас, вы знаете о нем лишь понаслышке: теперь настоящих древних распевов в церкви не услышишь; здесь, как и в медицине, вам предлагают одни подделки разной степени наглости. Есть еще гимны, хоть сколько-то соблюдаемые певчими, например Tantum ergo, но ни один из них ныне не исполняется точно. До стиха Praestet fides[62] его поют почти верно, а с этого момента он сбивается: пропадают некоторые важные нюансы, которых в тот момент, когда текст утверждает бессилие разума и призывает всемогущую помощь веры, требует григорианская мелодия. Еще ощутимей эти искажения, если вы послушаете Salve Regina[63] после повечерия. Эту песнь обрезают почти наполовину, напрягают, обесцвечивают, обрубают ферматы, превращают в жалкий музыкальный огрызок. Если бы вы слышали эту великолепную песнь у траппистов, то заплакали бы с досады, как корежат ее в парижских церквах. Но даже помимо того, во что превратили теперь мелодический текст хорала, как мычат и ревут певчие, до чего нелеп сам способ пения! Одно из первых условий хорошего исполнения древних распевов — чтобы все голоса следовали вместе, пели одновременно слог за слогом и ноту за нотой: унисон, одним словом. Но вы можете сами убедиться: ныне григорианские мелодии трактуют совсем иначе; каждый голос ведет свою партию, отделяется. Кроме того, древняя музыка не терпит аккомпанемента: она должна петься a capella, без органа; в крайнем случае можно допустить, чтобы инструмент задал тон и приглушенно сопровождал мелодию ровно настолько, чтобы при необходимости обозначить начертанную вокальную линию, а так ли принято в наших храмах? — Знаю, знаю, — ответил Дюрталь. — Когда я слушаю хоралы в Сен-Сюльписе, Сен-Северене, Нотр-Дам де Виктуар, мне известно, что они неподлинные, но признайте, что они и так роскошны! Я не защищаю подлог, добавление фиоритур, фальшь музыкальных цезур, преступное добавление аккомпанемента, тон светского концерта, который появляется в Сен-Сюльпис, но что же мне делать? За неимением оригинала приходится принимать довольно скверную копию, а эта музыка даже в таком исполнении, еще раз скажу, восхитительна до очарования! — Что же, — добродушно возразил аббат, — никто не принуждает вас слушать фальшивые хоралы: вы можете услышать и подлинные; не в обиду вам будь сказано, в Париже есть одна капелла, где они остались нетронутыми, исполняются точно по правилам, о которых я говорил. — Правда? Где же? — В бенедиктинском монастыре Святых Даров на улице Месье. — И всякий может пойти послушать службу в этом монастыре? — Да, всякий; по будням там поют вечерню каждый день в три часа дня, а мессу служат по воскресеньям в девять утра.— О, почему я не знал этой церкви раньше! — воскликнул Дюрталь, выйдя из нее в первый раз. Оказалось, там есть все, чего он мог желать: аббатство стояло на тихой улочке и само было трогательно-уютно; архитектор, строивший его, не ввел никаких новшеств и соблазнов: возвел здание в готическом стиле без всяких фантазий собственной фабрики. В плане оно было крестообразное, но одна ветвь креста, за недостатком места, оказалась едва обозначена, а другая, вытянутая, стала особым помещением, отделенным от клироса железной решеткой с изображением Святых Даров и двух совершающих почитание коленопреклоненных ангелов с лиловыми крыльями, лежащими на розовых спинах. Кроме этих двух статуй, решительно преступных по исполнению, все скрывалось полумраком и, по меньшей мере, не слишком отталкивало глаз. В капелле было темно, и каждый раз в часы службы туда входила, подобно тени, молодая причетница, высокая, бледная, немного сутулая; и каждый раз, проходя мимо алтаря, она преклоняла одно колено и низко склоняла голову. Странная, почти нечеловеческая фигура беззвучно передвигалась по каменным плитам, опустив голову, надвинув плат до самых бровей; когда, повернувшись к вам спиной, она перед аналоем зажигала свечи, поднимая руки и взмахивая широкими рукавами, то была, казалось, готова вспорхнуть, как летучая мышь. Однажды Дюрталь разглядел ее прелестные болезненные черты, окуренные дымом веки, устало-голубые глаза, а под черной рясой с кожаным поясом и маленьким позолоченным изображением Даров под апостольником, у самого сердца, вообразил тело, истонченное молитвами. Решетчатая монастырская ограда, расположенная слева от алтаря, была просторна и ярко освещалась сзади, так что, даже когда завесы были задернуты, ясно можно было разглядеть весь капитул, рядами усевшийся в дубовых креслах; в глубине еще одно кресло, повыше: на нем сидела аббатиса. Посредине зала стояла зажженная свеча, перед которой день и ночь молилась монахиня во искупление поношений, претерпеваемых Христом под видом Евхаристии. В первое свое посещение этой церковки Дюрталь явился туда в воскресенье, незадолго до мессы, и мог через железную решетку увидеть выход бенедиктинок. Они шли парами, против середины решетки останавливались, кланялись алтарю, затем оборачивались и отвешивали поклоны друг к другу. Так и шли эти женщины в черном, на котором выделялись только белые платки и воротнички да золотистые пятнышки ладанок на груди, пока в конце процессии не появлялись послушницы: их можно было узнать по белому покрывалу на голове. Когда же старый священник начинал мессу, в глубине капитула маленький орган тихонько задавал тон голосам. И Дюрталю было чему удивиться: ведь он еще никогда не слышал, как десятка три голосов соединяются в один, очень необычный по диапазону, неземной голос, сам себя сжигающий в мелодии, изгибистый и воркующий. Тут не было ничего общего с ледяным, упрямым стенаньем кармелиток, но это было непохоже и на бесполый, детский, приплюснутый, притупленный тембр францисканок: совсем не то! Ибо в церкви на Гласьер в невыделанных, хоть и смягченных, сглаженных молитвами голосах девушек из народа все-таки оставалось кое-что от тягучих, едва ли не пошловатых простонародных интонаций: они были хорошо очищены, однако оставались человеческими. Здесь звуки были серафически нежны; этот голос, не имевший определенного происхождения, тщательно просеянный на божественном сите, прилежно сформированный для литургического пения, тек и воспламенялся, пылал девственными гроздьями белого звука, угасал и облетал в бледных, отдаленных, поистине ангельских жалобах в конце некоторых песней. В такой трактовке месса удивительным образом подчеркивала смысл песнопений. Стоя за решеткой, весь монастырь отзывался священнику. Тогда Дюрталь услышал скорбное, глухое Kyrie eleison[64], а вслед за ним решительный, влюбленный и важный клич Gloria in excelsis настоящего древнего распева, выслушал медленный и неукрашенный, торжественный и задумчивый Символ веры. Теперь он мог убедиться, что эти песнопения совершенно непохожи на те, что пелись повсюду; Сен-Северен и Сен-Сюльпис стали казаться ему безблагодатными: вместо изнеженных устремлений, кружев и кудряшек, вместо изломов зачищенных мелодий, абсолютно современных кадансов, бестолково написанных органных сопровождений перед ним было пение, сохранявшее энергичную, жилистую худобу примитивов. Он видел аскетическую строгость их линий, гармоничность их колорита, блеск металлических готских украшений, отчеканенных с прелестно-варварским искусством; он слышал, как под складчатым одеяньем звуков трепещет наивная душа, невинная любовь древних веков, причем у бенедиктинок замечалась такая любопытная особенность: всякий клич восторженного поклонения, всякое журчание нежности они заканчивали смущенным, резко оборванным шепотом, словно смиренно делая шаг назад, словно скромно стушевываясь, словно прося прощения у Бога, что посмели Его любить. — Как же вы были правы, что послали меня туда! — сказал Дюрталь аббату при встрече. — А что мне было делать? — ответил тот с улыбкой. — Ведь древние распевы правильно поются только в монастырях бенедиктинского устава. Этот великий орден возродил их; дом Потье сделал для пения то же, что дом Геранже для литургии. Впрочем, помимо достоверности вокального текста и его трактовки есть еще два чрезвычайно важных условия, чтобы эти мелодии вернулись к своей настоящей жизни, чего тоже не встретишь нигде вне монашества: прежде всего иметь веру, а затем понимать смысл исполняемых слов. — Но я не думаю, — перебил Дюрталь, — что бенедиктинки знают латынь? — Извините, среди сестер ордена святого Бенедикта, да и среди монахинь других орденов, некоторые достаточно изучили этот язык, чтоб понимать Псалтырь и служебник. Это важное преимущество перед приходскими капеллами, которые по большей части набраны из необученных и неверующих ремесленников, простых пролетариев голосовых связок. Но теперь, отнюдь не к тому, чтобы охладить ваш восторг перед музыкальными достоинствами этих инокинь, должен сказать вам: чтобы уразуметь это великолепное пение во всей его широте и высоте, его надо услышать не из обессиленных женских губ, даже не из бесполых губ девственниц, а исходящим из уст мужских. К сожалению, в Париже есть две женские бенедиктинские общины: на улице Месье и на улице Турнефор, — но вот настоящего монастыря бенедиктинцев нет… — А на улице Месье они живут по аутентичному бенедиктинскому уставу? — Да, только помимо обыкновенных обетов бедности, целомудрия, пребывания в монастырских стенах и послушания они дают еще обет искупления Святых Даров и поклонения им, данный святой Мехтильдой.{40} Так что жизнь их самая суровая среди всех монахинь. Мяса почти вовсе не бывает; к заутрене и часам они встают в два часа ночи; днем и ночью, зимой и летом они сменяют друг друга у алтаря и у свечи искупления. Женщины, — продолжал аббат, помолчав, — отважней и сильнее мужчин, тут спора нет; ни один аскет мужеска пола не перенес бы такой жизни, тем более в нездоровом парижском воздухе. — А еще больше, — сказал Дюрталь, — меня поражает, какое от них требуется послушание. Как существо, наделенное волей, может до такой степени отказаться от самого себя? — О, послушание, — ответил аббат, — во всех главных орденах одинаковое: совершенное, без послаблений; каково оно, кратко и хорошо выразил святой Августин.{41} Вот послушайте одно место, которое я прочел в комментариях к его уставу и запомнил: «Должно ощутить себя рабочей скотиной и давать погонять себя, как лошадь или мула, не имеющих разумения, а вернее, поскольку животные брыкаются, когда им дают шпоры, для совершенного послушания должно быть в руках настоятеля как полено или пень древесный, не имеющий ни жизни, ни движения, ни действия, ни воли, ни суждения». Ясно ли вам? — Главное, страшно! Допускаю, что взамен такого самоотреченья монахини получают могучую помощь свыше, но разве у них не бывает все-таки моментов слабости, приступов отчаянья, мгновений, когда они жалеют о естественной жизни на воздухе, оплакивают добровольно принятую долю живых покойниц; наконец, разве не бывает дней, когда вопиет, пробудившись, чувственность? — Без сомнения, для большинства живущих в обители суровым испытанием становится двадцатидевятилетний возраст: именно тогда происходит кризис любовных чувств; если женщина благополучно перейдет этот порог — а она его переходит почти всегда, — будет спасена. Но, собственно говоря, соблазны плоти не самое мучительное испытание. Истинная пытка, которую они терпят в часы сомнений, — жгучее, безумное сожаление о неведомом для них материнстве; брошенное чрево женщины бунтует, а сердце, как бы ни было полно Богом, разрывается. Младенец Иисус, Которого они так любили, в эти минуты кажется им таким далеким, таким недоступным! Даже лицезрение Его едва ли их бы утешило: им ведь хочется держать Его на руках, пеленать, баюкать, кормить грудью — словом, делать дело матери. А бывает, что монахиня не отражает никаких определенных приступов, никто не знает, какую она выдерживает осаду: она просто без какой-либо причины чахнет и вдруг умирает, как задутая свечка. Ее задушила монастырская ипохондрия. — Знаете ли, господин аббат, ведь все эти подробности не особенно вдохновляют… Аббат пожал плечами: — Это несущественная изнанка высокой жизни — награда, дарованная душам иноков уже в этой жизни намного, намного превосходнее! — Так или иначе, я не думаю, что инокиню, чья плоть поражена, так и оставляют просто угасать. Что в таких случаях делает мать аббатиса? — Поступает, смотря по телесному сложению и душевному состоянию больной. Заметьте, она уже имела возможность наблюдать за ней в годы послушничества; она, несомненно, имеет на нее влияние, поэтому в такие моменты она должна очень пристально следить за своей духовной дочерью, стараться менять направление ее помыслов, изнуряя тяжкими трудами и занимая ее мысли; должна не оставлять ее одну, при необходимости уменьшать количество молитв, сокращать часы служб, разрешать посты, а если надо, то и кормить получше. В других же случаях она, напротив, может прибегать к более частым причащениям, использовать малоедение или кровопускание, прибавлять ей к пище смесь тыквенных семян, но прежде всего она, как и вся община, должна за нее молиться. Одна старая бенедиктинская аббатиса, которую я знавал в Сент-Омере, несравненная наставница душ, прежде всего ограничивала время исповеди. Едва заметив первые признаки кризиса, она начинала отводить на покаяние две минуты по часам; как только время истекало, отсылала монахиню из исповедальни обратно к сестрам. — Почему так? — Потому что в монастыре даже для здоровых душ исповедь — опаснейшее расслабление; так сказать, слишком долгая и слишком горячая ванна. Там инокини дают себе волю, раскрывают тайники сердца, много распространяются о своих бедах, преувеличивают их, жалея себя, и выходят слабее, недужнее, чем вошли. А чтобы рассказать о мелких прегрешениях, хватит и двух минут! Ну и… да… я должен признать, что исповедник — угроза монастырю; не то чтобы я ставил под сомнение порядочность священников — нет, я совсем не то хочу сказать! Но их обычно избирают из числа епископских любимцев, а потому есть очень много шансов, что он окажется совершенным невеждой и, не зная, как обращаться с такими душами, своими утешениями вконец их доконает. Учтите еще, что при виде бесовских нападений, которые в монастыре бывают очень часто, такой бедняга пучит глаза, дает самые нелепые советы и только мешает аббатиссе, которая в этих делах гораздо сильнее его. — А скажите… — Дюрталь замялся, подыскивая слова, — …вот что: я полагаю, истории вроде тех, о которых рассказал Дидро в «Монахине», не похожи на правду? — Если обитель не разложена настоятельницей, предавшейся дьяволопоклонству, а это, слава Господу, редкость, то все гадости, пересказанные этим сочинителем, — ложь и, кстати, есть веская причина, чтоб было так, потому что существует грех, служащий противоядием от них: излишнее усердие. — Простите? — Да, грех излишнего усердия, заставляющий доносить на соседку, питающий зависть, толкающий на соглядатайство из злобы: вот настоящий монастырский грех! И уверяю вас: если бы две сестры дошли до того, чтоб потерять всякий стыд, на них бы тотчас же донесли. — А я, господин аббат, полагал, что большинство монашеских уставов дозволяет доносительство. — Дозволяет, но этим, пожалуй, несколько злоупотребляют, особенно в женских монастырях; ведь вы же понимаете: обители населяют и настоящие боговидицы, истинные святые, но есть там и сестры, не столь продвинувшиеся по пути совершенства, не вполне избавившиеся от некоторых пороков… — А вот что, раз уж мы завели разговор о всяких интимных подробностях, смею спросить вас: правда ли, что эти славные девицы несколько пренебрегают телесной чистотой? — Не знаю; знаю только, что в известных мне бенедиктинских аббатствах инокини были вольны поступать по своему разумению, но в некоторых августинских уставах это предусмотрено: запрещено мыть тело чаще чем раз в месяц. Кармелитки, напротив, требуют чистоты. Святая Тереза ненавидела грязь и любила белое белье; кажется, ее сестры даже имели право иметь в келье склянку одеколона. Как видите, в разных орденах по-разному, а если устав специально ничего не оговаривает, решающим становится, что думает по этому поводу настоятельница. Скажу еще, что на этот вопрос нельзя смотреть с исключительно мирской точки зрения: для иных душ телесная нечистота может быть добровольным страданием, умерщвлением плоти. Вспомните Бенуа Лабра!{42} — Того, что собирал падавших с него паразитов и благоговейно складывал в рукав? По-моему, есть более симпатичные способы умерщвлять плоть. — Но есть и потяжелее, поверьте, и едва ли они вам больше понравятся. Не угодно ли подражать Сузо, который во искупление чувственных помыслов восемнадцать лет носил на голых плечах огромный крест, усеянный гвоздями, что впивались в тело? А руки он себе заковал в медные наручники, тоже с гвоздями, чтобы не поддаться искушению перевязать себе раны. Святая Роза из Лимы{43} не лучше с собой обходилась: она туго стянула себе тело цепью, так что цепь вживилась под кожу и остался виден лишь кровоточащий валик на теле; помимо этого она носила власяницу из конского волоса с воткнутыми булавками, а спала на битом стекле. Но все эти истязания ничто перед тем, что наложила на себя преподобная мать Пассидея Сиенская из ордена капуцинов. Она бичевала себя в перехлест падубовыми и можжевеловыми розгами, а потом мазала раны уксусом и посыпала солью; спала она зимой на снегу, а летом на охапках крапивы, на фруктовых косточках, на вениках; в обувь себе подкладывала раскаленные свинцовые шарики, становилась на колени на горячие угли, колючки, щепки. В январе она садилась в бочку с водой, разбив лед, а иногда совала голову в печку, топившуюся сырой соломой, и задыхалась до полусмерти — всего не пересказать. Так вот, — посмеиваясь, закончил аббат, — думаю, предложи вам выбирать, вы предпочли бы делать то, что Бенуа Лабр. — Я бы ничего из этого не выбрал, — ответил Дюрталь. Они немного помолчали. Дюрталь опять думал о бенедиктинках. — А скажите, — сказал он, — почему в «Церковной неделе» после названия «бенедиктинки Святых Даров» пишется еще: «монастырь святого Людовика в Тампле»? — Потому что их первый монастырь был основан как раз на развалинах Тампля: это место им передали королевским указом по возвращении Людовика XVIII. Их основательницей и первой настоятельницей была Луиза-Аделаида Бурбон-Конде, несчастная принцесса-скиталица, почти вся жизнь которой прошла в изгнании. Революция и Империя изгнали ее из Франции; почти во всех странах Европы ее преследовали; в поисках убежища она странствовала из монастыря в монастырь — была у аннунциаток в Турине и у капуцинок в Пьемонте, у трапписток в Швейцарии и у сестер Визитации в Вене, посетила также бенедиктинок в Литве и в Польше. Наконец, она осела было у бенедиктинок в графстве Норфолк, а там смогла вернуться во Францию. Это была жена, чрезвычайно закаленная в невидимой брани и весьма умелая в духовном руководстве. Она пожелала, чтобы каждая сестра в ее обители предала себя Господу во искупление чужих преступлений и приняла самые ужасные лишения, дабы спасти преступников. Настоятельница ввела у себя непрестанное поклонение Дарам, а также древнее пение во всей чистоте с исключением всякого другого. Как вы могли сами слышать, оно и сохранилось там невредимым; правда, уже потом монахини брали уроки у дома Шмитта, одного из самых искушенных в этом предмете братьев. Наконец, после кончины принцессы, кажется, в 1824 году, было признано, что тело ее источает благоухание святости, и сестры, хотя она не канонизирована, в некоторых случаях прибегают к ее заступничеству. Так, например, бенедиктинки с улицы Месье обращаются к ней, потеряв какой-либо предмет, и опыт показывает: молитва их не бывает напрасной, потерянная вещь всегда находится. А впрочем, — заключил аббат, — раз уж вы так полюбили этот монастырь, сходите в него опять, когда он будет в полном блеске. Священник встал и взял со стола «Церковную неделю». — Вот, послушайте, — сказал он, полистав газету. — «В воскресенье в три часа дня вечерня с пением, церемония пострижения (предстоятель — высокопреподобный отец дом Этьен, аббат Великой обители траппистов) и вечерня с изобразительными». — О да, правда, эта церемония меня весьма интересует! — Я, вероятно, тоже там буду. — Так мы можем встретиться в капелле? — Безусловно. После недолгого молчания аббат добавил с улыбкой: — Нынче обряд пострижения не такой веселый, как был в некоторых бенедиктинских обителях в XVIII веке, скажем в аббатстве Бурбур во Фландрии. — На немой вопрос Дюрталя он ответил: — Ну да, никакой печали там не было, а если была, то совсем особенная. Судите сами. Накануне того дня, когда желающей надлежало принять постриг, градоправитель представлял ее аббатисе Бурбура. Ей давали хлеба и вина; она их вкушала прямо в церкви. На другой день она в роскошных одеждах являлась на бал, где собиралась и вся монашеская община, танцевала, затем просила у родителей благословения, и под звуки скрипок ее отводили в капеллу, где власть над девушкой принимала настоятельница. На этом балу она в последний раз видела мирские радости, ибо затем до конца дней уже затворялась в обители. — Какое-то похоронное веселье! — заметил Дюрталь. — Должно быть, раньше в монашестве бывали очень странные обычаи и удивительные конгрегации. — Несомненно, но все это затеряно во мраке времен. Мне, впрочем, припоминается, что в XV веке был один действительно очень необычный орден августинского устава. Он назывался девичий орден святого Маглуара и находился на улице Сен-Дени в Париже. Туда принимали не на тех условиях, как в другие обители, а как раз наоборот: желающая должна была поклясться на святом Евангелии, что потеряла невинность, да на ее клятву еще и не полагались — ее проверяли и, если она оказывалась девственницей, объявляли недостойной вступить в орден. Кроме того, удостоверялись, что она не специально дала себя испортить, дабы поступить в монастырь, а действительно до того, как испросить убежища в обители, жила развратно. Словом, это было стадо кающихся блудниц, причем уставу они подчинялись на редкость суровому. Их секли, сажали в карцер, налагали жесточайшие посты, как правило, три раза в неделю полагалось покаянное самобичевание; будили их в полночь, содержали под неусыпным надзором, сопровождали, даже когда они ходили по нужде, — умерщвление плоти там было непрестанным, а затворничество абсолютным. Нечего и говорить, что этого монастыря больше нет. — И не скоро будет вновь! — воскликнул Дюрталь. — Что же, господин аббат, встретимся в воскресенье на улице Месье? Аббат ответил утвердительно, и Дюрталь пошел домой, по дороге неспешно ворочая в голове причудливые мысли о монастырских уставах. Следовало бы, размышлял он, завести такое аббатство, чтобы там можно было спокойно работать в хорошей библиотеке, чтобы насельников было немного, кормили пристойно, дозволяли курить, а время от времени выпускали погулять по набережной. И он рассмеялся: но ведь это будет уже не монастырь! А если монастырь, то вроде доминиканского с обедами в городе и игривыми проповедями!
VIII
В воскресенье утром, направляясь на улицу Месье, Дюрталь перебирал в уме обрывки размышлений о монастырях. Нечего и говорить, рассуждал он, среди сегодняшней дряни они одни остались чисты, они одни действительно общаются с небом, служат земле толмачами для переговоров с ним. Именно так — да еще надо оговориться, что речь идет исключительно об орденах, не живущих в миру и по возможности сохранивших бедность… Он думал о женских обителях и шептал, ускоряя шаг: а вот еще поразительный факт, лишнее доказательство гения Церкви: ей удалось заставить жить в одном улье толпы женщин, которые не изничтожают друг друга и беспрекословно повинуются воле одной женщины — неслыханное дело! «Ну вот я и пришел». Дюрталь, зная, что опоздал, вбежал в монастырский двор, вскочил, перепрыгивая через ступеньки, на крыльцо небольшой церкви и толкнул дверь. На пороге он застыл, ослепленный сверканием капеллы, словно объятой пламенем. Все светильники были зажжены; над головами пылал алтарь, окруженный горящим лесом свечей, и на его фоне, как будто на золоте иконостаса, выделялось красное лицо архипастыря в белой ризе. Дюрталь, толкаясь локтями, протиснулся в толпу и увидел отца Жеврезена, который знаком подозвал его; он подошел, сел на стул, заблаговременно занятый для него аббатом, и стал вглядываться в настоятеля Великой обители траппистов, окруженного священниками в красном облачении, мальчиками-певчими в голубых стихарях; сзади стоял траппист с выбритой макушкой и венцом волос вокруг нее, державший деревянный крест с маленьким резным изображением монаха у подножья. Дом Этьен, облаченный в белую монашескую рясу с длинными рукавами и помпоном на капюшоне, с аббатским крестом на груди и низкой меровингской митрой на голове, своей крепкой статью, живым цветом лица и седеющей бородой сразу показался Дюрталю похожим на старого бургундца-виноградаря, прожаренного работой на солнце; еще создалось впечатление, что это славный человек, которому неуютно под митрой и неловко от почестей. Резкий запах, обжигавший носоглотку, как острый перец обжигает рот, — запах смирны витал в воздухе. Толпа вздрогнула; за решеткой с задернутой черной завесой весь монастырь стоя запел гимн святого Амвросия{44} Jesu corona Vurginum[65], а колокола аббатства зазвонили во всю силу; по короткому проходу от паперти к клиросу, вдоль которого, как вдоль аллеи, стояла живая изгородь из склонившихся женщин, прошли пономарь с крестом и свещеносцы, а за ними в брачных одеждах явилась новопостригаемая. Темноволосая, легкая, совсем маленького роста, она шла, смущаясь, с опущенными глазами, между матерью и сестрой; с первого взгляда она показалась Дюрталю невыразительной, почти даже немиловидной, вполне заурядной; он поневоле стал искать глазами ее спутника: слишком непривычна была свадебная процессия без жениха. Новенькая, изо всех сил крепясь в борьбе с волненьем, прошла через центральный неф, поднялась на клирос и преклонила колени с левой стороны на молитвенной скамеечке против большой свечи, а мать и сестра, как подружки невесты, встали по обеим сторонам от нее. Дом Этьен поклонился алтарю, взошел к нему и уселся в кресло, обитое красным бархатом, на верхней ступеньке. Тут один из священников подошел к девице, она отошла от своих и преклонила колени перед аббатом. Дом Этьен сидел неподвижно, как Будда, потом сделал одно движение: поднял палец и ласково сказал постригаемой: — Чего ты желаешь? Она ответила еле слышно: — Чувствую, отче, горячее желание принести себя Богу как жертву в единении с Господом нашим Иисусом Христом, приносимым в жертву на алтарях наших, и потребить жизнь свою в непрестанном поклонении Божественным Дарам Его, соблюдая устав преподобного отца нашего святого Бенедикта, и смиренно прошу вас о милости даровать мне святое пострижение. — Дам его с радостью, если веришь, что можешь жить, как подобает жертве, посвященной Святым Дарам. Девушка ответила чуть тверже: — Надеюсь, что смогу с помощью бесконечного человеколюбия Христа Спаса моего. — Подай тебе, Господи, постоянства, дочь моя, — произнес прелат. Он встал, повернулся к алтарю, обнажил голову, преклонил колени и запел песнь Veni creator[66], подхваченную голосами всех инокинь из-за ажурной железной загородки. Закончив, он опять надел митру, а под сводами раздавалось пение псалмов. Постриженица, которую тем временем отвели назад на место перед свечой, встала, поклонилась алтарю и опустилась на колени перед настоятелем траппистов, а по бокам от нее опять встали сестра и мать. Они сняли с нее брачную фату, венок из флердоранжа, распустили уложенные волосы, а один из священников положил прелату на колени салфетку, дьякон же подал на блюде большие ножницы. И вот монах сделал движение, подобное жесту палача, собирающегося обрить осужденную, когда уже близок для нее час расплаты; и тогда пугающая красота невинности, уподобляющей себя злу, берущей на себя последствия неизвестных ей преступлений, даже понять которые она была не в силах, явилась публике, собравшейся в церкви из любопытства; и эта публика, пораженная видимостью отказа в сверхчеловеческом правосудии, содрогнулась, когда архипастырь полной горстью захватил волосы новенькой, повел на лоб и притянул к себе. Словно среди сплошных черных туч сверкнула яркая молния. В гробовой тишине капеллы послышался скрежет ножниц, увязших в снопе волос, убегавших от лезвий, и опять все смолкло. Дом Этьен разжал ладонь, и на его колени дождем пролились долгие черные нити. Когда же священники и родственницы-подружки увели новобрачную, такую нелепую в платье со шлейфом, с простоволосой головой и выстриженной макушкой, раздался вздох облегчения. Почти тотчас же процессия возвратилась. В ней шла уже не невеста в белоснежном уборе, а монахиня в черном платье. Она поклонилась трапписту и опять встала на колени, а мать с сестрой стояли по сторонам. Аббат читал молитву, призывая Божье благословение на рабу Его, а дьякон и пономарь взяли с подставки у алтаря корзинку, в которой под розовыми лепестками были аккуратно сложены: пояс измертвой кожи, что символизирует отказ от похоти, живущей, согласно Отцам Церкви, в области чресл; нарамник, аллегория жизни, распятой для мира, покрывало, означающее уединение жизни, сокрытой в Боге; а прелат объяснял постриженице смысл этих образов, после чего наконец водрузил зажженную свечу в стоявший перед ней канделябр и протянул ей со словами приятия этого символа: accipe, soror carissima, lumen Christi…[67] Затем священник с поклоном подал дому Этьену кропило, он взял его и, как при отпевании усопших, крестообразно окропил девушку святой водой, после чего сел и тихо, спокойно, без единого жеста, заговорил. Он обращался к одной новоначальной, восхваляя для нее смиренно-высокую жизнь затворнических обителей. — Не оглядывайся назад, — говорил он, — и не жалей ни о чем, ибо Сам Иисус моими устами повторяет тебе обетование, данное некогда Магдалине: «Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее»[68]. Подумай, дочь моя, и о том, что отныне, отвлекшись от вечного ребячества суетных забот, ты исполнишь на этой земле истинно полезное дело, станешь творить наивысочайшее милосердие, искупишь чужие грехи, будешь молиться за немолящихся, поможешь по мере сил возместить ненависть мира сего к своему Спасителю. Страдай и будь блаженна; люби Супруга своего и увидишь, как ласков Он к избранным Своим. Поверь мне: любовь Его такова, что Он не будет ждать от тебя очищения смертью, чтобы воздать сторицею за ничтожные скорби плоти твоей, за твои мелкие страдания. Еще до срока Он преисполнит тебя Своей благодати, и ты станешь молить Его о смертном часе: настолько радость сия будет превыше сил. И, постепенно разжигаясь духом, старый монах вернулся к словам Христа Магдалине, показывая, что на ее примере Спаситель провидел превосходство молитвенных орденов над прочими; преподавал новой сестре краткие наставления, особенно указывая на необходимость смирения и нищеты, двух нерушимых стен монашеской жизни, по слову святой Клары. В конце слова он благословил ее, дал руку для поцелуя, а когда она вернулась на место, возвел очи горе и помолился Господу: да примет деву, приносящую себя как святую просфору за грехи мира, — потом встал и запел Te Deum. Все тоже встали, и, выйдя следом за крестом и свещеносцами из храма, сгрудились во дворе. Дюрталю показалось, будто из Парижа его перенесли куда-то прочь, в далекое прошлое. Двор был окружен монастырскими постройками; напротив въездных ворот располагалась высокая стена с двустворчатой калиткой, по обе стороны от которой колыхались в воздухе шесть сосен, а из-за стены раздавалось пение. У запертой калитки, впереди всех, одна, со свечой, понурив голову, стояла новоначальная. В нескольких шагах от нее застыл аббат, опершись на архипастырский посох. Дюрталь вгляделся в их лица: малышка, в брачном наряде казавшаяся такой заурядной, стала очаровательна. Теперь ее фигура вытянулась и стала робко-грациозной; линии, чересчур выпиравшие из-под светского платья, сгладились; контуры под монашеским покровом остались едва намечены, словно она вновь стала ребенком, в котором лишь угадывается набросок девических форм. Чтобы лучше ее разглядеть, Дюрталь подошел поближе: он хотел бы обвести взглядом и лицо, но под ледяным саваном монашеского чепца оно оставалось немым, словно отшедшим из жизни — очи закрыты, живет лишь улыбка блаженных уст. Монах, в капелле казавшийся тяжеловесным и краснолицым, вблизи тоже выглядел иначе: сложенья он был вправду крепкого, цвет лица и вправду пламенный, но глаза, голубые, словно родник, пробившийся из-под мелового склона, словно вода без отблесков и ряби, невыразимо чистые глаза совершенно меняли простонародное лицо, и теперь аббат был уже никак не похож на виноградаря, как издали. Да, ничего не скажешь, подумал Дюрталь, во всех этих людях жива душа, и лица их вылеплены душою. В их глазах и губах, в тех единственных отверстиях, через которые душа выглядывает из тела и сама, подойдя поближе, становится едва ли не телесно видима, живет святая ясность. Вдруг пение за стеной разом смолкло; малышка сделала шаг вперед, постучала кончиками пальцев в калитку и срывающимся голоском пропела: — Aperte mihiportas Justitiae: Ingressa in eos confitebor Domino[69]. И отворилась калитка. Стал виден другой большой двор, посыпанный речной галькой, с корпусом келий в глубине, и все сестры, выстроившись полукругом, возгласили: — Haec porta Domini: Justi intrabunt in earn[70]. Новенькая еще на шаг подошла к порогу, и вновь раздался ее еле слышный голос: — Ingrediar in locum tabernaculi admirabilis usque ad domum Dei[71]. А бесстрастный хор инокинь отвечал: — Haec est domus Domini, firmiter aedificata: Bene fundata est supra firmam petram[72]. Дюрталь поспешно глянул на эти лица, увидеть которые можно было только в течение нескольких минут по случаю подобной церемонии. Перед ним стоял ряд мертвых в черных саванах; все без кровинки, у всех алебастровые щеки, синеватые веки и посеревшие губы; у всех изможденные, в тонкую струнку вытянутые лишениями и молитвами голоса, и почти все, даже молодые, сгорблены. «О, жестоко истомлены эти несчастные тела!» — воскликнул про себя Дюрталь. Но ему не пришлось долго размышлять: Христова невеста, преклонив колени на пороге, обернулась к дому Этьену и спела совсем уже тихонько: — Haec requiem mea in saeculum saeculi: Hie habitando quoniam elegi earn.[73] Монах, сняв митру и отложив посох, сказал: — Confirma hoc, Deus, quod operatus es in nobis[74]. А новопостриженная прошептала: — A templo sanctum tuum quod est in Jerusalem[75]. После чего аббат, по-прежнему без митры и посоха, помолился Всемогущему Богу да излиет росу благословения Своего на рабу Свою, а затем указал на девушку одной из монахинь, выступившей из полукруга сестер и подошедшей к порогу, говоря ей: — Предаем в ваши руки, сударыня, новую невесту Господню. Сохраните ее в святой решимости, которую сей только час она подтвердила клятвой, испросив у Бога принесения себя в жертву во имя Господа нашего Иисуса Христа, приносимого на жертвенниках наших. Не оставьте ее на путях священных обетов, в соблюдении заповедей Святого Евангелия и правил иноческой жизни. Приготовьте ее к вечному союзу, куда призывает ее Божественный Жених, дабы в сем благополучном прибавлении вверенного попечению вашему стада обрести новый источник материнской заботы. Мир Господень да будет с вами! Вот и все: монахини повернулись и друг за другом скрылись за стеной, а за ними, как собачка, которая, понурив голову, плетется поодаль за новым хозяином, прошла маленькая постриженица. Калитка затворилась. Дюрталь ошеломленно глядел на силуэт епископа в белом, на спины священства, направившегося в церковь служить вечерню; за ними, уткнувшись плачущими лицами в платочки, шли мать и сестра новопостриженной. — Что скажете? — спросил аббат, взяв Дюрталя под руку. — Что ж, вне всякого сомнения, невозможно увидеть более волнующую имитацию погребения, чем эта сцена; девушка, заживо погребающая себя в самой страшной из могил — ибо в ней страждет плоть, — изумительна! Я припоминаю то, что вы же мне рассказывали о строгости этого ордена, и содрогаюсь при мысли о непрерывном поклонении Дарам, о том, как зимней ночью девочку, подобную этой, будят, едва она сомкнет глаза, и оставляют во мгле часовни, где она должна молиться в одиночестве, в ледяной тьме, на холодных плитах, и не терять сознания от страха и слабости. Что происходит на этом свидании с неведомым, наедине со мраком? Сможет ли она уйти от себя, бежать от земли, встретить на пороге вечности непостижимого Супруга, или ее душа, не осилив взлет, так и останется прикованной к дольнему? Так ясно можно представить ее себе: фигура устремлена вперед, руки сложены; она взывает сама к себе, сосредотачивается в своей глубине, собирается, чтобы верней растаять; и точно так же воображаешь ее больной, обессилевшей — тело дрожит от холода, чтобы воспламенить душу. Но кто знает: иными ночами удается ли это ей? О, эти скудные живые ночники, бдящие с почти иссякшим маслом, с почти угасшими огоньками, трепещущими во мраке храма, — что творит с ними Бог? Кроме того, на пострижении была же еще и семья, и если о дочери я думаю с восторгом, то о матери поневоле не могу не пожалеть. Представьте только себе: если бы дочь умирала, она бы обняла мать, может быть, говорила бы с ней, а если бы и не узнавала, то хотя бы не по своей воле, а здесь при ней умерло не тело, а душа дочери. Та не узнает ее — не узнает нарочно; родственная любовь разрешилась в отчуждение. Согласитесь, для матери это уж слишком! — Соглашусь, но если даже забыть о Божьем призвании, эта якобы неблагодарность, родившаяся в результате Бог знает каких душевных схваток, — не что иное, как более справедливое распределение людской любви. Подумайте о том, что эта избранная служит козлом отпущения за наши грехи; подобно злосчастной Данаиде,{45} она будет изливать неистощимую жертву своих скорбей и молитв, бдений и постов в бездонную урну прегрешений и преступлений. О, знали бы вы только, чего это стоит — принимать на себя грехи мира! Вот, кстати, я припоминаю, как говорила мне аббатиса бенедиктинок с улицы Турнефор: за то, что слезы наши не довольно святы, что души еще не довольно очистились, Бог испытывает нас в телах наших. Здесь случаются продолжительные болезни, не знающие исцеления; болезни, которые никак не могут понять доктора: мы терпим их за других, и со многими бывает так. Но если вы желаете судить о сегодняшней церемонии, не следует умиляться сверх меры и сравнивать ее с известным зрелищем похоронного обряда. Новоначальная, которую вы сейчас видели, еще не дала решительных обетов, так что может, если захочет, оставить монастырь и вернуться домой. Сейчас для матери она беглая дочь, странница, но не покойница! — Говорите, что угодно вам, но эта калитка, затворившаяся за ней, трагична! — А вот у бенедиктинок с улицы Турнефор действие разворачивается внутри монастыря, и семья при этом не присутствует; они щадят мать, но с таким послаблением церемония превращается в пустую формальность, которую чуть ли не стыдливо совершают в потаенном укрытии, где прячется вера. — А та обитель — тоже бенедиктинок непрестанного поклонения?{46} — Да. Вы знаете их монастырь? Дюрталь отрицательно покачал головой, и аббат продолжил: — Он старше этого, но не столь интересен; церковь монастырская пошлая, вся в гипсовых статуэтках, искусственных цветах, виноградных гроздях и колосьях из золотой бумаги, но древнее здание вокруг монастырского двора любопытно. В нем, я бы сказал, есть что-то от пансионской столовой и от залы в богадельне: оно пахнет и детством, и старостью… — Такого рода монастырские помещения мне знакомы, — ответил Дюрталь. — Некогда я бывал в таком, когда навещал старую тетку в Версале. У меня от него всегда была одна мысль: как будто большой приют для престарелых весь разом обратился к Богу; в нем было нечто и от табльдота в пансионе с улицы Ла-Кле, и от провинциальной ризницы. — Хорошо сказано, — улыбнулся аббат. — На улице Турнефор я не раз говорил с аббатисой; ее фигура при этом не видна, а только угадывается: она стоит за решеткой из черного дерева с едва приоткрытой занавеской. «И я тоже прекрасно ее вижу», — подумал Дюрталь: вспомнив, как одеты бенедиктинки, он в ту же секунду вообразил себе сморщенное личико в матовом свете, а на нагруднике рясы — блеск алой с белым эмалированной ладанки с Дарами. Рассмеявшись, он сказал аббату: — Я смеюсь вот почему: когда надо было уладить кое-какие дела с этой самой теткой-монахиней, о которой сейчас говорил, я видел ее, как и вашу аббатису, через решетку, но между тем научился хоть как-то проникать в ее мысли. — Правда? Как же? — Вот как. Лица ее я не видел: его закрывали прутья загородки, да и опущенная вуаль тоже; интонации голоса мне также не помогали: она всегда отвечала совершенно ровно и сдержанно, но я глядел на ее огромные круглые очки в буйволовой оправе, какие носят почти все монашки. Вот они-то и выдавали ее затаенный темперамент: иногда на краешке стекла вдруг вспыхивала искорка, и я понимал, что, вопреки безразличному голосу, нарочито бесстрастному тону, ее глаза разгорались. Аббат тоже засмеялся. — А с настоятельницей монастыря на улице Месье вы знакомы? — спросил Дюрталь. — Говорил с ней раз или два. Здесь комната свиданий совсем монастырская, совсем не мещански-провинциальная, как на улице Турнефор: темная прихожая, во всю ширину перегороженная частой железной решеткой; за ней стоит еще деревянный заборчик, а в нем черное окошко. Кругом сплошная темнота, и аббатиса в бледном полусвете является вам, как призрак… — Это была та пожилая монахиня, маленькая и худенькая, которой дом Этьен вручил новоначальную? — Да, именно. Она замечательный пастырь душ, но более того — чрезвычайно образованна и с манерами, на редкость изысканными. «О, — подумал Дюрталь, — могу себе представить, что за женщины эти аббатисы: превосходные, но страшные!» Святая Тереза была сама доброта, но говоря в «Пути совершенства» о монахинях, собирающихся пересуживать распоряжения настоятельницы, она становится беспощадной, заявляет, что их без всяких послаблений должно заточать пожизненно в темницу, и чем раньше, тем лучше. При том по сути она права: ведь одна паршивая сестра все стадо портит, разносит в душах заразу! За разговором они дошли до начала улицы Севр. Аббат остановился передохнуть. — Ах, — сказал он как бы сам себе, — не лежи на мне всю жизнь тяжелое бремя: сначала надо было содержать брата, потом племянников, — я бы уже много лет назад стал членом семьи святого Бенедикта! У меня всегда было влечение к этому великому ордену, который, в общем-то, есть ум Церкви. И когда я был помоложе и поздоровей, ездил пожить на покое то у чернецов Солема и Лигюжа, сохранивших ученые традиции святого Мавра, то у белых траппистов. — Трапписты,{47} — заметил Дюрталь, — одна из главных отраслей древа святого Бенедикта, но разве их устав не отличается от того, что оставил патриарх ордена? — Верней сказать, что трапписты трактуют правило святого, очень гибкое и широкое, больше следуя букве, чем духу, бенедиктинцы же наоборот. Одним словом, трапписты — побег цистерцианства; их община — дщерь, скорее, святого Бернарда, но ведь и он сорок лет возрастал на одном стебле с потомством Бенедикта. — Но, сколько я помню, трапписты сами разделились и живут не все по одному уставу. — Теперь уже не так: с тех пор, как папским бреве от 17 марта 1893 года утверждены решения генерального капитула траппистов в Риме и постановлено слить в один орден под единым началом три обсервации ордена, уставы которых действительно не были согласованы. Аббат заметил, что Дюрталь слушает внимательно, и продолжал: — Из этих трех ветвей лишь одна — трапписты цистерцианского устава, у которых я и гостил, — полностью соблюдала предписания XII века, жила монашеской жизнью времен святого Бернарда. Она признавала только устав святого Бенедикта, взятый в самом строгом смысле, дополненный Хартией Любви, а также обычаями Сито. Две другие приняли тот же устав, но пересмотренный и обновленный аббатом Ранее в XVII веке, причем одна из них — бельгийская конгрегация — положения этого аббата еще и извратила. Но сейчас, как я вам сказал, все трапписты стали одним единым учреждением, которое именуется «орден реформированных цистерцианцев Пресвятой Девы Марии Траппской»; все они вновь приняли устав Цистерцианской обители и живут по заветам общежительных монахов Средних веков. — Но раз вы бывали в этих обителях аскетов, вы и дома Этьена должны знать? — Нет, я никогда не был в Великой обители; мне больше нравились не солидные монастыри, где вас селят в отдельной гостинице и, в сущности, не обращают внимания, а небольшие, бедные: там вы смешиваетесь с братией. Вот, скажем, одно из тех, где я, бывало, уединялся: Нотр-Дам де л’Атр, маленькая обитель в нескольких лье от Парижа, несомненно, самая очаровательная. Даже помимо того, что Господь поистине там пребывает, ибо среди ее чад есть настоящие святые, прелестны ее пруды, вековые деревья, тишина и покой убежища, затерянного в лесах. — Конечно, но, — возразил Дюрталь, — жизнь там должна быть тяжела: ведь обеты траппистов — самые суровые из налагавшихся на себя людьми. Вместо ответа аббат отнял руку из-под локтя и сжал Дюрталю ладони. — Знаете ли, — сказал он, глядя писателю прямо в глаза, — знаете ли, туда-то вам и надо поехать для воцерковления. — Вы серьезно, господин аббат? Священник еще сильнее сжал ему руки, и Дюрталь вскричал: — Нет, нет, что вы! Во-первых, у меня не хватит крепости духа, а еще меньше, если только это возможно, телесного здоровья для требований такого режима; я заболею, как только приеду, и к тому же… гм… — Что к тому же? Я предлагаю вам не уйти в монастырь на всю жизнь… — Еще бы! — воскликнул Дюрталь чуть ли не с обидой. — …а просто пожить там с недельку — ровно столько, сколько требуется для душевного оздоровления. А неделя пролетит быстро. И потом, неужели вы думаете, что после такого решения Бог не пособит вам? — Звучит красиво, но… — Вот что, поговорим о гигиене. — Аббат улыбнулся с жалостью и чуть-чуть с презрением. — Прежде всего, могу вас уверить, что, как постояльцу, вам не придется делить жизнь траппистов во всей ее суровости. К заутрене вам надо будет вставать не в два часа ночи, а в три, а то и в четыре, смотря по расписанию. — Дюрталь состроил гримасу; аббат улыбнулся и продолжал: — Пища ваша тоже будет лучше, чем у монахов; разумеется, ни мяса, ни рыбы вам не подадут, но яйцо к обеду, если одних овощей будет недостаточно, наверняка разрешат. — А овощи сварены в соленой воде без приправ… — Отнюдь нет, в соленой воде их готовят только во время постов, в прочие дни варят в молоке, разведенном водой или постным маслом. — Вот спасибо! — воскликнул Дюрталь. — Но это же очень полезно для здоровья, — возразил аббат. — Вот вы жалуетесь на боли в желудке, в кишечнике, на мигрени! А этот режим да деревенская жизнь на свежем воздухе помогут вам лучше, чем любые пилюли, что вам прописывают. И вообще, если позволите, оставим тему ваших телесных немощей: в таких случаях о ней печется Бог; говорю вам: в обители вы не заболеете — это было бы нелепо, это значило бы, что Иисус Христос не принимает кающегося, а если так, то Он не Спаситель! Речь не о теле, а о душе вашей. Наберитесь смелости и взгляните на нее пристально, не отводя глаз. И что вы увидели? — завершил аббат фразу после недолгой паузы. Дюрталь не отвечал. — Признайтесь же, — вскричал аббат, — что вы ужаснулись! Они молча прошли несколько шагов. Аббат заговорил вновь: — Вы утверждали, что вас поддерживают толпы Нотр-Дам де Виктуар и флюиды стен Сен-Северена. Так что же будет, когда вы упадете ниц в бедной церковке посреди святых? Именем Господним говорю вам непреложно: получите такую помощь, какой доселе не знали. Между прочим, — засмеялся он, — Церковь приоденется к встрече с вами; она достанет лучшие украшения, каких теперь не носят: подлинную средневековую литургию, настоящие древние распевы без солистов и органа. — Знаете, — еле смог проговорить Дюрталь, — ваше предложение меня совсем ошеломило. Нет, уверяю вас, мне вовсе не хочется заточить себя в таком месте. Я знаю, что в Париже ничего не добьюсь; клянусь вам: мне нечего гордиться своей жизнью, нечего хвалиться своей душой, но так вот… нет… не знаю… право, не знаю: мне бы хотя бы что-нибудь помягче, поснисходительней… Ведь должны же быть для душ подобные лазареты? — Тогда могу вам присоветовать только иезуитов: мужские молитвенные приюты — их специальность; но я вас, кажется, знаю и поручусь: вы там и двух дней не продержитесь. Вас встретят очень любезные и знающие дело отцы, но они вас задушат проповедями, станут мешаться в вашу жизнь, лезть в ваше творчество, следить под микроскопом за вашими помышлениями; а рядом с вами будут блаженные молодые люди с нерассуждающей набожностью, от которой вам станет тошно; вы отчаетесь и сбежите. У траппистов все наоборот. Кроме вас, постояльцев наверняка не будет, и никому не придет в голову вами заниматься, не будет и надзора; если угодно, вы сможете уехать из монастыря, как приехали, без исповеди и причащения; воля ваша будет свободна, и никто из монахов не посмеет проникнуть в нее без вашего позволения. Только вы сами сможете решить, хотите воцерковиться или нет. И чтобы все сказать до конца (вы разрешите?), вы, как я вам уже говорил однажды, недоверчивы и самолюбивы; и вот, священник, каких можно видеть в Париже, и даже монах, не живущий в монастыре, кажутся вам… как бы это сказать… существами не самого высокого полета, мягко говоря… Дюрталь сделал слабую попытку возразить; аббат остановил его: — Позвольте, я договорю. Против того, кому выпадет на долю омыть вас от греха, у вас будет предубеждение: вы будете точно знать, что он не святой; по-богословски это совсем неверно: будь он хоть последним из грешников, данное им отпущение останется вполне действительным, если только вы его заслужили — но тут уж вопрос ваших чувств, и я не могу ими пренебречь. Словом, вы будете думать про него: он живет так же, как я, не больше моего терпит лишений; ниоткуда не видно, что совесть его чище моей, а отсюда всего шаг, чтобы утратить всякую доверенность к Церкви и бросить все. А у траппистов попробовали бы вы так рассуждать, посмели бы не набраться смирения! Увидев людей, оставивших все, чтобы служить Богу, проводящих жизнь в таких лишениях и под такой дисциплиной, какими ни одно государство не решится карать каторжников, вам поневоле придется признать, что против них вы немного стоите! Дюрталь не отвечал. Оцепенение, наступившее, когда ему предложили подобное решение, прошло и сменилось глухим раздражением на того, кто под видом дружбы долго избегал откровенности, потом же вдруг набросился на его душу и с насилием распахнул ее. Он извлек оттуда отвратительное зрелище: жизнь растрепанную и потрепанную, стертую в порошок, изорванную, как тряпка! И, отшатнувшись от самого себя, Дюрталь признал: аббат прав; надо было и в самом деле дать стечь гною чувств, искупить их неоплатные требования, чудовищную алчность, извращенные вкусы. От мысли о монастыре кружилась голова; бездна, над которой он склонился благодаря отцу Жеврезену, страшила и притягивала. Церемония пострижения взволновала его, а удар, нанесенный аббатом, оглушил; теперь он ощущал почти физическое стеснение в груди и тоску, в которой все слилось. Он перестал понимать, какие мысли слушать, и лишь одна отчетливая идея выныривала из их смутного потока: миг принятия решения, которого он так боялся, настал. Аббат, глядя на него, понял, что Дюрталю действительно нехорошо, и еще сильнее пожалел душу, столь неумелую в брани. Взяв Дюрталя под локоть, он ласково сказал: — Дитя мое, поверьте: в день, когда вы сами пойдете к Богу, когда постучите в Его дверь, она распахнется настежь и ангелы расступятся, чтобы дать вам дорогу. Поистине Евангелие не лжет, утверждая, что в Царстве Небесном больше радуются одному кающемуся грешнику, чем девяноста девяти праведникам, не имеющим нужды в покаянии. Вас там ждут, а значит, встретят. В конце концов, имейте довольно дружеских чувств ко мне и поверьте: старый аббат, оставшийся здесь, не будет сидеть сложа руки; и он, и монастыри, в которых он имеет влияние, станут изо всех сил молиться за вас. — Посмотрим… — пробормотал Дюрталь, истинно тронутый участием аббата, — посмотрим… Я не могу решиться так вдруг, я подумаю… О, не простое дело! — Главное — молитесь, — проговорил аббат. Они уже подошли к его подъезду. — Я со своей стороны много молил Господа просветить меня, и уверяю вас: Он не подал мне никакого решения, кроме как отправить вас к траппистам. Просите и вы Его со смирением, и Он поведет вас. Мы скоро увидимся, не так ли? Он пожал руку Дюрталю, и тот остался один. Наконец он пришел в себя и вспомнил тогда все двусмысленные фразы, удивительные паузы отца Жеврезена; ему стали понятны благодушие его советов, неторопливость его решений, и, не без досады на то, что им так ловко руководили, а он даже не замечал этого, Дюрталь не то воскликнул, не то пробурчал про себя: «Ай да батюшка! Так вот что он задумывал, да виду не подавал!»IX
Он чувствовал себя тоскливо, как проснувшийся больной, которого доктор много месяцев подряд успокаивал, а накануне объявил, что завтра следует отправляться в больницу на неотложную операцию. «Так же не делают! — кричал он про себя. — Надо подготовить человека понемногу, поговорить, подвести к мысли, что придется оставить прежнюю опору в жизни, а не бить так наотмашь! Но какая разница: ведь в глубине души я прекрасно понимаю, что он прав; я сам чувствую, что надо уехать из Парижа, если хочу стать лучше; однако курс лечения он мне прописал весьма суровый — как же быть?» И с той поры он каждый день проживал под наваждением обители траппистов. Мысль об отъезде шевелилась в мозгу, поворачивалась то одним, то другим боком; он перебирал все за и против, пока не решил: давай разберемся, все посчитаем, разложим по полочкам; давай посмотрим, чтобы не путаться, что есть и что надо. «Надо — вот что ужасно! Взять и бросить жизнь в чан монастырской прачечной! Знать бы, выдержит ли тело такое лечение: у меня-то оно хрупкое, балованное; я привык вставать поздно, слабею, когда не подпитываюсь мясными соками, а если ем не по расписанию, тотчас начинает болеть голова. Там я никак не выдержу эти овощи, сваренные в молоке или постном масле; прежде всего постное масло я терпеть не могу, а молоко тем более: у меня от него несваренье желудка. А еще представляю себе, как я буду часами стоять на коленях: в церковке на Гласьер я довольно натерпелся, продержавшись в такой позе на ступеньке от силы четверть часа. Наконец, я привык к сигаретам, и отказаться от них мне решительно невозможно, а между тем курить в монастыре наверняка не разрешат. Нет-нет, телесному здоровью такая поездка решительно не пойдет на пользу, и в моем состоянии ни один врач не убедил бы меня пойти на такой риск. Теперь посмотрим с духовной точки зрения — надобно признать, с этой стороны поездка к траппистам тоже пугает. И вправду, моя сердечная сухость, моя безлюбость пока никуда не денутся — и что же со мной станется в таком окружении? К тому же вполне возможно, что в этом уединении, в полной тишине мне станет смертельно скучно, а если так, что это будет за жизнь: мерить шагами келью, считая часы! Нет-нет, для этого надо быть уверенным, что Бог дает тебе крепость, что ты Им весь исполнен… Наконец, есть еще два тяжелых вопроса, на которых я прежде не останавливался, потому что мне было тяжело об этом думать, но теперь они вовсю встают передо мной, ложатся поперек дороги, и должно их рассмотреть: вопрос об исповеди и вопрос о Святом причастии. Исповедаться? Что ж, пожалуй; я так устал от самого себя, мне так отвратительна моя жалкая жизнь, что это воздаяние представляется мне заслуженным и необходимым; я желаю смирить себя до ничтожества, искренне хочу от души испросить прощения, но ведь надо, чтобы обстановка для покаяния была терпимой! У траппистов, тут я верю аббату, возиться со мной никто не будет; иными словами, никто меня не ободрит, никто не поможет перенести мучительную экстракцию стыда; я буду подобен больному, что терпит операцию в больнице вдалеке от всех родных и близких! Исповедь, думал он далее, — чудесное изобретение: ведь это наилучший пробный камень душ, самое невыносимое для человеческого тщеславия дело из предлагаемых Церковью. Не странно ли: мы легко и просто говорим о своих проказах и безобразиях с приятелями, даже со священником в простом разговоре; это кажется безделицей, а иногда с признанием в небольших грехах смешивается даже похвальба, но рассказать то же самое, преклонив колени, помолившись, не оправдывая себя, — совсем другое дело: забава превращается в мучительное унижение; ведь душу не проведешь всякой мнимостью: в глубине своей она знает, что отныне все иначе, ощущает страшную силу таинства и потому трепещет, помышляя о том, чему только что усмехалась. И что ж, вот я окажусь лицом к лицу со старым монахом, вышедшим из вечного молчанья выслушать меня; но такой не будет мне опорой, он меня, пожалуй, вовсе не поймет, и это будет ужасно! Я ни за что не преодолею свое мученье, если он не перекинет мне шест, оставит душу задыхаться в замкнутом пространстве, если он не придет мне на выручку! И Евхаристия тоже представляется мне устрашающей. Посметь ступить к Нему, посметь предложить Ему вместо жертвенника свою клоаку, насилу очищенную раскаяньем, клоаку, протертую отпущеньем грехов, но еще не просохшую — чудовищно! Я никак не посмею наносить Господу эту последнюю обиду… Так чего же ради затворяться в монастыре? Нет, чем больше я над этим думаю, тем больше должен признать, что поездка к траппистам была бы дикой авантюрой! Теперь, что мы имеем. Мне осталось в жизни, собственно, одно дело — как раз упаковать свое прошлое и принести его в монастырь для дезинфекции, и если это мне не зачтется, какие еще могут быть заслуги? К тому же никто еще не сказал, что мое тело, при всей своей дряблости, не вынесет режима траппистов. Я не буду верить или притворяться, что верю, как аббат Жеврезен, будто такой род пищи может быть мне показан, однако должен рассчитывать на сверхчеловеческую поддержку, допустить в принципе, что если поеду туда, так не затем, чтобы там свалиться в постель или сразу же поневоле уехать. Разве что, впрочем, это может стать уготовленной карой, чаемым воздаянием — но нет и нет, ибо нелепо подозревать Бога в таком жестоком лукавстве! Что касается кухни — ну и что, что она не человеческая? Лишь бы желудок ее сварил; дурная еда и ранний подъем пустяки, только бы тело выдержало, а покурить я могу потихоньку в лесу. В конце концов, неделя пройдет быстро, а если я почувствую, что не выдерживаю, то и неделю оставаться там не обязан! С точки же зрения духовной жизни, я опять-таки должен уповать на милосердие Божие, верить, что оно не оставит меня, выпустит гной из моих ран, умягчит глубину души. Да, я знаю: эти доводы не опираются на какое-либо земное удостоверение; но между тем у меня уже есть доказательство, что Провидение печется о моих делах, а раз так, у меня нет причин судить, будто доводы эти слабее, нежели чисто физические мотивы, подкрепляющие обратное предположение. Но ведь необходимо помнить, как я обратился помимо собственной воли, да и тот факт должен меня ободрять, что нынче искушения мои очень слабы. Редко бывает, чтобы твои благие пожелания так быстро и с такой полнотой исполнялись. Обязан ли я такой милостью своим собственным молитвам или тем монастырям, что за меня заступали, не зная меня, так или иначе уже некоторое время голова моя остыла и плоть успокоилась. В иные часы еще бывает, что ко мне является это чудовищное видение — Флоранс, но близко уже не подходит, остается где-то в полумраке, а окончание «Отче наш», слова «И не введи нас во искушение», прогоняют ее. Факт весьма необычайный, однако вполне конкретный; если я даже в Париже так укреплен, то почему должен сомневаться, что в обители буду еще лучше? Исповедь? Как захочет Господь, так она и пройдет: Он Сам подберет мне исповедника; я могу лишь принять того, кто мне будет послан; к тому же чем больше против шерсти это будет, тем лучше: натерпевшись, я сочту себя менее недостойным причащения. Вот это самое тяжелое, — думал он опять, — причащение! Конечно, было бы непорядочно звать Христа низойти ко мне в ров, как землекопа, но если ждать, покуда колодец моей души обсохнет, я никогда не смогу принять причастие: ведь люки в ней не задраены наглухо, всегда остаются щели, через которые просачивается грех! Рассудив хорошенько, признаешь, аббат был прав, сказав мне однажды: “Но ведь и я не достоин приступать к Нему; во мне, слава Богу, нет той клоаки, про которую рассказываете вы, но когда утром, служа мессу, я вспоминаю о пыли, приставшей ко мне накануне, думаете, мне не стыдно? Видите ли, надо всегда обращаться к Евангелию, вспоминать, что Он пришел к больным, посещает мытарей и прокаженных; наконец, надо иметь убеждение, что Евхаристия — наш маяк, наше вспоможение, что она дается, как сказано в чине литургии, ad tutamentum mentis et corporis et ad medelam perpiciendam[76]; это, позволю сказать себе, духовный медикамент; вы идете к Господу так же, как обращаетесь к врачу: приносите Ему душу для исцеления, и Он исцеляет ее!” Передо мной неизвестность, — думал далее Дюрталь, — я жалуюсь на сухость сердца, на рассеянность, но кто может утверждать, что, решившись на причащение, я останусь таким же? Ведь, в конце концов, если я имею веру, то должен верить и в тайнодействие Спасителя в Тайнах Его! Наконец, я боюсь, что в уединении заскучаю — а то мне здесь больно весело! В обители я хотя бы не буду ежеминутно вилять, непрерывно цепенеть; уже то станет благом, что я буду в ладу с собой, а потом… что за невидаль для меня одиночество? После смерти Дез Эрми и Каре я и так живу на отшибе; с кем я вижусь-то? С парой издателей, парой литераторов, и в общении с этими людьми для меня нет ничего приятного. Ну а молчание и вовсе хорошо: у траппистов не придется слушать кучу глупостей, жалких проповедей, беспомощных увещеваний. Да я должен плясать от счастья, что уеду из Парижа, подальше от людей! Он прервался, еще раз словно обошел вокруг себя и грустно заметил: ни к чему все эти диспуты, впустую все размышления! Вовсе не стоит подводить в своей душе баланс, расчислять должное и наличное; ведь я сам, не зная даже почему, знаю, что ехать надо; меня выталкивает из себя импульс, идущий из глубины моей личности, и я совершенно уверен, что ему следует уступить». В этот момент Дюрталь решился, но десять минут спустя решимость его улетучилась; им опять овладела леность, он вновь принялся перебирать доводы за то, чтобы никуда не ездить, приходил к выводу, что резоны остаться в Париже были осязаемы, гуманны, верны, а возражения ненадежны, сверхъестественны, а следовательно, не исключалась возможность иллюзий и ошибок. И он выдумал себе страх того, что и бояться нечего: обитель, думал он, не примет его или же ему откажут в причастии; тогда он соглашался для себя на нечто среднее: исповедаться в Париже, а причаститься у траппистов. Но тут в нем происходило нечто необъяснимое: все его существо восставало против такой мысли, внушая ясное повеление не лукавить; и он говорил себе: нет уж, касторку надо выпить до капли — все или ничего; если я исповедуюсь у аббата, это будет непослушание решительным и тайным заповедям; тогда дойдет до того, что я в монастырь и вовсе не поеду! Что же делать? И он обвинял себя в маловерии, еще и еще раз призывал на помощь память о полученных воздаяниях: как растворялись его глаза, как неприметно шел он к вере; как встретил этого необычайного пастыря, единственного, быть может, кто мог его понять, отнестись к нему с такой добротой и тактом, но тщетно он пытался утешить себя. Тогда Дюрталь призывал на помощь образы монастырской жизни, мечту о величественной красоте удаления от мира; представлял себе веселье отречения от земных благ, мир безумных молитвенных бдений, упоение духа, радость ощущать себя вне собственного тела! Несколько слов аббата Великой обители стали толчком для этих мечтаний; он уже видел старое аббатство, посеревшее, теплое, широченные аллеи, осторожный ряд сводов, перестук капели, безмолвные прогулки в лесу на закате; на ум приходили торжественные литургии времен святого Бенедикта; он видел, как из-под чуть надрезанной коры звуков вытекает сок монашеских песнопений! Наконец, он увлекался, кричал на себя: ты же много лет мечтал о затворнических монастырях, так радуйся, ты наконец познакомишься с ними! Ему хотелось тотчас поехать и поселиться там, и вдруг, разом вернувшись к действительности, он думал: легко желать жить в обители, плести Богу, что хочешь укрыться в ней, когда тебе тошно в Париже, но переселиться туда просто так — совсем другое дело! Мысли эти шевелились в нем повсюду: на улице, дома, в церкви. Он сновал из одного храма в другой, надеясь переменой мест утишить страхи, но они не проходили, и всякое место казалось ему несносным. К тому же в храмах на него всегда находило то самое иссушение души, ломалась пружина душевного полета, все внутри замолкало, а он именно хотел утешиться, говоря с Богом… Его лучшие минуты, остановки среди коловерти, обращались в совершенное оцепененье; душу словно снегом заносило: он ничего не понимал. Но мысли засыпали ненадолго, вскоре вновь задувала метель, а молитвы, которые могли бы ее успокоить, никак не шли на уста; чтобы возбудить себя, он обращался к духовной музыке, к отчаянным стихам Псалтыри, к Распятиям примитивных художников, но молитвы на губах толпились и путались, лишались смысла, превращались в пустые слова, порожние раковины. В Нотр-Дам де Виктуар, куда Дюрталь заходил в надежде оттаять на огне молитв прихожан, он и вправду малость отогревался; тогда ему казалось, что он лежит на ярком солнце и капля за каплей на нем проступает невнятная боль; так в детстве, занедужив, он шепотом говорил, обращаясь к Богородице: очень больно душе! Оттуда он шел обратно в Сен-Северен, усаживался под сводами, покрытыми патиной молений, и возвращался к своей назойливой мысли, то выставляя на вид смягчающие обстоятельства, то преувеличивая суровость траппистского устава, и едва ли не сам раздувал свой страх для того, чтобы, рассеянно обратившись к Мадонне, оправдать свое слабодушие. «Надо же, однако, и к отцу Жеврезену зайти», — шептал он подчас, но ему не хватало смелости пойти и сказать «да», которого от него, несомненно, ждал аббат. Наконец он вроде бы придумал, как встретиться с ним, не беря на себя окончательного обязательства. «Собственно говоря, — думал Дюрталь, — я же ничего толком не знаю об этой обители; может быть, ехать туда придется долго и дорого, а я и этого не знаю; аббат говорил, что она недалеко от Парижа, но это общие слова, я не могу решиться только на их основании; наконец, прежде чем поселиться у чернецов, надо что-то разузнать об их обычаях. Когда Дюрталь изложил аббату эти сомнения, тот улыбнулся. — Дорога совсем не дальняя, — ответил он. — Берете на Северном вокзале билет до Сен-Ландри на восьмичасовой поезд; выходите на станции без четверти двенадцать, обедаете в привокзальном трактире, пьете кофе, а тем временем будет готова тележка; едете на ней рысью четыре часа и приезжаете в Нотр-Дам де л’Атр к вечерней трапезе; кажется, ничего затруднительного? Расходы тоже вполне умеренные. Сколько припоминаю, железнодорожный билет стоит франков пятнадцать; прибавьте два-три франка на обед да шесть-семь кучеру… Дюрталь не отвечал; аббат спросил: — Что же? — Ах, знаете, знаете… как вам сказать… я в таком несчастном состоянии: хочу и не хочу; знаю, что мне надобно уединиться там, но поневоле хочется потянуть время, поехать как-нибудь потом… У меня душа не в порядке, — продолжал Дюрталь. — Как только хочу молиться, все чувства рассеиваются, я не могу собраться, а если и получается сосредоточиться, то самое большее минут через пять все опять рассыпается. Нет, я не имею ни усердия настоящего, ни сокрушения; коли угодно, скажу вам: я Его недостаточно люблю. Наконец, дня два, как во мне укрепилось ужасное убежденье: я уверен, что хотя плоть моя на время утихла, но стоит мне столкнуться с одной женщиной, вид которой сводит меня с ума, я не устою, пошлю к черту всю религию, стану жадно лакать свою блевотину. Я держусь только потому, что неискушаем; я не стал лучше, нежели когда грешил. Согласитесь, для поездки в обитель траппистов я в очень уж непривлекательном состоянии духа… — Ваши резоны по меньшей мере шатки, — ответил аббат. — Прежде всего, вы говорите, что рассеянны на молитве, не можете собрать свои чувства — да ведь и все так, собственно! Сама святая Тереза сообщает, что часто не могла, не отвлекшись, прочитать «Верую»; это слабость, которую надо просто смиренно принять, а самое главное, не привязываться к ней: чем больше боишься, что она вернется, тем крепче она укоренится; рассеивают сам страх рассеяния на молитве и сожаления о прошлом рассеянии; идите вперед, плывите смело, молитесь, как можете, и не тревожьтесь! Потом вы говорите, что встретите кого-то, чьи прелести якобы смущают вас, и падете: откуда вам знать? что вам за дело до искушений, которые Бог вам еще не посылал и, может быть, не пошлет? почему, напротив, не верить, что если бы Он счел такой соблазн полезным, то помог бы вам удержаться? Но в любом случае нечего вам заранее падать духом, с отвращением предчувствуя свою слабость; об этом сказано в «Подражании Христу»: «что безумнее и суетнее, чем беспокоиться о будущем, которого, быть может, вовсе и не случится». Нет, заниматься довольно настоящим: довлеет дневи злоба его. Наконец, вы утверждаете, что не имеете любви к Богу; я снова скажу вам: откуда вам знать? У вас есть эта любовь уже потому, что вы желаете ее иметь, что вам жаль не иметь ее: вы любите Господа нашего потому только, что хотите любить! «Похоже на правду…» — прошептал про себя Дюрталь. — Ну а если в обители, — сказал он вслух, — некий монах, долго выслушивая мои прегрешения, вознегодует и не допустит меня к причастию? Аббат расхохотался. — Какие глупости! Ну как вы себе представляете Спасителя? — Спаситель одно, а Его посредник, человек, замещающий Его… — Вы можете встретить только такого человека, который изначала послан свыше судить вас; впрочем, в Нотр-Дам де л’Атр вы очень даже можете преклонить колени перед святым, и Бог наставит его; вам нечего бояться. Наконец, причастие: вас страшит перспектива, что вас к нему не допустят, но не доказательство ли это, что, вопреки вашему утверждению, Бог не оставил вас в бесчувствии? — Да, но мысль о причащении меня пугает не меньше! — И опять вам скажу: если бы Христос был вам безразличен, то и приобщаться или не приобщатьсяСвятых Тайн было бы все равно! — Нет, все это неубедительно, — вздохнул Дюрталь. — Сам не знаю, что со мной; боюсь исповедника, боюсь других, боюсь самого себя; это очень глупо, но это сильнее меня, и мне никак не удается с этим справиться. — У вас страх перед водой — так прыгните прямо туда, как сделал Грибуй[77]. Знаете что, я бы сегодня же написал в обитель, что вы туда приедете — только когда? — Что вы! — воскликнул Дюрталь. — Погодите еще! — Сколько надо, чтобы получить ответ? Положим, два раза по двое суток — итак, через пять дней; согласны? Ошеломленный Дюрталь молчал. — Договорились? И в этот момент Дюрталь испытал нечто необыкновенное — так с ним уже бывало в Сен-Северене: как будто кто-то его ласково погладил и тихонько подтолкнул; он почувствовал, что в его волю внедрилась некая другая, и он отпрянул, ему стало тревожно от такого раздвоения, как будто он не один в сокровенных своих, а потом вдруг без причины успокоился, махнул рукой, и как только сказал свое «да», наступило колоссальное облегчение; тут, перескочив из крайности в крайность, он пришел к чувству, что хорошо бы уехать прямо тотчас, и жалел, что придется проторчать в Париже еще пять дней. Аббат рассмеялся: — Но ведь надо еще предуведомить траппистов; это чистая формальность, вас примут по одному только словечку от меня, но дайте мне хотя бы послать это словечко! Вечером я отнесу письмо на почту, так что не беспокойтесь и спите спокойно. Дюрталь тоже засмеялся своему нетерпению: — Не правда ли, я стал смешон? Священник только пожал плечами. — Вот что: вы меня еще ничего не спрашивали о моей любимой обители; постараюсь все вам рассказать в лучшем виде. По сравнению с Великой обителью в Солиньи или с монастырями в Сет-Фоне, Мейере или Эгбеле она совсем крохотная: там всего с десяток отцов иеромонахов и еще человек тридцать рясофорных братьев и послушников. Еще есть несколько крестьян, живущих вместе с монахами, помогающих им возделывать землю и готовить шоколад. — Они делают шоколад? — Удивляетесь? А на что, как вы думаете, они живут? Господи, я же вам сразу сказал, что вы едете не в роскошную лавру! — Да оно так и лучше… А как быть с легендами о траппистах: надеюсь, они не говорят при встречах «помни о смерти» и не копают каждое утро себе могилу? — Это все чепуха. Никаких могил они не роют, а приветствуют друг друга молча: им воспрещено разговаривать. — А как же быть, если мне что-нибудь понадобится? — Аббат, исповедник и брат при гостинице имеют право общаться с гостями; вы будете иметь дело только с ними; остальные при встрече поклонятся вам, но если вы зададите им вопрос, они не ответят. — Прекрасно, буду знать. А какова их одежда? — До основания аббатства Сито бенедиктинцы носили (так, по крайней мере, считается) черные ризы святого Бенедикта; собственно, бенедиктинцы так делают до сих пор, но цистерцианцы переменили цвет одежд, и теперь трапписты — отрасль этого ордена — одеты в белые ризы святого Бернарда. — Не правда ли, вы мне простите все эти вопросы — они должны вам казаться дурацкими. Но если я вот-вот поеду к этим инокам, мне надо знать хоть что-то про обычаи их ордена. — Я в вашем полном распоряжении, — отвечал аббат. Дюрталь задал ему вопрос о расположении самого аббатства, и отец Жеврезен ответил: — Ныне существующий монастырь основан в XVIII веке, но вы найдете в его садах остатки древнего клуатра, построенного во времена святого Бернарда. В Средние века в обители один блаженный сменял другого: земля поистине благодатная, располагающая к сосредоточению и покаянию. Согласно заветам святого Бернарда, аббатство стоит в глубокой долине: ведь вы знаете, что святой Бенедикт предпочитал холмы, Бернард же для основания своих киновий{48} избирал влажные низменности. Разницу вкусов двух великих святых запечатлел и старый латинский стих: Benedictus colies, valles Bernardus amabat[78]. — А святой Бернард строил свои пустыни в столь нездоровых и неживописных местах по личному пристрастию или с какой-то духовной целью. — С тем, чтобы иноки, чье здоровье ослаблено влажными испарениями, всегда имели перед собой спасительный образ смерти. — Ничего себе! — Но тут же скажу вам, что теперь в долине, где находится Нотр-Дам де л’Атр, болота нет и воздух очень чист; вы сможете там гулять вдоль прелестных прудов, и очень рекомендую вам аллею вековых ореховых деревьев у стен обители: там можно для расслабления прохаживаться на рассвете. Помолчав, аббат продолжал: — Ходите там побольше, особенно по лесам, куда глаза глядят; лес даст вашей душе больше всяких книг, как пишет святой Бернард: aliquid amplius invenies in sylvis quam in libris; молитесь, и дни будут проходить быстро. Дюрталь ушел от него утешенный, почти веселый; во всяком случае, стало легче от того, что положение разрешилось и решение принято. Теперь только надо постараться подготовиться получше к пребыванию в обители, подумал он, помолился и в первый раз за несколько месяцев лег спать со спокойной душой. Но наутро, едва проснулся, все воротилось обратно: тревоги, приступы тоски… Дюрталь размышлял, достаточно ли зрело его воцерковление, чтобы прививать этот черенок к траппистскому стволу; страх перед исповедником, неуверенность в будущем вновь овладели им. «Напрасно я так сразу согласился… — И он прервал себя: — А почему я ответил “да”?» Вспомнилось, как его уста произнесли это слово, как воля его при том как бы еще принадлежала ему, но была чьей-то еще. «Со мной не в первый раз такое происходит, — размышлял он, — сидя один в церкви, я уже слыхивал и неожиданные советы, и немые повеления, и надо признать: поистине ошеломительно чувствовать, как некто невидимый внедрился в тебя, знать, что он, если захочет, может полностью тебя присвоить внутри тебя же самого». Нет, нет, не то! Здесь внешняя воля отнюдь не подменяла его собственную: он сохранял в целости и сохранности возможность свободного выбора; это не было и неудержимое влечение из тех, что порой одолевают больных, ибо сопротивляться такому побуждению было как нельзя более просто; еще того менее это было посторонним внушением, поскольку тут не было ни магнетических пассов, ни наведенного сомнамбулизма, ни гипноза, нет, — это было неодолимое вторжение постороннего побуждения внутрь его «я», внезапное проявление какого-то отчетливого, конкретного желания, негрубый, но крепкий толчок душе. «О, все это опять совсем не то, я блуждаю в трех соснах, но что делать: ничем нельзя передать это настойчивое давление, которое могло бы пропасть даже от секундного нетерпения — чувствуешь его, а сказать не можешь! Так или иначе, этому указанию внемлешь с удивлением, а то и с тревогой; при нем не слышишь никакого голоса, даже внутреннего, оно излагается без помощи слов, и все сразу исчезает, дыхание, наполнявшее тебя, уходит. Хочется, чтобы тебе подтвердили повеление, чтобы необычное явление повторилось, хочется присмотреться к нему поближе, попытаться его анализировать, объяснить, а оно кончилось; ты остаешься наедине с собой, но знаешь: если бы отверг призыв, тебе потом пришлось бы очень несладко… В общем, — продолжал Дюрталь, — тут явно ангельское наитие, Божье посещение; оно в чем-то подобно общеизвестным внутренним голосам у мистиков, но не так законченно, не так отчетливо, а впрочем, не менее достоверно. — И он задумчиво заключил: — Как бы я сам себя поедом ел, как бы с собой ругался, пока не дал бы ответ аббату, чьи доводы меня отнюдь не убеждали, если бы не эта нежданная помощь! Но раз так, раз меня ведет Божья десница, чего мне бояться?» И все же он боялся и никак не мог умирить себя; к тому же от решения полегчало, зато ожидание отъезда будоражило. Он пытался убивать дни за чтением, но только лишний раз убедился, что от книг ему не приходится ждать утешения. Ничто даже отдаленно не напоминало его душевного состояния. Высокая мистика была столь далека от человека, парила на таких высотах, до того была чужда нашей грязи, что опоры в ней не обрести. В конце концов он вернулся к «Подражанию Христу»: его мистика, доступная пониманию толпы, становилась трепещущей и плачущей подругой; в кельях своих глав она перевязывала наши раны, с нами молилась и проливала слезы. Она хотя бы сострадала горестному вдовству души… К несчастью, Дюрталь уже столько раз читал это сочинение, так пресытился Евангелием, что на время утратил способность к успокаивающим и болеутоляющим добродетелям. Чтение ему надоело; он вновь стал ходить из церкви в церковь, думая: «Ну, а если трапписты мне откажут — что тогда?» — Но я же вам говорю: не откажут, — отвечал ему аббат, которого Дюрталь продолжал навещать. Однако наш герой не успокоился, пока священник не протянул ему ответ из обители. Дюрталь прочел:«С превеликим удовольствием примем на неделю посетителя, которого Вы благоволили рекомендовать нам; в настоящее время не вижу никаких помех к тому, чтобы это посещение началось во вторник на той неделе. В надежде, что мы и Вас, господин аббат, скоро будем иметь утешение принять в нашей пустыни, прошу Вас принять уверение в совершенном моем почтении.В страхе и восхищенье он читал его вновь и вновь. «Сомнений больше нет, отступать некуда», — произнес он про себя и бросился в Сен-Северен, имея нужду не столько помолиться, сколько побыть рядом с Пречистой Девой, показаться Ей, нанести Ей, так сказать, благодарственный визит, одним своим присутствием выразить Ей свое благодарение. Тут его сразило очарованье этой церкви, ее тишина, тень, ложившаяся в апсиду от высоких каменных пальм, и он обеззаботился, поудобней примостился на стуле, имея только одно желанье: не возвращаться к уличному существованию, не выходить из своего приюта, вообще никуда не ходить. На другой же день — было воскресенье — он отправился к бенедиктинкам на великую мессу. При входе ему поклонился один чернец; потом Дюрталь признал его, когда тот пропел Dominus vobiscum[80] на итальянский лад: аббат уже говорил ему, что бенедиктинцы именно так читают по-латыни. Дюрталь не любил это произношение: в нем латинские слова теряли звучность, а фразы становились как бы вереницей колоколов с языками, обернутыми ватой, или стенками, подбитыми тканью, но его захватило и увлекло смиренное благочестие этого пастыря, трепетавшего от страха Господня и радости, прикладываясь к алтарю; у него был басовитый голос, которому из-за решетки чистыми, высокими нотами вторили монахини. Задыхаясь, Дюрталь слушал, как в воздухе словно обозначаются, образуются, обретают краски зыбкие картины фламандских примитивов; он был потрясен до мозга костей, как некогда на воскресной мессе в Сен-Северене. Теперь, когда он знал бенедиктинские распевы, пение в той церкви для него поблекло, ему там стало неуютно, но то же ощущение он обрел или, вернее, принес с собой из Сен-Северена в капеллу бенедиктинок. И тут впервые его охватило безумное желание — необычайно сильное, схватившее сердце. Это было в момент причащения. Монах вознес гостию и возгласил: Domine, non sun dignus[81]. Бледный, с запавшими щеками, скорбным взором, важной складкой губ, он словно вышел из средневековой обители, словно взят был живьем с фламандской картины, где одни чернецы стоят в глубине, а другие, на переднем плане, вместе с благотворителями, сложив руки, молятся младенцу Иисусу, Которому улыбается Богородица, притворив веки с длинными ресницами на лице с выпуклым лбом. Когда же священник сошел со ступеней и причастил двух женщин, Дюрталь чуть не бросился прямо к дароносице. Ему показалось: если бы он напитался этим Хлебом, все кончилось бы — его сухосердие, его страхи; представилось: стена греха, воздвигавшаяся из года в год и заграждавшая ему взор, рухнула бы — и он бы прозрел! Теперь ему не терпелось отправиться в Нотр-Дам де л’Атр принять Пречистое Тело из рук некоего монаха… Месса подкрепила его, как тонизирующее; он вышел из капеллы радостный, утвердившийся в своем решении; когда же через несколько часов впечатление сгладилось, остался, пожалуй, не столь умиленным, но столь же устремленным. Вечером он с приятной легкой грустью сам с собой пошучивал над своим положением, говоря себе: ведь многие ездят в Виши или Бареж лечить тело — почему бы и мне не съездить к траппистам полечить душу?Брат Этьен, госпитальер»[79].
X
Послезавтра уже отправляться, вздохнул Дюрталь; пожалуй, пора подумать и о сборах. Какие книги взять, чтобы облегчить жизнь в неволе? Он перерыл свою библиотеку, стал вновь пролистывать мистические сочинения, мало-помалу вытеснившие с его полок светские. «Святая Тереза — нет, и речи быть не может, — думал он, — ни она, ни святой Иоанн Креста в уединении не будут ко мне добры; мне ведь, по правде, надо больше прощения и ободрения. Дионисий Ареопагит — кто бы ни писал под этим именем, — он первый в мистике и, пожалуй, дальше других продвинулся в ее богословском осмыслении. Он живет в невозможном для дыхания воздухе горных вершин, превыше бездн, на пороге другого мира, который он провидит в сполохах благодати и остается неослепленным, остро зрячим среди сиянья, что обнимает его. Кажется, в своей «Небесной иерархии», где перед ним проходят небесные воинства, где он показывает смысл символов и ангельских атрибутов, он уже перешел границу, на которой останавливается человек, но в маленьком сочинении «О божественных именах» Дионисий дерзает сделать еще шаг вперед, невозмутимо и сурово восходя в метафизическую сверхсущность! Он раскаляет словеса человеческие до взрыва, но когда в последнем усилии желает означить Неприступного, ясно очертить неслиянные Лица Троицы, во множественности сохраняющей единичность, слова изнемогают у него на устах, язык коченеет под пером его; тогда он спокойно, без удивления, становится вновь дитятей, спускается с вершин обратно к нам и, дабы сделать ясным для нас то, что понял, прибегает к сравнениям из обыденной жизни; так, ему удается выразить Триединство, указав на несколько светильников, зажженных в одном помещении, свет каждого из которых особенный, но все они сливаются в один и становятся единым. Святой Дионисий, — размышлял Дюрталь, — один из самых отважных путешественников по горним областям… но до чего бесплодным было бы его чтение в обители! Рейсбрук? — думал он далее. — Возможно… однако смотря что. Я мог бы положить в саквояж, как сердечные капли, книжечку, отобранную Элло, а вот «Одеяние духовного брака», так великолепно переведенное Метерлинком, хаотично и невнятно; в нем душно, и такой Рейсбрук меньше меня увлекает. И все же этот отшельник любопытен: он не замыкается внутри нас, а больше осматривает наружность; как и Дионисий, он стремится достичь Бога не в душе, а на небе, но, желая взлететь повыше, ломает крылья, а спустившись, начинает бормотать невнятицу. Ну и бог с ним. Что дальше? Екатерина Генуэзская? Ее разговоры души, тела и себялюбия бесцветны и невнятны, в «Диалогах» же, рассуждая о делах внутренней жизни, она настолько ниже святой Терезы и святой Анджелы! Зато ее «Трактат о чистилище» чрезвычайно важен. Из него видно, что лишь эта святая проникала в жилища неведомых скорбей, что там она нашла и сохранила для себя и радость: ей удалось связать противоположности, казавшиеся вечно несогласимыми: страдание души, очищающейся от грехов, и веселье той же самой души, которая, претерпевая страшные муки, ощущает и беспредельное блаженство, ибо, понемногу приближаясь к Богу, чувствует, как Его лучи все больше влекут ее, как ее любовь плещет с таким преизбытком, что Господь, кажется, одной ею и занят. Святая Екатерина подробно говорит также, что Христос никому не затворяет рая, что лишь сама душа, считающая себя недостойной войти туда, по своему собственному побуждению стремится в чистилище, дабы там избавиться от гноя, поелику у нее остается одна-единственная цель — вернуться к изначальной своей чистоте, одно желание — достичь своей настоящей цели, уничтожившись, упразднившись, растворившись в Боге. — Убедительное чтение, — проговорил Дюрталь, но не оно поддержит меня в монастыре — отложим. Он достал из шкафа другие книги. Вот, например, сочинение, которым совершенно ясно, как пользоваться, сказал он, взяв «Серафическое богословие» святого Бонавентуры: в нем, как в консервной банке, сконцентрированы все мыслимые пути самоисследования, благочестивые мысли о Святом Причащении, рассуждения о тайнах смерти. Кроме того, в этом сборнике есть и трактат «О презрении к миру», сжатый синтаксис которого великолепен: это истинное дыхание Святого Духа и поистине нерушимая печать миропомазания. «Эту книжку я отложу, — прошептал Дюрталь и стал перебирать полки дальше. — Чтобы исцелить тоску одиночества, едва ли я найду что-то лучше». Он проглядывал заглавия: вот «Земная жизнь Пресвятой Богородицы» г-на Олье. Дюрталь задумался… Здесь в едва подогретой водице стиля попадаются любопытные наблюдения, прелакомые толкования: автор, можно сказать, прошел таинственные земли сокрытых судеб и вынес оттуда невообразимые истины, которыми Господь иногда делится со святыми. Он стал как бы поверенным Богородицы; много времени провел он рядом с Ней и превратился в герольда Ее символов, легата Ее милостей. Его жизнеописание Девы Марии — без сомнения, единственное действительно вдохновенное, его одно можно читать. Там, где аббатиса из Агреды бредит, Олье остается ясным и строгим. Он показывает нам Пречистую от века сущую в Боге, без нетления рождшую, «как хрусталь, получающий и излучающий солнечный свет, ничего не теряя в своем блеске, но лишь ярче от того сверкающий», родившую без мук, но при смерти Сына претерпевшую страдание, которым должны были бы сопровождаться роды. Наконец, у него есть ученейшие рассуждения, о Той, Кого он именует Сокровищницей всякого блага, Путеводительницей любви и милости. Все так, но, чтобы говорить с Ней, ничто не сравнится с «Малым последованием службы Пресвятой Богородицы», а оно у меня есть в молитвеннике; итак, оставим книгу г-на Олье в покое. Запасы мои истощаются, думал он далее. Анджела из Фолиньо? — да, конечно; это костер, на котором можно отогревать душу. Берем с собой; что же дальше? Проповеди Таулера? Соблазнительно — ведь никто лучше этого монаха не говорил о столь отвлеченных предметах столь проницательно; прибегая к обыденным образам, к низким сравнениям он делает доступными самые высокие умозрения мистики. Он простодушен и глубок вместе; к тому же он немного вдается в квиетизм, а в пустыни, пожалуй, не помешает глотнуть несколько капель такой умягчительной микстуры. А впрочем, нет: укрепляющее мне все равно нужнее. Что же до Сузо, то это суррогат, гораздо ниже святого Бонавентуры или святой Анджелы; его побоку, и Бригитту Шведскую{49} тоже: она, говоря с вышним миром, словно встречала какого-то угрюмого и усталого боженьку, который не поведал ей ничего нового, ничего необычайного. Есть еще святая Маддалена Пацци, говорливая кармелитка, вся книга которой состоит из обращений к читателю. Она любит восклицания, ловко находит аналогии, умело сочетает понятия, без ума от метафор и гипербол. Она говорит с Самим Отцом и в экстазе бормочет тайны, открытые для нее Ветхим Деньми.{50} В ее сочинении есть непревзойденное место об Обрезании Господнем, другое, прекрасное, все построенное на антитезах, о Святом Духе, а есть и странные: об обожении человеческой души, о ее единении с Царством Небесным, о том, какую роль в этом играют раны Бога Слова. Они суть птичьи гнезда: орел, символизирующий Веру, живет в язве на левой стопе, в отверстии правой стопы селятся горлицы стенающего умиления, в прободенной левой ладони нашла убежище голубка, олицетворяющая забвение себя, в зиянии же ладони правой обитает эмблема любви — пеликан. Эти птицы вылетают из гнезд, подхватывают душу и относят ее в брачный покой раны, отверстой на боку Спасителя. И не эта ли кармелитка, восхищенная благодатной силой, столь презирает показания чувств, что обращается к Господу: «Если бы я видела Тебя очами моими, не имела бы веры, ибо вера начинается там, где кончается очевидное». — Если хорошенько подумать, — проговорил Дюрталь, — Маддалена Пацци в своих диалогах и видениях открывает выразительнейшие перспективы, но душа, замазанная воском греха, не может за ней следовать. Нет, не эта святая утешит меня в обители! Ба! — продолжал он, смахнув пыль с очередного тома в серенькой обложке: у меня, оказывается, есть «Пресвятая Кровь» отца Фабера…{51} И он задумался, перелистывая страницы прямо у полки. Припомнилось давно забытое впечатление от первого чтения этой книги. Сочинение отца-ораторианца было по меньшей мере оригинальным. Его страницы кипели, с шумом перетекали друг в друга, гнали волны видений, подобных тем, что придумывал Гюго, развертывали обзоры эпох, как желал бы сделать это Мишле. Торжественная процессия проносила Кровь Христову из глуби времен, от начала века; Она протекала через миры, окропляла народы, заливала собой все человечество. Отец Фабер был, собственно, не столько мистиком, сколько визионером и поэтом; несмотря на обилие риторических приемов, внедренных в плоть его труда, которыми он вырывал души из почвы и гнал за собой по течению, как только читатель, опомнившись, пытался сообразить, что же он видел и слышал, ничего не приходило на ум; подумав, человек понимал, что мелодическая идея произведения была слишком тонка, чересчур нитевидна, чтобы ее исполнять таким грохочущим оркестром. Кроме того, от такого чтения оставалось впечатление лихорадочности, излишества, от которого становилось неловко и приходила мысль: далеки такого рода сочинения от божественной полноты великих мистиков! — Нет, этого не возьму, — сказал Дюрталь. — Итак, какой же у нас урожай? Вот он: малый сборник Рейсбрука, житие Анджелы из Фолиньо, святой Бонавентура и — вот же что мне сейчас для души лучше всего! — хлопнул он себя по лбу, вернулся в библиотеку и схватил книжечку, одиноко лежавшую в углу. Дюрталь присел и стал быстро ее просматривать, приговаривая: вот он — тоник, укрепляющее в слабости, стрихнин ослабевающим в вере, стрекало, повергающее нас в слезах к стопам Христовым! О, эта книга — «Вольная страсть» сестры Екатерины Эммерих! Она не химик духовного тела, как святая Тереза; она не занимается нашей внутренней жизнью; в своей книге она забывает себя и не глядит на нас, ибо видит одного Христа Распятого и хочет лишь показать нам шаг за шагом Его умирание, оставить в своих строках, как на плате Вероники, запечатленный образ Его Лика.{52} Хотя сестра Екатерина жила в новое время (она умерла в 1824 году), духом ее шедевр принадлежит к Средним векам. Такое впечатление, будто это живопись фламандской или швабской школы примитивов. Эта женщина одной породы с Цейтбломом и Грюневальдом{53}: те же пронзительные видения, то же буйство красок, тот же дикий аромат; но пристрастием к точности деталей, к дотошному описанию места действия близка вместе с тем и к старым фламандским мастерам: Рогиру ван дер Вейдену и Боутсу{54}; в ней соединились два потока, германского и фламандского происхождения, и эту живопись, писанную кровью и лакированную слезами, она переложила в прозу, не имеющую ничего общего с прочей словесностью, в прозу, предтеч которой, и то по аналогии, можно было найти лишь на картинах XV века. Впрочем, сестра Екатерина вовсе не знала грамоты, не читала никаких книг, не видела никаких живописных полотен, а простодушно поведала о том, что видела в своих экстазах. Перед ней проходили картины Страстей Господних, и на своем ложе она терзалась муками, истекала кровью из стигматов, стенала и плакала, вся исходя любовью и жалостью к страданиям Христа. По ее словам, записанным неким писцом, перед ней вставала Голгофа, и вся сволочь стражников, ринувшись на Спасителя, оплевывала Его; далее следовали ужасающие рассказы о том, как Иисус, прикованный цепью к столпу, извивался, подобно червю, под ударами бича, как Он падал и невидящими очами смотрел на блудниц, которые с отвращением к Его истерзанному телу и лицу, покрытому, словно красной проволочной сеткой, струйками крови, пятились назад, взявшись за руки. И неторопливо, терпеливо, останавливаясь лишь ради рыдания, ради вопля о милости, она описывала, как солдаты отдирали хламиду, прилипшую к ранам, как проливала слезы Богородица с мертвенно-бледным лицом и посиневшими губами, подробно излагала, как в изнеможении Он нес Свой Крест, как падал на колени; наконец, обессиленно умолкала, когда наступала Его смерть. Это было жуткое зрелище, пересказанное до малейших подробностей, а в целом ужасное и высокое. Крест Господень лежал на земле, и Самого Его уложили туда; один палач припер Ему коленом живот, другой вытягивал руку, третий вколачивал гвоздь с плоской шляпкой, толщиной в большую монету и такой длинный, что прошил дерево насквозь. Когда же правая ладонь была прибита, мучители увидели, что левая не достает до намеченной ими дыры; тогда они привязали к предплечью веревку, изо всех сил потянули ее, чтобы вывихнуть распинаемому плечо, и за стуком молотков слышались стенания Спасителя, видно было, как вздымалась Его грудь и ходил ходуном изборожденный волнами морщин живот. Та же сцена повторилась, когда к древу прикрепляли ноги: они также не доходили до места, намеченного совершавшими казнь. Пришлось крепко связать туловище, вновь перевязать руки, чтобы не сорвались с перекладины, и, взявшись за ноги, растянуть их до подставки, для них предназначенной. Все тело хрустнуло, ребра побежали под кожей; рывок был такой силы, что палачи испугались, как бы кости, поломавшись, не разорвали казнимого пополам, и поскорее положили левую ногу на правую; но дело не стало легче: стопы все время расходились, и, чтобы их укрепить, пришлось сверлить буравом. Так продолжалось, пока Христос не испустил дух, а сестра Екатерина в ужасе не потеряла сознание; кровь лилась рекой из стигматов, стекала дождем с головы. Книга показывала, как сновала жидовская свора, давала услышать ругань и завывания толпы, лицезреть Матерь Божью, дрожавшую в лихорадке, обезумевшую Магдалину, наводившую ужас своими воплями, а над всем этим Господа Иисуса, исхудалого и опухшего; восходя на Голгофу, Он путался ногами в хитоне, цеплялся обломанными ногтями за скользкое древо Креста. Екатерина Эммерих — удивительная визионерка — описывает и обрамление этой сцены: виды Иудеи, в которой она никогда не была, но, как выяснено, совершенно точные; не зная и не желая того, эта неграмотная девушка стала выдающейся, неповторимой художницей! — Как восхитительны ее видения и картины! — воскликнул Дюрталь. — Но как удивительна и ее святость! — пробормотал он, пролистав житие преподобной жены, помещенное в начале книги. Она родилась в 1774 году в Мюнстерском епископстве от бедных крестьян. Уже в детстве она имела беседы с Девой Марией и получила от Нее дар, которым обладали также святые Сибиллина Павийская, Ида из Лувена, а позднее Луиза Лато{55}: на ощупь отличать освященные предметы от неосвященных. Затем она поступила в монастырь августинок в Дульмене, девятнадцати лет приняла там пострижение; она лишилась здоровья: ее мучили непрестанные боли, и она сделала их еще сильнее, получив, как и блаженная Лидвина, от Бога благословение страдать за других, помогать болящим, беря их недуги на себя. В 1811 году, когда Жером Бонапарт стал королем Вестфальским, монастырь был упразднен, а монахини разбежались. Немощную, без гроша в кармане сестру Екатерину перенесли в трактирную каморку; она терпела, когда на нее указывали пальцем и надсмехались над ней. Господь прибавил к ее мучениям стигматы, о которых она молила Его; она не могла ни встать, ни сесть, питалась соком вишенки, но зато восхищалась в продолжительных экстазах. В них она странствовала по Палестине, следуя по пятам за Спасителем, через силу диктовала свою умопомрачительную книгу и, наконец, простонав: «Дай, Господи, умереть со Христом на кресте в бесславии», — скончалась, исполненная радости, благодаря Бога за полную страданий прожитую жизнь! — О да! «Вольную страсть» я беру! — воскликнул Дюрталь. — И Евангелие не забудьте, — сказал аббат, заставший его за этим занятием. — Это небесные сосуды, из которых почерпнете елей, чтобы умастить ваши раны. — Кроме того очень полезно и по-настоящему подошло бы к атмосфере траппистской обители там же, в аббатстве прочесть творения святого Бернарда, но это неподъемные фолианты, а всякие сокращения и извлечения из них, изданные в удобном формате, так плохо составлены, что я в жизни не решусь обратиться к ним. — А в обители есть святой Бернард; спросите, вам дадут. Но как себя чувствует ваша душа, в каком она состоянии? — Сейчас я уныл, неумилен и смирился с собой. Не знаю, не потому ли напало на меня утомление, что я все время топтался по кругу, как цирковая лошадь, но огорчения, однако, нет: я понял, что ехать надо и роптать бесполезно. Нет, все равно, — добавил он, помолчав, — как подумаю, что собираюсь заточить себя в монастырь, — ничего не могу не поделать, странно это! — Признаюсь, и мне странно, — ответил аббат со смешком. — Встретив вас впервые у Токана, я и не подозревал, что назначен направить вас в обитель. Вот что: я, должно быть, из того рода людей, которых зовут людьми-мостиками; это, если хотите, невольные комиссионеры душ, посылаемые вам с целью, о которой не подозревают ни вы, ни они. — Позвольте, — возразил Дюрталь, — если в этом случае кто-то и служил мостиком, то это Токан; ведь это он нас свел, а когда он исполнил свою неведомую роль, мы его отодвинули в сторонку; наше знакомство явно было предначертано. — Справедливо, — вновь улыбнулся аббат. — Что ж, не знаю, увижу ли вас до отъезда: завтра я еду в Макон дней на пять повидаться с племянниками и подписать кое-какие бумаги у нотариуса. Так что бодритесь, не забывайте сообщать о себе, хорошо? Напишите, не особо откладывая, чтобы, вернувшись в Париж, я сразу прочел письмо. Когда же Дюрталь стал благодарить его за сердечное усердие, аббат взял его руку в обе ладони и, не отпуская, сказал: — Не стоит; благодарите Того, Кто в отеческом нетерпении прервал упрямый сон вашей веры; Богу одному слава. И в благодарность — как можно скорее избавьтесь от своей природы, оставив Ему пустую чистую храмину сознания. Чем больше вы умрете для себя, тем более Он будет жить в вас. Молитва же — самое сильное аскетическое средство, дабы отречься от себя, покинуть себя, до конца себя смирить. Итак, в обители непрестанно молитесь. Особенно Пречистой Деве: подобно смирне, потребляющей гной телесных ран, она целит язвы душевные; я также изо всех сил стану молиться за вас; итак, в немощи своей опирайтесь, чтобы не упасть, на крепкий охранительный столп молитвы, о котором говорит святая Тереза. Ну, еще раз доброго пути и до скорой встречи, сын мой. С Богом! Дюрталь забеспокоился. Как неприятно, думал он, отец Жеврезен уезжает раньше меня; но, если мне потребуется духовная помощь, поддержка, к кому обратиться? Правда, написано, что я завершу путь один, как начинал, но… в этом случае одному и вправду страшновато! Нет, не повезло, что там ни говори аббат! На другое утро Дюрталь проснулся совсем больной: жуткая невралгия сверлила виски; он хотел вылечить ее пирамидоном, но от большой дозы этого лекарства только расстроился желудок, а шуруп в голове вворачивался по-прежнему. Он бродил по квартире, перелезая со стула на стул, сваливаясь в кресло, то вставал, то ложился, то опять вскакивал с постели с приступом тошноты, а то и хватался за стенки… Никакой причины такому припадку Дюрталь не находил: спал он мертвым сном и ничем накануне не злоупотреблял. Обхватив руками голову, он думал: «До отъезда еще два дня — сегодня и завтра; ну и дела! Я и до вокзала не доберусь, а если доберусь, монастырский харч меня совсем доконает!» На миг ему чуть было не полегчало при мысли: коли так, он, пожалуй, без всякой своей вины избежит неприятной обязанности, никуда не поедет; но тут же стало ясно: оставшись дома, он погибнет; это будет вечная килевая качка души, вечный кризис отвращения к себе, неотвязное сожаление об поступке, на который с таким трудом решился и который не удалось совершить; наконец, будет очевидно, что дело лишь отложено, все эти перемежающиеся приступы страха и противления придется пережить вновь, вынести новую битву с собой! «Положим, я буду не в силах уехать: тогда все-таки можно исповедаться аббату, когда он вернется, и причаститься где-нибудь в Париже, — подумал он, но покачал головой, вновь и вновь убеждаясь: он чувствует, знает, что надо не так. — Но тогда, Господи Боже, — взмолился он, — если Ты так глубоко внедрил в меня эту мысль, что я и спорить с ней не могу, несмотря на все разумные доводы (ведь все же не обязательно, чтобы примириться с Тобой, замуровать себя в стенах у траппистов), дай мне поехать туда!» Он шептал Ему: — Душа моя — место скверное; она зловонна и обесславленна, любила до сих пор один разврат; она взимала с моего бренного тела дань беззаконных наслаждений и недозволенных радостей; стоит она недорого — вообще ничего; однако там, рядом с Тобой, если поможешь мне, верю, что одолею ее. Но когда тело мое больно, я не могу самого себя принудить к послушанию, и это всего хуже! Нет у меня оружия, если Ты не сохранишь меня. И вот еще что, Господи: я знаю на опыте, что от недоедания у меня болит голова; логически, человечески рассуждая, в аббатстве я обречен на чудовищные страдания, но если послезавтра я более или менее приду в себя, то поеду туда. Не имея любви, не могу доказать Тебе, что истинно желаю Тебя и на Тебя надеюсь, но, Господи, заступи меня! И он уныло заключил: — Я, Боже, не Лидвина, не Екатерина Эммерих, которые только просили новых страданий, когда Ты поражал их: Ты едва прикоснулся ко мне, и я жалуюсь. Но как быть! Ты знаешь лучше меня: телесная боль убивает меня, и я отчаялся! Наконец он заснул и весь день убил в полудреме, время от времени просыпаясь от жутких кошмаров. На другой день в голове было смутно, сердце колотилось, но боль поутихла. Дюрталь встал и решил: нужно непременно поесть, хоть и не хочется, чтобы не разболелось снова. Он вышел из дома, бродил по Люксембургу, размышляя: «Теперь надо продумать распорядок дня; после завтрака пойду в Сен-Северен, затем домой собрать чемоданы, а напоследок, вечером, отправлюсь в Нотр-Дам де Виктуар». От прогулки ему стало лучше: в голове прояснилось, сердце успокоилось. Он зашел в ресторан; там в ранний час еще ничего не было готово; Дюрталь взял газету и, обессилев, забылся на диванчике. Сколько он так вот держал газет в руках, никогда не читая! Сколько вечеров провел в кафе, уткнувшись в заголовок и думая о другом! Особенно в те времена, когда он схватывался со своими пороками: Флоранс являлась ему, и он стонал, потому что у нее, при всем неизбывном беспутстве жизни, улыбка оставалась светлой, как у девчонки, с потупленными глазами и руки в карманах идущей в школу. И вдруг маленькое дитя превращалось в вампира; бешеное чудовище крутилось вокруг него, кусалось, обвивалось и без слов давало ему понять, как ужасны его желания. Эти вожделения растекались по всему его телу: жуткое томление искушенья, распад воли до кончиков пальцев отдавались неким недомоганием, и он не выдерживал: следовал за образом Флоранс и направлялся к ней… Как это все было далеко! Очарованье рухнуло чуть не вмиг, без действительной борьбы, без настоящих усилий, без внутренних распрей; он воздерживался от встреч с ней, и если теперь она иногда всплывала в его памяти, то стала просто противно-сладким воспоминанием. — А все же, — бормотал Дюрталь, разрезая бифштекс, — любопытно, что она обо мне теперь думает: считает, конечно, что я умер или пропал; к счастью, мне не приходилось с ней сталкиваться, а моего адреса она не знает! Ладно, — опомнился он, — ни к чему ворошить эту грязь; в обители я еще успею покопаться в этом… — И он вздрогнул: в нем проснулась мысль об исповеди; сколько он ни твердил себе, что все будет совсем не так, что найдется какой-нибудь славный монах и выслушает его, все равно он пугался, ожидал худшего, представлял себе, как его выкидывают прочь, словно паршивого пса. Он позавтракал и отправился в Сен-Северен; там кризис разрешился и все окончилось: измотанная душа рухнула под напором нахлынувшей тоски. Дюрталь сидел на стуле, запрокинув голову, в таком изнеможении, что и мыслей в голове не было, оставался без чувств, не имея сил страдать. Затем замороженная душа понемногу оттаяла, и полились слезы. Слезы принесли облегчение; он плакал о своей судьбе, и она казалась ему такой злосчастной, такой жалкой, что тем паче нельзя было не надеяться на помощь; тем не менее он не смел обратиться к Христу, Которого считал не столь доступным для человека, а тихонько разговаривал с Божьей Матерью, моля Ее за него заступиться; он шептал ту молитву, в которой святой Бернард напоминает Богородице: от века не было слышно, чтобы Она оставила кого-либо, прибегавшего к Ее милости. Из церкви он вышел утешенный, решившийся, а дома его рассеяли сборы в дорогу. Ему казалось, что там он во всем будет нуждаться, и он набивал чемоданы как можно туже: рассовывал по углам сахар, шоколад, чтобы, если понадобится, заглушить страдания постящегося желудка; забирал полотенца, считая, что в монастыре их трудно будет раздобыть; готовил запасы табака и спичек, и это все не считая книг, бумаги, карандашей, чернил, упаковок пирамидона, засунутых под носовые платки, склянки лауданума, упрятанной в носок… Затянув чемоданы, он посмотрел на часы и подумал: «Завтра в это время я буду трястись в повозке, и скоро уже начнется мое заточение; что ж, на случай будущего нездоровья хорошо будет сразу по приезде позвать священника; если дело не пойдет, я смогу быстро устроить все необходимое и тут же уехать обратно». — Впрочем, все равно будет один прескверный момент… — прошептал он, входя в Нотр-Дам де Виктуар. Но все его заботы и тревоги исчезли, как только началась вечерня. Дюрталя захватило упоенье этого храма; он заблудился, затонул, затерялся в молитве, возносившейся изо всех уст, и когда вознеслась, перекрещивая воздух, дароносица, почуял, как на него снизошел великий мир. Вечером, раздеваясь, он вздохнул: «Завтра я лягу спать в келье… Странно все-таки, как подумаешь! Я бы счел за сумасшедшего того, кто пару лет назад сказал бы мне, что я поеду затвориться в обитель траппистов! И если бы я еще отправлялся туда по доброй воле; так нет же, меня толкает неведомая сила; я бегу туда, как собака, подгоняемая пинками! И что же нынче за время! — заключил он. Каким нечистым должно быть общество, если Бог уже не может быть разборчивым, если Ему приходится подбирать что попало, приводить к Себе даже таких людей, как я!»Часть II
I
Дюрталь проснулся веселый, бодрый и неожиданно обратил внимание, что в час, назначенный для отъезда в обитель, даже не охнул: он стал донельзя уверен в себе. Попытался было сосредоточиться и помолиться, но ощутил себя еще рассеяннее обычного; удивившись, он решил простукать свою душу и услышал в ней пустоту; было только понятно, что на него вдруг накатило такое расположение духа, когда человек вновь становится ребенком, неспособным собрать внимание, когда всякая изнанка вещей исчезает и все становится забавно. Он поспешно оделся, сел в экипаж, слез с него, не доезжая до вокзала; тут на него накатил приступ поистине ребяческого самохвальства. Глядя на людей, ходивших по залам, толпившихся у касс, уныло сопровождавших свой багаж, он чуть было не возгордился собой. «Всем этим людям только и заботы, что о своих удовольствиях и делах, думал он, а знали бы они, куда я еду!» Он устыдился таких дурацких мыслей, сел в купе, где, по счастью, оказался один, и закурил сигаретку с такой мыслью: надо уж покурить, пока есть время. Дюрталь унесся в мечтах, воображая подъезд к монастырю, бродил в уме вокруг него. Он припомнил, что в одном журнале некогда число монашествующих обоего пола во Франции считалось около двухсот тысяч. Двести тысяч человек в наше-то время поняли мерзость борьбы за существование, гнусность совокуплений, кошмар родовых мук — это, вообще говоря, честь и спасение нации. Но дальше он сказал себе, перескочив мыслями с самих монахов на книги, лежащие в чемодане: а все-таки удивительно, насколько несклонен к мистике темперамент французского искусства! Все писавшие о горнем мире — иностранцы. Дионисий Ареопагит — грек; Экхарт, Таулер, Сузо, сестра Эммерих — немцы; Рейсбрук родился во Фландрии; святая Тереза, святой Иоанн Креста, Мария д’Агреда — испанцы; отец Фабер — англичанин; святой Бонавентура, Анджела из Фолиньо, Маддалена Пацци, Катарина Генуэзская, Иаков Ворагинский — итальянцы… «Стоп! — спохватился он при последнем имени. — Надо же было захватить с собой “Золотую легенду”. Как же я не догадался, а ведь это настольная книга Средневековья, бодрившая долгими ночами бдений, усугубленных постом, простодушная помощница бессонных молений. Даже самым скептическим душам наших дней «Золотая легенда» кажется подобной листу пергамента, на котором чистые духом изографы рисовали красками на камеди или на яичном белке лики святых по золотому фону. Иаков Ворагинский — это Жан Фуке{56} или Андре Боневё литературной миниатюры, мистической прозы! Да, непонятно, — вернулся он к прежним раздумьям, — во Франции есть достаточно знаменитые духовные писатели, но почти нет собственно мистиков, да и в живописи то же самое. Настоящие художники примитивов — фламандцы, немцы, итальянцы, но никак не французы, потому что наша бургундская школа вышла из Фландрии. Нет, отрицать решительно невозможно: конституция нашей расы недостаточно податлива, чтобы прослеживать и разъяснять дела Божии в глубокой сердцевинедуш, там, где зарождается всякая мысль, где источник всех представлений; она противится тому, чтобы выразительной силой слов передать шум и тишь благодати, сияющей в разоренном гнезде заблуждений; она неспособна вынести из этого потаенного мира труды о психологии, как святые Тереза и святой Иоанн Креста, или произведения искусства, как сестра Эммерих и агиограф из Ворагине! Мало того, что поле наше каменисто, почва неблагодарна: где теперь найдешь земледельца, который засеет его, взборонит, подготовит даже не мистическую жатву, а хотя бы духовный урожай, способный утолить алчбу тех немногих, кто блуждает вслепую и гибнет от голода в ледяной пустыне нынешнего времени? Тот, кто должен стать хлеборобом Царства Небесного, кому назначено возделывать души — священник, — не в силах поднять эту новь. Семинария сделала его наивным и самовластным, жизнь в миру — теплохладным. Такое впечатление, что Бог отвратился от приходского духовенства, и доказательство тому: оно стало бездарным. Нет больше ни одного священника, проявившего талант на кафедре или в книгах; все они светские люди, хоть и наследники благодати, столь часто встречавшейся в средневековых церквах; есть и другое доказательство, еще сильнее: через рукоположенных пастырей ныне очень редко совершаются обращения к вере. В наши дни тот, кто угоден Богу, обходится без них; Спаситель Сам его толкает, движет его, напрямую действует в нем. Невежество духовенства, его невоспитанность, непонимание других слоев общества, презрение к мистике, нечувствительность к искусству отняли у него всякое влияние на благородные души. Теперь оно действует лишь на полудетских мозгами пустосвятов; такова, конечно, воля Божья; оно, безусловно, к лучшему, ибо, если бы священник получил власть, если бы мог подвигнуть, оживить свое отвратительное стадо, тромб клерикальной глупости забил бы артерии всей страны, настал бы конец всего искусства, всей литературы во Франции! Для спасения Церкви остается монах, которого кюре ненавидит, потому что для его образа жизни монастырский быт — постоянный укор, — думал далее Дюрталь. — Да и то, не расстанусь ли я еще с иллюзиями, повидав монастырь вблизи? Но нет, мне повезло, Бог хранит меня; в Париже мне попался один из очень немногих аббатов — не безразличный и не педант; отчего же и в аббатстве мне не встретиться с настоящими монахами?» Он закурил и посмотрел в окно вагона. Поезд катил по полям; на переднем плане тянулись в клубах дыма телеграфные провода; местность ровная, скучная. Дюрталь забился в угол дивана. «Каков-то будет мой приезд в монастырь? Тревожно: там ведь не придется говорить лишних слов; я просто покажу отцу госпитальеру письмо… а затем все пойдет само собой!» Но в общем он чувствовал себя совершенно безмятежно; было даже удивительно не испытывать ни тошноты, ни страха, а даже какой-то задор: «Что ж, славный мой аббат и уверял меня, что я сам себе заранее придумываю кошмары…» И, вспомнив отца Жеврезена, Дюрталь вдруг понял, что, сколько ни бывал у него, ничего не узнал о его прошлом, сблизился с ним не более, нежели в первый день знакомства. Собственно, никто не мешал мне понемногу расспросить обо всем, но мне даже и в голову это не приходило; наша связь так и ограничилась исключительно вопросами искусства и религии; такая упорная сдержанность не порождает волнительной дружбы, а создает своего рода янсенистскую симпатию, тоже не лишенную прелести. Во всяком случае, он святой человек; в нем совсем ничего нет от вкрадчиво-уклончивых повадок других духовных лиц. Кроме нескольких жестов: манеры засовывать руки за пояс, прятать их в рукава, во время беседы часто делать шажок назад, кроме невинной мании вставлять в речь латинские словечки, он ничем не похож на своих замшелых собратьев — ни разговором, ни поведением. Он обожает мистику и древнее пение; необыкновенный человек; с каким же тщанием его для меня подобрали на небесах!» — Так-так, а ведь уже подъезжаем, — проговорил он, посмотрев на часы. — Пожалуй, я и проголодался: что ж, прекрасно, через четверть часа будем уже в Сен-Ландри. Он барабанил пальцами по оконному стеклу, смотрел на пробегающие за окном поля и улетающие леса, курил, снял чемоданы; наконец поезд подошел к станции, и Дюрталь вышел. Прямо на площади, где стоял крохотный вокзальчик, он увидел трактир, о котором говорил аббат. На кухне была симпатичная женщина; она сказала Дюрталю: «Хорошо, сударь, присаживайтесь, а пока вы обедаете, вам запрягут». Обед оказался несъедобным: подали телячью голову, провалявшуюся в ведре, пересушенные котлеты, черные от пережаренного масла овощи. У Дюрталя было такое настроение, что эта гадкая еда его позабавила; он удовлетворился и паршивым вином, щипавшим горло, спокойно выпил чашку кофе с песком и перегноем на дне. Затем сел в тряскую двуколку с молодым возницей; лошадь во весь опор проскакала через деревню и побежала полевой дорогой. Он спросил было у кучера каких-нибудь подробностей об обители, но тот ничего не знал. «Бываю-то я там часто, — ответил он, — да внутрь не захожу, оставляю тележку у ворот, так что, сами понимаете, ничего рассказать не могу». Они ехали быстрой рысью; час спустя крестьянин указал кнутом на дорожного рабочего и сказал Дюрталю: — Им, говорят, муравьи пузо проедают. — Как это? — Так не делают же ничего, вот все лето и лежат пузом на земле. И замолчал. Дюрталь ни о чем не думал, только, убаюканный покачиваньем повозки, непрерывно курил, пытаясь табачным дымом заглушить неприятные ощущения от съеденного обеда. Прошел еще час; они свернули в густой лес. — Близко уже? — Нет, не близко… — А обитель видна издалека? — Вот уж нет как нет: пока не уткнешься, так и не увидишь; она стоит в низине в конце просеки — э, да уж не этой ли! — ответил крестьянин и свернул на заросшую травой дорогу. — Вон этот вон как раз оттуда, — указал он на бродяжку, скорым шагом пробиравшегося через кусты. Кучер рассказал Дюрталю: все нищие имеют право пообедать и даже переночевать у траппистов; им стелят такую же постель, как и всем братьям, в комнате рядом с каморкой привратника, но внутрь не пускают. Когда же Дюрталь спросил, что говорят о монахах жители окрестных деревень, возница явно испугался, как бы не сболтнуть лишнего, и ответил так: — Да бывает, что и ничего не говорят. Дюрталь заскучал было, но тут дорога повернула, и он увидел внизу огромное здание. — Вот они, отцы наши! — сказал крестьянин и стал готовить тормоза для спуска. С высоты Дюрталь бросил взгляд через крыши, увидел большой сад, лес, а перед садом огромный крест со скрюченной фигурой Спасителя. Вскоре все скрылось из вида: двуколка опять въехала в заросли и спускалась извилистой дорогой за непроглядной листвой. Долго и медленно петляя, они наконец подъехали к площадке, в конце которой возвышалась стена с широкими воротами. Повозка остановилась. — Теперь позвоните, да и все, — сказал Дюрталю возница, показав на железную цепь, свисавшую по стене. — Завтра за вами заехать? — Нет, не надо. — Так тут останетесь? — Крестьянин посмотрел на него с удивлением, развернулся и повел лошадь в гору. Поставив чемодан на землю, Дюрталь, совсем убитый, стоял перед воротами. Сердце его колотилось; от уверенности, от задора и следа не осталось; он бормотал про себя: что же со мной будет? В панике поскакали видения страшной жизни траппистов: изголодавшееся тело, изнуренное бессонницей, часами лежит, распластавшись, на холодных плитах; трепещущую душу держат в ежовых рукавицах, муштруют, прощупывают, обыскивают до последнего шва, а над обломками пропавшей жизни, над мрачным прибрежьем, о которое в щепы разбился ее корабль, царит жуткая, тюремная, гробовая тишина! «Боже мой, Боже мой, помилуй мя», — прошептал он и вытер пот со лба. Машинально Дюрталь оглянулся, как будто ожидал помощи: дорога была пуста, в лесу никого; ни звука не слышно ни в обители, ни за стенами. Делать нечего, надо решиться и позвонить. Колени его подогнулись, но он потянул за цепь. За стеной отозвался глухой, надтреснутый, ворчливый какой-то звук колокола. «Ладно, ладно, не дури», — шептал себе Дюрталь, слушая, как за воротами стучат деревянные башмаки. Ворота отворились; престарелый монах в буром капуцинском одеянии встретил гостя немым вопросом. — Я приехал пожить в обители; мне бы отца Этьена. Монах поклонился, взял чемодан и знаком пригласил гостя за собой. Сгорбившись, мелкими шажками он прошел через фруктовый сад. Дюрталь с привратником дошли до решетки и повернули направо мимо большого здания, похожего на запустелый замок с двумя флигелями, окружавшими передний двор. Траппист вошел в то крыло, что у решетки. Дюрталь последовал за ним по коридору со множеством серых крашеных дверей с обеих сторон; на одной из них он прочел: «Приемная». Вратарь остановился перед ней, поднял деревянную щеколду и завел Дюрталя в комнату. Через несколько минут мерно зазвонил колокол. Дюрталь уселся и осмотрел помещение; в нем было очень темно, потому что окно наполовину закрывали ставни. Всей мебели — посредине обеденный стол, покрытый старой ковровой скатертью, в углу молитвенная скамеечка, над ней пришпилена картинка: святой Антоний Падуанский баюкает Младенца Иисуса; на другой стене большое Распятие; два вольтеровских кресла и четыре стула расставлены в беспорядке. Дюрталь вынул из бумажника рекомендательное письмо к отцу госпитальеру. «Как-то он меня встретит? — подумалось ему. — Он хотя бы может разговаривать; ну что ж, там видно будет». Дюрталь как раз услышал шаги по коридору. И вот явился монах в белой рясе с черным нарамником, свисавшим одним концом с плеча, другим спереди на грудь; он оказался молод и улыбчив. Монах прочел письмо, взял удивленного Дюрталя за руку, без слов провел через двор в другое крыло здания, толкнул дверь, омочил пальцы в святой воде сам и подал ее гостю. Они вошли в капеллу. Монах сделал Дюрталю знак преклонить колени на ступеньке перед алтарем и шепотом прочел молитву, затем встал, неспешно вернулся к порогу, вновь подал Дюрталю святой воды и, все так же не разжимая губ и ведя за руку, отвел обратно в приемную. Там он осведомился о здоровье отца Жеврезена, подхватил чемодан, и они с Дюрталем поднялись по широченной лестнице, которая, казалось, вот-вот рухнет. Над лестницей, доходившей лишь до второго этажа, находилась просторная площадка с большим окном посередине и двумя дверьми по бокам. Отец Этьен вошел в ту, что направо, прошел через поместительную прихожую, завел Дюрталя в комнату, посвященную, как гласила бумажка на двери, напечатанная крупными буквами, святому Бенедикту, и сказал: — Мне очень неловко, милостивый государь, что могу предложить вам только это не очень удобное помещение. — Прекрасная комната! — воскликнул Дюрталь. — И вид очаровательный, — добавил он, подойдя к окну. — Здесь вам, по крайней мере, будет не душно, — сказал монах и растворил раму. Внизу находился тот самый сад, через который Дюрталь проходил с братом вратарем: огороженный участок с кривыми сморщенными яблонями, посеребренными лишайником и позолоченными мхом; дальше, за монастырской стеной, тянулось люцерновое поле, пересеченное широкой белой дорогой, исчезавшей за горизонтом, покрытым кружевом листвы. — Вот что, милостивый государь, — вновь заговорил отец Этьен, — посмотрите, чего вам здесь в келье не хватает, и скажите мне сразу, без церемоний, хорошо? А иначе оба пожалеем: вы что постеснялись попросить надобное, а я потом это замечу и огорчусь, что прежде забыл. Простая, честная речь трапписта привела Дюрталя в себя. Он взглянул на него: отец госпитальер был молод, лет тридцати. Живое тонкое лицо покрывали розоватые жилки на щеках; носил монах окладистую бороду, а тонзура на голове обрамлялась кружком черных волос. Говорил он несколько торопливо, с улыбкой, засунув руки за широкий кожаный пояс на талии. — Я скоро вернусь, — продолжал отец госпитальер, — у меня теперь спешная работа, а вы устраивайтесь, как вам будет удобно; если успеете, взгляните на ваш распорядок здесь, в монастыре; он написан на афишке… вон там, на столе… Если угодно, когда вы с ним ознакомитесь, мы о нем поговорим. И он оставил Дюрталя одного. Тот сразу же внимательно оглядел комнату. Она была очень велика в высоту, очень мала в ширину, как ружейный ствол; в одном конце дверь, в другом окно. В глубине, в углу у окошка, находились узкая железная кровать вдоль стены и круглый ореховый ночной столик. В ногах кровати — молитвенная скамеечка, обтянутая вытертым репсом, над ней крест и сухая еловая ветка; переводя взгляд дальше по этой стенке, гость увидел покрытый скатертью стол светлого дерева, на котором стояли глиняный кувшин с водой, миска и стакан. С противоположной стороны стену занимал шкаф, затем камин с Распятием, укрепленным на передней панели, и, наконец, стол прямо напротив кровати, возле окна; довершали обстановку комнаты три соломенных стула. «Воды, чтоб умыться, мне ни за что не хватит, — подумал Дюрталь, прикидывая объем кувшинчика — как раз пол-литра. — Раз уж отец Этьен был так любезен, попрошу у него порцию посолиднее». Он вытащил вещи из чемодана, разделся, сменив крахмальную рубашку на байковую, выставил на умывальник туалетные принадлежности, сложил белье в шкаф, наконец сел, обвел свою келью взглядом и нашел, что она довольно удобна, а главное, вполне чиста. Затем он подошел к столу, где увидел стопу ученической бумаги, чернильницу с перьями, и остался признателен за внимание отцу госпитальеру (он, конечно, знал из письма аббата Жеврезена, что Дюрталь писатель по профессии), поочередно открыл и тут же закрыл две книги в темных кожаных переплетах: одна — «Введение в благочестивую жизнь» святого Франциска Сальского, другая — «Духовные упражнения» Игнатия Лойолы, — и положил к себе на столик. После этого он взял наугад одну из афишек, также выложенных на столик, и прочел:Он перевернул афишку; на обороте был напечатан другой распорядок дня под заглавием: «Зимние труды от дня Воздвижения Креста Господня до Пасхи». Подъем предполагался тогда же, отход же ко сну на час раньше; дневная трапеза переносилась с половины двенадцатого на 2 часа, полуденный отдых и вечерняя трапеза отменялись; дневные службы оставались те же, только вечерня и повечерие служились не в четверть шестого и 7.25, а в половине пятого и четверть седьмого. Невесело вставать с постели среди ночи, вздохнул Дюрталь, но, хотелось бы думать, посетители не следуют этому чрезвычайному распорядку! Он схватил другою афишку. «А это для меня, — подумал он, — увидав заголовок листка»:ТРУДЫ ОБИТЕЛИ В БУДНИЕ ДНИ ОТ ПАСХИ ДО ВОЗДВИЖЕНИЯ КРЕСТА ГОСПОДНЯ
Подъем — в 2 часа. Первый час и месса — в 5 часов с четвертью. Ручной труд — после капитула. Окончание ручного труда — в 9 часов. Перерыв. Шестой час — в 11 часов. Службы Богородице и трапеза — в 11 часов с половиной. Полуденный отдых — после трапезы. Окончание полуденного отдыха — в 1 час пополудни с половиной. Девятый час и ручной труд — через пять минут после подъема. Окончание ручного труда — в 4 часа с половиной. Перерыв. Вечерня с молебном — в 5 часов с четвертью. Вечерняя трапеза — в 6 часов. Перерыв. Повечерие — в 7 часов 25 минут. Отход ко сну — в 8 часов.
Поглядим-ка поподробнее… Он принялся изучать табличку, набранную в два столбца: утро и вечер.«РАСПОРЯДОК ДНЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ОТ ПАСХИ ДО ВОЗДВИЖЕНИЯ».
 «Это уже похоже на дело — в 4 часа можно, пожалуй, и встать, но ничего не понимаю! Часы служб в этой афишке не те, что у монахов, и что это за двойные вечерни с повечериями? И вообще, эти клеточки, которые велят столько-то минут медитировать, столько-то читать, мне совсем не нравятся! Мой дух не так-то податлив, его не распихаешь по таким формочкам! Правда, впрочем, я смогу делать что хочу: ведь никто не сможет проверить, что творится внутри меня, медитирую я, к примеру, или нет…
Так, а вот еще расписание (он перевернул листок): это начиная с сентября; меня это не касается, да и разница невелика. А вот еще приписка, которая относится и к тому, и к другому».
«Это уже похоже на дело — в 4 часа можно, пожалуй, и встать, но ничего не понимаю! Часы служб в этой афишке не те, что у монахов, и что это за двойные вечерни с повечериями? И вообще, эти клеточки, которые велят столько-то минут медитировать, столько-то читать, мне совсем не нравятся! Мой дух не так-то податлив, его не распихаешь по таким формочкам! Правда, впрочем, я смогу делать что хочу: ведь никто не сможет проверить, что творится внутри меня, медитирую я, к примеру, или нет…
Так, а вот еще расписание (он перевернул листок): это начиная с сентября; меня это не касается, да и разница невелика. А вот еще приписка, которая относится и к тому, и к другому».
«Примечания: 1. Свободные от служб по требнику читают Малую службу Пресвятой Богородице. 2. Господ посетителей просят исповедаться в один из первых дней пребывания, чтобы со спокойной душой заниматься медитациями. 3. После каждой медитации следует прочитывать соответствующую главу «Подражания Христу». 4. Время исповеди и Крестного пути: летом с 6 до 9 часов утра и с 2 до 5 часов пополудни, зимой с 9 часов утра до 2 часов пополудни. 5. Следите за доской объявлений. 6. К трапезе подобает являться вовремя, не заставляя себя ждать. 7. Никто, кроме отца госпитальера, не имеет благословения следить за нуждами господ постояльцев. 8. Дозволяется спрашивать необходимые для жизни в обители книги, если вы не имеете их при себе».«Исповедь!» Во всем этом перечне он видел лишь одно это слово. Итак, придется на нее пойти! Холодок пробежал у него по спине. «Когда вернется отец Этьен, я с ним об этом поговорю», — подумал он. Мучиться сомнениями ему пришлось недолго: вскоре монах вошел в его келью и сказал: — Вы ничего не заметили недостающего, что вам могло бы быть полезно? — Ничего, отец Этьен; если бы только побольше воды… — Ничего нет проще; я велю каждое утро приносить вам большой кувшин. — Благодарю вас… теперь, я посмотрел расписание… — Сию же минуту вас успокою. Непременно надо только соблюдать совершенную пунктуальность, и еще вы должны бывать на всех уставных службах в точности по написанному. Остальные упражнения, расписанные в афишке, не обязательны; их показанный порядок может быть полезен людям совсем молодым или полностью несамостоятельным, прочих же, на мой взгляд по крайней мере, скорее, стесняет. Впрочем, как правило, мы здесь не занимаемся посетителями — полагаемся на само уединение; вы можете сами усмотреть и разобрать, как вам лучше с пользой для души проводить время. Так что я не буду вам навязывать молитвы, указанные в этих расписаниях; позволю себе только посоветовать вам читать Малую службу Пресвятой Богородице — она у вас с собой? — Да, вот она, — ответил Дюрталь и протянул монаху маленький молитвенник. — Чудная у вас книжечка! — заметил отец Этьен, листая роскошно напечатанные в два цвета страницы. Дойдя до нужного места, он вслух прочитал третье чтение на утрене. — Не прекрасно ли! — воскликнул он. Радость вдруг просияла на его лице, глаза загорелись, пальцы, держащие молитвенник, задрожали. Он закрыл книжечку со словами: — Читайте, читайте ее, а особенно здесь; ведь вы знаете: истинная покровительница ордена траппистов — Она, Пресвятая Дева! Он помолчал немного и продолжал: — В письме к аббату Жеврезену я назначил вам срок пребывания в неделю, но, разумеется, если вам здесь не наскучит, вы можете остаться, сколько сочтете за благо. — Я бы и хотел прожить у вас подольше, но это зависит от того, как я вынесу телесную борьбу; мой желудок не совсем здоров, и я поневоле побаиваюсь; помимо этого, чтобы исключить любые неожиданности, я просил бы вас как можно скорее прислать мне исповедника. — Хорошо, вы с ним встретитесь завтра; о времени я вам скажу сегодня после повечерия. Что касается пищи, если обычной трапезы вам недостаточно, я распоряжусь добавлять вам одно яйцо, но больше никаких снисхождений не могу вам сделать; устав строг: ни рыбы, ни мяса — только овощи, причем, должен признаться, не роскошные. Впрочем, убедитесь сами; скоро уже час вечерней трапезы; если угодно, я покажу вам комнату, где вы будете столоваться вместе с г-ном Брюно. По дороге, на лестнице, монах пояснил: г-н Брюно отрекся от мира и живет в монастыре, не давая обетов. Он то, что наш устав называет живущим; это весьма благочестивый и ученый человек, он вам непременно понравится; за трапезой вы можете разговаривать с ним. — И что же, — сказал Дюрталь, — во все прочее время мне надлежит хранить молчание? — Да, если только вам не потребуется о чем-либо спросить; в этом случае я всегда в вашем распоряжении и готов дать вам ответ. Относительно молчания, а равно часов подъема, отхода ко сну и богослужений устав не терпит никаких послаблений и должен быть соблюдаем буквально. — Что ж, — произнес Дюрталь, несколько ошарашенный строгим тоном отца госпитальера. — Теперь скажите: в афишке просят следить за доской объявлений, а я не знаю, где она. — Она висит на лестничной площадке рядом с вашей комнатой; вы прочтете ее завтра, на свежую голову, а теперь извольте войти. — И монах открыл одну из дверей нижнего коридора, как раз напротив приемной. Дюрталь поздоровался с пожилым господином, вставшим ему навстречу; монах познакомил их и удалился. Трапеза уже стояла на столе: два яйца на тарелке, миска риса, миска фасоли и горшочек с медом. Г-н Брюно, прочитав благословляющую молитву, решил поухаживать за Дюрталем и подал ему яйцо. — Невеселый ужин для парижанина, — сказал он с улыбкой. — Что вы, раз есть яйцо и вино, то это вполне сносно; признаюсь, я ожидал, что здесь пьют одну холодную воду! Они дружелюбно разговорились. Новый знакомый оказался любезен и хорошо воспитан; приятная улыбка освещала его пожелтевшее серьезное лицо, изборожденное морщинами. Нисколько не раздражаясь, он отвечал на расспросы Дюрталя. Жизнь его, рассказал он, была бурной, а потом он ощутил прикосновение благодати и удалился от света, чтобы многолетним молчанием и постом искупить свои и чужие грехи. — И вам не наскучило? — Ни разу за те пять лет, что я в обители; время, расписанное по распорядку траппистов, идет быстро. — Вы бываете на всех монастырских службах? — Да, вот только физический труд заменяю медитациями в келье; впрочем, как живущий, я мог бы и не подниматься в два часа пополуночи к ночной службе, но читать до рассвета нашу великолепную бенедиктинскую псалтырь для меня великая радость. Однако вы заслушались и ничего не кушаете. Угодно ли, я положу вам еще немножко риса? — Нет, благодарю; если позволите, я возьму ложечку меда. Пища недурна, — сказал Дюрталь чуть погодя, — вот только немного смущает, что у всех блюд одинаковый и странный какой-то привкус; похоже… я бы сказал на сало, может быть, пригорелое. — Это горячее постное масло, им поливают здесь все овощи. О, вы к нему очень быстро привыкнете, дня через два его уже не замечаешь. — Но что же такое, собственно, живущий? — Он проводит менее суровую, более созерцательную жизнь, чем монахи, может, если угодно, выезжать и пользуется духовными благами ордена, хотя и не приносит обетов. Прежде устав знал еще так называемых «ближних»: это были живущие, которым выбривали тонзуру; они носили особое одеяние и давали три главных обета; коротко говоря, их жизнь была смешанной: полумирской, полумонашеской. Это состояние и поныне осталось у чистых бенедиктинцев, а в траппистских обителях его упразднил генеральный капитул 1293 года, и с тех пор оно не существует. Ныне цистерцианские обители населяют только отцы — монахи, младшие братья или рясофоры, живущие, если есть, да еще крестьяне, занятые на полевых работах. — Рясофоры — это те, кто ходит с полностью выбритой головой и носит коричневую рясу, вроде брата, открывшего мне ворота? — Именно; они не поют в церкви и заняты исключительно ручным трудом. — Кстати, расписание для посетителей, то, что у меня в комнате, мне кажется не совсем ясным. Сколько припоминаю, там некоторые службы означены дважды, утреня указана в четыре часа пополудни, а вечерня в два и вообще распорядок служб не тот, что для монахов. Как мне тут свести концы с концами? — Да вам не стоит обращать внимание на подробное расписание занятий в афишке; впрочем, отец Этьен уже и сказал вам об этом; это образчик, изготовленный только для тех, кто не способен сам занять себя и руководить собой. И потому, сами понимаете, чтобы они не оставались праздными, для них как бы разрезали служебник и разделили все время на ломтики; вот и получилось, что им, к примеру, предлагается петь псалмы утрени в такие часы, когда никаких псалмов не положено. Ужин подошел к концу. Г-н Брюно прочитал благодарственную молитву и сказал Дюрталю: — До повечерия еще минут двадцать; хорошо бы вам покамест познакомиться со здешним садом и рощей. — Он вежливо поклонился и вышел. «Да и покурю заодно», — подумал Дюрталь. Надев шляпу, он тоже вышел из трапезной. Смеркалось. Он прошел через большой двор, повернул направо, миновал домик с высоченной трубой (как он догадался по запаху, это была шоколадная фабрика) и направился по аллее, обсаженной деревьями. Стало уже так темно, что в роще, куда упиралась аллея, не было видно деревьев. Дюрталь свернул сигаретку, медленно, с наслаждением затягивался ею и время от времени посвечивал спичками на часы. Его изумляла тишина, исходившая от аббатства: ни шороха, даже далекого, даже приглушенного: лишь время от времени еле слышные всплески воды. Он направился в сторону, откуда они доносились, и увидел маленький пруд, по которому плавал лебедь, тотчас повернувший к нему. Мерцающее белое пятно со всплесками разрезало темноту; Дюрталь глядел на него и тут услышал медленные удары зазвонившего колокола. Так, подумал он, вновь посмотрев на часы, начинается повечерие. И он отправился в капеллу, еще совсем пустую. Пока никого не было, он мог рассматривать ее сколько угодно. Капелла имела форму обрезанного креста: без подножия, с закругленной верхушкой и двумя квадратными боковыми ветвями, каждая с дверью посередине. В верхней части креста была выстроена небольшая ротонда, крытая куполом с лазоревым потолком, вокруг нее кругом располагались кресла, приделанные к стене; посередине церкви возвышался большой беломраморный алтарь с деревянными подсвечниками; справа и слева на мраморных колонках стояли большие канделябры, тоже деревянные. Нижняя часть алтаря, полая, была закрыта стеклом, за которым стояла рака готического стиля, отражавшая огни лампад начищенной до зеркального блеска медью. Ротонда выходила на широкую солею с тремя ступенями и к ветвям креста, так что получался как бы вестибюль, служивший обкорнанному храму и главным, и боковыми нефами. При окончании, у самых дверей, в боковых ветвях не было сидений, и к ним примыкали крохотные капеллы в нишах, крашенных, как и купол, в голубой цвет; над их неукрашенными каменными алтарями стояли неважные статуи: в одной святой Иосиф, в другой Спаситель. Наконец, четвертый алтарь, посвященный Пресвятой Деве, находился в расширении, напротив ступеней ротонды и, следовательно, главного алтаря. Он освещался окошком с витражами: святой Бернард в белой рясе и святой Бенедикт в черной; казалось, этот алтарь прятался, потому что с обеих сторон от него стояли ряды скамеек, доходившие до двух других малых алтарей; места оставалось ровно столько, чтобы пересечь вестибюль поперек или же пройти по прямой от алтаря Богородицы к главному алтарю в ротонде. Храм до ужаса безобразен! — подумал Дюрталь, садясь на скамью против статуи святого Иосифа. Судя по некоторым барельефам на стенах, он относится ко времени Людовика XVI — прегадкое время для церковного строительства! Звуки колоколов вывели его из раздумья. Все двери тут же отворились; через одну из них, пробитую прямо в ротонде, прошло человек десять монахов, закутанных в просторные бурые рясы; они разошлись по сторонам и заняли кресла вокруг клироса. Через двери, ведущие в проход, вошло множество других рясофоров; они встали на колени перед скамьями справа и слева от алтаря Богородицы. Иные оказались совсем рядом с Дюрталем, но стояли, опустив голову, сложив руки, и он не посмел их разглядывать; впрочем, вскоре в вестибюле стало совсем темно; освещен был только клирос: там горели лампы. Дюрталь, сколько хватало обзора, оглядел белоризцев в ротонде и приметил среди них отца Этьена, преклонившего колени рядом с каким-то коротеньким монахом, но его внимание привлек другой, на краю кресельного ряда, возле солеи. Он был строен, жилист и в своем белом бурнусе напоминал араба. Дюрталь видел его только в профиль и мог разглядеть лишь длинную седую бороду, выбритый череп в обрамлении монашеского венца волос, высокий лоб и орлиный нос. Он выглядел величественно: властное лицо, изящная фигура, колыхавшаяся под одеянием. Должно быть, аббат обители, подумал Дюрталь. Все сомнения исчезли, когда монах достал из-под своего пюпитра колотушку и стал вести богослужение. Все монахи положили поклон перед алтарем, аббат прочитал начальные молитвы; потом наступила пауза, и с другого конца часовни, того, куда Дюрталь не мог посмотреть, раздался ломкий старческий голос — голос, вернувший себе детскую хрустальность, но обретший какую-то приятную надтреснутость, — забираясь все выше и выше по мере чтения молитвы: Deus in adjutorium meum intende[82]. Другая же половина хора, та, где стояли отец Этьен и аббат, ответила, медленно скандируя слоги низкими голосами: — Domine ad adjuvandum mefestina[83]. Они возложили головы на фолианты, лежавшие перед ними, и произнесли: — Gloria Patri, et Filii, et Spiritu Sanctu[84]. И встали, а другая половина отцов отозвалась: «Sicut erat in principio»[85] и проч. Служба началась. Ее не пели, а читали нараспев, то быстрее, то медленнее. Та сторона, клироса, которую видел Дюрталь, все гласные произносила тонко и отрывисто, другая сторона, напротив, превращала их в долгие, как будто над всеми «о» стояли циркумфлексы. Одна сторона произносила как бы на южный манер, другая на северный; в таком чтении служба звучала странно; понемногу она стала раскачиваться, как заклинание, баюкать душу мерным движением стихов, в конце каждого псалма прерывавшегося повторявшимся, как рефрен, «Слава: И ныне». «Господи, ничего не понимаю», — подумал Дюрталь, знавший повечерие, как свои пять пальцев. Они поют не римскую службу! Было ясно, что один из псалмов опущен. В какой-то момент Дюрталь ясно узнал гимн святого Амвросия Te lucis ante terminum[86], пропетый на размашистый, с перепадами древний распев, но и тут последняя строфа была другой! Он стал ожидать кратких чтений и «Ныне отпущаеши», но их не было; он вновь растерялся. Ведь повечерие — не вечерня, в нем вариантов не бывает, думал он. Надо будет завтра осведомиться у отца Этьена. Его размышления перебил молодой белоризец, который подошел к алтарю, преклонил колени и зажег две свечи. Все разом встали, и невыразимым кличем своды потрясла богородичная молитва. Ошеломленный Дюрталь слушал эту изумительную песнь, не имевшую ничего общего с мычанием, звучащим в парижских церквах. Здесь она была и плачевна, и пламенна, возносилась такой умильной мольбой, что в ней одной, казалось, собирались и вековечная надежда человечества, и непрестанная его скорбь. Петая без сопровождения, без поддержки органа, голосами, невыразительными сами по себе, но собиравшимися в один, мужественный и глубокий, она возносилась в спокойном дерзновении, восходила к Пречистой в неудержимом порыве, затем словно возвращалась обратно и становилась не столь уверенна; продолжалась молитва более трепетно, однако столь почтительно, столь смиренно, как будто прощение уже дано и она в безумных прошениях смеет домогаться незаслуженных небесных благ. Это было безраздельное торжество задержаний, повторов нот на одном слоге и на одном слове, изобретенных Церковью, чтобы изобразить избыток внутренней радости, не передаваемой словами; душа рвалась, вылетала наружу в страстных голосах, исходивших из тел, содрогавшихся монахов. Дюрталь следил по своему молитвеннику за песнопением, таким коротким по тексту и так долго поющимся. Когда слушаешь и читаешь со вниманием это великолепное славословие, оно как будто делится, представляя три состояния души, три стадии человеческой природы: молодость, зрелость и угасание — словом, кратко представляя суть молитвы каждого возраста. Поначалу это была песнь ликования, радостный крик малыша, лепечущего умильные слова, ласкающего мать своим приветом или желающего ее улестить: так здесь пелось Salve Regina, Mater misericordiae, vita, dulcedo et spes nostra, salve![87] Затем эта невинная, в простоте блаженная душа вырастала; она уже ведала вольные мысленные прегрешения, сор бесконечных дурных поступков; она складывала руки перед собой и, рыдая, умоляла о помощи. Она поклонялась не с улыбкой уже, а с плачем, и это было: Ad te clamamus exules filii Hevae; ad te suspiramus gementes etflentes in hac lacrimarum valle[88]. Наконец, наступала старость; душа падала навзничь, измученная воспоминанием о неисполненных советах, сожаленьями об утраченных милостях; устрашенная, ослабевшая она ужасалась своего освобождения, разрушения темницы тела, приближение коего чувствовала; и тогда она помышляла о вечном проклятье тех, кто отвергнут Судией, на коленях молила Заступницу земли и Советницу Неба, и тогда звучало: Eia ergo Advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte et Jesum benedictum fructum ventris tui nobis post hoc exilium ostendi[89]. И к этому главному месту молитвы, сложенной то ли Петром Компостельским, то ли Германом Скрюченным, святой Бернард в приступе усердия к Святой Деве прибавил на конце тройственное призывание: O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria[90], словно тройной печатью скрепив неподражаемое песнопение тремя кличами любви, возвращая весь гимн к нежному обожанию начала. Это уже нечто небывалое, подумал Дюрталь, когда трапписты пропели нежное, настойчивое призывание; задержания растягивались на «о», проходя по всем оттенкам души, по всем регистрам звука; в этих междометиях, в одевавших их последовательностях нот лишний раз подводился итог освидетельствованию души, изложенному в самом теле гимна. И вдруг на слове «Мария», на величественном восклицании этого имени, пение оборвалось, свечи разом потухли, монахи рухнули на колени; мертвая тишина повисла в капелле. И медленно зазвонили колокола, и благовест перебирал под сводами редкие лепестки бесцветных звуков. Все лежали ниц, закрыв лица руками; все молились, и так продолжалось долго; наконец раздался звук трещотки, все встали, поклонились алтарю, и монахи в немом сосредоточении исчезли за дверцей ротонды. «О, истинный создатель церковного пения, неизвестный автор, заронивший в умы человечества мысль о хоральном распеве — это Дух Святой!» — воскликнул про себя Дюрталь: ослабевший, потрясенный, со слезами на глазах. Г-н Брюно, которого он в капелле не заметил, подошел к нему. Они безмолвно прошли через двор, а когда вошли в гостиницу, г-н Брюно зажег две свечи для ночника, подал одну Дюрталю и торжественно сказал: — Желаю вам спокойной ночи, милостивый государь. Дюрталь поднялся по крутой лестнице, следуя за ним. На площадке они еще раз поклонились друг другу, и Дюрталь вошел в свою келью. Ветер поддувал под дверь, и комнатка, едва освещенная лежащим пламенем свечи, показалась угрюмой; высокий потолок терялся во мраке; с него лилась тьма. Дюрталь присел возле ложа. Было тоскливо, но в то же время его толкал вперед какой-то импульс, которому он не мог дать название, поднимал порыв, когда кажется, что сердце вздувается и вот-вот распахнется, и, ощущая невозможность разделиться на части и убежать от себя, он снова стал ребенком и беспричинно заплакал, просто чтобы облегчить душу слезами. Он бросился на колени перед Крестом и ждал чего-то, но ничего не происходило. Обращаясь к Христу, разведшему над ним распятые руки, он стал еле слышно говорить Ему: — Отче, я изгнал свиней из души моей, но они истоптали меня и покрыли калом, и самый хлев разрушен. Пожалей меня я пришел издалека! Будь милостив, Господи, к бесприютному свинопасу! Я пришел к тебе, не прогони меня, будь гостеприимен, омой меня! «Ох, — вдруг вспомнил он. — Я же не повидался с отцом Этьеном, а он должен был назначить мне на завтра час встречи с духовником! Конечно, он забудет поговорить с ним — ну и слава Боту, подожду еще денек; душа у меня так изломана, что ей и вправду нужно передохнуть». Он со вздохом разделся и лег. Завтра надо встать в половине четвертого, чтобы в четыре быть в церкви; мешкать нечего, а то не высплюсь. Лишь бы не случилось головной боли, да и проснуться надобно до света!
II
Он пережил ночь как нельзя ужасней; это было так жутко, так ни на что не похоже, что он за всю свою жизнь не мог припомнить подобной смертной тоски вперемежку с такими страхами. Он то и дело то забывался в кошмарах, то вдруг просыпался. Эти кошмары были гораздо чернее тех мерзостей, которые может наслать самое тяжкое безумие. Они приходили из царства Разврата и были столь необычны, столь новы для Дюрталя, что и проснувшись он продолжал дрожать, еле сдерживая крик. Это было не то всем известное невольное сновидение, которое прекращается в тот самый момент, когда спящий сливается с возлюбленным призраком; нет: все тут было как наяву, долго, со всеми прелюдиями, всеми подробностями, всеми ощущениями, разрядка же наступала с необычайно болезненной остротой, сопровождалась каким-то особенным содроганием. Была еще странность, явно отличавшая это состояние от бессознательного ночного осквернения: некоторые эпизоды, кое-какие ласки, которые в действительности должны были следовать друг за другом, происходили в один и тот же миг, а главное, во сне он испытывал ясное чувство соприкосновения с некоей текучей формой, в миг пробуждения пропадавшей со звуком лопнувшего пузыря или щелчка кнутом. Он ясно ощущал это существо рядом с собой — так близко, что ветер от его исчезновения колыхал простыни, и Дюрталь с перепугом смотрел на оставшееся место… Что же это! — подумал Дюрталь, когда зажег наконец свечу. — Я словно вернулся во времена, когда ходил к госпоже Шантелув; припоминаются истории о сношениях с суккубами.{57} Он в отчаянье сидел на постели, оглядывая келейку, тонувшую в темноте; его подташнивало. Он посмотрел на часы: было всего одиннадцать. Боже мой, подумал он: неужели в монастыре все ночи таковы! Он облился холодной водой, чтобы прийти в чувство, открыл окно проветрить келью и, весь продрогший, лег в постель. Свечку задуть он медлил, боясь темноты: она казалась ему живой, полной ловушек и неведомых опасностей. Наконец он решился и погасил свет, повторяя про себя строфу вечерней службы, которую только что пели в церкви:Утро. Подъем в четыре часа (лучше в половине четвертого). Завтрак в 7. Час шестой — в 11, обед в 11.30. Час девятый в 11.45. Вечерня в четверть шестого. Ужин в 6, повечерие в 7.25.Так хотя бы ясно и запомнить легко. Лишь бы только отец Этьен не заметил, что меня не было в церкви! Он вышел из комнаты. Ах, вот и те самые объявления, подумал он, заметив доску на площадке. Он подошел и прочел: «Правила для господ посетителей». В правилах было много статей; начинались они так: «Покорнейше просим тех, кого Святая Воля Божия привела в сей монастырь, принять к сведению нижеследующее. Всячески избегайте встреч с отцами монахами и рясофорами; не приходите в места их работ. Запрещается выходить из монастырской ограды на ферму и на прогулку в окрестностях монастыря». Далее следовал ряд предписаний, указанных и в расписании на афишке. Дюрталь пропустил несколько параграфов, а затем прочел: «Господ проживающих просят ничего не писать на дверях, не зажигать спички о стены, не выливать воду на пол. Не дозволяется ходить в чужие комнаты, чтобы видеться или разговаривать с соседями. Не дозволяется курить в помещении». Да и на улице не особенно, подумал Дюрталь, а надо бы выкурить сигаретку. Он вышел во двор. В коридоре он наткнулся на отца Этьена, который тотчас заметил Дюрталю, что не видел его на обычном месте во время службы. Дюрталь, как мог, оправдывался. Монах ничего больше не сказал, но Дюрталь понял, что за ним наблюдают; он сообразил, что при всех своих добродушных повадках отец госпитальер, когда дело доходит до дисциплины, надевает ежовые рукавицы. Сомнений в этом не осталось, когда на вечерне он заметил, что первый же взгляд монаха при входе в церковь адресован ему, но в тот день Дюрталь был так вял и огорчен, что до этого ему не было дела. Резкая перемена образа жизни, совершенно новый против привычного распорядок дня выбили его из колеи, так что от утреннего кризиса осталось только какое-то отупение, пригнетавшее всякое движение души. Он кое-как дотянул остаток дня, ни о чем не думая, засыпая на ходу, а когда настал вечер, рухнул на постель, как мешок.
III
В одиннадцать часов он вдруг проснулся; ему казалось, что кто-то глядит на него во сне. Он чиркнул спичкой, никого не увидел, посмотрел на часы, опять упал на постель и проспал, как убитый, почти до четырех часов. Наспех оделся и побежал в церковь. Вестибюль был не темный, как накануне, а ярко освещенный: какой-то старый монах служил мессу на алтаре святого Иосифа: лысый, сгорбленный, с белой бородой, торчавшей отовсюду, разлетавшейся от дуновения ветерка длинными-длинными прядями. Ему прислуживал низенький рясофор с черной щетиной и выбритой головой, похожей на шар, покрашенный голубым; из-за растрепанной бороды и ветхого балахона его можно было бы принять за бандита. Однако у этого бандита был кроткий, удивленный младенческий взгляд. Священнику он прислуживал с почтением, чуть ли не боязливо, с истинно трогательной сдержанной радостью. Прочие, преклонив колени на каменном полу, сосредоточенно молились или читали по своим служебникам. Дюрталь разглядел престарелого, восьмидесятилетнего монаха: он стоял неподвижно, вытянув шею и закрыв глаза; молодой монах инок, чей милосердный взгляд помог Дюрталю вчера у пруда, прилежно читал текст службы по своей книге. Он был лет двадцати, высокий и крепкий, лицо мужественное, но вместе с тем нежное, исхудалое; поверх балахона торчала светлая остроконечная бородка. В этой церкви, где всякий понемногу что-то делал, чтобы помочь ему, Дюрталь расслабился; думая о грядущей исповеди, он молил Господа о поддержке, взывал к Нему, чтобы монах соблаговолил разрешить его… Он чувствовал, что меньше напуган, лучше владеет собой, крепче держится. Он перелистывал себя, напрягался, испытывал болезненное смущение, но не было больше того отчаяния, что сразило его вчера. Он подбадривал себя мыслью, что не запускает себя, изо всех сил пытается себе помочь и что, как бы то ни было, лучше собраться он бы не мог. От этих размышлений его отвлекло то, что старый траппист, окончив литургию, ушел, а приор в окружении двух монахов-бельцов вошел в ротонду и начал служить новую мессу. Дюрталь погрузился в молитвослов, но когда священник потребил Дары, прервал чтение: все встали, и Дюрталь, разинув рот, стал наблюдать за зрелищем, о котором и представления не имел: причащением монахов. Они шли гуськом, безмолвно, опустив глаза; подойдя к алтарю, тот, кто ступал впереди, оборачивался и обнимал того, кто следовал за ним, тот, в свою очередь, сжимал в объятьях следующего товарища, и так до самого конца. Перед приобщением к Евхаристии все они обменивались целованием мира, потом преклоняли колени, причащались и так же гуськом возвращались на место, обойдя ротонду позади алтаря. Возвратное шествие тоже было необычайно: впереди шли отцы белоризцы, ступая очень медленно; глаза их были закрыты, руки сложены на груди. В лицах нечто переменилось — они светились новым, внутренним светом; казалось, что душа, силой Таинства вытесненная из телесной ограды, сочилась через поры, освещала кожу особым сиянием радости: эта ясность исходит от белоснежной души, струится розовой дымкой вдоль щек и, собравшись воедино, сияет на челе. При взгляде на механический, нетвердый шаг этих монахов, становилось ясно, что тела их стали просто автоматами, по привычке воспроизводившими движения ходьбы, а души, не помышляя больше о себе, находились в ином месте. Дюрталь узнал старого рясофора: он так согнулся, что лицо его совершенно спряталось в бороде, стоявшей торчком над грудью; его большие узловатые, крепко стиснутые руки дрожали; приметил Дюрталь и высокого молодого брата — осунувшиеся черты отсутствующего лица, идет мелкими шажками, глаз не видать… Он поневоле оборотился сам на себя. Только он один не причастился: г-н Брюно последним вышел из алтаря и, скрестив руки на груди, прошел на место. Такое положение ясно дало ему понять, как несхож он с другими, как далек от этого мира — все были допущены к трапезе, и лишь он остался вовне. Недостоинство его было удостоверено пуще прежнего; ему стало грустно, что он отстранен от всех, что с ним обращаются по заслугам — как с чужестранцем; что он, по Писанию, отделен, как козлище, и стоит ошую Христа вдали от агнцев. Эти наблюдения пошли ему на пользу: они рассеяли страх перед исповедью, который был еще крепок. Это дело показалось ему таким естественным, неизбежное при том смирение, неотвратимое страдание таким справедливым, что ему захотелось тут же приступить к нему, чтобы вновь явиться в этом храме очищенным, омытым, ставшим хотя б отчасти похожим на остальных. Когда месса окончилась, он направился к себе в келью взять плитку шоколада. Наверху на лестнице господин Брюно, облаченный в широкий фартук, подметал ступеньки. Дюрталь удивленно уставился на него. Господин Брюно улыбнулся и пожал ему руку. — Прекрасная работа для души, — сказал он, показывая Дюрталю метлу. — Напоминает о чувстве скромности, а то, живя в миру, о ней очень легко забываешь. Он принялся с силой мести пол, собирая на совок пыль, забившую ямочки в камне, словно молотый перец дырки перечницы. Дюрталь взял шоколадку и пошел в сад. «Ну-ка, — думал он, откусывая от своей плитки, — не пойти ли мне другой аллеей, не заглянуть ли в другую сторону рощи? — Но ему совершенно этого не захотелось. — Нет-нет, в моем состоянии лучше пристать к одному месту, не отходить никуда от тех точек, с которыми я связал свои привычки; я и так до того не собран, так легко распускаюсь, что не стоит рисковать, а то еще рассеюсь от любопытства увидеть что-то новенькое». Так он очутился возле крестообразного пруда. Он пошел вдоль берега, а когда дошел до конца, с удивлением заметил ручеек, покрытый зеленой сыпью ряски, выкопанный между двумя изгородями, служившими монастырской оградой. Дальше тянулись поля, стояла большая ферма, крыши которой виднелись между деревьев, и до горизонта по холмам — леса, как будто шагавшие, шагавшие, да и дошагавшие до самого неба. «Мне казалось, что обитель больше», — думал Дюрталь, возвращаясь той же тропой. Возвратившись к крестообразному пруду, он обратил взор к огромному деревянному Распятию, воздымавшемуся в воздухе и отражавшемуся в воде. Крест, видимый сзади, словно плавал в воде, подрагивал от ряби, гонимой ветерком, и как будто кружился, погружаясь в чернильно-черное пространство. От мраморного Христа, скрытого за древом, оставались видны только белые руки, не умещавшиеся за орудием казни, изгибавшиеся в угольных водах… Сидя на траве, Дюрталь созерцал темное зеркало лежачего креста и, думая о своей душе, закопченной и задубелой, почерневшей от навоза грехов, как этот пруд от слоя палых листьев, жалел Господа, Которого он позовет погрузиться туда: ведь это будет не голгофская казнь, ту муку он принял хотя бы на возвышении, днем, на воздухе, с поднятой головой! А это будет верх унижения — страшный нырок распятого тела вниз головой ночью в грязь! Да, пора, пора пощадить Его, а себя промыть и выжать! Тут лебедь, все время сидевший неподвижно в одной из боковых ветвей пруда, поплыл, рассекая скорбное отражение, своей невозмутимой белизной рассеял траур потревоженных вод… И Дюрталь подумал, что, быть может, и он получит отпущение грехов, раскрыл молитвенник и неспешно счел свои прегрешения; вновь, как и накануне, перекапывая самого себя, он дошел до того, что из глубины его существа хлынул поток слез. Надо держаться, подумал он, содрогаясь при мысли, что опять задохнется и не сможет говорить. И он решил начать исповедь наоборот: рассказать сперва о мелких грешках, крупные оставить на потом, а закончить признанием в беззакониях плоти: «Тогда если я и не устою, все же смогу в двух словах объяснить, в чем дело. Боже мой! Лишь бы только приор не молчал, как вчера, лишь бы разрешил меня!» Он стряхнул тоску, отошел от пруда, вернулся на липовую аллею и развлекся, поближе разглядывая деревья. Их огромные стволы, подернутые красноватым очитком, оттененные серовато-серебристым лишайником, стояли прямо; в это утро многие липы были окутаны, словно одеты в мантильи, шитые бисером, паутинками бабьего лета, скрепленными прозрачными узелками капелек росы. Он сел на скамейку, но небо нахмурилось и, чтоб не попасть под ливень, Дюрталь пошел в келью. Читать совершенно не хотелось; он лишь лихорадочно и умиленно, хотя и со страхом, поджидал девяти часов, чтобы сбросить груз с души, опорожнить ее; он механически молился, сам не зная, что бормочет, все время думая об исповеди, вновь тревожась, опять погружаясь в кошмары… Он вышел немножко раньше времени, спустился в приемную, и ему не хватило духа. Глаза его поневоле остановились на той скамеечке, где он так жестоко перестрадал. Только подумать: встать снова к этому позорному столбу, лечь опять на пыточную кобылу! Он попробовал подклеить, подобрать себя — и вдруг возмутился; послышались шаги монаха. Дверь отворилась, и Дюрталь впервые посмел взглянуть приору в глаза; это был совсем не тот человек, что он видел раньше, совсем с другим лицом; насколько горделив был его профиль, настолько же кроток фас: глаза смягчали высокомерную энергию черт — глаза глубокие и бесхитростные, в которых были и безмятежная радость, и грустная жалость. — Ну что ж, — сказал он, — не смущайтесь: вы говорите с одним только Господом, а Ему ведомы дела ваши. И он преклонил колени, долго молился, а потом, как и накануне, уселся рядом с молитвенной скамеечкой, наклонился к Дюрталю и приготовился слушать. Кающийся немного ободрился и приступил без особого ужаса. Он винился во всех прегрешениях, общих для всех людей: жестокосердии к ближнему, злословии, ненависти, опрометчивых суждениях, оскорблениях, лжи, тщеславии, гневе и прочем. В какой-то момент монах прервал его. — Кажется, вы сейчас говорили, что в молодости делали долги: вы их вернули? Дюрталь кивнул; приор сказал: «Хорошо» и продолжил: — Были ли вы членом тайного общества? Дрались ли на дуэли? Я обязан спросить вас об этом, потому что такие грехи отпускает только Святейший. Нет? Прекрасно. — Он замолчал. — Перед Богом я виновен во всем, — вновь заговорил Дюрталь. — Как я вам уже говорил вчера, после первого причастия я все забросил: молитву, литургию, словом, всё; я отрицал Бога, хулил Его; я совершенно потерял веру. И он остановился. Дело дошло до плотских грехов. Голос его ослабел. — Здесь я не знаю, как лучше сказать, — проговорил он, давя слезы. — Постойте, постойте, — ласково сказал монах, — вот вы вчера говорили, что совершали все, что относится к чрезвычайной злобе сладострастия. — Так, отче. — Дрожащим голосом он спросил: — Надо ли мне говорить подробно? — Нет, вовсе не надо. Я только спрошу вас, поскольку это грех уже иной природы: имел ли в вашем случае место грех с самим собой или с лицами того же пола? — Только в коллеже, потом нет. — Прелюбодействовали? — Да. — Должен ли я так понимать, что в отношениях с женщинами вы не избежали никакого излишества? Дюрталь кивнул. — Хорошо, достаточно. Монах замолчал. Дюрталь задыхался от омерзения; признание в этих гнусностях стоило ему немыслимо дорого; впрочем, все еще изнуренный стыдом, он вздохнул было — и вновь уронил лицо в ладони. Явилось воспоминание о святотатстве, в которое втянула его госпожа Шантелув.{60} Он пролепетал, что однажды из любопытства был на черной мессе, а затем, невольно, не желая того, осквернил гостию, которую схоронила в себе женщина, преданная сатанизму. Приор слушал, не дрогнув ни мускулом. — А потом вы продолжали бывать у этой женщины? — Нет, меня это привело в ужас. Траппист немного помолчал, подумал… — Больше ничего? — Кажется, я ничего не утаил, — ответил Дюрталь. Исповедник пару минут помолчал, а потом задумчиво прошептал: — Я еще больше вчерашнего поражен дивным чудом, которое Господь Бог совершил в вас. Вы были больны, так больны, что поистине о душе вашей можно было сказать, как Марфа о Лазаре: Jam foetet[96]. Христос же, в некотором смысле, воскресил вас из мертвых. Но только не обманывайтесь! Обращение грешника — еще не исцеление, а лишь облегчение болезни, а выздоровление бывает иногда очень долгим — может длиться годы и годы. Итак, вам должно с сего часа решиться вооружить себя против новых падений, употреблять все, что от вас зависит, для возвращения здоровья. Такой предупредительный курс лечения состоит из молитвы, таинства исповеди и Святого Причащения. Молитва… Вы умеете молиться, ибо после такой бурной жизни, как ваша, вы не могли бы решиться отправиться сюда, если б прежде много не молились. — Но так дурно! — Дело не в том: ведь вы желали молиться хорошо. Исповедь… Она далась вам с большим трудом; теперь станет легче: вам уже не нужно вспоминать грехи, накопленные за долгие годы. Причащение беспокоит меня больше: можно опасаться, что, если вы победите плоть, бес будет поджидать вас именно там и прилагать силы удалить вас от таинства; он ведь прекрасно знает, что без сего божественного снадобья исцеление совершенно невозможно. Так что вам должно прилагать к этому все свое внимание. Монах еще ненадолго задумался и продолжал: — Святая Евхаристия… вам она совершеннопо-особенному необходима, ибо вы будете несчастнее менее образованных, более простых людей. Вас будет мучить воображение. От него вы уже много согрешили, и в воздаяние оно заставит вас много страдать: станет полуоткрытой дверью вашей личности, через которую бес проникнет в вас и заполнит вас. Итак, неусыпно следите за этим и горячо молите Бога, чтобы пришел вам на помощь. Скажите, есть у вас четки? — Нет, отче. — Вы так это сказали, что, мне показалось, у вас какое-то отвращение к четкам. — Признаюсь, этот механический способ читать молитвы меня несколько смущает; не знаю, право, но мне кажется, что уже через несколько секунд не смогу думать о том, что твержу; стану мямлить, запинаться, начну нести всякую чепуху… — Вы видели отцов с детьми, — невозмутимо ответил приор. — Дети донимали их ласками, болтали невесть что, а отцам было в сладость их слушать! Отчего же вы думаете, что Господу, благому Отцу нашему, не нравится слушать детей Своих, даже если они сбиваются и бормочут глупости? Он еще помолчал. — В вашем признании я чувствую дьявольскую хитрость, ибо этот венец молитв дает великую благодать. Сама Пресвятая Дева Мария открыла этот образ молитвословия святым и объявила нам, что он Ей по сердцу; уже по одному этому мы должны любить его. И вы молитесь так ради Нее; Она много помогла вам с вашим обращением, просила Сына Своего спасти вас. И вспомните: Богу было угодно, чтобы все милости шли к нам через Нее. Святой Бернард прямо так и говорит: Totum nos habere voluit per Mariam. И опять помолчал монах и сказал: — Между прочим, все глупцы терпеть не могут четок, а это верный знак. Так что извольте как епитимью отчитывать в течение месяца каждый день по десятерице. Снова молчание, потом он степенно заключил: — Увы, все мы носим рану первородного греха — склонность ко злу; каждый ее холит, кто больше, кто меньше, у вас же, как только прошел ваш возраст невинности, она была всегда открыта, но довольно вам возненавидеть вашу язву, как Господь закроет ее. Итак, я ничего не скажу вам о вашем прошлом, ибо раскаяние ваше и твердое намерение впредь не грешить истерли его. Завтра вы получите залог примирения: причаститесь Святых Таин; после стольких лет Господь Бог наш встанет на путь вашей души и останется на нем. Примите же его с великим смирением и, с сего момента начиная, молитвенно приуготовляйтесь к таинственному свиданию, предуказанному Его благостью. Сотворите же теперь покаянную молитву, а я дам вам святое отпущение. Монах поднял руки, и рукава белой ризы взлетели над ним, как два крыла. Воздев очи горе, он возгласил властные словеса, разрешающие узы, и три слова, произнесенные громче и медленнее прочих: Ego te absolve[97], — пали сверху на Дюрталя, затрепетавшего с головы до пят. Он чуть не рухнул на землю, не в силах прийти в себя, понять себя: только чувствовал, причем чрезвычайно ясно, что Сам Христос здесь, возле него в этой комнате; и, не находя никаких слов благодарить Его, он заплакал, ошеломленный, согнувшись под широким крестным знамением, которым осенил его приор. Он словно очнулся от сновидения в тот миг, когда приор сказал ему: «Радуйтесь, ваша жизнь мертва; она похоронена в обители и в обители возродится; это добрый знак; уповайте на Бога и идите с миром». Святой отец продолжал, пожимая Дюрталю руку: «Нисколько не бойтесь потревожить меня, я всегда в вашем распоряжении, не только для исповеди, но и для бесед, для любых советов, которые могут вам быть полезны; договорились?» Они вместе вышли из приемной; в коридоре монах поклонился Дюрталю и удалился. Дюрталь стоял, решая, куда пойти для медитации, в келью или в храм, и тут появился г-н Брюно. Он подошел к Дюрталю и спросил: — Ну что, хорошо вас прослабило? Дюрталь удивленно посмотрел на него; тот засмеялся: — А вы думаете, старый грешник вроде меня не может догадаться по тысячам мелких признаков, вот хоть по глазам вашим (теперь-то у вас глаза засветились!), что вы приехали сюда еще не совсем примиренный? Я встретил отца приора, он шел в клуатр, а теперь вижу — вы вышли из приемной; дальше уж совсем нетрудно понять, что сейчас вы прошли большую стирку! — Но вы же не видели меня с приором, — возразил Дюрталь. — Когда вы сюда вошли, его уже здесь не было; может, у него были другие дела? — Да нет: он был не в нарамнике, а в ризе с капюшоном, а это облачение он носит, только собираясь в храм или на исповедь; ну, а раз службы в эти часы нет, я точно сообразил, что он шел из приемной. А дальше я принял во внимание, что трапписты в этом помещении не исповедуются, так что встречаться с ним мог только один из нас двоих: вы или я. — Вот теперь все понятно! — засмеялся и Дюрталь. На этом месте к ним присоединился отец Этьен; Дюрталь попросил у него четки. — У меня четок нет! — воскликнул монах. — У меня найдутся лишние, — сказал господин Брюно, — с превеликим удовольствием подарю вам. Вы благословите, отец госпитальер? Монах кивнул в знак дозволения. — Ну так ежели вам угодно пойти со мной, — сказал на это г-н Брюно, — то я вам их тотчас же и отдам. Они вместе поднялись по лестнице; Дюрталю стало известно, что г-н Брюно живет в помещении в конце коридора, неподалеку от него. Келья была очень просто обставлена старой мещанской мебелью: кровать, бюро красного дерева, большой книжный шкаф, набитый аскетическими сочинениями, фаянсовая печка и пара кресел. Мебель явно была собственностью живущего: на ту, что стояла в других помещениях монастыря, она нисколько не походила. — Садитесь, прошу вас, — указал Дюрталю на кресло господин Брюно, и они стали беседовать. Сперва речь зашла о таинстве исповеди, потом заговорили об отце Максимине; Дюрталь признался, что горделивый вид приора поначалу устрашил его. Господин Брюно расхохотался. — Да-да, — сказал он, — на тех, кто смотрит на него издалека, он часто производит такое впечатление, а когда познакомишься ближе, то и видишь: суров он только к себе самому, а к другим нет никого снисходительнее. Это настоящий, святой монах во всем смысле слова, и у него бывают великие озарения… Дюрталь что-то сказал о других насельниках обители, удивился, что среди них есть много молодых; господин Брюно ответил на это: — Неверно представлять себе, будто большинство траппистов успело пожить в миру. Так очень часто думают: якобы люди уходят в обитель после долгих скорбей, беспутной жизни, только это совсем не так; да и чтобы выдержать изнурительный монастырский режим, надо начинать смолоду и уж никак не приносить сюда тело, истасканное всяческими излишествами. И еще не надо путать мизантропию с монашеским призванием: не ипохондрия, а зов Божий ведет в орден. Есть такая особая благодать, которая молодым, совсем не жившим людям посылает желание укрыться в безмолвии и претерпеть суровейшие лишения, и они счастливы так, как я и вам желаю; между тем их образ жизни намного суровее, чем вы себе представляете. Возьмем, скажем, рясофоров. Вообразите, что они заняты самым тяжкими трудами, не имея даже того утешения, что отцы белоризцы: бывать на всех службах и петь там; вообразите, что даже их награда, причащение, и та им не часто дается. И еще подумайте, что этим бедолагам никто никогда не скажет доброго слова, такого, что облегчит или подкрепит их. Они работают от зари дотемна, и никогда хозяин не поблагодарит их за усердие, не скажет хорошему работнику, что доволен им. Еще примите в соображение, что летом, в страдную пору жатвы, мы нанимаем людей в соседних деревнях; те, когда поля раскалены солнцем, отдыхают, присаживаются в тень под скирдами, в одних рубахах, пьют, когда хочется, едят; а монах стоит в тяжелом облачении и смотрит на них и продолжает работу, не ест и не пьет. Видите, крепкая закалка нужна душе, чтобы вынести такую жизнь! — Но, — заметил Дюрталь, — должны же быть какие-то разгрузочные дни, должен устав по временам ослабляться. — Никогда; здесь даже нет, как бывает в других орденах, и тоже довольно суровых, вот хоть у кармелитов, одного часа отдыха, когда дозволено говорить и смеяться; у нас — вечное молчание. — Даже когда все собираются в трапезной? — За трапезой читают беседы Кассиана, Лествицу преподобного Иоанна, жития отцов-пустынножителей и другие душеполезные сочинения. — А в воскресенье? — В воскресенье они встают на час раньше; впрочем, для них это и впрямь хороший день, потому что они могут быть на всех службах и все время проводить в церкви. — Но смирение, самоотречение, доведенные до такой степени, выше человеческих сил! — воскликнул Дюрталь. — И ведь чтобы они с утра до вечера могли заниматься тягчайшими полевыми работами, им нужна довольно солидная пища в достаточном количестве. Живущий улыбнулся. — А они едят просто овощи даже еще хуже тех, что дают нам, а вместо вина утоляют жажду кисло-сладким пойлом, где на стакан половина осадка. Им выдается такого вина когда кружка, когда пинта, но если очень хочется пить, можно долить водой. — А сколько трапез на дню? — Как когда. От Воздвижения до Великого поста едят только раз на дню, в половине третьего, а в пост эта трапеза переносится на четыре часа. От Пасхи же до Воздвижения цистерцианский пост не так строг; обедают в половине двенадцатого и еще вечером бывает микста, то есть легкая закуска. — Страшно подумать! Работать, работать и месяцами питаться только в половине третьего дня, когда встал в два часа ночи, а накануне не ужинал! — Ну, тут иногда приходится немножко ослабить правило; если монах начинает валиться от слабости, ему не отказывают в куске хлеба. А впрочем, — задумчиво сказал господин Брюно, — узы нашего устава придется когда-нибудь немного разрешить: вопрос о еде становится настоящим камнем преткновения для пополнения обителей траппистов; у многих душе хорошо пришлось бы в этих монастырях, а приходится бежать от них, потому что тело, окружающее душу, никак не приспособится к такому распорядку[98]. — А отцы белоризцы живут так же, как рясофоры? — Совершенно так же — они подают пример; все принимают ту же пищу, спят в одних спальнях на одинаковых постелях; здесь совершенное равенство. Отцам только одно лучше: они поют на богослужении и чаще причащаются. — Среди рясофоров меня особенно заинтересовали двое: молодой высокий блондин с остроконечной бородкой и древний-древний сгорбленный старичок. — Молодой — это брат Анаклет, истинный столп молитвы этот молодой человек, один из ценнейших рекрутов, которые Господь даровал нашему аббатству. Ну а старец Симеон — это сын ордена: он был воспитан в сиротском доме траппистов; это человек необычайный, настоящий святой, который уже сейчас живет, растворившись в Боге. Мы о нем поговорим побольше в другой день, а теперь пора идти: скоро час шестой. Постойте, а вот и четки, которые я по благословению могу передать вам. Позвольте, я повешу на них еще медальон святого Бенедикта. И он передал Дюрталю небольшие четки с привешенным кругляшом, на котором были выбиты загадочные литеры — амулет основателя ордена. — Вы разумеете смысл этих знаков? — Да, я когда-то читал об этом в брошюре святого Герангера. — Вот и прекрасно. Ну а когда будете причащаться? — Завтра. — Завтра никак нельзя! — Отчего же нельзя? — Да потому что завтра будет только одна месса, пятичасовая, а по уставу не положено на ней причащаться одному. Отец Бенедикт, который обычно служит раннюю мессу, нынче уехал и вернется послезавтра, а то и позже. Так что тут что-то не то. — Но ведь приор ясно сказал мне, что завтра я буду причащаться! — воскликнул Дюрталь. — А разве здесь не все отцы белоризцы — священники? — Нет; в священном сане здесь аббат (он болен), приор — он будет завтра служить пятичасовую службу, — отец Бенедикт да еще один отец: вы его не видели, он в отлучке. Да я и сам подошел бы к Святой Трапезе, будь это возможно! — А если они не все во священстве, то чем отличаются отцы, не имеющие рукоположения, от простых рясофоров? — Образованностью. Чтобы стать белоризцем, нужно учиться, знать по-латыни, словом, быть не таким, как братья-простецы — крестьяне да рабочие. Так или иначе, я нынче увижу приора и после службы скажу вам, что будет завтра с причащением. Но какая жалость — вам надо было бы сегодня быть вместе с нами! Дюрталь развел руками. По дороге в храм он все обдумывал это промедление да молил Бога не откладывать более его возвращение к благодати… После службы господин Брюно вновь подошел к нему и сказал: — Все так, как я думал, но вас, однако же, допустят завтра к Причастию. Отец приор договорился с викарием, который обедает с нами. Завтра, перед отъездом, он отслужит мессу, и вы там причаститесь. — О! — простонал Дюрталь. От этого известия сердце его разорвалось. Приехать в обитель траппистов, чтобы принять причащение из рук проезжего прелата, какого-то попика-весельчака! «О нет, — вскричал он про себя, — меня исповедовал монах, и причащаться я хочу у монаха! Лучше бы дождаться отца Бенедикта — но как? Не могу же я так и сказать приору, что этот неизвестный мне долгополый совсем не нравится мне, что после всего мне будет тяжко примириться с Богом в монастыре — но вот так!» И он стал жаловаться Господу; он сказал Ему, что счастье омыться и обрести наконец чистоту теперь испорчено этим недоразумением… Понурив голову, он пришел в трапезную. Викарий уже был там. Заметив, что Дюрталь смотрит букой, он милостиво пытался развеселить его, но все его шутки производили только обратное действие. Из вежливости Дюрталь улыбался, но вид у него был такой смущенный, что г-н Брюно, следивший за ним, оборвал прелата и перевел разговор. Дюрталь еле дождался окончания обеда. Он съел яйцо, с трудом заглатывал картофельное пюре с разогретым постным маслом, похожим, если не знать, на вазелин, но как же мало ему было теперь дела до еды! Он твердил себе: «Как страшно вынести из первого причастия неприятное воспоминание, мучительное впечатление — а я ведь знаю себя, для меня это станет наваждением… Черт возьми, да, я знаю, что с богословской точки зрения совершенно неважно, с монахом я буду иметь дело или с простым священником: и тот и другой — всего лишь проводники между мной и Богом; но я-то при том чувствую, что это совсем не одно и то же. Хотя бы на этот один раз мне нужна гарантия, уверенность в святости, а какая может быть уверенность, когда духовный чин разоряется шуточками, как виноторговец? — Он запнулся, припомнив, что аббат Жеврезен специально, как раз чтобы иметь верную гарантию против таких соблазнов, послал его в обитель. — Вот не повезло!» Дюрталь даже не слышал, о чем вели беседу тут же рядом викарий с живущим: так и копался в себе в одиночку, уткнувшись носом в тарелку. «Не хочу причащаться завтра», — еще раз подумал он — и возмутился. Это трусость; это, в конце концов, глупо! Разве Спаситель, при всем при том, не подаст ему Свое Тело? Он вышел из-за стола, тревожимый глухим раздражением, пошел бродить в парк, слонялся наугад по аллеям… В нем укоренялась новая идея: о том, что Небо-де посылает ему испытание. «Мне недостает смирения, — твердил он про себя опять и опять, — вот в наказание у меня и отнята радость быть причащенным из рук монаха. Христос простил меня, это уже много. И с какой стати Ему давать мне больше, учитывать мои предпочтения, удовлетворять мои пожелания?» На несколько минут эта мысль его успокоила, и он упрекал себя за несправедливость к священнослужителю, который, вообще говоря, мог оказаться и святым. «Хватит, хватит об этом! — говорил он себе, — пусть все будет как есть; постарайся раз в жизни смириться хоть на каплю, а пока мне пора начать круг молитв». Он уселся на траву и достал четки. Не успел он отсчитать два зерна, как его снова начало преследовать разочарование. Он вновь прочел «Отче наш» и «Богородицу», пошел дальше, но нимало не думал о смысле молитв, а все мучился: «Ну что за невезение; надо же было монаху, который служит мессу каждый день, уехать именно завтра, как нарочно, чтобы меня огорчить!» Он прервал себя; на секунду тревога утихла, но вдруг нахлынуло новое беспокойство. Дюрталь посмотрел на четки, где уже отсчитал десять зерен. Так: приор велел мне читать каждый день по десятерице, но десятерице чего: зерен или кругов? — Зерен, — ответил он себе и тут же возразил: — Нет, кругов! И так и остался в недоуменье. «Что за глупость, не мог он мне приказать отчитывать в день по десять кругов: это же около пятисот молитв подряд; такого никто не выдержит, не сбившись; так нечего и думать: говорилось о десяти зернах, ясное дело! Да нет же: ведь когда духовник назначает вам епитимью, надо полагать, что он соразмеряет ее с тяжестью грехов, которые она искупает. К тому же я выказал неприязнь к этим капелькам благочестия в пилюлях; оно и понятно, что он прописал мне молитвенное правило в усиленной дозе! И все же… и все же… не может этого быть… Да у меня в Париже физически не будет столько времени на молитву, чепуха какая!» Так и покалывала надоедная мысль: как бы не ошибиться… «Да нет, не о чем тут раздумывать: на церковном языке “десятерица” — это десять зерен на четках; так-то так… но я же прекрасно помню, как святой отец сначала сказал про четки, а потом добавил: отчитывайте по десятерице; это должно значить — десятерицу кругов или четок; иначе он бы сказал: отсчитывайте по десятерице…» Но тут же он парировал: отцу приору и не надо было все уточнять; он использовал термин принятый, общеизвестный. Не смешно ли так копаться в смысле одного слова? Дюрталь тщетно пытался унять смятение, взывая к своему разуму, и вдруг достал для себя новый аргумент, который его окончательно расстроил. Он вообразил, что не желает пересчитывать десять круговых ниток из малодушия, лености, духа противоречия, потребности в бунте. Из двух возможных толкований я выбираю то, которое не требует усилий, труда — так это уж слишком просто! Да одно это доказывает, что я заблуждаюсь, пытаясь себя убедить, что приор велел мне перебирать не более десяти зерен! И вообще, «Отче наш», десять «Богородиц» да в конце «Слава и ныне» — что это за епитимья, это же несерьезно! Но ему пришлось ответить себе: а для тебя и это много; ты же и того не можешь прочитать, не отвлекаясь! Так он кружился на месте, не продвигаясь ни на шаг. В жизни так ни в чем не сомневался, думал он, стараясь прийти в себя. Вроде в своем уме, а сражаюсь с собственным здравым смыслом: нечего тут сомневаться, я знаю, что должен отложить на четках десять «Богородиц» и ни единой молитвой больше! Дюрталь так и сидел озадаченный, чуть ли не испуганный этим новым для него состоянием. А чтобы избавиться от него, заставить утихнуть внутренний голос, выдумал новое соображение, кое-как примирявшее распрю, решавшее самую срочную задачу, дававшее временный выход. «Так или иначе, — сказал он себе, — я не могу завтра причащаться, если сегодня не исполню епитимью; в сомнении благоразумнее согласиться на десять кругов, а там посмотрим; при необходимости я могу и спросить у приора. Но, правда, он сочтет меня полным идиотом, если я только заикнусь о десятерице кругов! Не могу я спрашивать его об этом! Ну так видишь — ты сам признаешься: речь могла идти только о десяти зернах!» Он отчаялся и, чтобы добиться от себя молчания, стал с остервенением отчитывать молитвы. Сколько ни закрывал он глаза, сколько ни пытался собраться с духом и с силами, после двух десятериц никак уже не мог следовать за ходом правила — все запинался, пропускал бусины «Отче наш», путался в малых зернах «Богородицы», словом, топтался на месте. Чтобы себя приструнить, он решился на каждой порции мысленно переносить себя в одну из капелл Божьей Матери, куда любил ходить в Париже: в Нотр-Дам де Виктуар, в Сен-Сюльпис, в Сен-Северен, но этих Богородиц было не так много, чтобы им можно было посвятить каждую десятерицу, и он припоминал мадонн с картин примитивов, собирался перед их образами и ворочал лебедку своих молений, не понимая, что такое бормочет, а просил он Матерь Спаса нашего принять прочитанное им правило, как приняла бы Она улетающий дым кадила, забытого у алтаря… «Больше не могу!» — подумал он и прервал свой труд, совершенно изнуренный, разбитый, тяжело дыша; ему оставалось прочесть еще три круга. Но едва он остановился, вновь явился замолкнувший было вопрос о приобщении к Тайнам. Лучше совсем не причащаться, чем причащаться плохо; а после таких сомнений, таких пристрастных мыслей ему никак невозможно в чистоте приступить к Святой Трапезе. Да, но что же делать? Собственно, чудовищно уже обсуждать монашеское наставление, желать поступить на свой лад, домогаться собственного удобства! «Если так дальше пойдет, — говорил он себе, — я сегодня столько нагрешу, что придется заново исповедаться». Чтобы разорвать обстояние, он вновь набросился на чтение правила, но тут уже совершенно обалдел; хитрость, при помощи которой ему удавалось хотя бы представлять себя перед лицом Пресвятой Девы, больше не действовала. Он хотел отвлечься, потом вызвать в себе воспоминание о Мемлинге,{61} но ничего не получалось; молитвы, читаемые одними губами, утомляли и огорчали его. «Душа моя изнемогла, — подумал он, — благоразумней будет дать ей отдых и побыть в покое». Он пошел бродить вокруг пруда, не зная, как ему быть. Не вернуться ли в келью? Он так и сделал, попробовал углубиться в малую службу Пресвятой Деве, но не понял ни полслова из того, что читал. Снова сошел вниз и отправился наугад по парку. «Есть от чего сойти с ума! — восклицал он про себя и меланхолически твердил затем: — Мне положено пребывать в блаженстве, молиться в мире, готовиться к завтрашнему событию, а я, как никогда, неспокоен, взбудоражен, далек от Бога! И надо же наконец завершить епитимью!» Отчаяние добивало его, он был готов уже все бросить, но еще раз напрягся, принудил себя перебирать четки… В конце концов он все бросил: больше не было никаких сил. При всем при этом справедливо, что послушание, наложенное духовником, ты не исполнил в точности, раз совесть упрекает тебя в несосредоточенности, в рассеянности. — Но я уже сдох! — восклицал он. — Я не могу в таком состоянии возобновить такой урок! И он опять нашел выход из положения, придумав новое коленце, чтобы рассудить себя с самим собой. Можно, пожалуй, вместо всех зерен розария, которые он пробормотал, не вникая, прочитать одну десятерицу, но с толком, со тщанием. Он попытался вновь завести машину, но едва отложил один «Отче наш», как сбился с мысли; уперся было, чтобы отчитать «Богородицы», но тогда его рассудок вовсе рассеялся, разбежался во все стороны. Он остановился, думая: к чему все это? И вообще, как может одна десятерица, хорошо отчитанная, равняться пятистам неудачным молитвам? И почему одна, а не две, не три — нелепость! Гнев одолевал его; в конце концов, заключил он, все эти повторы никчемны; Христос прямо сказал, что не надо умножать в молитвах пустого многоглаголания. И в чем же тогда смысл бумажной мельницы «Богородиц»? — Но если я укоренюсь в таких мыслях, буду переговаривать монашеские наказы, то погибну, — вдруг сказал он себе и усилием воли задавил ворчавшие в нем сомнения. Дюрталь затворился в келье; часы тянулись нескончаемо; он убивал их, тасуя в себе все те же вопросы и те же ответы. От такого переливания из пустого в порожнее ему самому уже становилось стыдно. «Ясно одно, — твердил он вновь и вновь, — я жертва душевного расстройства; о причащении другое дело, тут мои мысли могут быть ошибочны, но они не безумны, а вот проклятый вопрос о четках! Он совсем обессилел, чувствуя себя избитым, как наковальня молотом, и наконец заснул на стуле. Так он дотянул до часа вечерни и ужина. После трапезы Дюрталь направился в парк. И тогда уснувшие было крепким сном треволнения оживились, и все началось заново: яростный бой во всем его существе. Он сидел неподвижно, безнадежно вслушивался в себя; вдруг послышались быстрые шаги и подошел г-н Брюно со словами: — Берегитесь, вы в бесовском обстоянии! Дюрталь совсем обалдел и не отвечал. — Да-да, — объяснил живущий, — Господь иногда посылает мне дар проницательности, так что я совершенно уверен: дьявол сейчас обрабатывает вас со всех сторон. Ну-ка, что с вами? — Со мной… я и сам не понимаю. — Дюрталь рассказал о странном сражении по поводу молитвословия, которое он с самого утра вел с самим собой. — Но это же бред, — воскликнул г-н Брюно. — Конечно приор велел вам отчитывать по десять зерен; десять кругов и невозможно прочесть! — Знаю… а все равно не уверен. — Вот-вот, та же самая тактика, — сказал г-н Брюно, — бес и хочет отвратить вас от того, что вы должны исполнить; поэтому пытается обессилить вас, чтобы сами четки стали вам противны. Ну а еще что? Вам не хочется завтра причащаться? — Точно так, — ответил Дюрталь. — Как я на вас поглядел за трапезой, так и догадался. Мать честная, после обращения лукавый всегда начинает беспокоиться; ну ничего, со мной еще и не такое было, уж можете мне поверить. Он взял Дюрталя под руку, провел в приемную, попросил подождать и исчез. Несколько минут спустя вошел приор. — Так, господин Брюно сказал мне, что вам нехорошо. Что же, собственно, случилось? — Такая глупость, право, и рассказывать стыдно. — Монаха вы ничем не смутите, — улыбаясь, возразил приор. — Вот оно что: я уверен, что вы мне велели откладывать каждый день в течение месяца по десять зерен на четках, но с самого утра я, против всякой очевидности, сам себя убеждаю, что моя епитимья — по десять кругов четок ежедневно. — Подайте мне ваши четки, — сказал монах, — и смотрите: вот десять зерен; только это я вам велел исполнять и только это вы должны читать. А вы сегодня собирались отчитать десять кругов? Дюрталь кивнул. — И конечно же, запутались, занервничали и, наконец, сдались. Видя жалобную улыбку Дюрталя, приор решительным голосом продолжал: — Так вот, послушайте: я категорически запрещаю вам на будущее начинать молитву заново; прочитали плохо — делать нечего, только не повторяйте ее. Я даже не спрашиваю вас, не приходила ли вам в голову мысль отказаться завтра от причастия: это само собой; к этому-то наш враг и направляет все свои усилия. Так что не слушайте сатанинского голоса, который вас от этого отклоняет; завтра причащайтесь, что бы ни случилось. У вас не должно быть никаких сомнений на сей счет: я вас благословил приступить к таинству, так я и беру на себя всю ответственность. Теперь другой вопрос: не бывает ли с вами чего по ночам? Дюрталь рассказал ему про жуткую ночь по приезде в обитель и про утреннее чувство, будто за ним кто-то подглядывает. — Эти все явления нам известны давно; прямой опасности в них нет, так что не тревожьтесь об этом. Но если они будут продолжаться, благоволите известить меня: тогда мы не преминем и здесь навести порядок. Траппист неспешно удалился, а Дюрталь остался в задумчивости. «В том, что суккубические явления суть сатанинской природы, — размышлял он, — я никогда и не сомневался, но вот о чем не знал, так это о кавалерийских атаках на душу, обрушивающихся на рассудок, который остается неповрежденным и все же побежденным. Это сильно, надо бы только, чтобы этот урок пошел мне впрок и впредь я не вылетал из седла при первой же тревоге!» Он вернулся в келью; на него снизошел полный мир. Со звуком голоса приора все умолкло; теперь Дюрталь только удивлялся, как это он столько часов не мог попасть в колею; он понял, что на него напали врасплох и сражался он не с самим собой. Он помолился и лег. И вдруг вражеский приступ начался снова, так что он и не распознал новой тактики. Конечно я завтра причащусь, думал он, вот только… А хорошо ли я приготовился к такому акту? Днем мне следовало сосредоточиться, благодарить Господа за отпущение грехов, а я тратил время на чепуху! Почему я сейчас не сказал этого отцу Максимину? Как же я об этом позабыл? Да и заново исповедаться надо было бы. А викарий-то этот, викарий, что будет меня причащать… Отвращение к этому человеку вдруг поднялось в нем и стало таким сильным, что он наконец сам смутился. «Ох, вот и снова меня одолел нечистый, — сказал он себе и решительно заключил: — Все это не помешает мне завтра приступить к Святым небесным Тайнам, ибо я крепко на то решился; вот только не ужасно ли, что лукавый дух то и дело овладевает и погоняет мной, что от небес нет никакого знака, что я ничего не знаю? Господи, Господи, лишь бы мне ведать наверное, что это причащение угодно Тебе! Дай мне знамение, покажи мне, что я с чистой совестью могу подойти к Тебе; сделай невозможное — чтобы завтра там был не простой священник, а монах…» И он осекся, сам испугавшись своей дерзости, недоумевая, как посмел он просить о знамении, да еще сам указывать, о каком… «Чушь! — воскликнул он про себя. — Нет у нас права просить Бога о таких милостях; а потом, Он не услышит моей молитвы, и что тогда? Да только хуже станет тоска, я ведь заключу из Его отказа, что мое причащение ничего не стоит!» И он попросил Бога забыть о его пожелании, просил прощения, что произнес его, попытался убедить самого себя, что этому вовсе не надо придавать значения, и, наконец, с молитвой уснул.IV
Выходя из кельи, Дюрталь твердил себе: «Сегодня я причащаюсь, причащаюсь». Но это слово, от которого все в нем должно было бы дрожать и гудеть, не будило в нем никаких благочестивых чувств. Он шел в полудреме, ни к чему не чувствуя вкуса; все ему надоело, в глубине души он чувствовал себя совершенно холодным. И только когда вышел на улицу, его растревожил некий страх. Я же не знаю, подумал он, когда следует встать со скамьи и преклонить колени перед священником; знаю, что сначала причащается клир, потом остальные, ну а в какой именно момент мне надо направиться к алтарю? Вот и тут не повезло: мне придется подходить к Тайнам одному, а то бы я поступал как все и не было бы риска что-то сделать неприлично. Войдя в церковь, Дюрталь внимательно оглядел ее: он искал г-на Брюно, чтобы устроиться рядом с ним и с его помощью избавиться от этой заботы, но того не было. Дюрталь сел, растерянный; он думал о знамении, которого просил накануне, силился отбросить это воспоминание, но уже поэтому думал о нем. Он захотел заставить себя собраться, молил Бога простить ему блуждание духа; тут вошел г-н Брюно и встал на колени перед статуей Пресвятой Девы. Почти в ту же минуту к алтарю святого Иосифа подошел брат с длинной тонкой бородкой, свисавшей с грушевидного лица; он нес садовый столик, на который положил салфетку для рук, полотенце, поставил тазик и два малых сосуда. Видя эти приготовления, напоминавшие, что великое таинство непременно состоится, Дюрталь напрягся, усилием воли прогнал все свои тревоги, одолел сомнения и, убежав от себя самого, горячо просил Мадонну заступиться, чтобы он мог хоть один этот час не отвлекаться, а молиться в мире. Окончив же эту молитву, он открыл глаза и подскочил, раскрыв рот, при виде священника, который шел вслед за братом рясофором начинать мессу. Это был не знакомый ему викарий, а совсем другой человек: моложе, с величавой поступью, огромного роста, с бледным бритым лицом и лысым черепом. Дюрталь глядел, как он, опустив глаза, с достоинством подходил к алтарю, и вдруг заметил, как из-под его пальцев блеснул лиловый отблеск. Так это архиерей: у него епископское кольцо, подумал Дюрталь. Он наклонился вперед, чтобы разглядеть, какого цвета подрясник надет под ризой: оказалось, белый. «Так значит, монах!» — изумился он. Машинально обернулся к статуе Богородицы и взглядом поскорее подозвал к себе г-на Брюно. Тот уселся рядом с ним. — Кто это? — Дом Ансельм, настоятель нашей обители. — Тот, больной? — А вот сегодня он будет нас причащать. Дюрталь, задыхаясь, пал на колени; его била дрожь: это не сон! Небо ответило ему тем самым знаком, о котором он просил! Ему бы уничтожиться перед Богом, распластать себя у ног Его, раствориться в порыве благодарения; он и знал это, и желал этого, и, сам не зная почему, выдумывал хитроумные естественные объяснения, каким образом вместо простого священника явился монах. «Это, должно быть, проще простого, потому что прежде, чем принимать нечто за чудо… впрочем, тут нет ничего дурного: после службы я тотчас попробую выяснить, что тут случилось». Но тут просочившиеся в душу дурные мысли возмутили его: да какая, собственно, разница, по какой причине вышла эта замена! Была, конечно, какая-то причина, но она была только следствием, приложением; важно то, что ее породила вышняя воля. Так или иначе, ты получил больше, нежели просил; тебе послан даже не обычный монах, как ты желал, а сам настоятель обители! И он воскликнул про себя: «О, надо, надо верить, как верят эти простые братья в коричневых рясах; не полагаться на душу, улетающую при малейшем дуновении ветерка; иметь веру детскую, веру незыблемую, неискоренимую веру! Отче, Отче, погрузи меня в нее, укрепи меня в ней!» В сильнейшем порыве чувств он наклонился вперед и бормотал слова Христу: «Господи, не уходи; да сдержит милость Твоя правосудие Твое; будь несправедлив, прости меня; прими голодного, алчущего причащения, прими нищего душой!» Г-н Брюно потрогал его за руку и взглядом пригласил идти за собой. Они подошли к алтарю и стали на колени прямо на полу; потом, получив благословение аббата, не вставая с колен, поднялись на единственную ступеньку, и рясофор подал им полотенце: ни плата, ни убруса не было. И настоятель обители их причастил… Они вернулись на место. Дюрталь был в совершенном оцепенении; великое таинство, так сказать, заморозило его ум; запрокинув голову, он стоял на коленях на своей скамейке, не в силах даже разобрать, что происходит внутри него, неспособный овладеть собой. Внезапно ему почудилось, что в храме душно, что он задыхается. Месса окончилась; он выскочил из капеллы и побежал на свою аллею: там он хотел проинспектировать себя, но нашел одну пустоту. Тогда на берегу крестообразного пруда, в водах которого баюкался образ Христа, он ощутил бесконечную меланхолию, безмерную грусть. Душа буквально потеряла сознание, впала в обморок, а когда очнулась, Дюрталь поразился, что не ощутил неведомого подъема радости; потом он задержался мыслью на неприятном воспоминании о слишком человеческой стороне приятия Тела Христова: облатка прилепилась к нёбу; ему пришлось отыскивать ее языком и слизывать, как блин, чтобы проглотить. Ну что за вещественность! Отчего это не был поток, огонь, аромат, дуновение и больше ничего! И он попытался объяснить себе, почему Спаситель обходился с ним так, а не иначе. Все его предчувствия сбылись наоборот: на него подействовало покаяние, а не причащение. Рядом с духовником он очень ясно ощущал присутствие Христа; все его существо было, так сказать, пронизано божественными токами; Евхаристия же не принесла ничего, кроме удушья да тоски. Можно подумать, таинства обменялись своими последствиями; они действовали на него в обратном порядке — Господь сделался осязаем для души до причастия, а не после. «Но это, в общем, понятно, — думал Дюрталь. — Главный вопрос для меня — совершенно ли я уверен в прощении; Христос по нарочитой Своей милости подтвердил мою веру, помазав бальзамом покаяния. Чего еще надо? Да и каковы тогда должны быть щедроты у Него для святых? Нет, я, право, странный человек: хотел бы, чтобы Он со мной обходился так, как обходится, вероятно, с братом Анаклетом или с братом Симеоном — дальше ехать некуда! Я получил больше, чем заслуживал. А ответ мне от Бога сегодня утром? Хорошо, но тогда зачем столько обетований и потом вдруг все на попятный?» Направляясь к аббатству, к хлебу с сыром на завтрак, он говорил себе: грех мой в том, что я все время рассуждаю, а Богу надо поклоняться тупо, как поклоняются здешние монахи. О, если б я мог молчать про себя, не говорить с собой — вот это была бы благодать! Дюрталь пришел в трапезную; там, как обычно, никого не было — г-н Брюно никогда не бывал у семичасовой трапезы по утрам. Не успел он отрезать себе кусок от небольшой булки, как появился отец госпитальер с точильным камнем и связкой ножей. Улыбнувшись Дюрталю, он сказал: «Надо поточить, все ножи в монастыре затупились» — и положил их на столик в маленькой комнатке рядом с трапезной. — Что ж, довольны ли вы? — спросил он, вновь подойдя к гостю. — Разумеется, но что случилось нынче утром? Почему меня причащал аббат обители, а не тот викарий, который вчера обедал со мной? — О, — воскликнул в ответ монах, — я удивлен не меньше вашего! Проснувшись, отец настоятель вдруг объявил, что непременно должен сегодня служить мессу; встал и пошел, не слушая отца приора, который, как врач, не велел ему подниматься с постели. Тогда ему сказали, что у мессы будет причащаться гость, и он ответил: превосходно, вот я его и причащу. Правда, господин Брюно, пользуясь случаем, тоже подошел к причастию: он любит принимать Тело Христово из рук дом Ансельма. А викарий тоже остался доволен, — добавил с улыбкой отец Этьен, — уехал из обители пораньше и поспел отслужить мессу в деревне, там его ждали. Кстати, он просил меня передать вам извинения, что не мог с вами попрощаться. Дюрталь поклонился. «Сомнений больше нет, — подумал он. — Бог решил дать мне недвусмысленный ответ». — А как ваш желудок? — В полном порядке, отец мой; просто поражаюсь: в жизни он не работал лучше, я уж не говорю, что и головных болей нет, а я их очень боялся. — Значит, о вас пекутся свыше. — Конечно, конечно, можете поверить. Да вот, пока не забыл, давно хотел вас спросить: по какому чину служат в вашей обители? В моем молитвослове чин другой. — Да, наши службы и вправду не совпадают с вашими; у вас они даны по римскому служебнику. Впрочем, вечерня почти такая же, кроме разве что стихов, да еще вас, может быть, сбивает, что у нас перед ней очень часто служится особая вечерня Пресвятой Богородице. Вообще же, как правило, у нас бывает на одну кафизму меньше и почти на всех службах поются прокимны.{62} Вот, правда, кроме повечерия, — улыбнулся отец Этьен, — как раз там, где они бывают у вас. Например, как вы могли заметить, у нас нет In manus tuas, Domine[99] — одного из немногих прокимнов, что поют по приходам. Теперь у нас еще появились собственные службы святым; мы служим их в память блаженных нашего ордена, этого нет в ваших книгах. А в общем мы буквально следуем бревиарию святого Бенедикта.{63} Дюрталь закончил завтракать и встал, не желая докучать святому отцу своими вопросами. Только одно слово монаха застряло у него в голове: что приор был врачом; прежде чем уйти, он и об этом осведомился у отца Этьена. — Нет, отец Максимин не доктор, но он хорошо знает простые средства и у него есть аптечка, которой, в общем, хватает, если болезнь не тяжелая. — А если тяжелая? — Тогда можно позвать врача из какого-нибудь ближнего города, но у нас так не болеют; разве что уж конец приходит, тогда врач и не нужен… — Словом, отец приор в вашей обители ходит и за душами, и за телами. Монах кивнул.Дюрталь пошел прогуляться. Долгой прогулкой он надеялся разогнать удушье. Он вышел на дорогу, по которой еще не ходил, и очутился на поляне, где стояли развалины древнего монастыря: остатки стен, обломанные столпы, капители романского стиля; к сожалению, обломки были в ужасающем состоянии, покрыты мхом, шершавые, изъеденные водой, дырявые, как пемза. Дюрталь пошел дальше; дорога вывела на длинную аллею, а внизу был пруд раз в пять-шесть больше маленького крестообразного, где он бывал раньше. Аллея над большим прудом была обсажена старыми дубами, посередине стояла статуя Богородицы, а возле нее скамья. Дюрталь взглянул на статую и застонал. Преступление Церкви опять явилось перед ним: и здесь, и даже в церковке, столь полной Божьим духом, все статуи были куплены на парижских и лионских церковных базарах! Он уселся внизу, у пруда, поросшего вдоль берегов камышами и окруженного купами ракит; ему было весело изучать оттенки цвета на кустах: блестящую зелень листьев, лимонно-желтые и кроваво-красные стволы; было славно глядеть на воду, морщившуюся и временами вскипавшую под порывами ветра. Над прудом, задевая крыльями воду, носились ласточки, и от их касаний водяные капельки подпрыгивали серебристыми жемчужинками. Птицы взмывали ввысь, кружились в вышине, и все время раздавалось их «фьить, фьить, фьить», а мимо в воздухе проносились голубоватыми молниями стрекозы. «Какое тихое местечко! — думал Дюрталь. — Мне бы раньше сюда забрести». Он уселся на моховой покров и принялся с интересом наблюдать за глухо-деятельной жизнью вод. То карп плеснет и блеснет, с поворотом выскочив наружу, то большой водомер проскользит по поверхности, оставляя за собой маленькие кружочки — остановится и опять в путь, опять рисует кружки; а на земле возле себя Дюрталь видел, как подпрыгивают зеленые кузнечики с ярко-красным брюшком, как ползут на приступ дубовых вершин колонии тех странных насекомых, у которых на спинке видна чертова голова, словно писанная суриком на черном фоне. А надо всем этим, запрокинув голову, он видел безмолвное опрокинутое море небес — синее, с барашками белых облаков, бежавшими друг за другом, как волны; и в то же время небесная твердь неслась по воде, пенилась в ее зеленоватом зеркале. Дюрталь, расслабившись, курил сигарету за сигаретой; меланхолия, давившая его с самого утра, понемногу уходила, и начинала проникать радость от того, что душа омылась в купели таинства, просеялась на бернардинском току. Он был доволен и обеспокоен разом: доволен, потому что разговор с отцом госпитальером удалил его последние сомнения насчет того сверхъестественного, что было во внезапной замене викария на аббата при его причащении; счастлив знать, что, невзирая на беспутство его жизни, Христос не оттолкнул его, но еще подбодрил, дал залог, подкрепил видимым очами действием весть о своей милости. Но ему было и тревожно: он находил себя еще бесплодным, говорилсебе, что принятие этих благ следует подтвердить внутренней бранью, новой жизнью, совершенно непохожей на ту, что он вел прежде. Ну, там посмотрим! И почти спокойный он пошел на службу шестого часа, а оттуда на обед, где встретился с г-ном Брюно. — Пойдемте-ка сегодня прогуляемся, — промолвил живущий, потирая руки. Дюрталь удивленно посмотрел на него, тот объяснил: — Ну да, я подумал, что после причастия вам полезно будет немножко подышать воздухом за стенами обители и попросил отца настоятеля освободить вас на сегодня от обязательных служб, если вам, конечно, будет угодно. — Охотно соглашаюсь и, право же, очень вам благодарен за ваше добросердечное участие! — воскликнул Дюрталь. На обед был бульон с горсткой капусты и пригоршней гороха, заправленный постным маслом; бульон недурной, но хлеб, выпеченный в обители, был черствый; он напомнил Дюрталю времена осады Парижа, и суп пришлось отставить. Потом они съели по яйцу со щавелем и соленого риса с молоком. — Сначала, если не возражаете, навестим дома Ансельма, — сказал г-н Брюно, — он изъявил желание познакомиться с вами. И он повел Дюрталя лабиринтом лестниц и коридоров в тесную келью, где обитал аббат. Отец настоятель, как и все отцы, носил белую рясу и черный нарамник, только на груди на лиловом шнурке висел аббатский крест слоновой кости, в середину которого был вделан стеклянный кружок с мощами. Он подал Дюрталю руку и попросил присесть. Дом Ансельм осведомился, достаточным ли кажется ему питание. Когда Дюрталь ответил, что да, аббат пожелал узнать, не слишком ли давит на него долгое молчание. — Нет, нисколько, я очень люблю тишину. — Ну, — засмеялся аббат, — так вы из редких мирян, что так легко выносят наш режим. Обычно всех, кто приезжал пожить у нас, глодали сплин и ностальгия, так что у них только и мыслей было поскорее бежать. Он помолчал и продолжал: — Но все-таки не может быть, чтобы такая резкая перемена всех обычаев не сопровождалась хоть каким-нибудь тяжким лишением; есть ли у вас привычка, утрату которой вы чувствуете сильнее прочих? — Есть: жаль, что не могу закурить, когда хочется. — Но вы, полагаю, — улыбнулся аббат, — не оставались без курения с самого приезда? — Я бы солгал, не признавшись, что потихоньку покуриваю. — Но, Боже мой, святой Бенедикт ничего не знал о табаке и в его уставе об этом не сказано ни слова, так что я волен разрешить его; итак, курите, сударь, сколько вам угодно, и не стесняйтесь. В заключение дом Ансельм промолвил: — Надеюсь, на днях у меня найдется побольше времени (хотя, впрочем, может быть, я по-прежнему не смогу выходить), и в таком случае очень рад буду побеседовать с вами подольше. Монах пожал гостям руки; видно было, что он очень устал. Выйдя на улицу, Дюрталь воскликнул: — Прелестный человек отец настоятель! И какой молодой! — Едва сорок лет, — ответил г-н Брюно. — Кажется, он вправду болен. — Да, он чувствует себя неважно, сегодня утром невесть откуда нашел силы отслужить мессу. А теперь вот что, давайте прежде всего обойдем владения обители; вы их не могли видеть все: нам надо будет выйти из-за ограды и пройти на ферму. Они прошли мимо руин старого аббатства, обошли пруд, у которого утром сидел Дюрталь. По дороге г-н Брюно рассказывал о развалинах: — Этот монастырь был основан в 1127 году святым Бернардом; аббатом в нем он поставил блаженного Гумберта, припадочного цистерцианца, которого чудесным образом исцелил. В те времена в обители случались видения; легенда гласит, что, когда монах умирал, два ангела всякий раз срезали на монастырском кладбище лилию и относили на небо. Вторым аббатом был блаженный Геррик,{64} прославленный ученостью, смирением и терпением в невзгодах. У нас хранятся его мощи: это они покоятся в раке под главным алтарем. Но самый примечательный из чреды настоятелей, бывших здесь в Средние века, — это Петр Одноглазый, историю которого написал его друг, насельник обители Фома из Рейля. Петр, прозванный Одноглазым, был святой, изнурявший себя постом и умерщвлением плоти. Его преследовали страшные искушения, а он над ними смеялся. Отчаявшись, сатана напал на его тело и наслал такую головную боль, что череп святого раскололся, но Бог помог ему и исцелил. От многих и частых покаянных слез у него вытек глаз, и блаженный Петр возблагодарил небо за такой дар. «У меня было два врага, — говорил он, — от одного я бежал, но второй тревожит меня еще более первого». Он совершал чудесные исцеления; французский король Людовик VII так почитал его, что, встретив святого, непременно возжелал облобызать его пустую глазницу. Петр Одноглазый преставился в 1186 году; в его крови полоскали белье, а внутренности омывали в вине и раздавали это вино, ибо оно получало чрезвычайно сильные целебные свойства. В те времена пустынь эта была громадна; ее владения включали всю здешнюю округу, она содержала поблизости несколько лепрозориев, а населяло ее более трехсот монахов. К несчастью, с монастырем Нотр-Дам де л’Атр случилось то же, что и со всеми остальными. Под управлением аббатов-коммендатариев он захирел и был близок к кончине: поддерживать его оставались только шесть монахов. Тут случилась революция и его упразднили. Церковь была разрушена и уже позднее заменена капеллой в форме ротонды. Только в 1875 году тот дом, где мы живем (он построен, если не ошибаюсь, в 1733-м), был вновь освящен и стал опять монашеским жилищем. Сюда призвали траппистов из монастыря Святой Марии Морской в Тулузском диоцезе, и эта небольшая колония превратила Нотр-Дам де л’Атр в тот цистерцианский питомник, который вы видите. Такова в кратких словах история нашего монастыря, — заключил живущий. — Руины же скрыты под землей, и там, без сомнения, можно найти множество ценного, но за недостатком денег и рук пришлось отказаться от раскопок. Впрочем, от древней церкви, помимо колонн и капителей, мимо которых мы прошли, сохранилась еще большая статуя Богоматери, стоящая ныне в одном из коридоров аббатства; потом остались две фигуры ангелов в довольно хорошем состоянии; они — да вот они, в конце стены, в часовенке, что прячется за завесой деревьев. — Но Божью Матерь, перед которой, быть может, преклонял колени святой Бернард, подобало бы поставить в церкви, на алтаре, посвященном Деве Марии, а раскрашенная статуя, которая там теперь, невыносимо безобразна, как и вон та, — произнес Дюрталь, указывая вдаль на бронзовую Мадонну, стоявшую у пруда. Г-н Брюно опустил голову и ничего не ответил. Дюрталь, со своей стороны, не стал развивать тему и переменил разговор: — Знаете ли, — сказал он, — а я завидую вам, что вы здесь поселились! — Я, конечно же, нисколько не заслужил этой милости: ведь монастырская жизнь вообще-то не искупление, а награда. Это единственное место, где мы далеки от земли и близки к Небу, где можно предаться той духовной жизни, которая совершается лишь в уединении и молчании. — Да, это так; а еще больше, если возможно, я завидую вам, что вы имели смелость отправиться в области, которые меня, признаюсь, пугают. Впрочем, я прекрасно понимаю, что, как бы ни подгоняли меня молитвами и постом, как бы ни была благоприятна температура той теплицы, где растет орхидея мистицизма, при всем при том я здесь завяну, а отнюдь не расцвету. Живущий улыбнулся. — Откуда вам знать? Такие дела в один час не делаются и орхидея ваша за один день не распускается; по этому пути идут до того медленно, что подвиги умерщвления плоти рассасываются, тяготы распределяются на долгие годы, и сносишь их, в общем-то, легко. Как правило, чтобы преодолеть расстояние, отделяющее нас от Творца, надо переступить три ступени науки христианского совершенства — мистики; должно пройти путем очищения, путем озарения, путем единения, и вот тогда, достигнув Единого Блага, растворишься в нем. Эти три большие фазы жизни аскета, в свою очередь, делятся на бесчисленное множество этапов; святой Бонавентура эти этапы называет степенями, святая Тереза станциями, святая Анджела — шагами, но это все не так важно; их число и продолжительность могут быть различны, смотря по воле Бога и по темпераменту подвижника. Так или иначе, установлено, что путь души к Богу сперва идет через горные пики и пропасти — это пути очищения; затем тропы остаются узкими, но уже вымощены камнем и проходимы — это тропы озарения; наконец, открывается широкая, почти без уклона дорога единения, в конце которой душа бросается в топку любви, падает в бездну сверхблаженной Вечности! В общем, эти три пути последовательно предназначены для тех, кто начинает упражняться в христианской аскезе, для тех, кто имеет навык, и для тех, наконец, кто приближается к высшей цели: к смерти своего Я и жизни в Боге. Уже давно, — продолжал г-н Брюно, — я поместил свои желания по ту сторону горизонта, а между тем почти не продвинулся: я едва-едва ступил на путь очищения… — А вы не боитесь… как бы это выразиться… материальных недугов… Ведь перейдя пределы созерцания Божества, вы рискуете безвозвратно разрушить свое тело. Опыт вроде бы показывает, что обожествленная душа воздействует на физическое состояние и производит в нем непоправимые разрушения. Живущий улыбнулся: — Во-первых, я, без сомнения, не достигну последней степени посвящения, крайней точки мистической жизни, а потом, предположим, что достигну — тогда чего будут стоить телесные напасти в сравнении с тем, что я получу? К тому же позвольте уверить вас, что эти напасти не так часты и не так неизбежны, как вы, кажется, полагаете. Можно быть великим мистиком, необыкновенным святым, и при том может не быть никаких видимых для окружающих явлений. Вы, например, никогда не думали о том, что левитация — вознесение тела в воздух, — которая представляется сущностью последнего периода восхищения души, на деле очень редка? Кого вы мне назовете? Святую Терезу, святую Христину Удивительную, святого Петра из Алькантара, Доминика Марии-Иисуса, Агнессу Богемскую, Маргариту Святых Даров, блаженную Горардеску Пизанскую и прежде всего святого Иосифа из Купертино,{65} поднимавшегося над землей по собственному желанию. Но таких было десять, двадцать человек на тысячи избранных! Причем заметьте, что это вовсе не доказывает их превосходства над прочими святыми. Святая Тереза прямо говорит об этом: не следует представлять себе, что некто, отмеченный дарами, по одному этому лучше тех, кто их не имеет, ибо Господь наш ведет каждого так, как тому потребно. Именно таково учение Церкви; ее неутомимое благоразумие всего крепче в том, что относится до канонизации усопших. Святость подтверждается духовными достоинствами, а не сверхъестественными делами; даже чудеса для Церкви служат лишь побочным доказательством: она знает, что злой дух умеет им подражать. И вот еще что: в жизнеописаниях блаженных вы найдете гораздо более редкие события, более потрясающие явления, нежели в житиях святых. Эти явления больше мешали им, чем помогали. За их достоинства Церковь беатифицировала их, но отложила — и, безусловно, надолго отложила — возведение их в высший лик святых. В общем, точную теорию об этом предмете сформулировать трудно: ведь если причина, внутреннее действие для всех боговидцев одинаково, то явления ее весьма различны в зависимости от Божьей воли и конституции живущих созерцательной жизнью; разница между мужчинами и женщинами нередко изменяет форму мистического наития, но сущность — нисколько; влияние горнего Духа может производить различные действия, но тем не менее остается одинаковым. Только на одно замечание насчет этих дел можно, пожалуй, осмелиться: женщины обычно проявляют себя более пассивными и менее сдержанными, а мужчина на Божье действие отвечает более резко. — Это наводит меня на мысль, — сказал Дюрталь, — что даже в монашестве встречаются души, словно перепутавшие пол. Святой Франциск Ассизский — весь любовь — имел, пожалуй, женственную душу монашенки, а святая Тереза — самый наблюдательный из психологов — обладала мужественной душой монаха. Их правильней было бы называть «святая Франциск» и «святой Тереза». Г-н Брюно улыбнулся: — Ну а возвращаясь к вашему вопросу, я вовсе не думаю, будто болезнь — неизбежное следствие явлений, вызываемых властным вторжением Таинственного. — Но посмотрите: святая Колетта, блаженная Лидвина, святая Альдегонда,{66} Жанна-Мария Креста, сестра Эммерих и другие — сколько их, проведших жизнь полупарализованными на постели! — Это ничтожное меньшинство. К тому же те святые и блаженные, которых вы мне назвали, были жертвами искупительного замещения, они брали на себя чужие грехи, Бог отвел им эту роль; потому и не удивительно, что они прожили прикованными к ложу, неподвижными, всегда почти мертвыми. Нет, истина в том, что Божий Дух может видоизменять потребности тела, но отнюдь еще тем самым не чрезмерно вредить здоровью, не разрушать его. Я знаю, вы мне ответите страшными словами святой Гильдегарды, словами справедливыми и зловещими: «Господь не обитает в здоровых и сильных телах», а вместе со святой Терезой прибавите, что в последнем из дворцов души часто встречают недуги. Так, но эти святые жены вознеслись на самые вершины жизни и постоянно имели в своей телесной оболочке Божество. Достигнув этой высшей точки, природа становится слишком слабой, чтобы переносить состояние совершенства, и ломается, но я еще и еще говорю: это исключительные случаи, а не правило. К тому же эти болезни, увы, не заразны! — Мне известно, — продолжал живущий, помолчав, — что многие решительно отрицают самое существование мистики, а следовательно, не признают и ее возможного влияния на состояние организма, но опыт сверхъестественной реальности насчитывает много веков, и доказательств больше чем достаточно. Возьмем, к примеру, желудок: ведь он под действием благодати видоизменяется, перестает принимать какую-либо земную пищу, питается одними Святыми Дарами. Святая Екатерина Сиенская, Анджела из Фолиньо много лет жили исключительно причащением; этот дар был также у святой Колетты, святой Лидвины, Доминики Райской, святой Коломбы из Риети, Марии Баньези, Розы Лимской, у святого Петра Алькантарского, у матери Агнессы де Ланжак{67} и у многих других. Обоняние и вкус под действием Неба претерпевают не менее поразительные перемены. Святой Филипп из Нери, святая Анджела, святая Маргарита Кортонская ощущали особый вкус освященного опреснока, когда это уже не хлеб, но Плоть Христова. Святой Пахомий распознавал еретиков по запаху; святые Екатерина Сиенская, Иосиф из Купертино, мать Агнесса от Иисуса по зловонию чувствовали грехи; святой Иларион, святая Лютгарда,{68} Джентилла Равеннская, принюхавшись к встречному, могли рассказать ему о его прегрешениях. Сами же святые при жизни и после смерти распространяют сильнейшие приятные запахи. Когда святые Франциск де Поль и Вентурини Бергамский подавали причастие, от них исходило благоухание. Святой Иосиф из Купертино издавал такое благовоние, что за ним можно было идти по следу; иногда же подобные ароматы источаются в болезни. Гной святого Иоанна Креста и блаженного Диде пах невинно-стойким лилейным запахом; от терциария Бартола, изъеденного проказой, исходил тонкий дух; то же было с Лидвиной, с Идой Лувенской, святой Колеттой, святой Гумилианой, Марией-Викторией Генуэзской, Доминикой Райской: их язвы становились курильницами, откуда шли приятные запахи. Так мы можем друг за другом перечислять все органы и все чувства и убедимся в существовании ошеломительных явлений. Не буду говорить о молитвенных стигматах, которые открываются и закрываются, следуя ходу служб литургического года. А что может быть удивительней, чем дар билокации, раздвоения — способность оказываться одновременно, в один и тот же миг, в двух местах? Между тем, есть много примеров такого невероятного факта; многие из них даже знамениты: между прочим, случаи со святым Антонием Падуанским, святым Франциском Ксаверием,{69} святой Марией Агредской, которая была разом в своем монастыре и в Мексике, где проповедовала неверным, матерью Агнессой, которая не выходила из обители в Ланжаке и при том посетила в Париже господина Олье. И особенно мощным представляется действие Всевышнего, когда оно овладевает главным органом кровообращения — двигателем, перегоняющим кровь по всем частям тела. У многих избранных сердце было так горячо, что белье на них опалялось; огонь, охвативший Урсулу Бенинказу, основательницу ордена театинок,{70} пылал до того сильно, что, когда она отворяла уста, оттуда валил столбом дым; святая Екатерина Генуэзская погружала руки и ноги в холодную воду, и вода закипала; вокруг святого Петра из Алькантары сам собой таял снег, а когда блаженный Герлах{71} однажды, идя зимой через лес, посоветовал своему спутнику, который не мог идти дальше, потому что замерзли ноги, ступать за ним след в след — тот сразу же перестал ощущать холод. Добавлю, что иные из этих явлений, над которым посмеиваются вольнодумцы, случаются вновь и были подтверждены совсем недавно. Белье, опаленное пламенем сердца, доктор Энбер-Гурбейр наблюдал на стигматизированной Пальме д’Ориа, а у Луизы Лато профессор Ролинг, доктор Лефевр, все тот же Энбер-Гурбейр, доктор Ною и международные делегации медиков минута за минутой отмечали самые поразительные явления высшей мистики, которые не может объяснить никакая наука… Но вот мы и пришли, — закончил г-н Брюно. — Простите, я пойду вперед и проведу вас. За разговором они давно вышли из монастырской ограды и напрямик через поля дошли до огромной фермы; когда они вошли во двор, иноки почтительно поклонились им. Живущий обратился к одному из них и попросил оказать любезность позволить им посетить владение. Рясофор провел их в хлев, в конюшню, в курятник; Дюрталя все это не интересовало, он только любовался добродушием этих славных людей. Никто из них не говорил ни слова, но они отвечали на вопросы мимикой и глазами. — А как же они общаются между собой? — спросил Дюрталь, когда они вышли с фермы. — Да вы же сейчас видели: знаками; у них есть азбука, проще, чем у глухонемых, потому что любая мысль, которую они могут передать в ходе общих работ, предусмотрена заранее. Например, слово «стирка» они выражают, постукивая рукой об руку, «овощи» — почесывая указательный палец, сон изображают, подперев склоненную голову кулаком, питье — поднося полусжатую руку ко рту. Так же они поступают и с понятиями более абстрактного содержания. Если поцеловать палец и положить на сердце, это исповедь; святая вода — над соединенным пальцами левой руки чертят крест большим пальцем правой; пост — рот, защипнутый рукой; слово «вчера» заменяется указанием назад через плечо, «стыд» — прикрывают рукой глаза. — Хорошо, а если, скажем, они желают как-то обозначить меня, чужого человека, что они сделают? — Тогда они водят кулаком взад-вперед от груди: это значит «гость». — Ну да, конечно, ведь я пришел издалека: в общем, нехитро и даже вполне понятно. Они молча шли по просеке, выводившей к монастырским полям. Вдруг Дюрталь воскликнул: — Но я не приметил там среди монахов ни брата Анаклета, ни старца Симеона? — Они на ферме не работают: у брата Анаклета послушание на шоколадной фабрике, а брат Симеон ходит за свиньями; оба трудятся в монастырской ограде. Если угодно, можем зайти пожелать доброго дня брату Симеону. В Париже, — продолжал г-н Брюно, — вы сможете рассказать, что видели настоящего святого, точно такого, какие были в XI веке; он переносит нас во времена Франциска Ассизского; можно сказать, в нем заново воплотился тот поразительный брат Юнипер, о скромных подвигах которого нам повествуют «Цветочки». Вы знаете эту книгу? — Конечно; не считая «Золотой легенды», в ней ясней всего явился дух Средних веков. — Так вот о Симеоне; можно сказать, что это святой редкостной простоты. Вот одно тому свидетельство из тысячи. Несколько месяцев тому назад сижу я у приора, и тут в келью входит брат Симеон. Он говорит, как положено: «Благослови» — так просят благословения говорить; отец Максимин отвечает: «Господи» — это значит, что он говорить разрешил. Брат Симеон подает ему свои очки и говорит, что ничего не видит. «И ничего удивительного, — отвечает ему отец приор, — вы одни и те же очки носите уже лет десять; за это время ваши глаза могли ослабнуть. Не беспокойтесь, мы вам подберем нужный номер». Между тем отец Максимин машинально вертел очки в руках, да вдруг как засмеется и показывает мне пальцы: они все черные. Встал, взял тряпочку, протер очки, надел их опять на нос старику и говорит: «Что, брат Симеон, теперь хорошо видите?» Тот так и ахнул: вижу, говорит, хорошо! Но это лишь одна сторона натуры нашего славного брата Симеона, а другая — любовь к животным. Когда свинье придет пора пороситься, он просит дозволения провести ночь в хлеву, принимает роды, ухаживает за ней, как за дитятей, плачет, когда продают поросят или посылают свиней на бойню. А уж как свинки его обожают! — Поистине, — продолжал живущий, немного помолчав, — Богу всего милее простые души; брата Симеона Он так и осыпает милостями. Только он здесь имеет власть повелевать духами, может устранять и даже предупреждать вред от вражеских обстояний, бывающих в монастыре. Случаются, например, такие странные дела: в одно прекрасное утро все свиньи больные валятся с ног и чуть не подыхают. Тогда брат Симеон — уж он-то знает, откуда такие напасти, — кричит дьяволу: эй, ты, постой-ка, сейчас посчитаемся! Бежит за святой водой, с молитвой окропляет ею стадо, и вся скотина, только что отдававшая концы, вскакивает, и бегает хвостик колечком. Что же до сатанинских вторжений в монастырь, они бывают на самом деле, да еще какие, и часто их удается отразить лишь упорными молитвами и крепчайшим постом; временами сатана почти по всем аббатствам рассеивает бесовские семена, которые неизвестно, как выполоть. Тут ни отец аббат, ни приор, ни все священномонахи не смогли ничего сделать; чтобы изгнать дьявола, понадобилось призвать простого рясофора, а во избежание новых нападений он получил право омывать монастырь святой водой и читать заклинательные молитвы, когда сочтет нужным. Брату Симеону дана власть чувствовать лукавого везде, где он скрывается; он бросается за бесом в погоню, травит его и в конце концов изгоняет. А вот и свинарник, — промолвил г-н Брюно, указав на маленькое здание с палисадником против левого крыла аббатства, — и прибавил: — Только имейте в виду: старый брат хрюкает, как поросенок, но отвечать на ваши вопросы, как и все другие, будет лишь знаками. — Но со скотиной он может разговаривать? — Да, и только с ней. Живущий открыл дверцу; сгорбленный старый монах с усилием поднял голову. — Здравствуйте, брат мой, — сказал г-н Брюно. — Вот привел гостя познакомиться с вашими воспитанниками. Старик радостно заворчал, улыбнулся и знаком пригласил следовать за собой. Он провел их к стойлам. Дюрталь отпрянул назад, оглушенный жутким визгом и невыносимым запахом навоза. Все свиньи при виде брата Симеона встали на дыбы, опершись на барьер, и весело захрюкали. — Ну тише, тише, — ласково проговорил старец, трепля питомцев по рылам; те обнюхивали его и хрюкали пуще прежнего. Брат Симеон потянул Дюрталя за рукав, заставил перегнуться через забор и показал ему огромную, чудовищной величины, курносую свиноматку английской породы, окруженную грудой поросят, наперебой, как бешеные, устремлявшихся к соскам. — Красавица моя, хорошая… ладно, ладно… — шептал старик, поглаживая ее по щетинистым бокам. Свинья же с нежностью смотрела на него маленькими глазками и лизала руки, а когда он отошел, так и взвыла истошным воплем. А брат Симеон осмотрел других воспитанников: хряков с ушами-раковинами раструбом и хвостиками штопором, маток с брюхом, волочащимся по земле, на ножках, чуть ли не вросших в туловище; новорожденных поросяток, жадно присосавшихся к пухлому вымени, и других, постарше, игравших друг с другом в догонялки и с тяжелым сапом валявшихся в грязи. Дюрталь похвалил скотину, и старик изобразил ликование, проведя большой рукой по лбу; потом в ответ на вопрос г-на Брюно, как поживает такая-то свинка, он по очереди обсосал себе пальцы; на замечание, что животные у него на редкость прожорливы, он поднял руки к небу, а затем показал на пустые бачки, приподнял несколько досок, сорвал пучок травы и поднес к губам, похрюкивая, словно с набитой пастью. Затем он вывел посетителей во двор, поставил возле стенки, открыл дверь в другой хлев, а сам отошел в сторону. Роскошный кабан, словно вихрь, вырвался из хлева, перевернул тачку, разбросал кругом себя, как разорвавшийся снаряд, комья земли, затем галопом обежал двор кругом и, наконец, уткнулся рылом в навозную лужу. Потом он плюхнулся туда весь, перевернулся, побарахтался на спине, задрав ножки кверху, и вышел весь черный, гадкий, грязный, как дымоходная труба. А после этого он попятился, радостно протрубил и подбежал ласкаться к брату рясофору, но тот сдержал его. — Какой великолепный у вас кабан! — воскликнул Дюрталь. Брат Симеон обратил к нему увлажненные глаза и со вздохом провел рукой себе по шее. — Это значит, его скоро зарежут, — пояснил г-н Брюно. Старец подтвердил, печально покивав головой. Гости поблагодарили его за добрый прием и расстались. — А представлю себе, как этот человек, исполняющий самую грязную работу, молится в храме, — сказал Дюрталь через некоторое время, — и хочется мне встать на колени и лизать ему руки, как его свиньи! — Брат Симеон уже в ангельском образе, — ответил живущий. — Он живет жизнью единения, его душа целиком погружена в океан божественной сущности. Под этой грубой оболочкой, в этом чахлом теле поселена совершенно белая душа, душа без греха; так по заслугам и Бог его балует. Как я уже говорил вам, брату Симеону дарована вся власть над сатаной, а по временам Господь еще посылает ему способность исцелять больных наложением рук. Он совершает такие же чудесные исцеления, как древние святые. Они замолчали. Послышался колокольный звон, и оба пошли к вечерне. Тут Дюрталь наконец опомнился, постарался собраться с мыслями и остолбенел от изумления. Как медленно идет время в монастыре! Сколько недель он уже провел в обители, сколько дней тому назад подходил к причастию? — так давно, что и не упомнишь! О, за этими стенами жизнь идет за две! Между тем ему совсем не было скучно; он спокойно подчинился суровому режиму и, несмотря на скудость трапез, не испытывал ни мигреней, ни упадка сил. Он, собственно, никогда себя так хорошо не чувствовал! Вот только все не уходило чувство удушья, сдавленного дыхания, многочасовая жгучая меланхолия, смутное беспокойство оттого, что он начал слышать в одной своей личности голоса всей триады — Бога, дьявола и человека. Это не был вожделенный душевный покой; это даже похуже, чем было в Париже, говорил он себе, припоминая сумасшедшее испытание четками, а все же — поди объясни почему — до чего же здесь хорошо!
V
Встав раньше обычного, Дюрталь пошел в церковь. Заутреня отошла, но несколько рясофоров и между ними брат Симеон коленопреклоненно молились на голом полу. Увидев Божьего свинаря, Дюрталь впал в долгое раздумье. Он пытался и не мог проникнуть в святилище души, спрятанной, словно в невидимом храме, за навозным валом тела; у него никак не получалось даже вообразить, в какой еще ограде покоятся привлекательность и кротость этого человека, достигшего самого высшего из состояний, которого может домогаться людская тварь в этом мире. Какой же молитвенной силой он обладает! — говорил он себе, глядя на старца. Он припоминал подробности их вчерашней встречи. А ведь и впрямь, думал он, есть в этом монахе нечто от повадок отца Юнипера, поразительная простота которого пережила века. На ум приходили приключения этого францисканца: однажды товарищи оставили его в монастыре одного, велев приготовить трапезу так, чтобы к их возвращению она была готова. Юнипер подумал так: сколько же времени тратится даром на приготовление пищи — а ведь братья, в свою чреду занятые при этом, не имеют возможности заниматься молитвой! И решил настряпать столько, чтобы всему монастырю этой еды хватило на две недели. Зажег все жаровни, добыл каким-то образом огромные чаны, налил туда воды и побросал навалом: яйца со скорлупой, кур прямо с перьями, овощи, которые тоже не стал чистить, развел огонь такой, что быка можно зажарить, и принялся размешивать мерзопакостное содержимое своих котлов. Когда братья, вернувшись, уселись за столы, отец Юнипер с обгорелым лицом и ошпаренными руками поспешил в трапезную и с радостью стал подавать свой рататуй. Настоятель спросил его, в своем ли он уме, а монах очень удивился, что его диковинное варево никому в рот не идет. Со всем смирением признал он, что желал всего лишь оказать своим братьям услугу, и заплакал горькими слезами, но не потому, что его упрекали за пропавшее монастырское добро, а оттого, что он, презренный, только на то и годен, чтобы портить дары Божьи. Монахи же меж тем улыбались, любуясь этой оргией небесной любви и простотой Юнипера. У брата Симеона достанет смирения и простодушия, думал Дюрталь, чтобы повторить такие великолепные нелепости, но еще больше, чем славного францисканца, он напоминает необыкновенного святого Иосифа из Купертино, о котором поминал вчера г-н Брюно. Этот святой, сам себя именовавший смиренным братом Ослом, был чудным, но придурковатым малым, таким скромным и недалеким, что его гнали отовсюду. Он вечно ходил с раскрытым ртом и спроста стучался во все монастыри, но и там его не принимали. Так он бродяжничал, неспособный даже к самой черной работе. У него, как говорят в народе, руки были не тем концом пришиты: к чему он ни прикасался, все ломалось. Велишь ему принести воды, а он, забывшись в Боге, пойдет неведомо куда, ничего не поняв, и через месяц, когда уж никто не вспомнит, куда его посылали, вдруг явится с кувшином. Его было принял один капуцинский монастырь, но вскоре избавился от него. Святой Иосиф опять пошел наугад блуждать по городам и весям. Был он в другом монастыре, где его поставили смотреть за скотиной, которую он очень любил, да только и там ничего не вышло, а потом он вошел в вечный экстаз, проявил себя как невероятнейший чудотворец, изгонял бесов, исцелял недуги. Это был идиот, великий духом; во всей агиографии не найдется другого такого; кажется, будто он попал в нее как доказательство, что душа соединяется с вечной Премудростью не через премудрость, а через простоту. Вот и брат Симеон любит зверей и скотину, думал Дюрталь, глядя на старца, вот и он преследует лукавого и производит исцеления своей святостью. Ныне, когда все люди одержимы лишь мыслями о роскоши и похоти, душа этого инока, душа светлая, нагая, без шелухи, кажется чем-то необычайным. Ему уж стукнуло восемьдесят, и он с малолетства ведет несложную жизнь трапписта; скорей всего, он и не знает, который год на дворе, на какой широте живет, во Франции он или в Америке: ведь он никогда не читал газет, а слухи извне сюда тоже не доходят. Он даже не представляет себе вкуса мяса и вина, не имеет понятия о деньгах — ни о виде их, ни о ценности; он не может вообразить, как устроена женщина; разве что гениталии кабанов да роды свиноматок, быть может, дают ему догадаться, в чем суть и каковы последствия плотского греха. Он живет один, сосредоточившись в безмолвии и схоронившись в безвестности; он размышляет о подвигах отцов-пустынников, про которые ему читают всякий раз во время еды; слыша про их неутомимый пост, он стыдится своей скудной трапезы, быть может, считает себя виноватым! О, этот брат Симеон безгрешен! Он не знает ничего, что знаем мы, и знает то, чего никто не знает; его обучал Сам Иисус Христос, наставивший его в Своих непостижимых для нас истинах, сформировал его душу по образу и подобию Всевышнего, и вплавился в нее, и обладает ею, и зовет ее к единению с Блаженством! Это вам не ханжи да богомолки, да и нынешний католицизм столь же далек от мистики: ведь решительно, насколько высока мистика, настолько же приземлена эта религия! Именно так. Ныне католик не напрягает все свои силы, чтобы достичь немыслимой цели, не образует свою душу в виде голубином — по той форме, какую Средневековье давало своим дароносицам, — не претворяет ее в гостию по подобию самого Духа Святого, а всего лишь старается запрятать подальше совесть, силится похитрить с Судией, страшась ада, ведущего ко спасению. Он действует не из любви, а из страха, и это он при помощи своего духовенства и при поддержке безмозглой литературы с бессовестной прессой превратил религию в смягченный фетишизм канаков,{72} в нелепый культ, весь состоящий из статуэток и церковных кружек, из свечек и олеографий; это он материализовал идеал Любви, выдумав чисто физическое поклонение Сердцу Христову! Какая пошлость соображения! — сделал вывод Дюрталь. Он уже вышел из церкви бродил по берегам большого пруда, глядя на тростники, колыхавшиеся, как зеленя в поле. Потом, наклонившись, он углядел старую обшарпанную голубую лодку с полустертым названием «Аллилуйя»; суденышко пряталось под купами листьев, перевитых колокольчиками вьюнка — цветка символического, ибо он растворен, как чаша, и матово-бел, как облатка. Горьковато-нежный запах воды пьянил Дюрталя. Ах, думал он, вот же в чем счастье: затвориться в почти недоступном месте, в крепкой темнице, где всегда открыта часовня для молитвы… А вот и брат Анаклет! — Монах, согнувшись, нес большую корзину. Он прошел мимо Дюрталя, улыбнувшись ему глазами, и пошел дальше, а тот думал: этот человек искренний друг мне; когда я страдал перед исповедью, он все мне сказал единым взглядом. Сейчас он понимает, что мне уже легче, что я веселей, и он тоже рад, и говорит мне это улыбкой, а я никогда не поговорю с ним, никогда не поблагодарю его, никогда даже не узнаю, кто он такой — быть может, никогда больше и не увижу его! Я уеду отсюда, и оставлю здесь друга, к которому и сам чувствую привязанность, а мы не обменялись ни единым жестом! В сущности, раздумывал он, не эта ли абсолютная сдержанность делает нашу дружбу такой совершенной? В вечном отдалении она подернется дымкой, станет таинственной и неутоленной, станет еще вернее… Перебирая такие резоны, Дюрталь направился к церкви, где прозвонили к дневной службе, а оттуда прошел в трапезную. Там он с удивлением увидел на столе лишь один прибор. А что случилось с господином Брюно? Нет, все-таки я его подожду немного, подумал Дюрталь, а чтобы убить время, с любопытством стал читать печатную листовку на стене. Это было своего рода предупреждение; оно начиналось так:Вечность! Люди, вы грешны, вы все умрете. Так будьте же всегда готовы. Бодрствуйте, непрестанно молитесь, никогда не забывайте о четырех последних вещах, каковые суть: Смерть, она же есть дверь Вечности; Суд, иже судит о Вечности; Ад, жилище Вечности осуждения; Рай, жилище Вечности блаженства.Отец Этьен оторвал Дюрталя от чтения и сказал, что г-н Брюно поехал в Сен-Ландри кое-чего купить и вернется только перед отходом ко сну. — Так что трапезуйте и поторопитесь, а то все остынет. — А как себя чувствует отец аббат? — Получше; пока он еще в келье, но послезавтра уже надеется ненадолго выйти побыть хотя бы на некоторых службах. Поклонившись, монах удалился. Дюрталь сел за стол, съел бобовый суп, затем яйцо в мешочек и ложку теплых бобов, а когда вышел на улицу, сразу прошел в капеллу и там преклонил колени перед алтарем Богоматери, но тут же им овладел дух кощунства: ему хотелось во что бы то ни стало изрыгнуть хулу на Приснодеву, мерещилась злая радость, острое наслаждение, если он осквернит Ее; и он крепился, плотно прижав ладони к лицу, чтобы сдержать площадные ругательства, рвавшиеся с губ и уже готовые вырваться. Ему было гадко и противно, он не поддавался этой гнусности, в ужасе отталкивал ее, но побуждение было настолько неудержимо, что он, чтобы смолчать, был принужден крепко, до крови закусывать себе губы. Это уж чересчур — слышать, как в тебе бурчит нечто прямо противоположное твоим мыслям, думал он; но как он ни призывал всю свою волю на помощь, чувствовал, что не удержится, что все-таки изблюет эти нечистоты, и бросился вон, помышляя, что, коли на то пошло, такую мерзость лучше уж извергнуть вне храма. Но едва он вышел из церкви, богохульное безумие прекратилось; подивившись нежданной силе этого приступа, Дюрталь пошел к пруду. Тут мало-помалу к нему стало подступать необъяснимое ощущение грозящей беды. Как зверь, что чует невидимого врага, он осторожно заглянул внутрь себя и разглядел в конце концов черную точку на горизонте души; и вдруг, не успел он опомниться, отдать себе отчет в подступающей опасности, точка разрослась и накрыла его тьмой: света в душе не осталось. Там наступило тревожное затишье, как перед грозой, и в беспокойной глубине, словно капли дождя, забарабанили аргументы. После причастия стало тяжело — так это же понятно почему! Разве он не вел себя так, что его причащение не могло не стать недостойным? Ясно, что вел. Он не смял, не стиснул себя, а всю вторую половину дня провел в сомнениях и гневе; еще вечером недостойно судил о духовном лице, вся вина которого была в страсти забавляться плоскими шуточками. Исповедался ли он в этой несправедливости, в неуважении к сану? Да ничуть не бывало; а после причащения затворился ли он, как это следует, с глазу на глаз с Хозяином пира? И подавно нет. Дюрталь бросил Его, перестал Им заниматься; он сбежал из своего жилища, шлялся по лесам, даже службу церковную пропустил! «Нет, погоди, погоди, все эти упреки — нелепость! Я приобщился, каков бы ни был, по прямому благословению своего духовника, а прогулки я не выпрашивал, и не собирался вовсе никуда идти! Это г-н Брюно по согласию с аббатом обители решил, что она мне будет полезна; так что я ни в чем не виноват и ругать себя мне не за что». «А если так, ты хочешь сказать, не лучше ли было бы провести этот день в церкви за молитвой?» «Э нет, — возопил он про себя, — если так рассуждать, нельзя будет ни есть, ни спать, ни ходить, потому что следует всегда оставаться при храме. Всему свое время, какого лешего!» — «Так-то так, но более усердный на твоем месте отказался бы от этой прогулки как раз потому, что ему хотелось пойти: избежал бы ее ради терпения, ради покаяния». — «И это ясно, однако…» Уныние мучило его; он сказал себе: «Факт в том, что я мог бы благочестивее провести вчера конец дня». Отсюда до мысли о том, что он весь день провел дурно, оставался только шаг, и Дюрталь сделал его. Битый час он бичевал себя, весь в испарине от отчаяния, обвинял себя в бывших и небывших неправдах, и зашел по этому пути так далеко, что наконец встряхнулся и понял, что опять зашел в дебри. Он припомнил историю с четками и обругал себя, что опять позволил бесу играть собой. Дюрталь перевел дыхание, начал было приходить в себя, но тут начался новый опасный приступ, совсем с другой стороны. На сей раз аргументы не сочились по капельке, а хлынули в душу проливным дождем, лавиной. Гроза, к которой поток самообвинений был только прелюдией, разразилась во всю мочь, и в панике первого момента, в миг ошеломления от бури враг вывел из засады свои батареи, нанес удар в самое сердце. Он не вынес никакого блага из этого причащения… Да ведь он уже не мальчик, ну неужели он действительно верил, что от того, что священник произнес над бесквасным хлебом пять латинских слов, хлеб этот действительно пресуществился в плоть Христову? Ребенку еще простительно верить в подобные байки, но разменять пятый десяток и слушать эту ахинею — это слишком, это, пожалуй, и придурью пахнет! И градом грянули вопросы: что такое хлеб, который прежде был пшеницей, а после имеет лишь вид пшеницы? Что такое плоть, которая не видна и не чувствуется на вкус? Что такое тело, столь вездесущее, что является одновременно на алтарях различных стран? Что такое сила, исчезающая, если гостия сделана не из чистого зерна? И ливень превратился в потоп, затопивший его; впрочем, как непромокаемый плащ благочестия, вера, которую он приобрел неведомо как, осталась неколебимой — пропала из виду под потоками вопрошаний, но с места не сдвинулась. Тогда он восстал и спросил себя: да что это все доказывает, кроме того, что таинственный мрак Причащения непроницаем? К тому же будь тайна постижима, то и не была бы божественной. Если бы Бога, Которому мы служим, можно было постичь разумом, сказал Таулер, он бы не стоил, чтобы Ему служили; также и в «Подражании» в конце четвертой главы прямо говорится, что, если бы дела Божьи были таковы, что человеческое разумение могло бы без труда уловить их, они бы уже не были чудесными и не могли бы считаться непогрешимыми. Насмешливый голос возразил: «Вот это называется ответ: признать, что ответа нет». «Вообще-то, — отвечал Дюрталь, поразмыслив, — бывал я и на спиритических сеансах, причем всякий обман исключался. Очевидно было, что не флюиды присутствующих и не тайные мысли людей, окружавших стол, диктовали ответы: выстукивая буквы, столик вдруг начинал говорить по-английски, хотя никто из бывших там этого языка не знал, а через несколько минут он обратился ко мне (причем я сидел далеко от него, следовательно, к нему не прикасался) и по-французски напомнил некоторые факты, о которых я сам забыл, а больше никто знать не мог. Так что я вынужден признать здесь сверхъестественный элемент, для маскировки пользующийся предметом мебели, и согласиться, что это было, возможно, вызывание мертвых, а может быть, и, кажется мне, вероятнее, доказательство существования бесов. А значит, если черт может болтать и сплетничать, сидя в ножке стола, то ничуть не удивительней, ничуть не невозможней, если Христос заменяет Собой хлеб. То и другое явление равно смущают чувства, но если одно из них неоспоримо — а спиритизмнесомненно неоспорим, — какие могут быть мотивы отрицать правдоподобие другого, к тому же подтверждаемого тысячами святых? В сущности, — продолжал он, улыбнувшись, — такое доказательство можно в двух смыслах назвать доказательством «от противного»: тайна Евхаристии возвышенна, а спиритизм — совсем иное; в конечном счете это просто сортир сверхъестественного, выгребная яма вечности!» «Так не одна же эта загадка, — продолжал голос, — все католические учения по той же мерке шиты! Посмотри на свою религию с самого начала и скажи: не из нелепой ли догмы она исходит? Вот Бог, бесконечно совершенный, бесконечно благой, от Которого ничто не скрыто: ни прошлое, ни настоящее, ни будущее; значит, Он знал, что Ева согрешит; значит, одно из двух: или Он не благ, поскольку подверг ее такому испытанию, или не был уверен в ее падении, а в таком случае — не всеведущ и не совершенен». Дюрталь ничего не отвечал на эту дилемму: ее и в самом деле нелегко разрешить. Впрочем, подумал он, из этих двух возможностей вторую можно сразу отвести, ибо пустое дело помышлять о будущем, когда говорится о Боге; мы судим Его своим жалким разумением, а для Него ни прошлого, ни настоящего, ни будущего нет: Он видит их все разом в нетварном свете в один и тот же миг. Для Него расстояния не существует и промежутки ничто; вчера, сегодня, завтра — все одно. Так что сомневаться в победе Змия он не мог. Итак, мы урезаем дилемму, и она разваливается. «Ладно, остается вторая половина. Как же быть с Его благостью?» «Благостью… — Тщетно Дюрталь пытался притянуть все аргументы, связанные со свободой воли или с обетованным пришествием Спасителя: он был вынужден признаться, что такие ответы слабоваты». А голос настаивал сильнее: «Так ты признаешь первородный грех?» «Его я не могу не признавать, потому что он существует. Что такое наследственность, атавизм, если не ужасный грех прародителей, иначе выраженный?» «И ты считаешь справедливым, что невинные поколения вновь и вновь отвечают за прегрешение первого человека?» Дюрталь не отвечал, и голос стал тихонько нашептывать: — Это такой подлый закон, что сам Создатель, кажется, устыдился его, а чтобы наказать Себя за жестокость и более никогда не наказывать им Свое творение, Он пожелал пострадать на кресте и искупить Свое преступление в Лице собственного Сына! — Однако, — в отчаянье вскричал Дюрталь, — Бог не мог совершить преступление и Сам наказать Себя; будь так, Христос был бы Спасителем собственного Отца, а не нашим! Понемногу он обретал равновесие; неспешно прочел Апостольский символ, но возражения, бившие в него, множились и теснились. «Ясно одно, — сказал он себе, — и притом совершенно: во мне сейчас живут двое. Я могу следовать своим рассуждениям, но с другой стороны, слышу софизмы, которые нашептывает мне мой двойник. И такое раздвоение никогда не являлось мне столь четко». При этом размышлении натиск ослаб, как будто обнаруженный враг ударился в бегство. Но ничуть не бывало: после очень краткой передышки штурм возобновился с новой стороны. — А ты уверен, что не обманываешься, не занимаешься самовнушением? Ты хотел поверить и потому в конце концов внедрил в себя предвзятую идею, обозвав ее благодатью, а теперь вокруг нее вышиваешь кружева. Ты жалуешься, что после причастия не ощутил чувственной радости? Так это значит просто, что ты не был достаточно сосредоточен или что твое воображение, утомленное позавчерашним буйством, оказалось неспособным разыграть для тебя ту безумную феерию, которую ты желал перед мессой. Впрочем, ты должен был сам знать: в таких делах все зависит от интенсивности фебрильного напряжения мозга и чувств? С женщинами так и бывает — они вдаются в обман легче мужчин: тут лишний раз проявляется разница полов; Христос дает Себя телесно под видом хлеба, это мистический брак, божественный союз, воспринятый через уста; поистине Он — Супруг женщин, а мы, мужчины, сами того не желая, магнитом своей души больше стремимся к Божьей Матери. Но она, в отличие от Сына, не отдается нам, не присутствует в составе Жертвы; Ею невозможно обладать — Она наша Мать, но не Супруга, как Он становится Супругом дев. Тогда понятно, отчего у женщин сильней захватывает дух и почему они лучше предаются Богу, легче представляют себя любимыми. Да и господин Брюно тебе вчера говорил: женщина пассивнее, меньше сопротивляется воздействию свыше… — Ну а мне-то что до этого? И что из этого? Чем больше любишь, тем больше любим? Но если в земной жизни эта аксиома неверна, то у Бога верна несомненно; да и чудовищно было бы, если бы Господь с душой монахини-клариссы обходился не лучше, чем с моей! Опять наступила минутка покоя; атакующий извернулся и обрушился на новый пункт. — И что же, ты веришь в вечные муки? Думаешь, Бог более жесток, чем ты сам — Бог, создавший человека, не спросив его, желает ли он родиться, и потом, проковыляв по этой жизни, быть еще безжалостнее истязаемым после смерти? Так вот: если бы ты сам увидел, как мучают твоего злейшего врага, то пожалел бы его, попросил бы для него милости. Ты простишь, а Всемогущий останется неумолим? Признайся, странное у тебя о Нем представление. Дюрталь замолчал; адские мучения, длящиеся до бесконечности, действительно смущали его. Ответ, что муки по справедливости должны быть вечными, потому что и награда такова же, не был решительным: ведь свойством совершенной благости должно было бы сокращать муки и длить радости. Да ведь святая Екатерина Сиенская пролила свет на этот вопрос, ответил он себе. Она прекрасно излагает, что Бог посылает луч Своего милосердия, ток Своей жалости в преисподнюю, что ни один осужденный не страдает так, как заслуживал бы, что наказание не прекратится, но может изменяться, смягчаться, становиться с течением времени менее строгим и сильным. Она еще отмечает, что в миг расставания с телом душа или упорствует, или уступает; если она остается окаменелой, не проявляет никакого сожаления о своих прегрешениях, то они не могут быть ей оставлены, ибо после смерти свободы выбора более не существует и воля, бывшая при человеке при исходе из мира сего остается неизменной. Если же она не упорствует в чувстве нераскаяния, то часть кары, без всякого сомнения, снимется с нее; следовательно, вековечной геенне, строго говоря, будут преданы лишь те, кто не захотел, покуда есть еще время, вернуться к покаянию, кто не желает отказаться от своей неправды. Еще скажем к этому, что, согласно святой Екатерине, Бог и нужды не имеет отправлять навек оскверненную душу в ад: она идет туда сама, влекомая самой природой своего греха, стремится туда, словно к своему благу, так сказать, естественным образом туда погружается. Словом, можно себе представить очень маленький ад и очень большое чистилище; можно вообразить, что ад населен мало, что он предназначен лишь для необычайных злодейств и что в действительности толпа бесплотных душ теснится в чистилище и там претерпевает исправительные наказания соответственно дурным поступкам, которых они желали здесь. В этих идеях нет ничего невозможного, зато они примиряют идеи милосердия и справедливости. — Превосходно! — насмешливо откликнулся голос. — Так значит, человеку ни к чему себя сдерживать: он может воровать, грабить, убить отца, обесчестить дочь, лишь бы раскаялся в последнюю минуту — и он спасен! — Да нет же, сокрушение отводит вечность мук, а не самую муку, каждый должен быть наказан или вознагражден по делам своим. Тот, кто осквернил себя отцеубийством или кровосмешением, перенесет более тяжкую и более долгую кару, чем тот, кто этого не совершал, — в искупительном страдании, в скорбях возмездия нет равенства. К тому же мысль о пути очищения после смерти так естественна, так очевидна, что ее принимают все религии. Для них душа — своего рода аэростат, который не может подняться, достичь своих целей в пространстве, пока не сбросит балласт. В восточных верованиях душа ради избавления от скверны перевоплощается — очищается в новых телах, как клинок начинает заново блестеть, побывав в ножнах. Для нас же, католиков, она не претерпевает на земле никаких новых аватар, но облегчается, избавляется от ржавчины, проясняется в чистилище, где Бог преобразует ее, привлекает к Себе, мало-помалу извлекает из тины грехов, пока она не получает возможности вознестись и потеряться в Нем. И чтобы покончить с неприятным вопросом о вечных муках, как не понять, что божественное правосудие не спешит, долго медлит с окончательным приговором. Человечество по большей части состоит из бессознательных злодеев и из дураков, даже не отдающих себе отчета в значении своих прегрешений. Этих спасет совершенное непонимание. Другие же, которые сквернятся, сознавая, что делают, несомненно, более виновны, но общество, не переносящее выдающихся людей, само берет на себя их наказание: таких унижают, гонят, а если так, позволительно надеяться, что Господь пожалеет несчастные души, презренные и растоптанные в их земной жизни стадом баранов. — Ну, тогда всего лучше быть дураком: ни на земле не мучиться, ни на небе. — О, это конечно! Да и о чем мы спорим: мы же ни малейшего представления не можем иметь о том, что такое бесконечная Божия справедливость! — Хватит, наконец, довели меня твои препирательства! — Он попытался отвлечься мыслью от этих предметов, хотел, чтобы развеять наваждение, перенестись в Париж, но не прошло пяти минут, как двойник опять принялся за свое. Он вновь прицепился к уже обсужденной хромой дилемме: опять напал на благость Творца по причине грехов людей. — Ведь и чистилище ни в какие ворота не лезет, — твердил он. — Бог, между прочим, знал, что человек поддастся соблазнам, так почему Он терпит их, а главное, почему наказывает? Это ли доброта, это ли справедливость? — Да это ж софизм! — сердито воскликнул Дюрталь. — Бог каждому оставляет свободу; никому Он не посылает искушений свыше сил. Если Он кое-когда попускает, чтобы соблазн был сильнее наших средств к сопротивлению, так это чтобы призвать нас к смирению, привести к Себе через раскаяние или по другим причинам, которых мы не знаем, а Ему не нужно сообщать нам о них. Возможно, что в таком случае прегрешения наши судятся иначе, нежели совершенные по доброй воле… — Свобода человека! Хороша свобода, давай-ка и о ней потолкуем! А наследственность, а среда, а психические и церебральные заболевания? Скажешь, что человек, движимый силами болезни, пораженный наследственными недугами, отвечает за свои поступки? — Да кто же говорит, что в таком случае Вышний Суд эти поступки ему вменит? В конце концов, это идиотизм — вечно сравнивать Божье правосудие с человеческим уголовным преследованием! Как раз напротив: человеческие приговоры часто бывают столь скверны, что сами свидетельствуют о существовании иной правды. Министерство юстиции лучше всякой теодицеи убеждает в существовании Бога: ведь без Него как можно было бы удовлетворить инстинкт справедливости, укорененный в нас настолько, что и звери его имеют? — Но при всем при том, — ответил голос, — характер у человека бывает разный смотря по тому, хорошо ли работает его желудок; злословие, гнев, зависть — все это застоявшаяся желчь или дурное пищеварение; добродушие, веселость — свободное кровообращение, благоприятное развитие тела; все мистики подвержены анемоневрозу, экстатики — это дурно питающиеся истерики, таких полно в домах умалишенных; когда у них начинаются видения, их избавляет наука. Но тут Дюрталь остановился; материалистические аргументы его мало задевали, ибо ни один из них не выдерживал критики; все они смешивали функцию с органом, жильца с жилищем, время с часами. Их утверждения не имели под собой никакого основания. Уподоблять благодатную прозорливость и несравненный гений святой Терезы бреду нимфоманок и полоумных — это же такая тупость, такой кретинизм, что остается только рассмеяться! Тайна мистики осталась неприкосновенной; ни один врач не смог обнаружить психею в круглых и веретенообразных клетках, в белом или сером веществе мозга. Доктора так ли, сяк ли определили, какими органами пользуется душа, чтобы дергать за ниточки ту марионетку, которую обречена приводить в движение, но сама она оставалась невидимой: душа уходила, а эскулапы после смерти доламывали камни ее жилища. — Ну нет, уж эта брехня на меня никак не действует, — заключил Дюрталь. — Так может, вот что подействует? Веришь ли ты в осмысленность жизни, в пользу этой бесконечной цепи, перетаскивания страданий, которые для большинства продлятся даже после смерти? Истинная благость была бы в том, чтобы ничего не придумывать, ничего не творить, оставить все в покое, на своих местах, в небытии! Атакующий кружил на месте, приходя после разнообразных пируэтов все на тот же плацдарм. Дюрталь повесил нос: этот аргумент выбивал его из седла; все возражения, которые приходили на ум, были невероятно слабы, а наименее этичное — то, что мы не имеем права судить, ибо не можем проникнуть в подробности божественного замысла, поскольку никак не в состоянии обозреть его целиком, не могла одолеть ужасного изречения Шопенгауэра: «Если Бог сотворил мир, не хотел бы я быть этим Богом, ибо несчастья мира разорвали бы мне сердце!» «Спора нет, — размышлял Дюрталь. — Я могу понять, что страдание — истинный антисептик души, но вынужден спрашивать себя, отчего Творец не придумал менее жестокого средства очистить нас. О, как подумаю о страданиях живущих в домах умалишенных или в приютах для больных, я готов взбунтоваться, отречься от всего! И если бы еще страдание давало нам иммунитет от будущих проступков или выжигало проступки совершенные, это было бы еще понятно, так нет же — оно падает безразлично на добрых и на злых: оно слепо. Лучшее тому доказательство — Дева Мария, пренепорочная; Она не должна была, как Сын Ее, пострадать за нас всех. Значит, Она не должна была и терпеть, но ведь и Она у подножья Голгофы перенесла пытку, постановленную этим жутким законом!» — Так, — продолжал Дюрталь вслух, секунду поразмыслив, — но ведь тогда, если невинная Дева дала такой пример, по какому же праву мы, грешники, будем жаловаться? Нет, надо все же решиться остаться во мраке, жить в окружении загадок. Деньги, любовь — ничего в них ясного нет; случай, если он существует, так же таинствен, как Провидение, и еще более непроницаем! Бог, по крайней мере, может быть причиной неизвестности, ключом к разгадке. Причиной, которая сама неизвестна, ключом, который ничего не открывает! Ну право же надоедает, когда тебя так гоняют во всех смыслах слова! Довольно; и вообще это вопросы, на которые может ответить только богослов, а у меня этого оружия нет. Силы неравны, я больше не отвечаю. И он не мог не услышать, как внутри него кто-то глухо прохихикал. Дюрталь вышел из сада и пошел к церкви, но из страха, что его опять застигнет кощунственное безумие, не дошел до нее. Не зная, куда податься дальше, он вернулся в келью, повторяя про себя: «Да, но как же оборониться от этих словопрений, идущих неведомо откуда. Как я ни кричу себе: замолчи! — тот, другой, все твердит и твердит свое!» Вернувшись в комнату, он решил помолиться и упал на колени перед постелью. Тут начался кошмар. Это положение навело на воспоминания о Флоранс, как она лежала поперек ложа… Он вскочил, и старые извращения ожили в нем. Он опять думал об этой девке, о ее причудливых привычках: она любила кусать за ухо, пила одеколон из рюмок, бросала надкушенные тартинки с икрой и финики. Такая распущенная, такая странная, и, конечно, дурочка, но с такой темной глубиной! — А если бы она тут лежала на кровати нагая перед тобой, что бы ты сделал? — Постарался бы устоять перед соблазном… — робко пробормотал он. — Не лги, не лги, признайся: ты бы набросился на нее, ты бы и обращение свое, и монастырь, и все послал бы к дьяволу! Дюрталь побледнел; возможность оказаться малодушным мучила его. Причаститься и не быть уверенным в будущем, не доверять себе — это же чуть ли не святотатство, думал он. И он сломался. До этого момента он держался, но явление Флоранс скосило его. Он в отчаянье рухнул на стул — не зная, что делать дальше, собирал остатки мужества, чтобы спуститься в церковь к началу службы. Там его волочило, как проволоку, терзало, как клещами; его осаждали непристойные помыслы; он был противен сам себе, чувствовал, что воля его иссякает, что она изранена со всех сторон. Выйдя же на улицу, он остановился в растерянности, не зная, куда идти: в келье приходили плотские помыслы, в парке — искушения против веры. «Все это я таскаю с собой, вскричал он про себя. Боже мой, Боже мой, еще вчера я был так спокоен!» Он наугад зашагал по одной из аллей, и тут случилось нечто новое. До сей поры в его внутренней атмосфере то шел дождь самообвинений, то бушевала буря сомнений, то раздавался громовой удар сладострастия — теперь наступила тишина и смерть. Совершенная тьма сгустилась в нем. Он вслепую ощупывал свою душу и чувствовал, что она не движется, ничего не сознает, почти окоченела. Тело его было живо и здорово, но рассудок, способность суждения и прочие душевные способности постепенно затихали и застывали. В его существе происходил процесс, аналогичный и вместе с тем противоположный тому, что оказывает на организм яд кураре, разносясь с кровотоком: члены парализуются, ничего не болит, но подступает холод, и, наконец, душа заживо погребается в мертвом теле; здесь же тело было живо, но душа мертва. Подгоняемый страхом, он величайшим усилием избавился от оцепенения, хотел осмотреть себя, увидеть, что с ним, но, как моряк, спускающийся в трюм на корабле, где объявилась течь, вынужден был отпрянуть: лестница обрывалась, под нижней ступенькой была бездна. Как ни колотился в сердце ужас, он, завороженный, склонился над зияющей дырой и, убедившись, что все черно, начал нечто различать в этой темноте; в закатном свете, в разреженном воздухе он увидел в глубине самого себя панораму своей души — сумеречную пустыню, у горизонта объятую ночью. В неверном освещении она была похожа на безлесную дюну, на болото, усыпанное булыжниками и пеплом; место, где произрастали грехи, выкорчеванные духовником, было видно, однако там ничего не росло, кроме еще стлавшейся по земле поросли старых пороков. Мочи больше не было; он знал, что у него не станет сил выполоть последние корешки, а при мысли, что надо еще засеять бесплодную землю добродетелями, вспахать ее, унавозить мертвую почву, руки совсем опускались. Он испытывал неспособность к любой работе, и вместе с тем — уверенность, что Бог отринул его, что Он ему более не помогает. И эта убежденность совсем его подорвала. Чувство было невыразимо, ибо ничто не может передать тревогу и тоску этого состояния: чтобы понять его, через него надо пройти. Разве что ужас беспомощного ребенка, навсегда отнятого у матери и брошенного вечером среди безлюдного поля, мог бы дать о нем какое-то представление, да и то ребенок, поскольку мал, побьется в отчаянье да и успокоится, отвлечется от своего горя, позабудет об окружающей опасности, а в этом состоянии безнадежность полна и абсолютна, мысль об отверженности недвижна, кошмар упорен — его ничто не ослабляло, ничто не утишало. Нет смелости двинуться ни вперед, ни назад; хочется окопаться, опустить голову и ждать конца неизвестно чего, удостовериться, что неизвестные, но ощущаемые угрозы прошли стороной. Так было и с Дюрталем; он не мог повернуть обратно, ибо дорога, с которой он ушел, была ему ненавистна. Он бы лучше помер, чем вернулся в Париж за плотскими утехами, вновь переживать часы разгула и скуки; итак, попятного пути не было, но он не мог идти и вперед: этот маршрут вел в тупик. Земля его отторгала, а небо в тот же миг закрывалось. Он лежал навзничь на полдороге, ничего не видя, во мраке, сам не понимая, где он. И еще тяжелее было это состояние оттого, что он совершенно не понимал причин, к нему приведших; отчаянье усиливалось памятью о прежних милостях. Дюрталь припоминал, как сладки были первые призывы, как ласково касался его Господь, как он встретил священника-одиночку, как тот его послал в обитель траппистов, как, более того, легко оказалось приспособиться к монастырской жизни; припоминал отпущение грехов с его поистине ощутимыми последствиями, тот скорый и четкий ответ, что он может причащаться без опасенья. И вот внезапно, без всякого, собственно говоря, падения с его стороны, Тот, Кто до сей поры вел его за руку, отказывался предшествовать ему, оставлял во тьме и не говорил ни слова. Все кончено, подумал он, я осужден болтаться тут, как никому не нужное отребье; некуда мне приютиться, ибо мир противен мне, а я отвратителен Богу. Господи, Господи, вспомни о Гефсиманском саде, как трагически отступил от Тебя Отец, которого Ты молил в несказанной скорби! — Крик его раздался в тишине; он изнемог, но все-таки хотел что-то предпринять против этого отчаяния, попытаться убежать от безнадежности: он молился, и вновь совершенно ясно ощутил, что прошения его не доходят, что их даже и не слышат. Он призвал к Радости скорбящим, к Предстательнице нашей и убедился, что Пречистая тоже его не слышит. И он умолк, потеряв душевные силы, и тьма сгустилась еще больше; и непроглядная ночь накрыла его. Он уже не страдал в собственном смысле слова, но это было еще хуже: уничтожение в пустоте, головокружение человека, наклонившегося над бездной, а лоскутки рассудка, которые он мог подобрать и сложить в этом хаосе, разрастаясь, уводили в уныние. Он искал, какие прегрешения, совершенные после причастия, могли быть причиной подобного испытания, и не находил. В итоге он стал раздувать свои мелкие грехи, накачивать свое нетерпение; пытаясь убедить себя, что образ Флоранс в келье был ему отчасти приятен, он стал столь жестоко пытать себя, что этим каленым железом пробудил обмершую было душу и привел ее в то состояние острого самобичевания, в котором она была, когда разразился кризис. Но в смуте раздумий не терял досадной способности к анализу. На глазок оценивал сам себя и говорил: «Я подобен цирковому ковру; меня топчут то уходящие скорби, то возвращающиеся. Сомнения только с виду тянулись цепочкой, а в общем-то, кружились по кругу. А теперь вновь пришли угрызения совести, от которых я, вроде бы, отделался, и преследуют меня». Как все это объяснить? Кто наслал на него эту пытку: Сатана или Бог? Не было сомнения, что враг жестоко трепал его: сама природа этих атак выдавала его пошиб; все так, но чем объяснить эту богооставленность? Ведь не мог же дьявол помешать Богу помогать ему! Пришлось Дюрталю заключить, что тот его мучит, а Этому он стал так неинтересен, что Он пустил дело на самотек и окончательно отступил от него. Такое заключение, выведенное из бесспорных наблюдений, такая достоверность разума добила его. Он закричал от ужаса, потом уставился в пруд, желая броситься туда, ведь утонуть, умереть будет лучше, чем жить дальше. Потом он вздрогнул и убежал со своей тоской, спасаясь, в рощу, от тянувшей его воды. Думал, что долгой пешей прогулкой разгонит отчаяние, но он утомился, а оно нет; наконец, разбитый и сломленный, он очутился за столом трапезной. Поглядел на свою тарелку: есть не было мочи, пить — охоты. Он задыхался и выбивался из сил, не сходя с места. Встал, пошел бродить по двору до повечерия: где-где, а в капелле он рассчитывал найти хоть какое-то облегчение. Но там-то и случилась кульминация; мина взорвалась — душа, под которую с утра шел подкоп, разлетелась в клочья. В великой скорби, на коленях Дюрталь все еще пытался вымолить подмогу, но она не приходила; он задыхался, заваленный во рве столь глубоком, под сводом столь прочным, что ни один призыв не прорывался, ни один звук не раздавался. Теряя последнюю отвагу, он заплакал, закрыв лицо руками, и в то время, как он жаловался Богу, зачем Тот привел его в обитель на такие муки, на него напали гнусные видения. Какие-то флюиды протекали перед ним, заполняя пространство приапическими сценами. Он видел их не телесными глазами — галлюцинации не было, — но вне себя он их ощущал, а в себе примечал: словом, прикосновение было внешним, а видение внутренним. Дюрталь постарался сосредоточить внимание на статуе святого Иосифа, перед которой стоял, и силился глядеть только на нее, но глаза его словно выворачивались внутрь: он глядел только туда, а там виделись одни голые зады. То была туча каких-то расплывчатых призраков неясного цвета, и лишь в тех местах, которых вожделеет вековечная мужская низость, они приобретали четкие очертания. Но и это не все. Человекоподобные формы растаяли, остались лишь пейзажи невидимой плоти, некие болота, багрянеющие на каком-то призрачном закате, с дрожащими раздвоенными кочками под кустиками травы. Затем вместилище чувственности совсем сжалось, но никуда не исчезло, а так и торчало перед ним, а вокруг него проросла кошмарная поросль, ковром расстилались маргаритки мрака, распустились и сплелись в глубоком доле лотосы бездны. И жаркое веянье захлестнуло Дюрталя, обволокло, налетело яростными вихрями, впивавшимися в губы. Он невольно смотрел в пустоту; покориться унижению этого насилья он не мог, но тело оставалось безжизненным, спокойным, а душа, стеная, восставала; значит, соблазна никакого не было, но хотя все подобные ухищрения вызывали в нем лишь омерзение и ужас, они не уходили, и оттого ему было невероятно скверно — вся погань со дна его распутного бытия всплывала на поверхность; напоминания о бесчинных случках гвоздили его. Соединившись со всеми страданиями, накопившимися с рассвета, груз этот раздавил его, и весь он с головы до пят покрылся холодным потом. Он испускал дух, и вдруг, словно надзирая над своими подручными, проверяя, исполнены ли его приказания, на сцену явился сам палач. Дюрталь не видел его, но чувствовал, и это было несказуемо. Только тело его восстало и держалось, распоряжалось обезумевшей душой, подавляло ее панику яростным напряжением. Очень ясно, очень отчетливо Дюрталь впервые ощутил различие, раздельность души и тела, и в первый же раз отдал отчет в том явлении, что тело, столько терзавшее подругу своими прихотями и нуждами, в час общей беды забывает обо всех обидах и не дает пойти ко дну той, что обычно ему сопротивляется. Он увидел все это в мгновение ока, и вдруг все исчезло. Казалось, злой дух ушел; стена тьмы, окружавшая Дюрталя, растворилась, и со всех сторон хлынули лучи света; и в неохватном порыве с хоров раздалось «Salve Regina», прогоняя бесов. Это сердечно-восторженное пение привело его в чувство. Он воспрянул духом; вернулась надежда, что прошла эта страшная оставленность; он молился, и молитва его дошла до неба; он понял, что ее наконец услышали. Служба окончилась. Дюрталь вернулся в дом для приезжающих; увидев его бледного, изможденного, отец Этьен и г-н Брюно в один голос воскликнули: — Что с вами? Он рухнул на стул и попытался описать им ужасающую голгофскую муку, которую претерпел. — Это длилось больше девяти часов, — говорил он, — но в любом случае я никогда бы не поверил, что душа может так страдать! Тогда лицо монаха озарилось. Он сжал руки Дюрталя и сказал ему: — Радуйтесь, брат мой, с вами здесь обошлись как с монахом! — Как это? — спросил ошарашенный Дюрталь. — Да ведь эта агония — ибо нет другого слова, чтобы передать ужас такого состояния, — одно из самых важных испытаний, которые нам посылает Бог; это одна из станций на пути очищения; радуйтесь и веселитесь, ибо великую милость послал вам Иисус Христос! — И это доказательство тому, что ваше обращение крепко, — убежденно добавил живущий. — Бог? Но ведь не Бог же внушал мне сомнения в вере, зародил во мне безумное уныние, внедрил в меня дух кощунства, смущал меня отвратительными видениями? — Нет, но Он попустил это. О, я знаю, это ужасно, — ответил отец госпитальер. — Бог скрывается, и сколько ни взывай к Нему, Он вам не ответит. Кажется, что ты совсем оставлен, но Он остается поблизости; а когда Бог отступает, наступает Сатана. Дьявол скручивает вас, наводит микроскоп на ваши прегрешения, точит вам мозг, как мелким напильником, а если к этому еще прибавляются, чтобы вас доконать, нечистые виденья… Траппист помолчал и вновь заговорил медленно, обращаясь сам к себе: — Встретиться с настоящей женщиной, из плоти и крови, — это пустяки, но вот эти образы, которые производит работа воображения, — вот это ужасно! — А я-то думал, что в монастырях царит мир! — О нет, мы посланы на землю для борьбы, а монастыри как раз и тревожат владыку преисподней: здесь души уходят от него, а он хочет завоевать их во что бы то ни стало. Нет места на земле, где больше соблазнов, чем в келье, и никого они так не терзают, как монаха. — В житиях отцов-пустынников есть одно характерное в этом отношении место, — добавил господин Брюно. — Целый город поручается одному бесу, да и тот спит, а тревожить монастырь посылается две, три сотни бесов, и у них нет ни секунды покоя, они буквально пашут, как черти! И действительно, задача увеличивать грех в городах — чистая синекура; Сатана обладает городскими жителями, а те об этом даже не подозревают, так что ему и не нужно их мучить, чтобы отнять упование на Бога: они покорны дьяволу, а тому и заботы нет. Поэтому он держит свои легионы, чтобы осаждать монастыри, где ему жестоко сопротивляются. Впрочем, вы сами убедились, каким образом он ведет свой штурм! — О, — вскричал Дюрталь, — самая сильная мука не от него! Хуже любого уныния, хуже покушений на веру и целомудрие мысль об оставленности Небом! Нет, это ничем нельзя передать! — Именно это состояние мистическое богословие называет «темной ночью», — откликнулся господин Брюно. Тогда Дюрталь воскликнул: — Ах, вот оно что!.. припоминаю… вот почему святой Иоанн Креста уверяет, что скорбь этой ночи описать нельзя, и он, значит, не преувеличивает, говоря, что в это время живьем погружаешься в ад! А я-то сомневался в правдоподобии его сочинений, обвинял его в преувеличениях! Да он еще не все описал. Просто, чтобы в это поверить, надо самому пережить! — А ведь вы еще ничего не видели, — спокойно отвечал живущий, — вы ведь прошли через первую часть этой ночи — ночь чувственную; она тоже ужасна, сам знаю на опыте, но это ничто в сравнении с ночью духовной, которая следует за ней. Эта ночь — точный образ страданий, которые наш Господь претерпел на горе Елеонской, когда в кровавом поту возопил: «Отче, да минует меня чаша сия!»[100] Вот она так страшна… — И г-н Брюно, побледнев, умолк. — Кто пережил эту пытку, — продолжал он после паузы, — тот уже знает, что терпят осужденные в мире ином! — Ну что ж, — сказал монах, — уже пробил час отхода ко сну. От всех этих бед одно только средство: Святая Евхаристия; завтра воскресенье, все монахи будут причащаться, и вам надобно приобщиться с нами. — Но я не могу причащаться в таком состоянии… — Что ж, встаньте нынче ночью в три часа, я зайду за вами и отведу к отцу Максимину, он вас тотчас же исповедует. Не ожидая ответа, отец госпитальер пожал Дюрталю руку и удалился. — Это правда, — сказал живущий, — другого средства нет. Дюрталь же, поднявшись в келью, подумал: «Теперь понимаю, отчего отец Жеврезен так настаивал, чтобы я взял святого Иоанна Креста; он знал, что я войду в «Темную ночь», не смел меня об этом прямо предупредить, чтобы не напугать, но желал дать мне оружие против отчаяния, помочь мне памятью об этом чтении. Только как он мог думать, что в подобной напасти я хоть о чем-то вспомню! Кстати обо всем этом, я забыл ему написать; завтра надо сдержать обещание и отправить ему письмо». Он вновь подумал о святом Иоанне Креста, об этом несравненном кармелите, который так благодушно описал эту ужасающую фазу движения души к Богу. Он отдавал теперь себе отчет в проницательности, в силе духа этого святого, пролившего свет на самую темную, самую неведомую из низменностей души, монаха поразительного, проследившего дело Бога, Который управлял его душой, крепко стискивал в деснице Своей, выжимал, как губку, потом давал вновь набухнуть, налиться скорбями и вновь выкручивал, и вновь выдавливал по каплям кровавые слезы, чтобы очистить ее.
VI
— Нет-нет, — прошептал Дюрталь, — я не хочу втираться на место этих людей. — Но я же вам говорю, что им это все равно. Дюрталь никак не хотел исповедоваться перед братьями-рясофорами, ожидавшими своей очереди, но отец Этьен настаивал: — Я побуду сейчас с вами, а вы пройдете в келью, как только она освободится. Дело было на верхней площадке лестницы, на каждой ступеньке которой стоял или преклонял колени монах в капюшоне с лицом, обращенным к стене. Все пребывали в молчаливом сосредоточении, занимаясь поверкой своей души. «В каких грехах они могут каяться? — думал Дюрталь. — Как знать, — подумал он, увидав отца Анаклета, опустившего голову на грудь и молитвенно сложившего руки. — Как знать, не ставит ли он себе в грех скромное участие, проявленное ко мне: ведь в монастырях запрещены дружеские связи!» Он припомнил в «Путях совершенства» святой Терезы то жгуче-ледяное место, где она криком кричит о тщете человеческих связей, заявляет, что дружба есть слабость, и решительно утверждает, что монахиня, желающая видеть своих ближних, наверняка далека от совершенства. — Заходите, — промолвил отец Этьен, прервав его размышления, и подтолкнул Дюрталя к двери в келью, из которой вышел рясофор. Отец Максимин сидел рядом с молитвенной скамеечкой. Дюрталь встал на колени и вкратце рассказал о давешней борьбе и унынии. — То, что с вами случилось, после обращения не удивительно; впрочем, это добрый знак, ибо только те люди, на которых Бог рассчитывает, подвержены таким испытаниям, — медленно проговорил приор, когда он закончил свой рассказ, и продолжил: — Теперь, когда у вас не осталось тяжких грехов, сатана пытается утопить вас в луже. Собственно, в этой бесовской травле греха нет, а только искушение. Насколько я могу подытожить ваши признания, вы испытывали плотские соблазны, соблазны против веры и терзались унынием. Плотские видения оставим побоку: они приходили независимо от вашей воли; это, конечно, мучительно, но неопасно. Сомнения о вере — более серьезное дело. Проникнитесь хорошенько той истиной, что, помимо молитвы, есть только одно действенное средство: презрение. Дьявол есть гордость; плюньте на него, и вся его дерзость сразу пропадет; он говорит — пожмите плечами, и он замолчит. Одно только нужно: не вступать с ним в споры; как ни изворачивайтесь, а будете побеждены, ибо он обладает самой хитрой диалектикой. — Да, но что же делать? Я не хотел его слушать, но слышал, однако; мне приходилось отвечать ему, хотя бы чтоб опровергнуть. — Вот тем-то он и рассчитывал принудить вас к сдаче. Запомните и не забывайте: чтобы вовлечь вас в схватку с собой, он будет, по мере надобности, подбрасывать вам всякие нелепые аргументы, а как только увидит, что вы простодушно, наивно уверитесь в превосходстве ваших возражений, запутает в таких изощренных софизмах, что сколько ни бейтесь, а не выпутаетесь из них. Нет, повторяю вам, возражайте ему наилучшим возможным способом: не парируйте его выпады вовсе, откажитесь от борьбы. Монах помолчал и ровным тоном продолжил: — Есть два способа избавиться от тяготящей ноши: бросить ее подальше или просто уронить. Чтобы бросить, требуется усилие, на которое вы, может быть, не способны, а уронить можно без всякой натуги, это просто, безопасно и всем доступно. Если вы бросаете вещь, вы проявляете к ней какой-то интерес, какое-то живое чувство, а то и какой-то страх; уронить — значит, быть безразличным, проявить совершенное презрение; поверьте мне: воспользуйтесь этим способом, и бес убежит от вас. И для отражения приступов уныния всемогуще это же оружие, презрение, если только в битвах этого рода осажденный ясно видит поле боя. К сожалению, уныние в том и состоит, что лишает людей разума, сразу же сбивает с толку, и тогда для обороны необходимо обратиться к духовнику. Ведь и вправду, — продолжал отец Максимин после недолгой паузы для размышления, — чем пристальней смотришь на себя, тем меньше видишь; наблюдая за собой, становишься дальнозорким; чтобы различать предметы, необходимо смотреть на них с определенной точки: если они слишком близко, то видны так же плохо, как если бы находились очень далеко. Вот почему в таких случаях необходима помощь священника: он находится не слишком далеко и не слишком близко, а как раз там, где предметы видны отчетливо. Вот только уныние подобно тем болезням, которые становятся почти неисцелимыми, когда не захватишь их вовремя. Итак, не позволяйте ему укорениться в вас; в начальной стадии уныние не может противиться вашему желанию. Как только вы объявите о нем на исповеди, оно рассеется; это как мираж: скажешь слово — и нет его. Вы можете мне возразить, — сказал еще монах, опять помолчав, — что очень неприятно признаваться в химерах, по большей части абсурдных; так потому дьявол и подсовывает вам не столько хитрости, сколько глупости. Он хочет взять вас тщеславием, ложным стыдом. Монах опять замолк, потом продолжил: — Нелеченное и неизлеченное уныние ведет к отчаянию, а это худший из соблазнов, потому что в других случаях Сатана действует против одной из добродетелей и показывает себя, а здесь нападает на все сразу и прячется. Это справедливо всегда: когда вас соблазняет сладострастие, сребролюбие, гордость, вы можете, исследовав себя, сообразить, какого рода искушение вас донимает, а в отчаянии ваше разумение до того помрачено, что вы даже не подозреваете, что состояние, в котором вы погрязли, — просто вражеский маневр, который надо отразить; и тогда вы все бросаете, оставляете даже единственное оружие, которое могло бы вас спасти — молитву, ибо лукавый отвратил вас от нее, как от напрасной. Так что всегда без колебаний уничтожайте зло в корне, боритесь с унынием, едва оно зародилось. Теперь скажите, больше вам не в чем исповедаться? — Нет, разве только в нежелании приступить к Тайнам да в том, что сейчас я очень вял. — Это, конечно, усталость, подобный шок даром никогда не проходит; об этом не тревожьтесь, верьте и никогда не домогайтесь предстать перед Богом застегнутым на все пуговицы; подходите к Нему просто, естественно, даже хоть и в неглиже, словом, какой вы есть; не забывайте, что вы не только служитель, но и сын; дерзайте, Господь рассеет ваши кошмары. Дюрталь получил отпущение и спустился в храм дожидаться мессы. Когда настал момент причащения, он вместе с г-ном Брюно пошел следом за братьями; все преклонили колени, потом по очереди поднимались, обменивались поцелуем мира и проходили к алтарю. Как ни повторял про себя Дюрталь советы отца Максимина, как ни призывал себя к спокойствию, все же не смог не подумать, видя, как приступают к священной трапезе монахи: «Какую перемену увидит Господь, когда подойду я; прежде Он нисходил в святилища, а теперь Ему придется посетить притон». И он искренне, смиренно пожалел Его. А вернувшись на место, заметил, как и в первый раз, когда приобщался таинства мира, чувство удушья, беспокойства. Как только кончилась месса, он поскорее убрался из церкви и поспешил в парк. И вот тогда, без всяких ощутимых явлений, Таинство подействовало: Христос мало-помалу отворял заколоченное жилище и проветривал его; свет волнами хлынул в Дюрталя. Через окна своих чувств, уставленных прежде на какую-то помойку, сырой и темный двор, он вдруг увидел яркий луч, а за ним, сколько хватало глаз, расстилалось небо. Переменился его взгляд на природу; иной стала атмосфера; покрывавший ее туман печали рассеялся; внезапный свет, вспыхнувший в душе, распространился и на окрестности. Он испытал чувство облегчения, детской радости больного, в первый раз выходящего на воздух, переступившего порог комнаты, много недель провалявшись в ней. Все обновилось. Эти аллеи, эти рощи, по которым он столько раз проходил, каждый поворот и каждый уголок которых знал наизусть, явились другими. Сдержанным приветом, сосредоточенной лаской веяло это местечко, и теперь ему казалось, что парк не разбегается от Распятия, как виделось прежде, а усердно стремится собраться у плещущегося креста. Деревья, дрожа, шелестели в молитвенном трепете, склонившись перед Христом, а Он не мучительно ломал руки в зеркале пруда, а обнимал эти воды, прижимал к Себе и благословлял их. И сама вода переменилась: черная вода наполнилась призраками монахов — белыми мантиями проплывавших по ней отражений облаков, а плывущий лебедь расплескивал их на солнечные брызги и гнал перед собой большие маслянистые круги. Эти золотистые волны казались елеем помазания, священным миром, которое Церковь освящает в Страстную субботу; а над ними небо приоткрыло завесу туч и вышло яркое солнце, подобное расплавленной золотой монстранце, пламенеющим Святым Дарам. Это было спасение природы, коленопреклонение деревьев и цветов, кадящих своими ароматами на Тело Христово, сиявшее там, на небе, в пылающей дароносице дневного светила. У Дюрталя захватило дух. Ему хотелось прокричать этому пейзажу о своем восторге и вере; наконец-то ему снова хотелось жить. Ужас бытия ничего не значил перед такими моментами, подобных которым не дает никакое человеческое счастье. Один Бог имеет власть влить в душу столько щедрот, что она переполняется и струится потоками радости, и Он же один мог наполнить чашу скорбей, как не под силу ни одной земной беде. Дюрталь только что все это изведал на опыте; духовное страдание и духовное веселье под божественным гнетом достигли такой остроты, о которой даже не подозревают те, кто счастлив человеческим счастьем или несчастлив своей бедой. Эта мысль напомнила ему о вчерашнем кошмарном отчаянье. И он стал подводить итог тому, что мог на себе самом заметить в обители. Прежде всего, совершенно четкое разделение души и тела; далее, вкрадчиво-упрямое, почти видимое, демоническое действие, меж тем как действие Неба все время было, напротив, приглушенным и завуалированным — являлось лишь в некоторые моменты, а в другие, казалось, отходило навсегда. И все это чувствовалось, понималось, казалось само в себе простым, но не имело никакого объяснения. Уразуметь, как тело словно бросается на подмогу душе и,несомненно, ссужает ей свою волю, чтобы поддержать в миг упадка сил, было невозможно. Как тело может само по себе реагировать и проявлять вдруг столь сильный характер, что способно зажать свою подругу в тиски и не дать ей убежать прочь? «Это так же таинственно, как и все остальное, — в раздумьях говорил себе Дюрталь, и продолжал: — Не менее странны тайные пути действия Христа в Своих Дарах. Если могу судить по себе, то первое причастие раздражает бесовскую активность, а второе унимает. О, как же я попался со своими глупыми расчетами! Собираясь укрыться здесь, я думал, что душа моя будет в надежном месте, а беспокоился за тело; случилось же как раз наоборот. Мой желудок укрепился и проявил себя способным выдержать такое усилие, что я и предположить не мог, а душа оказалась ниже всякой критики, столь шаткой и сухой, столь хрупкой, слабой! Но хватит об этом». Он гулял, и смутная радость поднимала его над землей. Он испарялся в каком-то опьяненье, улетучивался, как нестойкий эфир, и в этом состоянии дары благодати поднимались в нем, даже не оформляясь в словах; это было благодарение души, тела, всего существа его тому Богу, Которого он чувствовал живущим в себе, растворенным в молитвенно склоненном пейзаже, и эта природа тоже словно расцветала в немом благодарственном гимне. Часы на фронтоне аббатства пробили, напомнив, что настал час идти завтракать. Он вернулся в дом приезжающих, отрезал кусок хлеба, намазал сыром, выпил полстакана вина и готовился выйти снова погулять, но тут сообразил, что расписание служб на сегодня другое. Воскресные службы не те, что по будням, подумал он и поднялся в келью посмотреть афишки. Афишка лежала всего одна: собственно монашеское расписание; в ней были обозначены занятия братьев на воскресенье. Дюрталь прочел:ТРУДЫ ОБЩИНЫ ВО ВСЕ НЕДЕЛИ ОБЫКНОВЕННЫХ СЕДМИЦ

Примечание. После дня Воздвижения Креста Господня послеобеденного отдыха не положено, девятый час в 2 часа, вечерня в 3 часа, ужин в 5 часов, повечерие в 6 часов, отход ко сну в 7 часов.Дюрталь переписал из расписания то, что относится к нему, на клочок бумажки. «В общем, — сообразил он, — мне надо быть в четверть десятого на окроплении, великой мессе и службе шестого часа, потом в два на девятом часе, потом в четыре на вечерне с возношением Даров, наконец, в половине восьмого на повечерии. Ну что ж, день достаточно занят, не говоря о том, что я встал в половине третьего ночи», — подвел он итог. Придя к девяти часам в церковь, он застал там большую часть рясофоров коленопреклоненными: одни совершали крестный путь, другие перебирали четки, когда же прозвонил колокол, все заняли свои места. Вошел приор, облаченный в белый стихарь, в сопровождении двух отцов в балахонах с капюшонами, и при пении стиха псалма «Asperges me, Domine, hyssopo et mundabor»[101] все монахи друг за другом прошли перед отцом Максимином, который стоял на ступенях спиной к алтарю, и он окроплял их святой водой, а братья, потупив голову и крестясь, возвращались обратно на свои места для сидения. Потом приор с кропилом сошел с алтаря, подошел к входу в вестибюль и оросил водой от Креста Дюрталя и г-на Брюно. Затем он надел полное облачение, и началась служба. Дюрталь получил возможность оценить воскресное богослужение у бенедиктинцев. «Господи помилуй» пелось так же, но медленнее, звучнее, важнее, с сильно протянутым окончанием второго слова: голоса парижских монахинь все же утончали и выглаживали это пение, наводили лоск на его похоронный тон, делали его не таким глухим, не таким обширным и объемным. Великое славословие было другое: у траппистов распев древнее, мрачнее, с большими перепадами, интересный самим своим варварством, но не такой трогательный, потому что в формулах самого славословия, например, adoramus te[102], это te не отделялось, не капало, подобно слезинке любовной эссенции, подобно признанию, что из смирения замирает, готовое сорваться с губ, но вот когда запели «Верую», тогда Дюрталю удалось совсем забыться и воспарить. Он еще никогда не слышал столь властного и могучего Символа веры, что двигался медлительно, звучал в унисон, насыщенно; так проходила процессия догматов, лиловая почти до мрака и красная почти до черноты, лишь немного светлеющая в конце, замирая в долгом жалобном «аминь». Вслушиваясь в службу цистерцианцев, Дюрталь узнавал, какие обрубки древних хоралов еще уцелели в приходских мессах. Большая часть Канона: Sursum corda[103], Vere dignum[104], антифоны, «Отче наш» — остались нетронуты. Переменились только Sanctus[105] и Agnus Dei[106], здесь они были массивны, выстроены, так сказать, в романском стиле, драпировались в те неярко пламенеющие одежды, которыми, в общем, были облачены и все траппистские службы. — Ну что, — спросил господин Брюно, встретившись с Дюрталем за столом трапезной после литургии, — как вы нашли нашу великую мессу? — Великолепна, — сказал Дюрталь. Поразмыслив немного, он продолжал: — Но совершенства нет! Перенести бы сюда вместо этой заурядной капеллы абсиду Сен-Северена, повесить на стенах картины Фра Анджелико, Мемлинга, Грюневальда, Герарда Давида,{73} Рогира ван дер Вейдена, Боутсов, прибавить еще такие изумительные скульптуры и каменные орнаменты, как на большом портале в Шартре, резные деревянные хоры, как в Амьенском соборе, — это была бы мечта! А между прочим, — вновь заговорил он, помолчав, — эта мечта была реальностью, что совершенно ясно. В Средние века такой идеальный храм много столетий существовал везде! Пение, драгоценности, картины, скульптуры, ризы, все было благолепно; литургии, чтобы значение их было понятно, имели дивное обрамление; и как же все это далеко! — Но вы не скажете, — с улыбкой возразил живущий, — что здесь церковные облачения безобразны. — О нет, они великолепны. Прежде всего, ризы священников не похожи на фартуки землекопов и не топорщатся на плечах, а парижские мастера всегда делают такое вздутие, какую-то гармошку, похожую на висящее ухо осленка. Потом, у вас крест вышит или выткан не во всю спину и ряса сзади не падает, как пальто-сак; трапписты сохранили древнюю форму риз, которую мы видим у древних миниатюристов и старых мастеров живописи в сценах монашеской жизни, а четырехлистный крест, подобный тем, что выкладывались ажурной кладкой на стенах церквей готического стиля, происходит от формы раскрытого лотоса, расцветшего до той стадии, когда лепестки цветка загибаются вниз. Не говорю уже, — продолжал Дюрталь, — о том, что ткань на ризах, а это, вероятно, фланель или мольтон, должно быть, проходила троекратную окраску: слишком великолепна глубина и ясность ее цветов. Сколько ни пускают церковные позументщики серебра и золота на свои муары и шелка, они никогда не добьются того ярчайшего и вместе с тем приятного глазу тона, как та малиновая парча с желтой отделкой, которую вчера надевал отец Максимин. — Да-да, а траурная риза с лопастными крестами и скромной белой вязью, что была на отце настоятеле, когда он нас причащал, разве не радует взор? Дюрталь вздохнул: — О, если бы статуи в капелле являли свидетельство того же вкуса! — Кстати, — заметил живущий, — пойдемте поклониться статуе Божьей Матери, о которой я говорил вам, той, что найдена в развалинах старого монастыря. Они встали из-за стола, прошли по коридору, свернули в боковую галерею, в конце которой стояло каменное изваяние в натуральную величину. Статуя была тяжеловесна и простонародна; она изображала щекастую крестьянку в короне и длинном складчатом платье; Младенец у нее на руках благословлял шар. Но в этом портрете коренастой женщины от земли, бургундки или фламандки родом, через край били чистота и доброта: их источали улыбчивое лицо, невинные глаза, добродушные толстые губы, готовые ко всем снизойти и всех простить. То была сельская Мадонна, созданная для худородных рясофоров: не знатная дама, что держала бы их в отдалении, но мать, которая их всех вскормила, именно их родная мать! Как же здесь этого не поняли? — Почему она не занимает почетное место в капелле, а пылится в конце коридора? — воскликнул Дюрталь. Г-н Брюно переменил разговор: — Должен вас предупредить, возношение Даров сегодня будет не после вечерни, как написано у вас в афишке, а после повечерия, так что эта служба начнется по крайней мере на четверть часа раньше. И живущий поднялся к себе в келью, а Дюрталь направился к большому пруду. Там он улегся на кучу сухого тростника и стал смотреть, как волны, изгибаясь, разбивались подле него. Колыхание воды замкнутой, не имеющей исхода, не выходящей за пределы проточенного ею водоема, погрузило его в долгие раздумья. Он размышлял: «Река — самый строгий символ деятельной жизни; ее можно видеть с самого рождения, на всем пути, во всех землях, которые она орошает; река исполняет предписанную задачу и только затем умирает, растворившись во блаженном успении моря; пруд же, вода, взятая в приют, заключенная в ограде камышей, им самим взращенных от орошения берегов его, сосредотачивался в себе, жил собственной жизнью, не исполнял, казалось, никакой известной людям работы, только блюл безмолвие да размышлял над бесконечностью неба. Стоячая вода внушает мне тревогу, — продолжал Дюрталь. — Мне сдается, будто она, не имея возможности идти вширь, уходит вглубь, и там, где вода проточная лишь взаймы берет отражение глядящихся в нее предметов, она поглощает их и не отдает обратно. Конечно же, в этом пруду непрестанно всасываются глубиной и забытые облака, и пропавшие деревья, и даже чувства, мелькнувшие на лицах монахов, склонявшихся к нему. Эта вода насыщенна, а не пуста, как те, что тратят себя, разливаясь по полям и омывая города. Это созерцательная вода, покоящаяся в совершенном согласии с целомудренной монастырской жизнью. В общем, — пришел он к выводу, — река здесь вовсе не имела бы смысла; она была бы проезжим гостем, осталась бы равнодушной, куда-то спешила бы и, уж во всяком случае, не была бы способна так успокаивать душу, как иноческая вода мирного пруда. О, как удалось святому Бернарду при основании Нотр-Дам де л’Атр благосочетать цистерцианский устав с выбранным местом!» — Но хватит мечтаний, — произнес он, вставая. Вспомнив, что нынче воскресенье, он перенесся думами в Париж и мысленно увидел суету, что царит в этот день по церквам. Утром Сен-Северен пленял его, но на другие службы в этот храм лучше было не заглядывать. Вечерни там были пошлые и халтурные, а по великим праздникам настоятель храма без труда уличался в пристрастии к мерзкой музыке. Иногда Дюрталь находил убежище в Сен-Жерве, где по некоторым случаям, бывало, исполнялись хотя бы мотеты старых мастеров, но эта церковь, как и Сент-Эсташ, была платным концертным залом, где вере совсем не находилось места. Никак нельзя было сосредоточиться среди дам, томившихся за веерами и ерзавших на скрипучих стульях. Это были фривольные сеансы богоугодной музыки, компромисс между Богом и театром. В Сен-Сюльписе получше: там хотя бы публика тихая. К тому же именно там вечерню служили всего торжественнее и с наименьшей спешкой. Чаще всего церковному хору там помогал семинарский, и служба, петая этим могучим составом, при поддержке большого органа, проходила величаво. Правда, половина службы, униженная до истасканных куплетов, исполнялась не в унисон, частью хором, частью соло баритона, подрумяненная и завитая щипцами, но поскольку в других храмах она была не менее обесчещена, гораздо лучше было слушать ее в Сен-Сюльписе, где у большого хора очень хороший регент и нет, как, например, в Нотр-Дам, голосов, рассыпающихся в муку при малейшем ветерке. Это становилось действительно ужасно только тогда, когда под сводами разражался настоящий взрыв — первый стих Magnificat[107]. Тогда половина стихов начинала заменяться органом, и под лукавым предлогом, что службы с каждением длятся слишком долго и не могут целиком исполняться певчими, г-н Видор за органной стойкой начинал раздавать лежалую музыкальную рухлядь, булькал на верхах, имитируя флейту и человеческий голос, свирель и валторну, рожок и басон, переталдычивал ерундовые мотивы с волыночным аккомпанементом, а когда ему надоедало жеманничать, он яростно вздувал мехи, под конец выпуская все свои бомбарды, так что получался какой-то гул локомотива на мосту. Капельмейстер в своей инстинктивной ненависти к древнему хоралу не желал отставать от органиста и, как только начиналось возношение Даров, с радостью отставлял в сторонку григорианские напевы, давая хористам повыплясывать ригодоны. И это был уже не храм, а хлев. Ave Maria и прочие мистические бесстыдства покойного Гуно, рапсодии старика Тома, выверты неведомых гудошников сменяли друг друга, выхолощенные хормейстерами от Ламурё, и, к несчастью, их пели дети: взрослые не боялись пачкать непорочность их голосов участием в этом мещанском музыкальном торгашестве, связью с продажным искусством! «О, — думал Дюрталь, — если бы этот капельмейстер, превосходный, очевидно, музыкант (ведь когда надо, он лучше всех в Париже умеет исполнить De profundis с остинатным басом и Dies irae), если бы этот человек велел исполнять, как в Сен-Жерве, Палестрину и Витторию, Айхингера и Аллегри, Орландо Лассо и Депре; но нет, он, должно быть, и этих мастеров презирает, держит за ветхое старье, которое пора сдать в утиль! Все-таки невероятно, что сейчас приходится слушать в парижских церквах! Под видом заботы о благосостоянии певчих там выкидывают из гимнов и антифонов половину стихов, заменяя их для разнообразия скучнейшей органной бредятиной. Там мычат Tantum ergo на мотив австрийской народной песенки, а не то, что еще хуже, обряжают его в опереточные рюшки и кабацкие фестончики. Даже текст его делят на куплеты, к которым прибавляют припевчик, как к застольным песням. Ну и с другими церковными песнопениями поступают не лучше. А между тем папская власть многими буллами прямо запрещала осквернять святилище веселенькими руладами. Взять хоть один пример: Иоанн XXII экстравагантной Docta Sanctorum специально осудил мирскую музыку и светские голоса в храмах. Он же не благословил церковные хоры уснащать древние распевы фиоритурами. Постановления Тридентского собора на этот счет не менее строги, а совсем недавно вышло предписание Священной конгрегации богослужения, также воспрещающее музыкальные шабаши на месте святе. Ну и что же делают кюре, на которых в основном и возложен надзор за музыкой в их приходах? А ничего, просто плюют на это. Ох, не надо бы говорить, да только с этим священством, которое ради выручки позволяет куцым голосам актерок отплясывать канкан под важные звуки органа, чем-то не совсем чистым становится несчастная Церковь! В Сен-Сюльписе, продолжал размышлять Дюрталь, кюре терпит, когда ему преподносят пошлое распутство, но он хотя бы получше, чем в Сен-Северене, где в Великий Пяток дозволяют отставным певичкам оживлять богослужение фальшивым блеском голосов. Он еще не допустил и соло на английском рожке, которое я однажды на Непрестанном поклонении слышал у Фомы Аквинского. Наконец, большое возношение Даров в Сен-Сюльписе — стыд и срам, зато повечерие, несмотря на театральные ужимки, там поистине прелестно». Дюрталь принялся вспоминать эти повечерия, которые часто считают произведением святого Бенедикта; это, вообще говоря, вечерняя молитва о всех и вся, оберег на ночь, талисман против происков суккубата; это, если угодно, передовая стража, посты, выставленные вокруг души, чтобы охранять ее ночью. И устроен этот укрепленный лагерь в образцовом порядке. После благословения самые тонкие, самые нитеобразные голоса капеллы, голоса малых детей, выкликали, как окрик часового, краткое чтение из первого послания апостола Петра, наставляющего христиан на трезвение, велящего им бдить, чтобы не впасть внезапно в искушение. Затем священник читал обыкновенные вечерние молитвы, орган с амвона задавал интонацию, и медленно друг за другом стекали нараспев читавшиеся псалмы, псалмы сумеречные, в которых человек перед наступлением ночи, населенной лемурами и исполненной злыми духами, призывает Бога на помощь, просит удалить его сон от злого насилия адской сволочи, от разврата бродячих ламий.{74} Гимн святого Амвросия Te lucis ante terminum{75} делал еще яснее смысл, рассеянный по этим псалмам, выражал его в немногих стихах. К сожалению, самая важная строфа, та, что говорит о сладострастии, грозящем во мраке, и разоблачает опасность, как раз и заглушалась большим органом. В Сен-Сюльписе этот гимн не скандировался на древний распев, как у траппистов, а пелся на мотив помпезный и маршеобразный, надутый гордостью, самоуверенный, сочиненный, очевидно, в XVIII веке. Потом пауза, и человек, придя в себя в укрытии, за крепостным валом заклинательных молитв, успокоившись, голосом невинности обращал к Богу новые прошения. На стих, читаемый отправителем службы, дети-певчие исполняли краткий прокимен In mane tuas, Domine, commendo spiritum meum[108], который повторялся дважды, затем раздваивался, а потом внезапно оба его ствола соединялись в одном стихе и половине антифона. Вслед же за этой молитвой шла еще одна, молитва того Симеона, что возжелал умереть, увидев Мессию. Она, Nunc dimitis[109], вставленная Церковью в чин повечерия, чтобы понудить нас в вечерний час взглянуть на себя, ибо никто не знает, встанет ли он завтра утром, громогласно пелась всем хором, чередовавшимся с ответами органа. Наконец, при окончании этой службы в осажденном городе, чтобы отдать последние приказы и по возможности отдохнуть в безопасности от нападений, Церковь ставила еще несколько молитвенных прошений, отдавала свои приходы под кров Божьей Матери; в этом месте пелись четыре молитвы из богородичной службы. У траппистов повечерие, конечно, не столь торжественно и даже не столь интересно, как в Сен-Сюльписе, завершил свою мысль Дюрталь: ведь в монастырском служебнике эта служба гораздо менее полна, нежели в римском. Ну, а воскресную вечерню здесь любопытно будет послушать. И он услышал ее, но она почти не отличалась от вечерни, служившейся у бенедиктинок на улице Месье; здесь она была массивнее, тяжеловеснее, если угодно, более романской, потому что женские голоса ее поневоле утончают, вытягивают в стрелки и некоторым образом перестраивают в готическую тональность, но григорианские распевы все те же. Зато уж с вечерней в Сен-Сюльписе, где модерные соусы изощренно извращают самый дух хорального пения, она не имела ничего общего. Разве что Магнификат у траппистов, обрывистый и сухой, уступал величавому, чудесному «Королевскому магнификату», который поют в Париже. Поразительно, какие у этих монахов превосходные голоса, думал Дюрталь. Когда Песнь Богородицы закончилась, он улыбнулся, ибо вспомнил: в первоначальной Церкви певца называли fabarius — бобоед, потому что для укрепления голоса он обязан был питаться бобами. А в обители бобы подавали часто: может, в том и секрет вечно молодых монашеских голосов! О литургии и древних распевах он размышлял, куря сигаретку после вечерни. Он припоминал символику канонических часов, которые ежедневно напоминают верующему о краткости жизни, вкратце воспроизводя ее течение от рождения до смерти. Час первый, читающийся на рассвете, изображает отрочество, час третий — юность, шестой — расцвет сил, девятый — приближение старости, а вечерня — это аллегория дряхлости. Между прочим, она входила в состав всенощного бдения и некогда служилась в шесть часов: в тот час, когда в дни равноденствия солнце садится в кровавый пепел облаков. Наконец, повечерие звучало, когда наступала ночь, символ погребения. Круг канонических служб — великолепный розарий псалмов; каждое зернышко на этих четках соотносилось с одной из фаз бытия человека; следуя за течением дня, богослужения следовали и за угасанием жизни, завершаясь самой совершенной из служб — повечерием, временным отпущением перед смертью, которую здесь изображает сон! А когда от этих текстов, столь умно подобранных, от гимнов, столь крепко сплоченных, Дюрталь перешел к их священному облачению, звукам, к невматическим распевам, к божественной псалмодии, совершенно единообразной, совершенно простой, короче, к хоральным распевам, он не мог не констатировать, что везде, кроме бенедиктинских монастырей, к ним прибавляли органный аккомпанемент, насильно втискивали в прокрустово ложе современных тональностей, и под этим бурьяном они повсюду глохли, становились бесцветными и бесформенными, неудобопонятными. Был среди палачей один, Нидермейер,{76} в котором осталось немножко жалости. Он попытался придумать более хитроумную и честную систему. Нидермейер не григорианский распев разминал и заталкивал в матрицу гармонии, а гармонию подчинил строгой тональности хорала. Так он сохранил его характер, но насколько же естественней было бы оставить старый распев сам по себе, не принуждать его тащить за собой ненужную и неуклюжую свиту! Но хотя бы здесь, у траппистов, он жил и расцветал в безопасности: монахи его не предавали. Здесь он был по-прежнему гомофонный, по-прежнему его пели в унисон без аккомпанемента. В этой истине он смог лишний раз убедиться вечером после ужина, когда в конце повечерия отец диакон зажег все свечи алтаря. Молчальники трапписты стояли на коленях, закрыв лицо руками или склонив голову на плечо широкого балахона, и в этот момент появились три брата-рясофора; двое несли свечи, третий, впереди них, держал кадило, а в нескольких шагах позади шел приор, сложив руки на груди. Дюрталь заметил, что рясофоры переменили одеяние. На них были не домотканые латаные-перелатаные рясы цвета булыжной мостовой, а красивые желтовато-коричневые, на которых резко белели новые плоеные стихари. Пока отец Максимин в молочно-белой ризе с вытканным лимонно-желтым крестом клал гостию в дароносицу, кадилоносец положил кадило на угли, и из него закапали слезы настоящего ладана. Если в Париже зажженное кадило болтается перед алтарем и звенит цепочкой, словно лошадь трясет головой и звякает мундштуком с удилами, то в обители оно висело неподвижно и тихо дымилось за спиной у служащего. Все присутствующие пели жалобную, печальную молитву Parce Domine, а затем Tantum ergo, великолепное песнопение, которое можно передать чуть ли не пантомимой: настолько чувства, последовательно выражаемые его рифмованной прозой, четки в своих оттенках. В первой строфе создается впечатление, что поющий тихонько покачивает головой или, коль угодно, хватается за голову, свидетельствуя, сколь недостаточны чувства, чтобы выразить догмат о реальном присутствии Христа, о совершенном пресуществлении священного хлеба. Он восхищен и задумчив. Но прилежно выписанная, благочестивая мелодия не долго задерживается на утверждении слабости разума и всемогущества веры: во второй строфе она устремляется ввысь, воздавая славу трем Ликам Троицы, заходится от радости, и только в конце, где музыка придает новый смысл стихам святого Фомы, в протяжном и скорбном «аминь» признавая недостоинство получить благословение Плоти, распятой на том Кресте, образ которого рисует в воздухе дарохранительница, гимн несколько опамятуется. И в то время, когда медленно поднималась спираль дымка, словно голубая кисея, из кадильницы перед алтарем, когда серебряной луной среди свечек-звездочек, мерцавших в темноте подступивших сумерек, воздымались Святые Дары, часто и нежно зазвонили монастырские колокола. И все монахи, стоявшие на коленях, закрыв глаза, поднялись и запели Laudate[110] на древний мотив, который поется вечером на возношении Даров еще и в Нотр-Дам де Виктуар. Потом они друг за другом преклонили колени перед алтарем и так же по одному вышли, а Дюрталь с г-ном Брюно пошли в гостиницу, где их ожидал отец Этьен. Он сказал Дюрталю: — Я не мог пойти спать, не узнав, как вы себя чувствовали сегодня целый день. А когда Дюрталь с благодарностью отвечал, что воскресный день прошел совершенно мирно, отец госпитальер улыбнулся и парой слов дал понять, что вся обитель, не подавая виду, была гораздо больше озабочена приезжим, чем он подозревал. — Отец настоятель и отец приор будут очень рады, когда я передам этот ответ, — сказал монах и пожал Дюрталю руку с пожеланием доброй ночи.
VII
В семь утра, перед завтраком, Дюрталь столкнулся с отцом Этьеном и сказал ему: — Отец мой, завтра вторник, срок моего пребывания истекает, я уезжаю; как мне заказать повозку до Сен-Ландри? Монах улыбнулся. — Я могу дать поручение посыльному, когда он принесет почту, но послушайте, вы так торопитесь нас оставить? — Нет, но я не хотел злоупотреблять… — Вот что: раз уж вы так хорошо приладились к монастырской жизни, останьтесь-ка еще на два дня. В четверг отец прокуратор поедет в Сен-Ландри улаживать один спор, он и отвезет вас на станцию в нашей повозке. Вам и платить не придется, и дорогу вдвоем будет легче скоротать. Дюрталь согласился и поднялся в свою каморку. Шел дождь. Удивительное дело, подумал он, в монастыре совершенно невозможно читать книгу; ничего не хочется; тут думаешь о Боге просто, а не через сочинения, посвященные ему. Он машинально вытащил из груды маленьких книжечек, лежавших на столе еще в тот день, когда устраивался в келье, одну — «Духовные упражнения» Игнатия Лойолы. Он уже заглядывал в эту книгу в Париже; при новом перелистывании жесткое, почти неприятное впечатление, оставшееся от нее, не переменилось. Дело в том, что эти упражнения почти не оставляли душе простора для собственной деятельности; святой Игнатий относился к ней как к тесту, которое следует выпекать в форме; сочинение не показывало человеку горизонта, не раскрывало неба. Упражнения не пытались ее расширить, возрастить, а нарочито, предвзято ужимали, затискивали в клетки своей вафельницы, кормили одними черствыми крошками да сушеными очистками. Эта японская культура фальшивых карликовых деревьев, это производство китайских уродцев — детей в горшках — ужаснуло Дюрталя, и он закрыл книжку. Открыл другую: «Введение в богоугодную жизнь» святого Франциска Сальского. Конечно, он не испытывал никакой потребности перечитывать и это сочинение; хотя его любезность и простодушие поначалу привлекают, под конец они становятся отвратительны; кажется, будто душу пичкают драже с ликером и сладкими помадками; одним словом говоря, эта столь хвалимая околоцерковной средой книга — какая-то микстура с имбирем и бергамотом. Она пахла надушенным платком, которым машут в храме, чтобы выгнать оставшийся аромат ладана. Но сам сочинитель, епископ Сальский Франциск,{77} был очень любопытной личностью; его имя вызывало в памяти всю историю мистики XVII века. И Дюрталь припомнил все, что когда-то знал о религиозной жизни того времени. Тогда в Церкви было два течения. Первое, так называемый восторженный мистицизм, восходило к святой Терезе, святому Иоанну Креста, и концентрировалось вокруг Мари Гийон.{78} Приверженцы другого, так называемого умеренного мистицизма, группировались около Франциска Сальского и его приятельницы, знаменитой баронессы Шанталь.{79} Победило, естественно, второе течение. Христос, доступный пониманию салонов, снисходящий к уровню светских дам; Христос любезный, благопристойный, управляющей душой Своего создания ровно настолько, чтобы сделать ее чуть-чуть обаятельней, — этот элегантный Христос произвел фурор, а госпожа Гийон, чьи слова шли более всего от святой Терезы, учившая мистической теории любви и дочерних отношений с Богом, вызвала осуждение всего духовенства, ужасавшегося перед мистикой, не понимая ее; она навлекла на себя ярость грозного Боссюэ, который обвинил ее в двух модных ересях, молинизме и квиетизме.{80} Несчастная без особого труда опровергла этот навет, но знаменитый епископ меньше преследовать ее не стал: в ожесточении он заточил ее в Венсен, проявил себя упрямым, злобным и беспощадным. Потом и Фенелон,{81} пытавшийся примирить два течения, изготовив маленькую мистику, не холодную и не горячую, немного менее теплохладную, чем у Франциска Сальского, но уж гораздо менее пламенную, нежели у святой Терезы, навлек гнев великого пингвина Мосского, и хотя он предал госпожу Гийон, другом которой был долгие годы, хотя отрекся от нее, также оказался неугоден, со всех сторон обложен Боссюэ, осужден в Риме, сослан в Камбре. Тут Дюрталь не смог удержаться от улыбки: он припомнил горькие стенания сторонников архиепископа, оплакивавших его опалу и представлявших его мучеником, когда все наказание было в том, что ему было велено не играть больше роль при дворе в Версале, а ехать наконец-то управлять своей епархией, которой он до тех пор не слишком интересовался. Этот митрофорный Иов, который в своем несчастии оставался архиепископом и герцогом Камбре, князем Священной Римской империи и богачом, впадавшим в отчаяние оттого, что был вынужден посещать свою паству, прекрасно показывает, в каком состоянии находился епископат при многопышном правлении Великого Короля. То было священство финансистов и лакеев. Впрочем, Фенелон еще сохранял хоть какое-то достоинство и, во всяком случае, имел талант; ну а теперь епископы по большей части все такие же интриганы, все так же раболепны, но ни таланта, ни благородства у них нет. Многих выудили в садке дурных приходских пастырей; они сразу показывают, что способны на все, а если на них надавить, являются душонки старых ростовщиков, мелких барышников или просто попрошаек. «Грустно сказать, но это так, — подытожил Дюрталь. — Что касается госпожи Гийон, она не была ни оригинальной писательницей, ни святой, а просто не к месту пришедшейся наследницей великих мистиков; горделивая, она, конечно, не имела смирения, возвеличившего таких, как святая Тереза или святая Клара, но она же пылала, исполнения Христом, и, конечно, не была набожной куртизанкой, мягкотелой придворной ханжой, как госпожа Ментенон!{82} Да и что это была за эпоха для Церкви! Во всех ее святых есть что-то рассудочное и расчетливое, многословное и холодное, то, что мне противно. Святой Франциск Сальский, святой Венсан де Поль, святая Шанталь…{83} нет, мне гораздо больше по душе Франциск Ассизский, святой Бернард, святая Анджела… Мистика XVII века как раз по мерке его напыщенным и пошлым храмам, помпезной и бездушной живописи, высокопарной поэзии, мертворожденной прозе! Так-так, — прервал он себя, — а келья у меня до сих пор не метена и не приведена в порядок; пожалуй, не стоит здесь сидеть, а то отцу Этьену будет неудобно. Однако дождик сильный, в лес гулять не пойдешь. Проще всего отправиться на малую службу Пресвятой Деве в капеллу». Так он и сделал. В этот час церковь была почти пуста: монахи работали в поле и на фабрике; только два отца-белоризца на коленях перед алтарем Божьей Матери молились так усердно, что даже не заметили, как отворилась дверь. Дюрталь встал рядом, против ступеней главного алтаря, и видел их отражения в стеклянном медальоне у раки блаженного Геррика. Медальон действительно был как зеркало, и монахи в его глубине как живые молились среди алтаря под самым престолом. И отраженный Дюрталь виднелся в нем краешком под ракой, словно касаясь мощей бывшего настоятеля. В какой-то миг он поднял голову и заметил, что в люнете над заалтарной ротондой на стекле, тонированном серой и голубой амальгамой, написаны литеры с реверса медальона святого Бенедикта: первые буквы его двустишных заклинаний. Как будто огромная светлая медаль фильтровала бледные лучи, процеживала через молитвы, пропускала в алтарь уже освященными, благословенными Патриархом. Его размышления прервал колокол, два монаха поднялись и отправились к своим местам; вошли и остальные. Вот так, пока Дюрталь проводил время в часовне, подошел час шестой. Появился аббат. Дюрталь не видел его после знакомства; он казался здоровее, был не так бледен, величественно шел в широкой белой мантии с фиолетовым помпоном, свисавшим с капюшона; отцы кланялись ему и целовали рукав; настоятель встал на свое место, означенное деревянным крестом у кресла, все широко перекрестились, поклонились алтарю, и раздался слабый жалобный голос старика-трапписта: «Deus in adjutorium meum intende»… И потекла служба, дивно укачивая славословиями, перемежавшимися земными поклонами; подымались руки, вздымая спадающий до земли рукав мантии, чтобы пальцы могли перевернуть страницу. После службы Дюрталь встретился с г-ном Брюно. На столе в трапезной они увидели маленькую яичницу, пучок лука-порея в мучном соусе с постным маслом, фасоль и сыр. — Кстати, поразительно, — сказал Дюрталь, — до чего мир путается в избитых байках и предвзятых идеях, когда идет речь о мистике. Френологи утверждают, будто у мистиков заостренные черепа; но здесь форма черепа видна, как нигде, потому что все выбриты, а яйцеголовых не больше, чем в других местах. Сейчас я разглядывал головы монахов: все разные. Есть овальные и покатые, есть грушевидные и прямые, есть и круглые; одни шишковатые, другие нет. То же и с лицами: если они не преображены молитвой, то вполне заурядны. Если бы они не носили одеяний ордена, никто бы не опознал в траппистах людей, предназначенных жить вне современного общества, в Средневековье, целиком уповая на Бога. Души у них не похожи на прочих, а лица и тела, в общем, как у всех. — Все внутри, — отвечал живущий. — Да и почему избранные души должны жить в земных темницах, чем-то отличных от прочих? Они еще, с пятого на десятое, поговорили об обители; наконец разговор задержался на том, как умирают иноки, и г-н Брюно поведал кой о каких подробностях. — Когда смертный час близок, — говорил он, — отец аббат чертит на земле крест из освященного пепла, крест накрывают соломой и кладут на него умирающего, завернутого в грубое полотно. Братья читают над ним отходную, а когда он испускает дух, хором поют стих Subvenite Sancti Dei[111]. Отец аббат кадит над мертвым телом; его обмывают, а монахи в это время читают заупокойную службу. Затем на покойника надевают обыкновенное облачение и процессией переносят в церковь, где он лежит на носилках с открытым лицом до часа погребения. Тогда вся обитель, по дороге на кладбище, начинает петь уже не песнопения об усопших, не скорбные псалмы, не печальные гимны, а «На исход Израиля из Египта» — псалом освобождения, радостную песнь избавления. Хоронят же трапписта без гроба, в сермяжном балахоне, накрыв голову капюшоном. Потом тридцать дней его место в трапезной остается праздным и пайку его подают, как обычно, но брат привратник отдает ее нищим. Ах, какое блаженство такая кончина! — воскликнул живущий, оканчивая рассказ. — Ведь если ты умер, честно исполнив свои обязанности в ордене, то можешь быть уверен в вечном спасении, согласно обетованию Господа нашего святым Бенедикту и Бернарду! — А дождик прошел, — заметил Дюрталь. — Мне хотелось бы сегодня побывать в маленькой часовне в конце парка, о которой вы, помните, говорили мне на днях. Как туда пройти покороче? Г-н Брюно объяснил дорогу, и Дюрталь, свернув цигарку, спустился к большому пруду, оттуда направился по дорожке, уходившей влево, и поднялся по аллейке. Мокрая земля была скользкой, идти тяжело. Наконец Дюрталь добрался до куста орешника, обошел его. За кустами стояла карликовая башенка с миниатюрным шпилем и дверцей в стене. По обеим сторонам от дверцы на пьедесталах, где под бархатистым моховым покровом еще виднелся орнамент романской эпохи, стояли два ангела. Статуи были явно бургундской школы: с большими круглыми головами, растрепанными прядями волнистых волос, щекастыми курносыми лицами, солидными одеяниями с прямыми складками. Они также происходили из развалин древнего монастыря, но вот что было, к несчастью, вполне современным, так это интерьер часовенки, сама же она до того тесна, что, встав на колени перед алтарем, подошвами едва не упираешься в стенку. В нише, окуренной белым газом, улыбалась, простирая руки, Богородица с выпученными голубыми алебастровыми глазами и китайскими яблочками вместо щек. Сама она была поистине возмутительно бездарна, но алтарь, хранивший теплоту вечно затворенного помещения, скромен и уютен. Красные люстриновые обои на стенах протерты от пыли, пол подметен, чаши со святой водой полны, в горшках между подсвечниками цвели великолепные чайные розы. Теперь Дюрталь понял, почему он так часто видел г-на Брюно идущим в эту сторону с цветами в руках; должно быть, он молился в этом месте, а любил его, конечно же, потому, что в глубоком уединении обители оно было самым затерянным. «Какой славный человек! — воскликнул про себя Дюрталь; ему припомнились сердечные услуги, братская предупредительность живущего. — И счастливый, — подумал он еще, — ведь он владеет собой и живет здесь мирной жизнью! И впрямь, — продолжал он свою мысль, — какая еще нужна борьба, кроме борьбы с самим собой? Суетиться из-за денег, из-за славы, выбиваться из сил, чтобы угнетать других, чтобы слушать их лесть, — что за напрасный труд! Одна лишь Церковь, расставив вехи литургического года, принудив год земной шаг за шагом повторять жизнь Христову, смогла начертать нам план необходимых занятий и полезных целей. Она дала нам средство всегда идти рядом с Господом Иисусом, день за днем жить согласно Евангелию; она сделала время для христиан вестником скорбей и герольдом радости; она отвела течению месяцев роль верного слуги Нового Завета, усердного посланца богопочитания». Дюрталь принялся размышлять о литургическом цикле, который начинается в первый день церковного года, с началом Рождественского поста; затем он неприметно делает полный оборот и приходит в исходную точку, когда Церковь покаянием и молитвой готовится встретить Рождество. Листая праздничные святцы, обнимая взором этот умонепостигаемый богослужебный круг, он думал об одной великолепной драгоценности: короне королевы Рецесвинты, хранящейся в музее Клюни.{84} Разве не подобно ей литургический год выпещрен хрусталем и карбункулами своих чудесных песнопений, чистосердечных гимнов, оправленными в золото вечерен и изобразительных? Как будто вместо тернового венца, который возложили на чело Спасителя иудеи, Церковь водрузила истинно царский венец круга богослужений: только он создан искусством столь чистым из металла столь драгоценного, что можно дерзнуть возложить его на Божию главу! Для начала дела Великая Гранильщица вставила в литургическую диадему гимн святого Амвросия и молитвословие, взятое из Ветхого Завета, Rorate coeli[112], меланхолическое песнопение ожидания и раскаяния, дымчатый лиловатый самоцвет, светлеющий после каждой строфы, когда следует торжественное перечисление патриархов: призывание долгожданного Христова Пришествия. Перевернуты страницы святцев, и уже промелькнули четыре воскресных дня поста; настала ночь Рождества; на вечерне поется Jesu Redemptor[113], а после, на повечерии, старое португальское песнопение Adeste fideles раздавалось изо всех уст. Это поистине прелестно-простодушные стихи, это древняя картина, где проходят пастыри и волхвы; поются они на народный мотив, годный для торжественных маршей, чарующий, своим почти военным ритмом помогающий христианам на долгом пути из бедных деревенских хижин к храмам в отдаленных городах. И как неприметно катится невидимое колесо года, поворачивался и круг богослужений, останавливаясь на празднике Невинноубиенных Младенцев, где, подобно траве на бойнях, пышным снопом всходила на почве, удобренной кровью агнцев, розовато-красная секвенция Salvete flores martyrum[114], сочиненная Пруденцием; еще сдвигался венец, и являлся в свой черед богоявленский гимн Седулия{85} Crudelis Herodes[115]. С этой поры праздники тяжелели; лиловыми воскресеньями не слышалось более Gloria in excelsis[116], но пелось Audi Benigne[117] святого Амвросия и Miserere[118], пепельно-серый псалом, быть может, самый совершенный шедевр скорби, изысканный Церковью в сборниках древних распевов. Начинался Великий пост, и аметисты богослужений гасли, обращаясь в темно-серые гидрофаны, дымчато-белые кварцы; и под сводами раздавалось великолепное моление Attende Domine[119]. Взятое, как и Rorate coeli, из стихов Ветхого Завета, это смиренное сокрушенное песнопение, исчисляя заслуженные кары за прегрешения, становилось если не менее печальным, то еще более веским и настоятельным, утверждая и подтверждая в начальной строфе припева признание в уже исповеданных грехах. И вдруг после тусклых огней Поста над короной вспыхивал огненный карбункул Пассии. Из пепла потрясенного неба возносился багряный Крест, и ликующие кличи вместе с безутешными воплями взывали к окровавленному Плоду на этом Древе; Vexilla Regis[120] пелось также и в следующее воскресенье, неделю Ваий, но тогда с этим сочинением Фортуната исполнялся вечнозеленый гимн Теодульфа,{86} сопровождаемый шелковистым шорохом пальмовых листьев: Gloria, laus et honor[121]. Дальше огни самоцветов съеживались и тухли. Место горящих угольев рубинов занимали угли потухшие, обсидианы, черные камни, еле заметные на фоне потускневшего, матового золота оправы. Мы подошли к Страстной Седмице; повсюду в храмахстенали Pange lingua gloriosa и Stabat Mater; спускался Мрак; пелись ламентации и псалмы, от погребального звона которых трепетало пламя свечей темного воска, а при каждой остановке, в конце каждого псалма одна свечка гасла и ниточка ее голубоватого дыма еще витала под ажурными арками, а хор уже возобновлял прерванный ряд плачей. И вновь преображалась корона; откладывались новые зерна музыкальных четок, и все разом менялось. Христос воскрес, и веселые звуки вылетали из труб органа. Перед Евангелием на мессе раздавалось Victimae Paschali laudes[122], а на повечерии в радостном органном урагане, с корнем вырывавшим столпы и срывавшим крыши с нефов, летело, играло O filiai et filiae, поистине созданное для того, чтобы его пела буйно ликующая толпа. Затем переходящие праздники шли реже. На Вознесенье тяжелые, прозрачные хрустали святого Амвросия заполняли светящейся водой крохотные ванночки оправ; огни рубинов и гранатов снова загорались на Пятидесятницу в алых гимнах Veni Creator и Veni Spiritus. Троицын день[123] приходил отмеченный четверостишиями Григория Великого,{87} а на праздник Тела Господня литургия могла надеть самый чудесный убор из своего ларца: службу Фомы Аквинского с Pange lingua, Adoro te, Sacris solemnis, Verbum supernum[124], а особенно Lauda Sion, чистейший шедевр латинской поэзии и схоластики, гимн чрезвычайно четкий, безмерно проницательный в своей абстракции, крепко сбитый рифмованной речью, на которую навита самая, быть может, восторженная, самая гибкая из хоральных мелодий. Круг сдвигался еще, и на нем являлись от двадцати трех до двадцати восьми воскресений по Пятидесятнице, зеленые недели времени Паломничества, и останавливался на последнем празднестве, на втором воскресенье после дня Всех Святых — дне Освящения Храмов, наполненном каждением Coelestis Urbs[125], древних стансов, руины которых кое-как подсобраны архитекторами Урбана VIII: старинных кабошонов, смутный блеск которых дремал и лишь изредка оживлялся лучиками. В этом месте церковный венец — литургический год — замыкался; его спаивало то место литургии, где Евангелие от Матфея, читаемое в последнее воскресенье по Пятидесятнице, как и Евангелие от Луки, звучащее в первое воскресенье Адвента, передает грозные пророчества Спасителя о разорении времен, возвещает конец света. Но и это не все, подумал Дюрталь, захваченный своей пробежкой по молитвослову. В корону службы переходящих праздников вставлены, как мелкие камешки, песнопения служб святым, заполняющие пустые места и довершающие украшение цикла. Прежде всего, перлы и самоцветы богородичных праздников, прозрачные алмазы, голубые сапфиры, розовые шпинели Ее антифонов, чистейший, прозрачнейший аквамарин Ave maris stella[126], побледневший от слез топаз O quot undis lacrymarum[127], гимн дня Семи Скорбей, и гиацинт цвета засохшей крови Stabat Mater; далее нанизывались службы ангелам и святым, гимны апостолам и евангелистам, мученикам и мученическим сонмам, службы пасхальные и обыкновенные, исповедникам понтификам и не понтификам, святым девам, непорочным женам, и все эти праздники различались особыми последованиями, специальными стихирами, иногда наивными, как четверостишия, сочиненные Павлом Диаконом в честь рождества Иоанна Крестителя. Наконец, оставался день Всех Святых: Placare Christe[128] и тройной удар набата: похоронный колокол терцетов Dies irae, что раздается в день поминовения усопших. — Какое неизмеримое поле поэзии, какая несравненная нива искусства дана в удел Церкви! — воскликнул он, закрыв книгу; и прогулка по евхологу возбудила в нем воспоминания. Сколько было вечеров, когда он слушал в церкви эти стихи, и усталость от жизни рассеивалась! Дюрталь вновь думал о жалобном голосе молитв Адвента и припомнил вечер, когда бродил под моросящим дождем по набережным. Нечистые видения выгнали его из дома, а растущее отвращение к своим порокам не давало покоя нигде. В конце концов он, сам того не желая, очутился в Сен-Жерве. В капелле Пресвятой Девы лежали ниц бедные женщины. Он тоже встал на колени, утомленный, растерянный; душа была не на месте и дремала, не имея сил проснуться. В той же капелле стояли певцы и мальчики из хора, а с ними два или три священника; зажгли свечи, и в сплошной тьме церкви бесцветный тонкий детский голос запел долгие молитвы Rorate. В том бессилии, в том унынии, в которое впал Дюрталь, он чувствовал себя распоротым и кровоточащим до глубины души, а этот голос, без той дрожи, которая была бы у взрослого, понимающего смысл произносимых слов, этот голос простодушно, почти не смущаясь говорил Единому Праведному: «Peccavimus et facti sumus tanquam immundus nos»[129]. И Дюрталь подхватил эти слова, повторял их по складам и, ужасаясь, думал: о да, Господи, мы согрешили, мы стали подобны прокаженным! А песнь продолжалась, и вот уже Всевышний все тем же голосом невинного дитяти исповедовал человеку свою милость, подтверждал прощение, дарованное пришествием Сына Его. А закончился вечер возношением Даров при хоральных распевах среди коленопреклоненного безмолвия обездоленных женщин. Дюрталь вышел из церкви подбодренный, восставший, избавившийся от наваждений, и пошел под косым дождичком самой короткой дорогой, напевал про себя овладевший им мотив Rorate, так что в конце концов подумал, что это ему обещано неизвестное, но доброе будущее. Были и другие вечера… Неделя по усопшим в Сен-Сюльписе и в церкви Фомы Аквинского, где после заупокойной вечерни воскрешали древнее последование, выпавшее из римского бревиария, Lamguentibus in purgatorio[130]. Эта церковь единственная в Париже сохранила эти страницы из галликанского гимнария и разложила их на два баса без хора, причем певцы, обыкновенно весьма неважные, видимо, любили эту мелодию: пели они без искусства, но, по крайней мере, не без сердца. Это призывание к Мадонне, дабы Она спасла души чистилища, страдало, как сами те души, было так печально, так задушевно, что ты забывал все вокруг: кошмар самого храма, где хоры сделаны как театральная сцена, окруженная закрытыми ложами бенуара и освещенная люстрами; на миг казалось, что ты далеко от Парижа, что нет вокруг толпы старых дев и служанок, посещающих ее по вечерам. «Церковь, Церковь! — думал он, спускаясь по тропинке к большому пруду. — Сколько она породила искусства!» Вдруг его размышления прервал звук тела, упавшего в воду. Он поглядел через ряды высоких тростников и не увидел ничего, кроме больших кругов, разбегавшихся по воде; но вдруг посредине одного круга показалась крохотная собачья головка с рыбой в зубах; зверек немного высунулся из воды, показав узкое длинное тело, покрытое мехом, и спокойно уставился черными глазками на Дюрталя. Потом он в мгновение ока преодолел расстояние, отделявшее его от берега, и скрылся в траве. «А, это выдра», — сообразил Дюрталь, припомнив застольный разговор между г-ном Брюно и проезжим викарием. Чуть-чуть не дойдя до другого пруда, он столкнулся с отцом Этьеном и рассказал ему про эту встречу. — Не может быть! — воскликнул монах. — Никто никогда не видел этой выдры; вы ее, должно быть, спутали с водяной крысой или еще с каким зверем; эту мы сторожим много лет, но она не попадается на глаза. Дюрталь описал зверька. — Да, это она! — согласился пораженный отец госпитальер. Было ясно, что эта выдра, живущая в пруду, стала легендой. В монотонном распорядке обители, где все дни похожи друг на друга, ее существование превратилось в нечто баснословное, в событие, тайна которого, видимо, занимала промежутки между часами молитвы. — Вам надо сказать г-ну Брюно, где вы точно ее видели; он тогда опять начнет на нее охотиться, — сказал отец Этьен, помолчав. — Но чем же, собственно, вам мешает, что она ест вашу рыбу, ведь вы ее не ловите? — Извините, мы ловим рыбу и отправляем архиепископу, — ответил монах. — Но до чего же странно, что вы заметили выдру! «Пожалуй, когда я отсюда уеду, обо мне станут говорить: тот человек, что видел выдру!» — подумал Дюрталь. Не прекращая беседы, они дошли до крестообразного пруда. — Смотрите-ка, — сказал отец Этьен, указывая на лебедя: он встал торчком, сердито бил крыльями и шипел. — Что это с ним? — А то, что его бесит моя белая ряса. — Правда? Почему же? — Не знаю; может, ему не нравится, что он здесь не один в белом; на рясофоров он не обращает внимания, но как только отец белоризец… Да вот, поглядите. Госпитальер миролюбиво подошел к лебедю, сказал: — Иди, иди ко мне, — и протянул руку. Птица всего монаха обрызгала водой, а протянутую руку ущипнула. — Вот так, — сказал отец Этьен, показывая палец с красным пятном от укуса. Он улыбнулся, пожал руку Дюрталю и удалился. Дюрталь задал себе вопрос: уж не в наказание ли себе за какое-либо развлечение или малый грех траппист решил терпеть эту боль. Лебедь ущипнул монаха, должно быть, очень сильно: у него даже слезы выступили на глазах. Отчего же отец Этьен так весело снес это? И он вспомнил, как однажды на службе девятого часа один молодой монах взял неверный тон; когда служба окончилась, он преклонил колени перед алтарем, затем лег ничком на пол во весь рост, припав губами к плитам, пока трещотка приора не призвала его встать. Это было добровольное покаяние за совершенную небрежность, за беспамятство. Кто знает, протягивая палец лебедю, не наказывал ли и отец Этьен себя за грешный, как он полагал, помысел? Вечером он задал такой вопрос г-ну Брюно, однако живущий в ответ только улыбнулся. Когда же Дюрталь рассказал ему про планы отъезда в Париж, г-н Брюно покачал головой. — Принимая во внимание ваше предубеждение, — сказал он, — ваше стеснение причащаться, вы бы очень благоразумно поступили, приобщившись Святой Трапезе сразу, как вернетесь. Дюрталь понурил голову и не отвечал. — Поверьте человеку, знающему это испытание: если вы не соединитесь с Господом, покуда еще тепло впечатление от траппистской обители, то так и будете болтаться между желанием и сожалением, никуда не продвигаясь; будете придумывать себе отговорки, чтобы не исповедаться; постараетесь убедить себя, что в Париже невозможно найти аббата, которому вы откроетесь и он поймет вас. Но, позвольте вас уверить, это совершенно не так. Если вы желаете иметь опытного и легкого в общении конфидента, пойдите к иезуитам, а если вам нужен усердный священник, отправляйтесь в Сен-Сюльпис. Там вы найдете почтенных и умных отцов, прекрасные сердца. В Париже, где приходский клир очень пестрый, они составляют высший слой духовенства, да и понятно почему: они живут общежительно, спят в кельях, не обедают в городе, и поскольку устав конгрегации запрещает им домогаться почестей и мест, они не рискуют стать дурными пастырями из честолюбия. Вы знакомы с ними? — Нет; но чтобы решить этот вопрос, который и впрямь меня беспокоит, не отпуская, я рассчитываю на одного аббата, с которым часто вижусь, того самого, который направил меня в эту обитель. А кстати, подумал он, вставая и направляясь к повечерию, я опять забыл ему написать. Впрочем, сейчас уже поздно, я приеду почти в одно время с письмом. Как ни странно, когда занят только своей внутренней храминой, когда живешь лишь самим собой, дни так и летят, и нет времени чем-либо заняться!VIII
В последний день в обители он надеялся провести утро в покое и рассеянии души, в облегченном режиме духовной дремоты, в полусне, очарованном богослужебными напевами. Ничуть не бывало: упрямая, всепоглощающая мысль, что завтра его в монастыре уже не будет, портила ему все ожидаемые радости. Теперь, когда ему уже не надо было себя осколупывать, веяться на решете исповеди, трепетать по утрам в ожиданье Даров, он чувствовал нерешительность, не знал, чем заняться; его угнетало грядущее возобновление мирской жизни, прорывавшейся через барьеры забвения, уже накрывавшей его с головой поверх плотин, воздвигнутых монастырем. Как зверь в неволе, он начал биться о прутья клетки, обошел кругом изнутри всю ограду, полнясь видом тех мест, где он провел столь милостивые и столь жестокие часы. Перед перспективой вернуться к обычному образу жизни, снова смешаться с людской толчеей он ощущал упадок сил, душевный обвал; вместе с тем он чувствовал и невероятную умственную усталость. Он таскался по аллеям в совершенно разобранном состоянии, в приступе религиозной хандры, которая когда затягивается, на годы перерастает в монастырскую tedium vitae[131]. Он ненавидел всякую другую жизнь, но душа, измотанная молитвами, слабела в недокормленном и недостаточно отдохнувшем теле; у нее не оставалось желаний, хотелось только, чтоб ее не трогали, хотелось спать, впасть в состояние бесчувствия, когда все становится безразлично, когда потихоньку теряешь сознание и без мук задыхаешься. Напрасно он, чтобы что-нибудь с этим поделать, утешал себя, говоря, что в Париже будет ходить на службы бенедиктинок, что останется особняком, на обочине общества; ему приходилось возражать себе, что такие компромиссы невозможны, что сам воздух города уносит всякие грезы, что одиночество в комнате совсем не то, что уединение в келье, что мессы в общедоступных храмах не могут сравниться с закрытыми богослужениями траппистов. Да и к чему себя обманывать? И тело, и душа у него были из тех, что много лучше чувствуют себя на берегу моря или в горах, чем в городских недрах. Правда, и в Париже в некоторых кварталах Левого берега духовный климат был получше, чем в правобережных округах; в иных церквах атмосфера была живее: например, в Нотр-Дам де Виктуар чище, нежели в таких базиликах, как Мадлен или Троица. Но монастырь был, так сказать, настоящим пляжем или горным плато для души. Здесь воздух был бальзамический: силы возвращались, утраченная жажда о Боге возбуждалась вновь; здесь недуг сменялся здоровьем, здесь не городская расслабленность и кратковременные упражнения, а постоянный укрепляющий режим. И убеждение, что в Париже ему никак не удастся себя обмануть, убивало его. Он переходил из кельи в церковь, из церкви в парк, с нетерпением ожидал обеда, чтобы с кем-нибудь поговорить, потому что в этом душевном разброде родилось новое желание. Он уже больше недели целые дни и вечера проводил, не разомкнув рта; это безмолвие было не мучительно, даже приятно, но как только мысль о скором отъезде начала преследовать его, он уже не мог молчать и, гуляя по аллеям, думал вслух, чтобы облегчить душащую тошноту на душе. Г-н Брюно был слишком проницателен, чтобы не догадаться о дурном самочувствии товарища, который за трапезой становился то молчалив, то болтлив. Он делал вид, что ничего не замечает, но после благодарственной молитвы сразу исчез, а потом Дюрталь, бродя у большого пруда, с удивлением увидел, как он идет к нему вместе с отцом Этьеном. Они догнали его, и траппист с улыбкой предложил Дюрталю, если у него нет никаких других планов, для развлечения пройти в монастырские помещения, а особенно в библиотеку, которую отец приор с превеликим удовольствием ему покажет. — Угодно ли мне? Ну разумеется! — воскликнул Дюрталь. Они втроем пошли назад к аббатству; монах поднял щеколду на калитке в стене возле самой церкви, и Дюрталь очутился на крохотном кладбище, усеянном деревянными крестами над травяными могильными холмиками. Там не было ни единой надписи, ни единого цветка. Миновав кладбище, монах толкнул другую дверцу, и они попали в длинный коридор, вонявший крысами. В конце коридора Дюрталь узнал лестницу, по которой поднимался как-то утром исповедаться у приора. Лесенка осталась по левую руку, они же свернули в другую галерею, и отец госпитальер провел их в огромную залу, освещенную высокими окнами, в простенках расписанную картинами и гризайлями XVIII века. Мебели не было, кроме скамей и высоких кресел, а на возвышении стояло седалище с резным раскрашенным аббатским гербом: место дома Ансельма. — Да, здесь, в зале капитула, ничего монашеского нет, — заметил отец Этьен, обводя рукой светские картины на стенах. — Мы оставили большую гостиную замка в прежнем виде, но, уверяю вас, вся эта роспись нам совсем не нравится. — А что вы делаете в этой зале? — Ну как же, мы сходимся здесь после мессы; капитул открывается чтением житий мучеников, затем читают заключительные молитвы первого часа. Потом прочитывают отрывок из устава, а отец настоятель его толкует. Наконец, здесь бывают упражнения в смирении: кто-либо нарушивший устав падает ниц и исповедует свой грех братьям. Оттуда они прошли в общую трапезную. Помещение было также высокое, но поменьше; столы в нем стояли подковой. По столам на определенном расстоянии были расставлены большие приборы для масла, рядом с каждой две полбутылки пикета, между ними графины, а с краю темные глиняные чашки с двумя ручками вместо стаканов. Монах объяснил, что масло в приборы не наливается, но каждый из них отмечает два места, причем каждый монах имеет право на полбутылки питья, а вода из графина делится на двоих. — А эта кафедра, — продолжал рассказ отец Этьен, указывая на огромную деревянную рюмку возле стены, — служит недельному чтецу — отцу белоризцу, читающему во время трапезы. — А сколько она длится, трапеза? — Ровно полчаса. — Да-да, и то, что едим мы, — это очень тонкая кухня по сравнению с тем, что подают монахам, — вставил живущий. — Я бы вам солгал, если бы стал утверждать, что мы тут пируем, — ответил отец госпитальер. — Тяжелее всего, знаете ли, особенно в первое время, что нельзя приправить блюдо. Перец и пряности запрещены уставом, а солонок на столе нет, и вот мы глотаем пищу, как есть, а она обычно почти несоленая. Иногда летом, когда пот валит градом, это становится невыносимо, ком к горлу подкатывает. А все-таки надо управиться с этой горячей кашицей, заправиться так, чтобы не ослабеть до другого дня. Глядим друг на друга, сил никаких нет, до отчаянья; наша трапеза в августе — мука мученическая, другого слова нет. — И все питаются одинаково: братья, отцы, сам отец настоятель? — Все. Теперь пройдемте к нам в дортуар. Они поднялись на второй этаж. Там тянулся огромнейший коридор с деревянными отделениями по бокам, как в конюшне, и с закрытыми дверьми по концам. — А это наши квартиры, — сказал отец Этьен, остановившись перед одним из отсеков. Над каждым из них висела табличка с именами монахов, а над самым первым надпись гласила: «Отец настоятель». Дюрталь пощупал постель у перегородки. Она была жесткая, как чесальный гребень, и колкая, как терка. Ничего, кроме стеганого соломенного тюфячка, под ним доска; простыней нет, только серое шерстяное тюремное покрывало; вместо подушки мешок с соломой. — Господи, как жестко! — воскликнул Дюрталь. Монах засмеялся. — В рясе и на этом тюфячке не так уж колко, — ответил он, — ведь устав запрещает нам раздеваться, можно только снять обувь, так что мы спим в одежде, накрыв голову капюшоном. — А до чего же холодно должно быть в коридоре, где ветер гуляет насквозь! — продолжил Дюрталь. — Да, конечно, зима здесь суровая, но смущает-то нас не зима; в мороз, хоть и без огня, еще можно как-то жить, а вот летом! Если б вы знали, что такое просыпаться в пропотевшей одежде, со вчерашнего дня не просохшей — ужас! И к тому же в сильную жару и так почти не спишь, а надо еще до света вскакивать и тотчас идти на ночную службу, на всенощное бдение, которое длится не меньше двух часов. Даже двадцать лет прожив в обители, все же тяжко так подниматься; в церкви с ног валит дремота, все время с ней борешься; как только запоют стих псалма, так и задремлешь; насилу проснешься, чтобы пропеть другой, и опять свалишься. Хочешь хоть как-то расшевелить мысль — и не можешь. И можете поверить, такое состояние по утрам объясняется не только телесной усталостью, а еще и бесовским наваждением, непрерывным соблазном, чтобы мы плохо читали службу. — И вам всем приходится вести такую борьбу? — Всем; но все равно, — сказал монах, и лицо его просияло, — все равно мы здесь поистине счастливы. Ибо все эти испытанья ничто рядом с глубочайшими радостями, которые Господь дает нам внутри нас! О, Господь хозяин добрый; Он сторицей платит нам за наши ничтожные труды. За разговором они прошли весь коридор из конца в конец. Монах открыл дверь, и удивленный Дюрталь оказался в прихожей прямо у своей кельи. — Я не думал, что живу так близко от вас! — воскликнул он. — Это не здание, а настоящий лабиринт, но теперь господин Брюно проведет вас в библиотеку; там вас поджидает отец приор, а мне надобно идти по своим делам. Скоро увидимся, — улыбнулся отец Этьен. Библиотека располагалась по другую сторону той лестницы, по которой Дюрталь поднимался в свое жилье. Она была большая, стены сверху донизу заняты полками, а посередине стояло что-то вроде конторки, над которой тоже громоздились ряды книг. Отец Максимин сказал Дюрталю: — Мы не очень богаты, но все-таки имеем довольно полный инструментарий для богословских трудов и монографии о монастырской жизни. — Но у вас есть превосходнейшие экземпляры! — воскликнул Дюрталь, оглядывая великолепные фолианты в роскошных переплетах с гербами. — Вот посмотрите, сочинения святого Бернарда в хорошем издании. — Монах указал Дюрталю на огромные тома, напечатанные крупными буквами на мелованной бумаге. — Подумать только: в обители, основанной самим святым Бернардом, я обещал себе наслаждаться его трудами, и вот я уже завтра уезжаю, а ничего не прочел. — Так вы совсем не знаете его трудов? — Отчего же, знаю отдельные отрывки из проповедей, из писем; я просматривал довольно посредственные сборники его изречений, и только. — Он здесь наш главный наставник, но и другие наши предки во святом Бенедикте у нас есть, — произнес отец приор не без гордости. — Глядите-ка. — Он обвел рукой полки с толстенными ин-кварто. — Вот они: Григорий Великий, Беда Достопочтенный, святой Петр Дамиан, святой Ансельм…{88} А вон там ваши друзья, — произнес он, следя за взглядом Дюрталя, читавшего названия на корешках — святая Тереза, святой Иоанн Креста, святая Маддалена Пацци, святая Анджела, Таулер… И та, что, подобно сестре Эммерих, диктовала свои разговоры с Христом, находясь в экстазе. Приор вытянул из ряда книг две маленькие книжечки: «Диалоги» святой Екатерины Сиенской. — Она была грозой священства своего времени, эта доминиканка, — продолжал монах, — обличала их злодеяния, прямо обвиняла в торговле Святым Духом, в чародействе, в использовании Святых Таин для колдовских составов. — Не говоря уже об особенных пороках, связанных с плотским грехом, — вставил г-н Брюно. — О да, и в словах она не стесняется, но у нее есть право говорить в таком тоне, так грозить от имени Господа, ибо она была поистине вдохновлена Им. Ее учение почерпнуто из божественных источников: Doctrina ejus infusa, non inquisita[132], говорит Церковь в булле о ее канонизации. Ее диалоги изумительны: то место, где Бог говорит ей о святых хитростях, к которым Он иногда прибегает, чтобы привести людей ко благу, или пассажи о монастырской жизни как о судне с тремя швартовами — целомудрием, послушанием, бедностью, — которое выдерживает любую бурю, водимое Духом Святым, прекрасны. Из ее сочинений сразу видно, что она была ученицей ученика возлюбленного и святого Фомы Аквинского. Как будто слышишь ангела учености, излагающего последнее Евангелие! — Так, так, — вступил г-н Брюно, — святая Екатерина не отдается высшим умозрениям мистики, не анализирует, как святая Тереза, тайн Божественной любви, не чертит маршрутов для душ, предназначенных к совершенной жизни, но зато прямо отражает свои разговоры со Всевышним. Она зовет и любит! А вы, сударь, видели ее трактаты о смиренномудрии и молитве? — Нет. Екатерину Генуэзскую я читал, а вот книги Екатерины Сиенской в руки никогда не попадались. — А об этом сборничке что вы скажете? — Дюрталь посмотрел на заголовок и скорчил гримасу. — Вижу, Сузо вас отнюдь не прельщает. — Я бы солгал, если бы стал уверять, что сочинения этого доминиканца пленяют меня. Прежде всего, хоть он и был просвещенным, по-человечески он мне не симпатичен. Не говоря уже о излишествах его покаяния, как мелочно было его благочестие, как бескрыла набожность! Только представьте себе: он никак не позволял себе выпить воды, не разделив ее сперва на пять частей — полагал, что тем самым почитает пять язв Спасителя, а последний глоток к тому же делал в два приема в память о воде и вине, исшедших из раны в боку Господа. Нет, такие вещи мне в голову не идут; я никогда не поверю, что подобные упражнения могут служить во славу Христову! И обратите внимание: все та же любовь к мелкой шелухе, страсть к священным бирюлькам видна повсюду в его сочинениях. Его Богу очень трудно угодить: так Он у него мелочен, так дотошен, что, если поверить его рассказам, в рай никто не захочет! Это не Бог, а какой-то небесный скаредный брюзга! Словом, Сузо в обширных речах распространяется о чепухе, да и его нелепые аллегории, всякие «соборы девяти скал» меня просто убивают! — Но согласитесь все же, что его исследование о «Союзе души» чрезвычайно важно, да и составленную им службу Премудрости Божией стоит прочесть. — Не стану спорить, отец мой; службу я запамятовал, но трактат «Союз души» помню довольно хорошо: он мне показался интересней, чем все остальное, однако признайтесь, размаха в нем никакого; к тому же святая Тереза тоже очень подробно осветила вопрос об отречении от человеческого и плодоношении от Бога… ну так и Господь с ним! — Что ж, — улыбнулся живущий, — не получится у меня сделать вас прилежным читателем доброго Сузо. — Для нас же, — заговорил отец Максимин, — если бы только у нас было чуть больше времени для умственного труда, вот кто должен был бы стать закваской всех медитаций и предметом чтений. — И он подвинул к себе фолиант, содержавший труды святой Гильдегарды, аббатисы Рупертсбергского монастыря. — Это, видите ли, величайшая пророчица Нового Завета. Никогда со времен видений Иоанна Богослова на Патмосе Дух Святой не говорил с земнородными столь ясно и глубоко. В «Гептахроне» она предсказала протестантизм и пленение Ватикана; в «Scivias» или «Познании путей Господних», которое, по ее словам, сочинил один монах монастыря Святого Десибодия, она толкует символы Писания и самую природу стихий. Кроме того, она написала подробнейший комментарий к нашему уставу и высокие, восторженные слова о церковной музыке, словесности, искусстве, которому дает такую превосходную характеристику: это полустершееся припоминание первоначального райского состояния, от которого мы отпали. К сожалению, чтобы понимать ее, надо заниматься кропотливейшими исследованиями, упорными разысканиями. В стиле ее откровений есть нечто герметическое; когда пытаешься их растворить, они словно пятятся и замыкаются еще больше. — Да, я знаю, — промолвил г-н Брюно, — моей латыни на нее не хватает. Как жаль, что нет перевода ее сочинений с толкованиями для понимания! — Она непереводима, — возразил приор и продолжил разговор: — Наряду со святым Бернардом святая Гильдегарда — чистейшая слава семьи святого Бенедикта. Вот кто был предназначен ко спасению: эта дева, озаренная внутренним светом с трехлетнего возраста и скончавшаяся восьмидесяти двух лет, всю жизнь прожив в монастырях! — И заметьте, она всегда пребывала в состоянии вещего прорицания! — воскликнул г-н Брюно. — Она ни на одну святую не похожа; в ней удивительно все, даже то, как Бог ее почтил: Он говорит ей «человече», словно забыв, что она женщина. — А сама она, когда говорит о себе, употребляет такое странное выражение: «хилая форма», — заметил монах. — А вот еще очень дорогой для нас автор. — Он показал Дюрталю два тома сочинений святой Гертруды. — Она также одна из наших славных инокинь, аббатиса истинно бенедиктинская, во всей силе слова, ибо, объясняя Писание своим монахиням, желала, чтобы вера ее духовных дочерей опиралась на знание, чтобы она питалась, если можно так выразиться, не одной литургической пищей. — Я у нее знаю только «Упражнения», — ответил Дюрталь, — и они на меня произвели впечатление простого эха Священного Писания. Насколько можно судить по отрывкам, мне показалось, что у нее нет оригинальной физиономии и она много ниже святой Терезы или святой Анджелы. — Несомненно, — согласился монах. — Но она приближается к святой Анджеле тем, насколько запросто говорит с Христом и силой влюбленности в своих высказываниях; только у нее все это идет из иного источника и потому иначе выглядит; она мыслит литургически, до того литургически, что любая идея является ей в облачении текста псалмов или Нового Завета. С этой точки зрения ее «Откровения», «Наития», «Герольд любви к Богу» чудесны, и разве не превосходна ее молитва к Пресвятой Деве, что начинается словами; «Радуйся, крин белый Троицы, в сиянии вечно нетревожимая»? В продолжение ее сочинений солемские бенедиктинки издали еще «Откровения» святой Мехтильды, ее же книгу «Особенная благодать» и «Свет Божества» ее тезки, сестры из Магдебурга;{89} вот они все стоят рядом… — А давайте я вам покажу премудро прописанные путеводители для души, бегущей от себя самой и дерзающей на приступ вершин вечности, — вступил г-н Брюно и развернул перед Дюрталем «Светильник таинственный» Лопеса Эскерро, большие тома Скарамелли, фолианты Шрама, «Христианскую аскетику» Рибе, «Основания таинственного богословия» отца Серафена. — А это вы знаете? Книжка, которую он подал Дюрталю, называлась «О молитве», имени автора не было, на титульном листе стояло: Солем, Типография аббатства святой Цецилии, 1886, — а ниже даты чернилами приписано: «Преимущественно для приватного распространения». — Нет, я не видел этой книжечки, да она, кажется, и в продажу не поступала; кто ее сочинил? — Самая удивительная из инокинь нашего времени, настоятельница бенедиктинок в Солеме. Только жаль, что вы так скоро уезжаете, я хотел бы дать вам ее почитать. Как наставление, она дает поистине непогрешимую науку, в ней есть чудесные извлечения из святой Гильдегарды и из Кассиана;{90} с точки зрения собственно мистики, матушка из Святой Цецилии, по-видимому, только повторяет труды своих предшественников и не дает нам ничего особенно нового. Но есть у нее, помнится мне, одно место особенное, более личное. Погодите-ка… Живущий перевернул несколько страниц. — Вот оно: «Душа, причастная Духу, не подвержена соблазнам как таковым, но попущением Божьим призвана сталкиваться с диаволом ум с умом. Тогда соприкосновение с бесом ощущается поверхностью души под видом ожога — и духовного, и ощутимого чувствами… Если душа твердо стоит в единении с Богом, если она крепка, боль бывает очень сильна, но переносима; если же допускает душа небольшое согрешение, хотя бы внутреннее, диавол продвигается далее и распространяет свой страшный ожог, покуда добрыми делами душе не удается вытеснить его наружу». Признайтесь, это сатанинское касание, производящее почти материальное действие на самые недосягаемые части нашего существа, по меньшей мере любопытно, — заключил г-н Брюно, закрывая книжку. — Матушка из Святой Цецилии — выдающийся стратег души, — заметил приор, — но, видите ли… В этой книжке, что она написала для сестер своего монастыря, есть, кажется мне, смелые новшества, которые в Риме прочтут с неудовольствием. Ну, и чтобы закончить рассказ о наших бедных богатствах, — продолжал он, — здесь у нас (он указал на книги посреди библиотеки) только многотомные издания: цистерцианский Месяцеслов, Патрология{91} Миня, словари святых, руководства по церковной герменевтике, по каноническому праву, по христианской апологетике, библейской экзегезе, полное собрание сочинений святого Фомы, — все рабочие инструменты, которыми мы почти не пользуемся. Ведь вы знаете: мы та отрасль бенедиктинского древа, что призвана к труду рук своих и покаянному бдению; мы прежде всего труженики Господни. Здесь этими книгами пользуется г-н Брюно, да я еще иногда, потому что мне здесь в монастыре поручено все духовное, — улыбнулся монах. Дюрталь пригляделся к нему: отец Максимин ласково перелистывал страницы, просветленными синими глазами уставлялся в написанное и смеялся детским смехом. Как непохож этот монах, столь явно влюбленный в свои книженции, на того приора с властным профилем и немыми устами, что слушал меня неделю назад на исповеди! И, припомнив всех траппистов, их безоблачные лица, их веселые глаза, Дюрталь понял: эти цистерцианцы совсем не то, что думает о них мир, не угрюмые мрачные люди, а, напротив, самые радостные из человеков. — Кстати, — добавил отец Максимин, — у меня поручение от преподобного отца настоятеля. Зная, что завтра вы собираетесь нас оставить, он хотел бы побыть с вами хоть несколько минут, он ведь теперь на ногах. Сегодня вечером он свободен. Вас не затруднит повстречаться с ним после повечерия? — Нисколько, я буду очень рад поговорить с домом Ансельмом. — Итак, решено. Они сошли, вниз. Дюрталь поблагодарил приора, который вернулся в монашеские покои, и г-на Брюно, поднявшегося назад к себе в келью. Сам же он болтался без дела и, хоть и тревожила его мысль об отъезде, дотянул до вечера довольно легко. Salve Regina, которую он, быть может, в последний раз слышал в таком строе и одними мужскими голосами, эта ажурная часовня звуков, с последним молением растворявшаяся и уносившаяся свечным дымом, потрясла его до глубины души, да и весь вечер в обители показался прелестным. После службы читали молитвы по четкам, но не как в Париже, где откладывают один раз «Отче наш», десять раз «Богородицу», один раз «Слава и ныне» и затем заново; здесь читали по-латыни один раз каждую молитву и затем вновь до изнеможения, всего несколько десятков повторений. Это правило читалось на коленях через раз приором и всеми монахами. Молитва неслась вскачь, так что едва можно было разобрать слова, но едва подали сигнал о ее окончании, наступила полнейшая тишина и все принялись молиться, закрыв лицо руками. Тут Дюрталь понял, как славно придумана система общих молитв в монастыре: после молитвы изустной шла молитва умная, личное прошение милости, подготовленное и запущенное четочной машиной. В духовной жизни ничто не случайно; всякий труд, на первый взгляд кажущийся ненужным, имеет свое основание, размышлял он, выйдя со двора. И ведь факт: чтение розария, с виду пустое коловращение звуков, направлено к определенной цели. Оно дает отдых душе, которая слишком много молений произносила с прилежанием, вникая в смысл; оно не дает ей крутиться вхолостую, твердя Богу все одни и те же прошения, одни жалобы, а позволяет вздохнуть, оправиться; тут она может позволить себе не мыслить, побыть на свободе. Словом, молитва по четкам занимает те часы досуга, когда без нее люди вовсе не молились бы. А вот и отец настоятель! Аббат выразил сожаление, что они встречаются только так вот, на пару секунд. Дюрталь спросил его, как он себя чувствует; аббат ответил, что, как надеется, уже выздоровел, и предложил приезжему погулять в саду, причем попросил, если угодно, курить, не стесняясь. Разговор зашел о Париже. Дом Ансельм спрашивал, что там делается, и, наконец, сказал с улыбкой: — По отрывкам газетных сведений, что до меня доходят, я вижу, что общество сейчас одержимо социализмом. Все хотят решить пресловутый социальный вопрос. Ну и что из этого выходит? — Что выходит? Да ничего! А к чему, по-вашему, могут привести все эти системы, если они не меняют души работников и хозяев, не могут всех в один день сделать бескорыстными и милосердными? — А между тем, — сказал настоятель, обводя рукой свое аббатство, — здесь этот вопрос решен. Жалованья не положено, вот все источники раздоров и упразднены. Каждый трудится по способностям и силам; те отцы, у которых плечи некрепки и руки недюжи, клеят обертки для шоколада и ведут счета; те, кто посильнее, пашут землю. Скажу еще, что в наших монастырях такое равенство, что у аббата с приором нет никаких преимуществ против других монахов. И порции за столом, и подстилки в дортуаре — все одинаковое. Вся выгода аббата, в общем-то, состоит в неизбежных хлопотах по устроению нравственности и руководству земной жизнью в обители. Так что рабочим в аббатстве нет резона бастовать, — улыбнулся дом Ансельм. — Правда, но вам ничего и не нужно; у вас нет семей, жен, вы живете самым малым и настоящей награды ожидаете только на том свете. Подите-ка втолкуйте такое городскому люду! — Кажется, социальное положение можно в двух словах так передать: хозяева хотят эксплуатировать рабочих, а те желают получать как можно больше, работая как можно меньше? Ну, если так, положение безвыходное! — Именно так, и это очень печально, потому что в общем социализм исходит из идей чистых, человеколюбивых, он неизбежно будет наталкиваться на эгоизм и разврат, на неизбежные рифы человеческого греха. А ваш шоколадный заводик хотя бы дает вам какой-то доход? — Да, он-то нас и выручает. Аббат немного помолчал и продолжал: — Вы же знаете, сударь, как начинаются монастыри. Взять хоть наш орден. Ему дают владение с прилегающими землями под обязательство их заселить и обработать. Что он делает? Берет горстку монахов и высеивает их в почву. И на этом его роль кончается. Зерно должно взойти само; иначе говоря, траппист, отделенный от материнской обители, должен сам зарабатывать на хлеб и всем себя обеспечивать. Вот и мы, когда вступили во владение этими зданиями, были так бедны, что во всем терпели нужду, от хлеба до башмаков. Но мы нимало не заботились о будущем, ведь не было примеров в истории монашества, чтобы Провидение не помогло обителям, полагавшимся на Него. Мало-помалу мы извлекли из земли все, что она может произвести; мы обучились полезным ремеслам и теперь сами делаем себе одежду с обувью; мы сеем для себя пшеницу и печем хлеб; так что о выживании нам тревожиться нечего, но нас душат налоги: вот почему мы завели эту фабрику, и доход от нее растет с каждым годом. Через год-другой здание, где мы ютимся, чтобы его отремонтировать, должно рухнуть, а у нас нет денег, но если Богу угодно, чтобы добрые люди пришли нам на помощь, мы, может быть, сможем возвести новый монастырь, и все мы этого горячо желаем: ведь в этой хибаре с хаосом комнат и круглой церковкой нам и вправду тяжко. Аббат опять замолчал и после паузы продолжил вполголоса, обращаясь сам к себе: — Ведь невозможно спорить: монастырь с жилищем, не похожим на монастырское, — препятствие на пути к монашеству; желающий постричься должен, и это в природе вещей, проникнуться средой, которая ему по нраву, ободряться духом в такой церкви, куда он может погрузиться; она должна быть полутемной, а для этого нужен стиль романский или готический. — О да, еще бы! А много у вас новопостриженных? — У нас много таких, кто желает попробовать на ощупь жизнь трапписта, но большинству из них не удается вынести наш режим. Даже не ставя вопроса, истинно призвание человека или надуманно, мы с чисто физической точки зрения через две недели испытания все понимаем. — Самых крепких, должно быть, угнетает питание одними овощами; я даже и не понимаю, как вы можете это выдерживать при таком образе жизни. — Дело же в том, что когда душа решилась, тело ему повинуется. Наши предки жизнь в обителях траппистов выдерживали хорошо! Нынче нам душ, душ не хватает. Помню, когда я проходил искус в аббатстве Сито, то был очень хворый, но если бы надо было, я бы камнями питался! Впрочем, вскоре устав будет смягчен, — продолжал настоятель. — Но так или иначе, есть одна страна, которая, пока не наступит полное оскудение, даст нам довольное число новобранцев: это Голландия. В ответ на удивленный взгляд Дюрталя дом Ансельм пояснил: — Да, в этой протестантской стране обильно цветут мистические цветы. Католицизм там особо ревностен как раз потому, что его не то что преследуют, но презирают, он тонет в лютеранской массе. Может быть, это связано и с природой голландской земли, с ее безлюдными равнинами, тихими каналами, с пристрастием голландцев к размеренной мирной жизни; так или иначе, из этого небольшого католического кружка выходит довольно много цистерцианцев. Дюрталь внимательно посмотрел на трапписта. Он спокойно и величаво шествовал, закутав голову капюшоном и засунув руки за пояс. Временами под сводом капюшона его глаза озарялись, а аметист на пальце вспыхивал беглыми искорками. Нигде ни звука: в этот час обитель спала. Дюрталь с аббатом шли вдоль большого пруда; среди глубокой дремы лесов только вода его жила наяву: луна, сиявшая в безоблачном небе, рассеяла в ней мириады золотых рыбок; и вся эта блестящая мелюзга подскакивала и опускалась, дрожала тысячами огненных чешуек, которые раздувались дуновениями ветра. Аббат больше ничего не говорил, а Дюрталь грезил, опьяненный сладостью ночи, и вдруг простонал. Он представил себе, что завтра в этот час будет в Париже, и, глядя на монастырь, фасад которого бледнел в конце аллеи, словно в исходе черного туннеля, воскликнул, думая про всех, кто в нем живет: — Как же вы счастливы! Аббат ответил ему: — Чересчур. Ласково и тихо дом Ансельм продолжал: — Ведь и правда: мы идем сюда ради покаяния, ради подвигов и терпения, а не успели мы пострадать, как Бог уже утешает нас! Он до того добр, что Сам хочет обманываться насчет наших заслуг. Иногда Он попускает, чтобы нас преследовал бес, но взамен дает нам столько блаженства, что и соразмерить невозможно труд с наградой. Иногда, когда я думаю об этом, перестаю понимать, как еще существует то равновесие, которое призваны поддерживать иноки обоего пола: ведь никто из нас не страдает довольно, чтобы нейтрализовать неискоренимые беззакония городов. Аббат оборвал себя, потом задумчиво продолжил: — Мир даже не представляет себе, каким образом суровая монашеская жизнь может идти ему на пользу.Учение о мистическом замещении ему совершенно непонятно. Он не может вообразить, что необходимо, чтобы претерпеть заслуженную кару, заменить виновного невинным. Не вмещает он и того, что монахи, добровольно терпя муки за других, отвращают небесный гнев и создают солидарность в добре, уравновешивающую объединение во зле. А Богу ведь известно, какие катаклизмы грозят миру в его неведении, если все обители вдруг исчезнут и это равновесие нарушится! — Так ведь оно уже и случалось, — заметил Дюрталь; слушая настоятеля, он все время припоминал аббата Жеврезена, который говорил о том же предмете почти в тех же словах. — Революция росчерком пера упразднила все монастыри; я думал об этом, и, вероятно, история того времени, о которой измарано столько бумаги, еще не написана. Чем искать документы о делах якобинцев и о самих якобинцах, надо бы порыться в архивах духовных орденов, существовавших тогда. И, работая рядом с Революцией, раскапывая ее окрестности, можно было бы докопаться и до ее основания, раскрыть ее причины; тогда, конечно, обнаружилось бы, что чем больше гибло монастырей, тем более чудовищные следствия являлись. Кто знает, не совпадают ли сатанинские прихоти какого-нибудь Карье или Марата с кончиной аббатства, многие века хранившего Францию? — Справедливости ради, — ответил аббат, — надо сказать, что Революция разрушала только руины. Взимание комменд в конце концов довело монастыри до дьявольщины. Они-то — увы! — распущенностью нравов и склонили весы, навлекли грозу на эту землю. Террор — лишь следствие их нечестия. Бога ничто больше не удерживало, и Он попустил свершиться всему. — Да, но как теперь убедить в необходимости возмещения мир, обезумевший в непрерывной лихорадке наживы? Как убедить его, что нужно, чтобы уберечься от новой беды, укрыть города за святыми редутами монастырей? После осады 1870 года Париж весьма благоразумно окружили огромным кольцом неприступных фортов, но разве не столь же необходимо окружить его поясом молитв, поставить в его окрестностях бастионы монашеских жилищ, во всех предместьях воздвигнуть монастыри кларисс, кармелитов и кармелиток, бенедиктинок Святых Даров, словом, те, что могли бы некоторым образом стать могучими цитаделями, стоящими на пути наступления армий Зла? — Да, конечно, города очень нуждаются, чтобы от нашествия адских сил их оберегал санитарный кордон черного духовенства… Но послушайте, сударь, я вовсе не желаю лишать вас благодетельного отдыха; я еще подойду к вам завтра, пока вы не оставили нашу пустынь; впрочем, уже сейчас могу сказать вам, что здесь вы оставляете лишь друзей и всегда будете у нас желанным гостем. Надеюсь, что и вы со своей стороны не сохраните дурного воспоминания о нашем скромном гостеприимстве, а в доказательство еще раз навестите нас. Говоря о том о сем, они вернулись к помещению для приезжающих. Отец настоятель пожал Дюрталю обе руки и медленно поднялся по ступеням крыльца, подметая мантией серебристую пыль: белая фигура в лунном луче.IX
Дюрталь решил сразу после мессы в последний раз навестить рощи, по которым столько бродил то в бессилии, то в исступлении. Сначала он прошелся по старой аллее лип, бледные очертания которых были для его рассудка поистине тем же, чем отвар липовых листьев служит для тела: очень слабым универсальным лекарством, невинным и мягким успокоительным. Потом он сел в их тени на каменную скамью. Слегка наклонившись, он углядел через подвижные отверстия ветвей величавый фасад аббатства, а против него, за огородом, гигантский крест над прудом… Дюрталь встал, подошел к водяному кресту цвета табачного настоя, подсиненного небом, и вгляделся в огромного беломраморного Христа, возвышавшегося над всей обителью, вставая перед ней, словно непрестанное напоминание об обете страдания, который дали все насельники, страдания, которое Он был властен впоследствии претворить в радость. «Дело в том, — размышлял Дюрталь, обдумывая противоречивые признания монахов, чья жизнь, по их же словам, была и очень приятна, и невероятно сурова, — дело в том, что Бог дурачит их. Они ищут здесь ада и приходят в рай; как странно я сам прожил в этом монастыре: ведь почти что одновременно я был и чрезвычайно несчастлив, и совершенно счастлив, и теперь предчувствую мираж, который уже рисуется; не пройдет и двух дней, как воспоминание о горестях (а ведь они, если все рассмотреть как следует, сильно перевешивали удовольствия) исчезнет, и я буду вспоминать лишь душевное упоенье в капелле, дивные голоса да утро на дорожках парка… Как я буду жалеть об этой обители, об этой темнице на свежем воздухе! Удивительно, какую привязанность некими непонятными узами к ней я чувствую; когда сижу в келье, мне чудится, будто я вернулся в оставленную семью. В этих местах, которых никогда прежде не видел, я тотчас почувствовал себя дома; с первого мгновения понял эту совершенно особую жизнь, которой, между тем, не ведал. Мне кажется, что-то близко до меня касающееся, даже личное случилось в этих местах прежде моего рождения. Поистине, если бы я верил в переселение душ, то мог бы вообразить, что в одной из прежних жизней был монахом… Но если так, то скверным монахом, улыбнулся он собственным мыслям, потому что мне пришлось переродиться и вновь искупать в монастыре свои грехи. Так разговаривая с собой, он спустился по длинной аллее, выводившей к монастырской ограде, и, срезав дорогу через густые кусты, стал бродить по кромке большого пруда. Пруд не переливался, как в иные дни, когда ветер вздувал его, гоня вперед и тут же, коснувшись берегов, назад. Он был неподвижен; двигались только отраженья облаков и деревьев. Иногда листок, упавший с прибрежного тополя, плыл по тучке в воде, иногда со дна всплывали пузырьки воздуха и разрывались среди небесной синевы. Дюрталь посмотрел, нет ли выдры, но она не показывалась; он видел лишь ласточек, задевавших воду кончиками крыльев, стрекоз, мелькавших кругом, как пушинки, и блестевших, как голубое сернистое пламя. Возле крестообразного пруда он страдал, при виде же этой водной глади вспоминались лишь покойные часы, протекавшие там на ложе из мха или на подстилке из сухого тростника; Дюрталь умиленно глядел на бережок, стараясь запечатлеть эти места, унести в памяти, чтобы в Париже закрыть глаза и вновь очутиться на нем. Он пошел дальше, замедлив шаг в ореховой аллее вдоль монастырских стен; оттуда он сошел во двор перед монашеским помещением, занятым службами, конюшнями, поленницами, там же были и свиные хлева. Дюрталь пытался разглядеть брата Симеона, но тот не показывался: видно, был занят скотиной. В хлевах стояла тишина, все свиньи были загнаны; только несколько тощих кошек молча бродили, собираясь, каждая в одиночку, на охоту за дичью, чтобы утешиться после вечной постной похлебки, которую они получали в обители. Время поджимало; он зашел в последний раз помолиться в церковь и поднялся к себе в келью собрать чемодан. Укладывая вещи, он подумал, до чего же бессмысленно украшать свое жилье. В Париже он тратил последние деньги, покупая книги и безделушки, потому что ему не нравились голые стены. А здесь он глядел на совершенно пустые, известкой беленные переборки и сознавался себе: тут ему было лучше, чем в Париже, где комнаты обиты штофом. Ему вдруг стало ясно: обитель переменила его привычки, за несколько дней всего его переворотила. Как мощно действует такая среда! — говорил он себе, немного напуганный подобным превращеньем. Застегивал баул и думал: надо все-таки повидать отца Этьена, уладить счета; я совсем не собираюсь жить на средства этих славных людей. Он походил по коридорам и наконец столкнулся с отцом госпитальером во дворе. Дюрталю было немного совестно говорить об этом, а монах при первых же словах улыбнулся: — Устав святого Бенедикта говорит ясно: принимайте посетителя, как приняли бы Самого Господа Иисуса; это значит, что мы не можем брать деньги за наше скромное попечение. Дюрталь смущенно настаивал; отец Этьен тогда сказал: — Если вам неловко делить нашу скудную трапезу бесплатно, поступайте как вам угодно, однако сколько бы вы ни дали, эту сумму разменяют по десять и двадцать су и раздадут нищим, которые каждое утро, иногда придя очень издалека, стучатся в двери монастыря. Дюрталь поклонился и вручил заранее приготовленные в кармане деньги госпитальеру, а потом спросил, нельзя ли ему до отъезда еще поговорить с отцом Максимином. — Конечно можно, да отец приор и не отпустил бы вас без прощального рукопожатия. Сейчас погляжу, свободен ли он; подождите меня в трапезной. Монах удалился и через несколько минут воротился вместе с приором. — Ну вот, — сказал отец Максимин, — опять вы окунетесь в суматоху. — Ох, отец мой, без всякой радости! — Понимаю. Правда хорошо самому молчать и не слышать ничего кругом? Ну, мужайтесь, мы за вас будем молиться. Когда же Дюрталь принялся благодарить обоих отцов за неустанную заботу, отец Этьен воскликнул: — Да это же сплошное удовольствие — принимать такого посетителя, как вы! Ничто вам не противно, а пунктуальны вы были до того, что вставали раньше положенного; мне как надзирателю ничего и делать не оставалось. Если бы все были так непритязательны и податливы! Он откровенно рассказал, как принимал, бывало, священников, посланных архипастырями на покаяние, и как эти порченные священнослужители все жаловались и жаловались то на помещение, то на питание, то на необходимость рано вставать поутру. — И если бы еще была надежда, — добавил приор, — вернуть их на добрый путь, отправить назад в приходы исцеленными! Так нет же, они уезжают еще в большем возмущении, чем приехали: Сатана их не отпускает! Меж тем некий брат-рясофор принес тарелки, покрытые салфетками, и поставил на стол. — Мы сегодня вам раньше подаем обед, чтоб успеть на поезд, — пояснил отец Этьен. — Доброго аппетита и благослови вас Бог, — сказал приор. Он подал Дюрталю руку и осенил большим крестным знамением; Дюрталь преклонил колени, пораженный внезапным чувством в тоне монаха. Но отец Максимин тотчас пришел в себя; он раскланялся, и в этот самый миг вошел г-н Брюно. Обедали молча; живущий был явно огорчен отъездом товарища, которого полюбил, а Дюрталь с болью в сердце смотрел на старика, столь милосердно вышедшего из своего уединения, чтобы прийти ему на помощь. — И вы никак не сможете поехать в Париж и зайти ко мне? — Не смогу; жизнь я покинул безвозвратно; для мира я мертв; не хочу видеть Париж, не хочу оживать. Но если Бог даст мне еще несколько лет на земле, я надеюсь повидать вас тут: ведь недаром переступают порог обители мистического подвига те, кто желает на собственном опыте убедиться, что Господь действительно претворяет души. А Бог случайно ничего не делает, и раз уж начал вас теребить, то дело Свое доведет до конца. Смею посоветовать вам: старайтесь не поддаваться самому себе, и хорошо, если бы вы при смерти достаточно владели собой, чтобы не разрушать Его замыслы. — Я точно знаю, — ответил Дюрталь, — что все внутри меня переменилось, что я уже другой человек, но вот что пугает: теперь я уверен, что описания в трудах терезианской школы совершенно точны, а значит… значит надо пройти через все вальцы испытаний, описанных святым Иоанном Креста? Стук колес во дворе прервал их. Г-н Брюно подошел к окну и осведомился: — Ваши вещи уже снесли вниз? — Да. Они поглядели друг на друга. — Послушайте, я вправду хотел бы сказать вам… — Нет, нет, не благодарите меня! — вскричал живущий. — Видите ли, я никогда еще так ясно не сознавал собственной ничтожности; о, если бы я был другим человеком, то мог бы лучше молиться и больше помочь вам! Дверь отворилась, и отец Этьен объявил: — Больше нельзя медлить ни минуты, не то на поезд опоздаете. Время так поджимало, что Дюрталь успел только обнять и расцеловать друга; тот проводил его во двор. На некоем подобии колесницы со скамейкой сидел лысый траппист с длинной черной бородой на лице, расписанном с розовыми прожилками, и ждал попутчика. Дюрталь в последний раз пожал руку отцу госпитальеру и г-ну Брюно; тут подошел и отец настоятель с пожеланиями доброго пути, а в другом конце двора Дюрталь приметил уставленные на него глаза, безмолвно прощавшиеся с ним, — глаза склонившегося в полупоклоне брата Анаклета. И он здесь, этот смиренный человек, красноречивый взгляд которого говорил о поистине трогательной симпатии, о жалости святого к тому, кого он видел смятенным и отчаявшимся в печальной лесной глуши! Конечно, суровость устава воспрещала монахам всякое проявление чувств, но Дюрталь прекрасно знал, что ради него они дошли до предела дозволенных послаблений, и когда он, тронувшись, бросил им последнее «прости», тоска его была ужасна. И закрылись ворота обители траппистов — ворота, перед которыми он трепетал, приехав, на которые глядел со слезами на глазах теперь. — Ехать надо пошибче, — сказал отец прокуратор, — опаздываем. И лошадь во весь опор помчалась по дороге. Дюрталь признал своего попутчика: он видел его в ротонде, в хоре, во время служб. Вид у него был добродушный и вместе с тем решительный; под очками с дужками бегали смеющиеся серые глазки. — Что ж, — спросил он, — как вы перенесли наши правила? — Как нельзя лучше; сюда я приехал больной и с расстроенным желудком, а лаконские трапезы в обители исцелили меня!{92} Дюрталь вкратце рассказал о душевных мытарствах, которые претерпел; монах прошептал: — Ну, эти дьявольские приступы на самом деле пустяк; у нас тут бывали случаи настоящей одержимости. — А избавлял от нее брат Симеон. — А, вы это знаете… А на речи Дюрталя, заговорившего о своем восхищении бедными рясофорами, отец прокуратор бесхитростно отвечал так: — Верно, сударь; если бы вы могли с этими безграмотными крестьянами поговорить, вы бы удивились, какие глубокие мысли подчас услышали бы от них. Да притом только они в обители и есть по-настоящему терпеливые; мы, отцы белоризцы, когда полагаем, что слишком ослабли, с удовольствием принимаем дозволенное лишнее яичко к трапезе, а они нет: только молятся больше, и Господь их, очевидно, слышит: они исцеляются, да, в общем-то, никогда и не болеют. На вопрос же Дюрталя, в чем состоят обязанности прокуратора, он рассказал: — Веду счета, выступаю торговым посредником, разъезжаю, занимаюсь, в общем, всем, кроме, увы, иноческой жизни. Но нас тут в обители так мало, что каждый поневоле становится на все руки мастер; возьмите хоть отца Этьена: он и келарь аббатства, и госпитальер, он же и дьякон, и звонарь, а я вдобавок ко всему первый певчий и наставник в церковном пении. Повозка катилась, подпрыгивая на ухабах; Дюрталь говорил, как восхищала его служба траппистов, а монах отвечал: — Ее не у нас надобно бы слушать; наши хоры слишком малы и слабы, чтобы выдержать гигантскую массу этих хоралов. Если хотите слышать григорианские мелодии точно так, как их пели в Средние века, поезжайте к черноризцам в Солем или в Лигюже. А в Париже, кстати, вы знаете бенедиктинок с улицы Месье? — Знаю, но вы не находите, что они чересчур по-голубиному воркуют? — Спорить не стану; тем не менее репертуар у них самый подлинный. А в малой Версальской семинарии вы найдете и того лучше: там ведь поют точно так, как в Солеме. Только запомните хорошенько: в парижских церквах если и не отказываются от литургических распевов, поют чаще всего по фальшивым нотам, во множестве отпечатанным и разосланным по всем французским епархиям издательством Пюсте в Регенсбурге. А точно доказано, что в этих нотах множество ошибок и подлогов. Легенда, на которую ссылаются их защитники, неверна. Они утверждают, будто это не что иное, как версия Палестрины, которому папа Павел V поручил пересмотреть музыкальную часть католической литургики. Но этот аргумент и недостоверен, и лишен силы: ведь всем известно, что Палестрина умер, едва приступив к исправлению Градуала.{93} И еще скажу: если бы даже итальянский музыкант и завершил свое дело, это не значило бы, что его переложение стоило бы предпочитать той редакции, которую после упорных разысканий недавно восстановили в Солемском аббатстве, ибо бенедиктинские тексты опираются на сохранившийся в Санкт-Галленском аббатстве список антифонария святого Григория,{94} а это самый древний и самый надежный памятник истинных хоральных распевов, которым располагает Церковь. Эта рукопись, а с нее есть и факсимиле, и фотографии, — кодекс григорианских мелодий и должна бы стать, если позволительно так выразиться, невматической библией церковных хоров. Так что наследники святого Бенедикта совершенно правы, утверждая, что только их версия верна и правильна. — Как же случилось, что столько церквей получают ноты из Регенсбурга? — Ох-о-хо! А как случилось, что Пюсте уже давным-давно завладел монополией на богослужебные книги и на… нет, молчу, молчу; только будьте уверены: эти немецкие книги совершенно перечеркивают григорианское предание; это ересь в церковном пении. Ну, а который час? Э, надо поторопиться! Пошла, пошла, красотка! — Он подстегнул кобылу. — А вы лихо правите! — воскликнул Дюрталь. — Да, я и позабыл вам сказать, что кроме других обязанностей часто при нужде бываю кучером. Дюрталь думал: до чего же все-таки необычайные люди живут сокровенной жизнью в Боге. Стоит им соблаговолить спуститься на землю, и они проявляют себя самыми хитроумными и дерзкими коммерсантами. Кое-как раздобыв несколько су, аббат заводит фабрику; он определяет, какая обязанность больше подходит каждому из его монахов и на ходу делает из них ремесленников, конторщиков, преподавателя хорового пения превращает в коммивояжера, постепенно учится разбираться в сумятице купли-продажи, и вот понемногу дом, возведенный им от нуля, растет, крепнет и, наконец, начинает питать вырастившее его аббатство своими плодами. Перенеси этих людей в иную среду, они так же легко могли бы основать большие заводы и создать банки. То же и женщины. Как подумаешь, какими качествами делового человека, каким хладнокровием старого дипломата должна обладать матушка настоятельница, чтобы управлять своей общиной, никак нельзя не признаться, что все поистине умные, поистине замечательные женщины — не в свете, не в салонах, а во главе монастырей! Он удивился вслух, что монахи так умело ведут торговые предприятия, а отец прокуратор в ответ вздохнул: — Приходится, только не думайте, что мы не жалеем о временах, когда можно было себя прокормить, просто разрыхляя землю! Тогда хотя бы ум был свободен; можно было совершенствоваться в безмолвии, а безмолвие иноку так же нужно, как хлеб: ведь это ему благодаря подавляешь восстание славолюбия, одолеваешь ропот непокорства, все помыслы и пожелания устремляешь к Богу, начинаешь замечать Его присутствие… А вместо того… Только вот мы и на станции; оставьте мне чемодан, а сами бегите за билетом: слышите, паровоз уже свистит. И Дюрталь действительно еле успел пожать руку монаху, который донес его багаж до вагона. Там он уселся один, и пока глядел на удаляющуюся фигуру трапписта, сердце его чуть не разорвалось. И вот в железном лязге поезд тронулся. Ясно, четко, в единый миг Дюрталь осознал, в какую жуткую безысходность бросила его обитель. Но ведь все, что вне ее, теперь мне безразлично, ни в чем нет никакой важности! — безмолвно кричал он. Он застонал, зная, что ведь и в самом деле не способен более интересоваться ничем из того, что радует людей. Бессмысленность заниматься чем-либо, кроме мистики и литургии, думать не о Боге, внедрилась в него так мощно, что он не мог понять, как будет жить в Париже с такими мыслями. Он представил себе, как столкнется с трескучими возражениями, подленькими сочувствиями, пошленькими советами. Представил, как больно будет натыкаться на резоны большинства, как придется все время нападать и обороняться, сражаться или молчать. Так или иначе, мир был потерян навсегда. И как, в самом деле, собраться, восстановиться, если жить придется на проходном дворе, с душой, открытой всем ветрам, доступной для посещения толпы расхожих мыслей? В нем еще сильнее возросли неприязнь к общению, омерзение к всяческим знакомствам. Нет-нет, что угодно, только не влезать опять в общество! — воскликнул он и осекся: он знал, что, удалившись от монастырских владений, не сможет оставаться один. Наступала тоска, пустота; и почему в обители он не сдерживал себя, почему отдал себя целиком? Ему не удалось даже сохранить удовольствия от своей квартиры: это последнее утешение, забавляться безделушками, он умудрился растратить в белой наготе кельи! Ничто ему было не дорого; скинув пальто, он лежал на спине, как покойник, и думал: я отказался от малого счастья, которое могло мне выпасть, а чем я его заменю? И он в ужасе вообразил беспокойство совести, столь навыкшей мучить себя, непрестанный укор в возобновившейся теплохладности, страх сомнений в вере, тревогу перед яростным бунтом чувств, возбужденных встречами. Самое трудное, твердил он себе, будет не подавить смятение плоти, а жить по-христиански, исповедаться, причащаться в Париже, в приходской церкви. Уж это у него никак не получится! И он прикинул, как будет спорить об этом с аббатом Жеврезеном, как станет отказываться, оттягивать должные сроки, как иссякнет их дружба в этих препирательствах. Да и куда податься? Он вспоминал обитель, и подскакивал при мысли о театральных представлениях в Сен-Сюльписе, а Сен-Северен казался ему рассеянным и скучным. К тому же как сидеть среди толпы тупых богомольцев, как без скрежета зубовного слушать нарумяненное пение приходских хоров? Как, наконец, в капелле бенедиктинок и даже в Нотр-Дам де Виктуар обрести скрыто лучащуюся теплоту монашеских душ, понемногу растапливавшую лед и его несчастного существа? Да и не в том даже дело! Истинно горько, истинно ужасно было думать, что никогда больше он не испытает той дивной легкости, что отрывает вас от земли и несет неведомо как, неведомо куда, поверх всего чувственного! О, эти аллеи обители, по которым он бродил с самого рассвета, аллеи, где однажды после причащения Бог так ублажил ему душу, что он уже не ощущал ее своей: Христос погрузил ее в море Своей божественной Бесконечности, поглотил небесной твердью Своей Ипостаси! Как восстановить полноту этого блаженного состояния без причащения, вне монастырской ограды? Нет, все кончено, решил он. И его одолел такой приступ печали, такой порыв отчаяния, что ему пришло в голову сойти на первой же станции и вернуться в обитель; но тут пришлось пожать плечами, ибо он не имел ни достаточно терпеливого характера, ни достаточно твердой воли, ни достаточно выносливого тела, чтобы выдерживать устрашающие испытания послушничества. Да и перспектива спать уже не в своей келье, а одетым в общем дортуаре чуть ли не вповалку страшила его. И что же тогда? Он со скорбью подвел итог: «За десять дней в этом монастыре я прожил двадцать лет, а вышел оттуда с расстроенным разумом и растерзанным сердцем; мне каюк, и точка. Сначала Париж, потом Нотр-Дам де л’Атр выбросили меня, как щепку, и вот я осужден жить неприкаянным, ибо я еще слишком литератор, чтобы стать монахом, и уже слишком монах, чтобы оставаться литератором». Он вздрогнул и пресекся, ослепленный облившим его потоком электрического света. Тут и поезд остановился. Он вернулся в Париж. «Если бы они, — подумал он о писателях, с которыми ему, конечно, трудновато будет не повстречаться, — если бы они знали, насколько они все ниже последнего рясофора! Если бы могли вообразить, до чего мне интереснее священное опьянение трапписта-свинопаса, чем их разговоры и книги! О, жить бы и жить, в сени молитв смиренного Симеона, Господи, Господи!»
Приложение
«Гора на которой Бог благоволит обитать и будет Господь обитать вечно» (Пс 67:17). Рисунок св. Хуана де ла Крус.
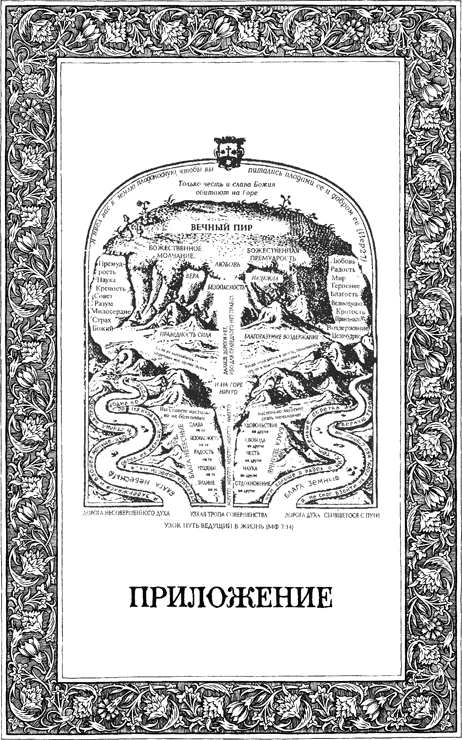
Вильгельм Рат
Друг Бога из Оберланда Фрагменты из книги[133]
Папа Григорий сидел изумленный! В волнении смотрел он на двух чужестранцев, пришедших из-за Альп. Тот, который был постарше, мужчина шестидесяти лет, обращался к нему на итальянском наречии, а его спутник говорил на языке науки — латинском. Оба гостя были предельно серьезны. — Святой отец, — обратился к Папе старший из чужестранцев, — страшные и прискорбные грехи христианского мира так глубоко проникли во все слои общества, что Господь весьма недоволен. Надо что-то делать, а что — думать вам. — Не в моих силах что-либо изменить в мире сем, — отрезал понтифик: неужели эти двое не понимают, что многих сожгли заживо и за меньшие дерзости? Старший снова заговорил со спокойствием и властью возвещающего «послание свыше». Теперь он говорил о неправедных поступках самого Папы, живописуя с невероятной точностью те факты, которые могли быть известными только через откровение свыше. По его словам, Бог ему показал, какой грешной жизнью жил Папа, и он добавил: — Узнайте же истину: если вы не оставите неправедных путей и не осудите себя перед Богом, вас будет судить Он, и вы умрете еще до окончания этого года. — Папа пришел в ярость, но говоривший продолжал: — Мы готовы пойти на смерть, если те знамения, которые я приготовил для вас, недостаточны, чтобы доказать, что мы посланы Богом. — Какие знамения, хотел бы я знать? — спросил Григорий. Он быстро взял себя в руки: похоже, тут и в самом деле не обошлось без божественного вмешательства — уж слишком точным был перечень грехов, о которых никто, кроме него, не мог знать. «Епископ Римский» некоторое время оставался безмолвным, затем встал и, обняв своих посетителей, приветливо обратился к ним: — Могли бы вы дать такие же знамения императору? Это послужило бы на пользу всему христианскому миру. Он пригласил их остаться в Риме, чтобы при необходимости обратиться к ним за советом, пообещав хорошо их устроить. Но они отказались, заверив, что вернутся по первому его требованию. Папа написал письмо духовенству их области, рекомендуя этих божьих людей на совершение благого служения. К несчастью, этот наделенный высочайшей властью человек вскоре вновь погрузился в омут грехов и совершенно забыл о той знаменательной встрече. Так и не отказавшись от греховной жизни, он умер в течение года, как ему и было предсказано… Этим бесстрашным божьим вестником был Николас из Базеля. Большинству людей он был известен как Друг Бога из Оберланда (Верхних Альп). В чем же заключался его секрет? Как умудрялся он более полувека распространять евангельскую весть на глазах у Рима?«Некий человек по имени Николас тридцать лет назад впал в экстаз… Был ли я в теле или вне его, не знаю, то ведомо одному Богу… Но Богом мне дано благословение, и истинно говорю вам, что познал сверхчувственное чудо, которое совершенно невыразимо…» — писал Друг Бога из Оберланда к иоаннитам подворья «Зеленый Вёрт» в Страсбурге. Такими словами он начинает рассказ о своем пути к посвящению. Как складывался путь Друга Бога к этому духовному испытанию? Об этом он сам сообщает нам в различных манускриптах. Родился он в городе Базеле около 1308 года. Его отцом был богатый торговец, которого тоже звали Николас — Николас Золотое кольцо. Маленький Николас ни в чем не знал нужды, и впереди его ожидала счастливая безбедная жизнь. Однако в возрасте тринадцати лет он услышал пасхальную проповедь о страданиях и смерти Христа. Глубоко взволнованный подросток тут же купил себе Распятие. Каждую ночь в тайне от всех он склонял колени, размышляя о боли и стыде, которые претерпел Господь. В возрасте пятнадцати лет он начал путешествовать с отцом, прилежно изучая торговое дело, однако не переставал по ночам склонять колени перед Распятием. Задушевная дружба связывала его с отпрыском рыцаря из благородного рода. Тот был приобщен к миру услад благородного сословия, а Николас по-прежнему сопровождал отца в поездках в чужеземные страны. Когда молодому купцу было около двадцати лет, умер его отец. Теперь он один совершал поездки, продолжая начатое отцом дело. Вскоре умерла и мать. Родители оставили ему столько добра, что Николас не знал, как с ним обойтись. Тогда он отправился к сыну рыцаря, и они принялись совещаться, как поступить с деньгами. «Теперь тебе не нужно торговать, — сказал приятель, — наконец-то ты станешь моим сотоварищем во всем». Молодой купец с радостью согласился. Они посещали княжеские дворы и рыцарские ристалища и были приняты благородными дамами — любимы и ценимы ими. Случилось так, что две прекрасных девы, которых связывала крепкая дружба, запали им в душу; прошло совсем немного времени, и они настолько «похитили сердца друг друга», что думали теперь лишь о браке. Юный дворянин должен был переговорить с родственниками одной из дев по поводу своего друга. Однако Николас был не благородного рода, и ратовавший за него молодой рыцарь получил такой отказ, что не отважился поведать другу о подробностях своих переговоров и отправился с приятелями за море. Купеческого же сына подруга удержала, и он остался при ней. Два года прошло, прежде чем дева упросила мать разрешить ей выйти замуж… Уже был назначен день, когда должны были сойтись родственники и дружки с обеих сторон для заключения брачного договора. Однако пока гости всю ночь празднуют предстоящую свадьбу, молодой купец отправляется в свою каморку — лишь один светильник мерцает в помещении, — и молится перед Распятием, которое когда-то еще мальчиком приобрел по велению сердца. С юности у него была своя молитва, в которой он оплакивал смерть Иисуса Христа и взывал о великом сострадании к Святой Деве Марии. В этот решающий час он перед Распятием дал обет совершить все, что ни потребует от него Господь, даже если за это придется поплатиться жизнью. И тогда Распятый на кресте склонился к нему и раздался глас: «Восстань и покинь свет, и неси свой крест, и следуй за Мной!» Слова эти овладели сердцем Николаса. А воспоследовавшие затем духовные искусы позволили ему заглянуть в такие духовные бездны, которые прежде были сокрыты от его внутреннего ока, — и открылось ему его истинное предназначение и задача его в этой земной жизни. Поскольку он сразу понял, что новый его путь — это путь одиночества, то решил: свадьбе не бывать. Он покинул свой дом, который находился в лучшей части города, и отправился туда, где обитала беднота, и жил там, где мог оказывать людям благодеяния. Уже позднее он со своими духовными учениками подыскал жилище в горах. В решающий час той ночи началась его внутренняя жизнь. Он познал, сколь глубоко в его существо проникла потребность быть слугой Христовым. Вот его обет в ту ночь: «Еще сегодня я хочу распроститься с миром и созданиями его, но прежде всего с тем человеком, который мне так дорог и кому я отдал свое сердце…[134] Итак, теперь я жажду от Тебя, который принял за нас смерть, чтобы Ты и впредь оставался любовью сердца моего и Господом моим. Ибо я познал, что смертный не может жить без любви: он должен любить Бога или создания Его. Воистину понял я, что любовь к Богу и любовь к созданию не могут сосуществовать во благо». Нерушимый договор с самим собой скрепил новый союз: «Я вкладываю мою левую руку в правую». Левая рука должна означать слабость низкой человеческой природы, которая, заблудившись, долгое время шла левым, неправедным путем, а правая должна символизировать самого Бога, «ибо Ты милостив и справедлив». Поскольку жизнь в духе до сих пор была ему неведома, он вымаливает у Бога, чтобы Он дал ему разум, как следует вести себя и упражнять свой дух. И тут он увидел себя объятым прекрасным ласковым светом — и в этом свете дано было ему откровение, которое он сравнивал с переживаниями апостола Павла на пути в Дамаск, когда годы спустя писал об этом братьям в «Зеленом Вёрте». Все, что было им унаследовано из мирского добра, он не желает больше хранить для себя, для своей собственной земной персоны, но использовать его так, как было бы угодно Богу. Он полностью подчиняет свою душу готовности стать служителем Слова. «И вот, — пишет Друг Бога, — воззвал ко мне ликующий, нежный голос, без моего участия во мне рождающийся: “Ты, мой драгоценный супруг, ты должен знать, что Я Тот, Кто говорит в тебе, Господь надо всеми господами и Господь надо всеми вещами, теми, что уже когда-то были или будут. Тот, Кто всегда был здесь и всегда пребудет Господом. Ты поступил правильно, что отдал время ради вечности, и Я хочу сказать тебе, ты — смелый, благочестивый, отважный муж, каких мало сыщешь в эти времена… Отныне Я сам хочу быть твоим сеньором. Свою плоть ты и впредь будешь получать в ленное владение от Меня, отныне ты станешь Моим вассалом. И Я не желаю, чтобы ты извратил свою природу, ибо ты отдался пылающей, жгучей любви, в пламени которой уже сгинуло немало сильных натур. А посему будь осторожен… Большего на этот раз Мне нечего тебе добавить”». Божий глас в глубинах души смолк. Так Друг Бога увидел себя предоставленным исключительно самому себе. Он подверг себя суровой аскезе и бичеваниям, сильно изнурив свою плоть. Многие недели предавался Друг Бога строгому воздержанию, прежде чем пережил новое духовное откровение, о котором рассказывает в следующих образах: «Возникли предо мной красивейшие, ласковые девы, явив красоту, мной прежде невиданную; они сияли так, что я едва мог взирать на облик их. “Кто вы и чего хотите?” Они сказали: “Мы те, которым ты служил, и желаем вознаградить тебя. Зовут нас Агнесс и Катарина”. Тут обе отвели меня в веселый, ласкающий взор сад к удивительному деревцу, на котором росли самые большие и восхитительные груши, о каких я когда-либо слышал. И велят они мне сесть под деревце и говорят: “Теперь подними свои одежды и потряси деревце”. Я исполнил это, и груши попадали мне в подол. “Береги их, — сказали мне девы, — никому не отдавай. Но если почувствуешь слабость в теле своем, съешь — и ты испытаешь прилив великой, неизведанной силы. А проведешь семечком груши по своим ранам — и в тот же миг они затянутся. А теперь благослови тебя Господь”. И видение исчезло». Прийдя в себя, Друг Бога нашел рядом с собой чудодейственные фрукты, и каждый раз, съедая их, получал прилив жизненной силы. Семечки светились, словно карбункулы. Когда он проводил ими по своим стигматам, они тотчас же затягивались… «Но это великое знамение и чудо, — свидетельствует Друг Бога, — не смогло утолить моей духовной жажды». Всеми силами добивался он повторения испытания, какое выпало ему на долю в «начале начал». Прошло тридцать дней строжайшей аскезы, и достиг Николас новой ступени духовного познавания, которое он изображает в следующих образах: «И был проведен я на чудесные хоры, где все пронизано таким удивительным светом, словно они выложены тонкой позолотой, а кругом сонмы светлых, прекрасных ангелов, среди которых узрел я двенадцать святых посланцев. И сказали мне двенадцать апостолов: “Теперь тебе нужно отслужить мессу”. На что я сказал: “Как такое может быть — я же неучен и не посвящен в сан?” И вот был я всего за час обучен Священному Писанию, и выступил вперед святой Петр, и подготовил и рукоположил меня. И приступил я к мессе, а ангелы и святые апостолы прислуживали мне, помогая исполнить таинство. И когда месса была совершена, то склонились они предо мной и осенили меня крестным знамением». И вот тогда Другу Бога открылось Священное Писание, и так хорошо познал он его, как если бы всю свою жизнь обучался в семинариях. «И вновь эти великие знамения не смогли утолить жажды души моей», — пишет Друг Бога. Двенадцать недель последующих аскетических упражнений были позади. И тут его посетило новое видение: «Снова я был в состоянии экстаза и вдруг узрел пред собой очень большого человека, тело которого было так изъязвлено и изломано пыткой, что имело ужасный вид. И в страхе обратился я к человеку: “Кто ты, несчастный, что с тобой так ужасно обошлись?” И ответил он: “Посмотри на меня и увидишь, что ты сам причина этих мук. — И, прижав уста мои к своему израненному сердцу, сказал: — Испей моей крови, это исцелит твои раны”. Потом взял белый платок, провел по своему окровавленному телу и молвил: “Вот, взгляни на этот платок, и если будешь ранен, проведи им по своим ранам — и сразу излечишься”. Перекрестил меня и исчез». Этот платок Друг Бога нашел у себя. Отныне он был избавлен от телесных страданий. В последующие пятнадцать недель Николас подвергает себя жестокой аскезе: ибо и это последнее испытание не смогло удовлетворить его душу. По истечении этого времени он преодолевает еще одну ступень на своем духовном пути. «И вновь был ввергнут я в состояние экстаза и введен в прекрасный светлый дом, сияющий таким ярким светом, что я едва мог его вынести; а вокруг великое множество нежных дев с венками алых роз на главах. И среди них была очаровательная женщина красоты неотразимой. Она сидела в кресле и держала на коленях милое, приветливое дитя. И говорит мне прекрасная женщина: “Взгляни, дорогой друг, на это чудесное Дитя, это мой Ребенок и твой Супруг, ради Которого ты покинул свет”. Затем она сняла лучезарное колечко со своего перста и вложила его в руки Младенца, сказав: “Дитя мое, надень это кольцо Твоему супругу на палец в знак истинной дружбы, чтобы он пошел тем же путем, которым Ты прошел до него”. Ребенок был послушным и сделал то, что велела мать. И как только кольцо коснулось моего пальца, Мать и Дитя осенили меня крестным знамением и тотчас все исчезло». Великую силу и радость воспринял Друг Бога от кольца, которое осталось у него. Тяжек путь познания Друга Бога; прилагая все душевные силы, стремится он повторить первые свои испытания, поскольку они превосходят все последующие. По прошествии года, в тот же самый день, он вновь переживает первую ступень своего посвящения. Снова в глубине его души звучит божественный голос: «Итак, взгляни на себя, что ты свершил. Весь этот год ты надеялся и жаждал собственными глазами узреть Господа Бога. Итак, смотри, Господь исполнил твое желание, и ты узрел Его — увидел Его так, будто ты заключен в высокую темную башню и только в оконце на самом верху заглядывает солнце, отбрасывая к твоим ногам крохотный лучик, способный на миг порадовать твое сердце. Так и Бог испустил из Себя лишь один-единственный луч, который узрела душа твоя… В том, что ты от того возликовал, нет ничего удивительного, ибо всякое существо любит равного себе. Итак, душа создана по образу и подобию Божию, а посему благородная, любящая душа удовлетворится не отражением, а только Богом». Отныне новая великая задача поставлена перед Другом Бога: теперь он должен по собственному желанию отказаться от всякого послушания, аскетизма и от всех своих чудесных даров. И Друг Бога приносит эту жертву: «И тогда послушался я и взял мои дорогие груши, мой дорогой платок и мое прекрасное кольцо, и развел тайный огонь, и предал огню последнее мое богатство». «Тайный огонь», пылкие жертвенные настроения не позволяют ему долее использовать обретенные божественные силы. Весь последующий год взор Николаса сосредоточен на слабостях и изъянах бренного своего существа: «Я не смог обнаружить в себе ничего иного, кроме того, что следовало бы отправить в преисподнюю». Так Друг Бога испытал, насколько душа человеческая в своем несовершенстве подвержена силам бездны. Добровольно приносит он в жертву божественные силы своей души, как бы уподобившись тем, кто так и не сумел пробудить свое подлинное Я. На втором году ему нужно было испытать все, что лежит в основе недуга. На собственном теле должен был он познать это. Третий год позволил ему пробудить в собственном внутреннем мире все, что душа способна развить в себе силой сомнения. И прежде всего усомнился он в том, что связано с христианством. И не было ему в этом утешения, ибо не мог он ни с кем поделиться своими сомнениями. Четвертый год принес ему неисчислимые страдания: «В великом искушении через страдания мне пришлось испытать одно за другим все творения, праведно и неправедно созданные во времени, и то, что мне было еще неведомо, теперь было явлено мне. Особенно терзали меня великие искушения в небесных образах». Что же испытал Друг Бога в эти четыре года? Приступив к этому послушанию, он принес в жертву божественные силы — разделил участь тех, кто не мог обрести Христа и оттого был обречен силам, противодействовавшим самому смыслу человеческого развития. Однако и это испытание проходит Друг Бога — снова видит он свет духовных сфер и прежний глас глаголет в нем: «Отныне вступил ты на истинный путь любви, ибо окончательно доказал, что являешься Моим подлинным супругом. И следует тебе знать, что именно так Я общаюсь с друзьями Моими возлюбленными, как общался с тобой все эти четыре года. Впредь ты уже не обязан изнурять себя суровой аскезой, ибо крест твой навсегда будет состоять лишь в том, чтобы ты благодаря своим просветленным способностям помогал людям, которые, подобно обезумевшим овцам, мечутся среди волков». Итак, час пробил… Теперь Друг Бога мог осознать свою миссию быть проводником тех, кто взыскал духа на рубеже миров. Однако ни один из них не мог проникнуть в душу этого посвященного, кажущегося таким простецом. Лишь тогда, когда того требовал внутренний голос, открывался он другому человеку, позволяя ему ощутить сокровенный зов того тайного знания, которое приобрел за пять лет своего восхождения к духовным вершинам.
Николас из Базеля и Иоганн Таулер (Фрагменты из «Книги Учителя»)
В 1346 году некий учитель Священного Писания читал в одном городе столь вдохновенные проповеди, что молва о нем разнеслась по всему краю. Дошла она и до ушей одного мирянина — «милосердный», так его прозывали. Трижды «во сне» ему было веление отправиться в тот город, где проповедует учитель, и послушать его проповеди. Вняв внутреннему голосу, собирался он в путь, хотя город находился в другой земле и располагалсямилях в тридцати от его родной стороны. «И все же ты должен отправиться туда, — сказал он себе, — и посмотреть, не желает ли Господь явить и там Свою волю». Он приходит в тот город и, в пятый раз выслушав проповедь учителя, убеждается, что хотя у этого человека весьма изрядные познания в Писании, но знание это «темно», не освещено светом духовных сфер. И снизошло на него великое сострадание. Чтобы сблизиться с учителем, он идет к нему, рассказывает, что пришел издалека ради его учения, и просит выслушать свою исповедь. Итак, учитель становится его исповедником, и мирянин ходит к нему едва не каждый день. Продолжается это около 12 недель. И вот приходит он к учителю с просьбой прочитать проповедь о том, как простой смертный может прийти к Богу. Удивился учитель, который до сих пор видел в мирянине лишь наивного простеца: «Как можешь ты рассуждать о столь высоких вещах, которые так мало разумеешь?» Но тот не отступает в своей просьбе: «Если даже и один человек поймет, о чем идет речь, то усилия не напрасны». В конце концов учитель снисходит и читает проповедь о пути к совершенной жизни, выдвигая на первый план требования, которые Дионисий Ареопагит предъявлял к ученикам, желавшим подняться до высшего духовного знания. Ибо тот для всего Средневековья был светилом мистического христианства. Учитель перечисляет много признаков, по которым можно распознать действительно просветленного духом человека. Вера и любовь — две основополагающие предпосылки высшего познания. Валаам, языческий пророк, хоть и обладал такой силой прозрения, что познавал вещи, каковые Бог намеревался открыть лишь через многие столетия, но что ему от того: не относился он с верой и любовью к тому, что открывалось ему. Человеку следует мало говорить, но жить внутренней жизнью, и эта смиренная внутренняя жизнь — вот то, что должно его наставлять. И до тех пор, пока человек не удовлетворяет всем этим требованиям, не может он со смирением, подобно дитяте, уповать на помощь Божию. А если бы такое и случилось, это означало бы, что Творец всего сущего, создав из него сверхъестественное творение, одарил его «преждевременной милостью», как некогда апостола Павла. И много других требований выдвигал учитель в своей обстоятельной речи.Проповедь эту мирянин на своем постоялом дворе записывает по памяти, «слово в слово, как они исходили из уст учителя», приходит к тому и спрашивает, не пропущено ли что. Больше прежнего дивится учитель и признает, что и сам не смог бы так точно записать, «но особенно поражает меня, что ты, столь умом острый, скрывал это от меня, хотя мы уже давно доверились друг другу, да и исповедоваешься ты мне весьма часто». Когда же мирянин хочет попрощаться с учителем, чтобы вернуться к себе на родину, тот чувствует, что ему не следует отпускать такого примечательного человека, и просит его остаться, обещая в своих проповедях чаще обращаться к интересующей его теме. Тогда для мирянина настал момент открыть свои намерения, и говорит он учителю: «В сущности, не ради ваших проповедей пустился я в столь дальний путь, но чтобы с Божьей помощью дать совет». Однако все еще не понимает его учитель: «Ты же всего только мирянин, да и Писания не знаешь, и все же хочешь сам проповедовать?» Мирянин же отвечает, что должен сказать ему нечто, только вот опасается, как бы учитель не обиделся на него. Тем не менее учитель пожелал услышать, что его духовный сын намерен поведать ему; и в последующей беседе ему открылось, что перед ним человек, который видит его насквозь взором, исполненным любви. Мирянин описывает учителю, какое впечатление на него произвела его проповедь. Он говорит ему, что слова, которые тот произносит, суть слова, изреченные «извне», но не изреченные «изнутри», из существа самой вещи, посему не воспламеняют они в людях согревающий души огонь. Подобные слова не могут помочь по-настоящему — они лишь связывают человека. Ибо словно ярмо ложатся выдвигаемые требования, мертвая буква которых убивает все живое. Так когда-то поступали фарисеи, сами не соблюдая и сотой доли того, чего требовали от других. «Буква Писания пока что умерщвляет вас», — говорит мирянин учителю и указывает ему на причины этого. Он сообщает учителю о слабостях, которые распознал в его душе; учитель о них знал, но надеялся, что никто, кроме него самого, не сможет заметить их. «Но раз тебе сие ведомо, — говорит он мирянину, — то для меня не подлежит сомнению, что ты должен был обрести это знание от Бога». Слова мирянина вызвали переворот в душе учителя. Видя это, мирянин стал откровеннее: «Знайте же, когда всемогущий Учитель приходит ко мне, то Он за час наставляет меня большему, нежели вы и все учителя могли бы научить до Страшного суда». Этими словами он приоткрывает свое сокровенное отношение к сущности Христа, «всемогущего Учителя». На основании личного опыта он сообщает учителю, как тому пробудить к жизни то, что пока еще мертво в его душе. Он показывает ему, как в глубине человеческой души, в его воле, скрыта пробуждающая сила духа. «Вот и в Писании сказано: буква умерщвляет, но дух воскрешает. Однако, в зависимости от понимания, та самая буква, что вас сейчас умерщвляет, сможет воскресить вас, если вы этого пожелаете». Тут видит учитель, что до сих пор говорил о вещах, в которых у него недоставало жизненного опыта: ему еще следует испытать реальность того, что он так хорошо знает из книг. И просит он мирянина, в духовной глубине которого уже убедился, рассказать, как тот начал свой путь к жизни в духе. Когда мирянин исполняет эту просьбу и рассказывает о своем духовном пути, то учитель признает в нем проводника в истинную духовную жизнь. Потрясенный своим открытием, просит он мирянина взять его в ученики. Нелегко далось ему это решение: он, известный ученый духовного звания, просит простого мирянина, который к тому же младше годами. Сама скромность говорит его устами, а ведь ему уже 50 лет: «И тому, кто последним пришел в виноградник, дали его полное вознаграждение… Хочу сказать тебе, крепко засели эти слова в моем сердце; и даже если бы я знал, что на этом пути мне суждено умереть, то все равно вступил бы на него. Вот только скажи мне, как начинать, ибо не могу я больше ждать». «Итак, учитель, раз я, руководствуясь Божественным промыслом, должен дать вам совет, то я охотно наставлю вас и дам первый урок, подобный тому, который дают детям, начиная учить их грамоте: это азбука — двадцать три буквы.
A — Абсолютно добрую, богоугодную жизнь начинай. B — Беги зла и взамен того верши добро. C — Достойно и смиренно во всех вещах придерживайся середины. D — Учись вести себя всегда внешне и внутренне со смирением. E — Целиком отдавайся Богу. F — Твердо и с неизменной серьезностью пребывай с Богом и в Боге. G — Будь послушным и согласным со всем божественным творением. H — Не оглядывайся постоянно вспять на мир и природу (на внешние рассудочность и чувственность). I — Рассматривай божественные явления внутренне, в душе своей. K — Отважно и твердо отражай искушения плоти и дьявола. L — Нерешительность преодолевай силой. M — Храни любовь к Богу и ко всем людям. N — Ни от кого ничего не желай, что бы и как бы это ни было. O — Приводи в порядок и обращай все во благо. P — Наказания, буде ниспошлет их Бог или твари, воспринимай, как если бы они ниспосланы были по твоей воле. Q — Прощай тех, кто когда-либо причинил тебе зло. R — Соблюдай чистоту души и тела. S — Пребудь кротким во всем. T — Имей доверие и искренность ко всем людям. U — Учись отказываться от излишеств, в чем бы они ни выражались. X — В мыслях своих всегда живи по Христу, и жизнь свою сообразуй по Его жизни и учению. Y — Моли святую Деву Марию, чтобы Она помогла тебе правильно усвоить урок сей. Z — Укрощай чувственную природу свою, и она научит тебя сохранять мир в душе твоей».«И чтобы полностью сосредоточиться на выполнении этих установлений, — советует учителю мирянин, — нужно на некоторое время отрешиться от всех земных дел. Смысл послушания в том, чтобы укрепить собственное Я, сделасть его неподвластным никаким душевным слабостям. Необходимо стать своим собственным пастырем». И как первый урок послушания рекомендует ему искренне, со смирением оглянуться на свою прежнюю жизнь и предаться размышлениям о жизни Христа. Учитель, брат монашеского ордена, возвращается в монастырь в свою келью и начинает в величайшей строгости подвижническую жизнь. Его наставник на прощание попытался обнадежить его: «Когда придет час, ведомый одному Господу, то примет Он вас и соделает из вас нового человека, всячески поспешествуя тому, чтобы вы вновь, вторично, родились в Боге…» Он напоминает учителю о том, что его поведение не поймут ни в городе, ни в монастыре, — решат, будто он сошел с ума; пусть его также не пугает, когда душевные бури обрушатся на него: «Полностью предайтесь воле Божьей — и не покинет Он вас!» Тут мирянин попрощался с учителем и вернулся к себе в Оберланд. По прошествии двух лет отчаянной борьбы с собственными душевными слабостями, переросшими в мучительный недуг, который учитель смиренно переносил, и поношений со стороны лучших друзей, в «ту же самую ночь, что был обращен святой Павел», он, уже изнемогающий от духовной жажды, добился наконец желанного посвящения… В полном сознании был ему голос: «Мир тебе и уповай на Господа, Который на земле принял образ человека; чье тело болящее Он излечит, того и душу исцелит!» И стоило прозвучать этим словам, как учитель был восхищен в сверхчувственное испытание, а когда снова был допущен к себе, то обнаружил в душе своей новую силу, преисполнившую все его существо. Радость, какую никогда прежде не испытывал, пронизала его, и в духе своем открыл он великую, светлую способность познания, которая была ему прежде неведома. И поскольку у него от всего этого голова пошла кругом, то послал он за тем, кто стал его лучшим другом, чтобы поведать ему о своем преображении. Мирянин, вняв его призыву, явился и с радостью узнал из уст учителя, что произошло. «От всего сердца поздравляю вас с новым рождением», — были его первые слова. Потом объяснил он учителю воздействие высших сил на его сокровенное Я: «И как буква вас прежде умерщвляла, так отныне она воскресит вас, ибо Писание исходит от Святого Духа, и коль скоро вы восприяли духовный свет, то в последующем явится пред вами Писание, знание которого вы носите в себе, в новом свете. Ибо многое кажется в Писании противоречивым, но стоит посмотреть на это в свете Духа — и узресшь дивную гармонию». Теперь советует он учителю возобновить проповеди, от которых тот отрешился на два года, ибо отныне способен он истинно наставлять людей; и одновременно советует беречь вновь обретенное сокровище души своей: «Храните смиренное молчание, ибо существуют враждебные силы, кои подстерегают просветленного человека, дабы похитить его сокровенное богатство». Еще одно испытание суждено выдержать учителю. После долгого перерыва он вновь готовится к проповеди. Собирается много народу, ведь это целое событие: тот, кто так долго молчал, опять всходит на кафедру. Прежде чем начать, учитель молится, прикрыв глаза капюшоном: «Милосердный Боже, да исполнится в проповеди моей милостивая воля Твоя». И тогда хлынули из глаз его слезы, не давая ему говорить. Нетерпение охватывает людей. Учитель пытается что-то сказать, но от внутреннего волнения у него ничего не выходит. Наконец он просит собравшихся его извинить: «Я не могу, я не в состоянии вымолвить ни слова». Прихожане расходятся, а по городу уже ползут слухи, что учитель сошел с ума. В монастыре его не допускают к проповеди: он срамит орден. И только мирянин утешает его: «Это испытание судьбы вам сейчас необходимо. И о других великих учителях говорили подобное». Он советует учителю испросить у приора дозволения выступить поначалу перед братией в монастырской школе. Это ему разрешают, и братья поражены его богоугодным, благонравным учением. Учитель произносит проповедь, которой суждено стать великим, выдающимся событием. Новый тон, неведомый прежде у него, звучит с кафедры: «Я более не желаю проповедовать на латинском языке. Отныне я отказываюсь это делать, а если и заговорю на латыни, то только перед священниками, которые понимают ее. Когда-нибудь язык народа станет истинным сосудом Духа». Все живее струится речь из уст учителя: «Вот слово, на котором я хочу остановиться в моей проповеди. Слово гласит: узрите, нареченный грядет, ступайте ему навстречу! Ко всем нам обращен этот зов, ибо все мы зовемся нареченными Христа. Через страшные муки, тяжкие испытания и самую смерть созревает невеста к духовному браку, в котором душа воспримет в лоно свое Дух Христа. Страдания — вот те жемчуга и тот любовный напиток, которые дарует ей жених. В горечи страдания обретает душа очищение, восходя по ступеням приуготовления. И чем больше в свете вечной мудрости взирает жених на невесту, тем милее становится она ему, и он оставляет ее в дарованном свыше страдании до тех пор, пока она не достигнет совершенной красоты и зрелости. И тогда, приветливо и ласково глядя на нее, говорит жених: “Прийди же ко мне, радужная невеста моя, ибо отныне нет на тебе пятен и ты совершенно чиста”. И озаряется душа предвечным светом Христовым. На это торжество является предвечный отец жениха и говорит: “В добрый вам путь, час пробил”… И берет Создатель жениха и невесту, и ведет их в церковь, и посвящает их друг другу, и соединяет их в такой великой супружеской любви, что никогда они уже не разойдутся — ни во времени, ни в вечности». Эта проповедь стала Песнью Песней мистического таинства. Каждое слово произносилось в состоянии такого высокого вдохновения, что оно передавалось внемлющим. Под воздействием этих дарованных свыше слов около сорока человек впали в экстаз… Они лежали словно мертвые, и тревога охватила прихожан, в том числе и самого учителя. Но только внешне казались они мертвыми. Мирянин, присутствовавший в храме, успокаивал учителя: «Не умерли они, но долго еще будут вникать в эту проповедь». Отныне проповеди учителя обрели новое значение — они не только утешали, но и преображали людей. Так Иоганн Таулер, великий немецкий мистик — ибо он и есть учитель, — и доминиканский монах из Страсбурга, испытал на себе благодатное воздействие Друга Бога. В своих проповедях он указывал пастве на тех людей, что хранят в душе сокрытую от внешнего мира божественную жизнь. Он называл Друзей Бога «столпами христианства» и сравнивал их с виноградной лозой: снаружи ее кора суха и может легко ввести в заблуждение, но тот, кому такой человек откроется, обнаружит струящиеся в его душе живительные соки — и бесконечное, плодоносное изобилие откроется алчущему. И вспомнит он слова, сказанные Христом своим апостолам на тайной вечере: «Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его; но Я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца Моего» (Ин. 15: 15). Так Таулер пережил в себе то, что в истинном смысле слова означает «посвящение». Тем не менее более чем шестьдесят лет благословенного служения Друга Бога подходили к своему завершению. В 1393 году некто Мартин из Майнца был заживо сожжен в Колоне по обвинению в том, что он заражен учениями Николаса из Базеля. Он объявил себя свободным от авторитета и власти Церкви и не делал никакого различия между священниками и мирянами. За год или два до окончания века, когда Николасу было почти 90 лет, пришло время последнего тяжкого испытания. Двое Друзей Бога были схвачены в Вене и предстали перед инквизицией. Первый из упомянутых был юрист, сопровождавший Николаса в Рим, второй — обращенный иудей. Николаса тоже арестовали, но он был настолько мудрым, что обвинители не нашли достаточного основания для вынесения приговора. Когда же потребовали, чтобы он отрекся от своих приговоренных друзей как от еретиков, он отказался, сказав, что их трое и они будут разлучены лишь на очень краткое время, дабы потом всем вместе навечно пребывать с Господом. Так оно и случилось: троих Друзей Бога поглотили языки пламени, но то была настоящая «огненная колесница», вознесшая их к Тому, Кто был так реален и Чей Голос был так нежен все эти долгие годы. Многие следуют за нашим Господом только половину пути: они оставят имущество, друзей и почести, но только не самих себя — для них невыносима уже одна лишь мысль, что необходимо отречься от самих себя.
Перевод с нем. под лит. редакцией В. Крюкова

Святой Хуан де ла Крус
Темная ночь
Пролог
4. Итак, дабы души знали, когда Божья милость захочет вести их вперед, мы даем здесь советы и предостережения как начинающим, так и продолжающим путь, чтобы они начали понимать себя или, по меньшей мере, позволили Богу вести их. Некоторые духовные отцы, не стяжавшие света и опыта этого пути, скорее вредят и мешают, нежели помогают подобным душам. Сии отцы подобны строителям Вавилонской башни, что, располагая нужным материалом, давали просящим иной, весьма с ним несхожий, ибо не понимали языка друг друга (Быт 11: 1–9), и потому не построили ничего. Оттого-то столь трудно и тягостно душе, что в это время она сама не понимает себя и не может найти того, кто бы ее понимал. Бывает так, что Бог ведет душу горним путем сквозь тьму созерцания и холодность, и ей кажется, что она потерялась в нем и осталась полной тьмы и трудностей, препятствий и искушений. Встреченные же говорят ей, как утешители Иову (2: 11), что тоска и скорбь свойственны ей, или, может быть, они — следствие какого-либо тайного греха, из-за которого Бог оставил ее, и обычно тотчас же судят, что это, должно быть, очень грешная душа, если такое с ней происходит.5. Найдутся и те, кто посоветует ей вернуться назад, ибо она не обрела в Божьих вещах ни отрады, ни утешения, известных ей раньше, и так удвоятся трудности бедной души. Ибо горшая мука, которую она ощутит, произойдет от познания ее собственной нищеты; когда яснее, чем при свете дня, увидит душа, сколь она исполнена зла и грехов, потому что Бог, в той ночи созерцания, дарует ей иной свет познания, о чем мы расскажем далее. И как только она находит кого-нибудь, кто подтверждает мнение, что все это по ее вине, то сии скорби и страдания возрастают безмерно и становятся горше смерти. Не довольствуясь этим, такие исповедники, убежденные, что причина в грехах этой души, поручают ей пересмотреть свою жизнь и исповедаться подробнейшим образом, и тем распинают ее заново. Они не понимают, что, возможно, это неподходящее время для таких действий и нужно просто оставить душу в очищении, даруемом ей Богом, утешая и ободряя ее, чтобы она желала того же, чего хочет Бог. Ибо, до поры до времени, что бы они ни сделали и ни сказали ей, ничто не поможет.
9. И ещё: я изначально не собирался обращаться ко всем, но только к некоторым людям нашей святой веры, а именно братьям и сестрам Горы Кармель изначального устава, просившим меня дать сии разъяснения. Это люди, которых Бог, по милосердию Своему, препровождает на стезю сей горы и которые, уже вполне обнажившись от бренных вещей мира сего, тем легче поймут науку обнажения духа.
Восхождение на гору Кармель[135] Фрагменты
Глава XIII
5. Для умерщвления и уничтожения четырех естественных страстей, каковые суть радость, надежда, страх и боль, от чьего успокоения и умиротворения проистекают эти и другие блага, помогут следующие советы, и исполнение их поведет к великим добродетелям.6. Старайся всегда склоняться не к тому, что легче, но к тому, что труднее; не к тому, что слаще, но к тому, что горше; не к тому, что приятнее, но к тому, что неприятнее; не к сулящему отдых, но к требующему труда; не к тому, что утешает, но к скорби; не к тому, что больше, но к тому, что меньше; не к тому, что возвышенно и ценно, но к тому, что низко и ничтожно; не к тому, чтобы желать чего-либо, но к тому, чтобы не желать ничего; не лучшей искать из вещей сотворенных, но худшей, — чтобы достичь, ради Христа, нищеты, наготы, пустоты во всем, что есть в этом мире.
7. Сии деяния подобает объять сердцем и стараться смирить ими свою волю, ибо, если творить их от души, последовательно и смиренно, очень скоро обретешь великое наслаждение и утешение.
8. Если надлежащим образом исполнять сказанное, то этого вполне хватит, чтобы войти в Ночь чувств. Но, для большего изобилия, опишем другие упражнения, что учат умерщвлять «похоть плоти, похоть очей и гордость житейскую», которые, как сказал Иоанн Богослов (1 Ин. 2: 16), суть не от Отца, но от мира сего, и которые порождают все другие желания.
9. Первое — старайся делать все, презирая себя, и стремись, чтобы тебя презирали все (сие против похоти плоти). Второе — старайся говорить о себе с презрением и стремись, чтобы все говорили о тебе с презрением (сие против похоти очей). Третье — старайся помышлять о себе с презрением и стремись, чтобы все помышляли о тебе с презрением (сие также против себя и против гордости житейской).
10. В довершение этих советов и правил надлежит поместить здесь следующие стихи, что написаны под изображением Восхождения на гору Кармель, помещенным в начале этой книги. В этих стихах заключена наука, как достичь вершины Горы, сиречь высочайшего единения с Богом. Речь в них идет главным образом о духовном и внутреннем, но описывается также дух несовершенства чувственного и внешнего. Это видно на примере двух тропинок, идущих по разные стороны от стези совершенства. Нужно заметить, что здесь рассматриваем их как пути несовершенств в чувственном плане. Затем, во второй части этой Ночи, они будут пониматься нами в духовном смысле.
11. Сказано:
КАК НЕ ЛИШИТЬСЯ ВСЕГО
12. Когда останавливаешься на чем-либо, перестаешь стремиться ко Всему; ибо, чтобы прийти ко Всему, нужно отринуть все; и когда придешь к обладанию Всем, не желай более ничего, ибо, желая чего-либо, ты не считаешь, что твое сокровище — в одном лишь Боге.13. В этой наготе духовная часть души обретает покой и отдохновение, ибо не жаждет ничего; ничто не утомляет ее на пути вверх и ничто не гнетет долу, потому что она пребывает в сердце своего смирения. Если же душа пожелает чего-либо, то утомится.
Темная ночь[136] Фрагменты
Глава I,
приводящая первую строфу и заводящая речь об ошибках начинающих
1. В эту Темную ночь души начинают входить, когда Бог выводит их из состояния начинающих, то есть обдумывающих свой духовный путь, и погружает в состояние продвинувшихся, то есть уже созерцающих, дабы эти души, пройдя через такое, достигли состояния совершенства, сиречь единения с Богом. Чтобы лучше описать и дать понять, что такое Ночь, через которую душа идет, и почему Бог погружает ее в эту Ночь, нужно сначала обсудить некоторые свойства начинающих. Это будет сделано по возможности кратко, но все равно принесет им пользу, чтобы они, понимая слабость своего состояния, воодушевились и возжелали, чтобы Бог погрузил их в Ночь, где они обретут силы и их души утвердятся в добродетелях, идя к бесценному наслаждению Божественной любовью. Пусть мы немного задержимся здесь, но это будет не дольше, чем нужно, чтобы поведать о сей Темной ночи.2. Нужно знать, что после того, как душа решительно обращается ко служению Богу, обычно Бог воздвигает ее в духе, лаская — так любящая мать холит и лелеет дитя, согревая теплом своей груди и кормя сладким молоком — яством мягким и деликатным; она балует его и носит на руках. Но, по мере того, как дитя растёт, мать отлучает его от груди, скрывая свою нежную любовь и нанося горькую обиду его неокрепшему сердцу. Она опускает его с рук на землю, заставляя идти самостоятельно, и так, отнимая у ребенка то, чем он владел, дает взамен нечто более высокое и существенное. Материнская любовь благодати Божией (Прем. 16: 25), возродив душу через новый жар и пыл, побуждающий служить Богу, поступает с ней точно так же. Бог позволяет, чтобы душа во всех Божественных вещах вкушала нежное сладостное молоко духа, не прилагая никакого труда, и ощущала великую радость от духовных упражнений, потому что таким образом Он дарует душе молоко Своей нежной любви, как новорожденному ребенку (1Петр 2: 2–3).
3. Начинающие наслаждаются, проводя долгое время в молитвах — иногда целые ночи; они получают удовольствие от покаяния, им нравится поститься, принимать таинства и сообщаться с Божественными вещами. Но, хотя эти вещи постоянно помогают им и приносят большую пользу и монахи усердно и с великим старанием используют их (в духовном смысле), начинающие обычно становятся очень слабыми и несовершенными в них, потому что эти вещи и духовные упражнения побуждают их к утешению и удовольствию, которое они доставляют; и, будучи еще не приучены испытаниями к суровой борьбе за добродетель, начинающие совершают в этих духовных трудах много ошибок. Наконец, каждый совершает эти труды в соответствии со своим навыком совершенства, а поскольку у них не было времени приобрести прочный названный навык, они неизбежно трудятся слабо, как дети. Чтобы яснее показать, сколько ошибок совершают начинающие в духовных делах, творимых с легкостью и удовольствием, мы рассмотрим это на примере семи смертных грехов. Мы опишем только часть из множества несовершенств, которые есть у каждого начинающего, объясняя, какое это младенчество — поступать так, как поступают они. Мы увидим также, сколько благ несет с собой Темная ночь, которую мы описываем, омывающая и очищающая душу от всех этих несовершенств.
Глава III,
служащая примечанием к тому, что воспоследует
1. В эту Ночь входят уже продвинувшиеся, которые уже провели некоторое время, питая чувства сладостными сообщениями, чтобы чувственная часть, привлеченная и услажденная духовным удовольствием, проистекавшим от духа, соединялась воедино с духовной и приспосабливалась к ней, вкушая, каждая по-своему, одно духовное яство с одного и того же блюда от одной предпосылки и предмета, чтобы они, некоторым образом уподобленные друг другу и объединенные, вместе приготовились идти тернистым путем длительного очищения духа, который их ожидает[137]. На этом пути две части души — чувственная и духовная — должны окончательно очиститься, потому что одна не может хорошо сделать сие без другой, так как полноценное очищение чувства заканчивается, когда воистину начинается очищение духа. Ночь чувств, которую мы описали, точнее было бы назвать преображением и обузданием желаний, нежели очищением, потому что все несовершенства и неупорядоченности чувственной части имеют свою силу и корень в духе, где коренятся все плохие и хорошие привычки, и поэтому, пока не очистился дух, чувство также не может полностью очиститься от дурных наклонностей и возмущений.2. А посему в той Ночи, которая воспоследует, обе эти части очистятся совокупно; это и есть та цель, ради которой надлежит пройти через преображение первой Ночи и через благополучие, которое из этого возникло, дабы чувство надлежащим образом соединилось с духом, очищалось и страдало здесь с большей силой, ибо в такой сильной и длительной чистке есть нужда; дабы оно страдало так сильно, что, если не преобразить прежде слабость внешней части и не стяжать силу в Боге через нежное и сладостное общение с Ним, которое душа обретет впоследствии, у нее не было бы ни силы, ни естественного расположения, чтобы это вытерпеть.
3. Поэтому у таких продвинувшихся всё общение и взаимодействие с Богом весьма низко и естественно, ибо они не очистили и не просветлили золото духа и посему все еще по-младенчески говорят о Боге, по-младенчески помышляют о Нем и по-младенчески рассуждают, как сказал апостол Павел (1Кор. 13: 11), так как не достигли совершенства, которое есть единение души с Богом. Через сие единение люди уже творят, как взрослые, великие дела в своем духе, ощущая свои действия и способности скорее Божественными, чем человеческими, как скажем позднее. Бог желает действительно совлечь с них ветхого человека и облечь их в нового, как сказал апостол — «в нового, который согласно Богу сотворен в новизне чувства» (Кол. 3: 9–10); Бог обнажает их от способностей, пристрастий и чувств (как духовных, так и чувственных, как внешних, так и внутренних), оставляя их разум во тьме, а волю — в сухости, опустошая память, погружая пристрастия души в предельные страдания, горечь и стеснение, лишая чувства и вкуса, которые душа ощущала прежде в духовных благах, чтобы это лишение было одной из главных вещей, что потребны духу, дабы в него внедрилась и в нем объединилась его духовная форма, то есть единение любви. Все это Господь творит в ней посредством чистого и темного созерцания, как душа дает понять в первой строфе. Эта строфа описывает первую Ночь чувства, но главным образом ее следует понимать через вторую Ночь, Ночь духа, ибо это главная часть очищения души. Мы помещаем ее здесь еще раз и объясняем уже в этом смысле.
Глава IV,
приводящая и объясняющая первую строфу
ОБЪЯСНЕНИЕ
1. Теперь мы понимаем эту строфу в связи с созерцательным очищением или наготой и нищетой духа (а всё это — примерно одно и то же). Следовательно, душа говорит так: «В нищете, беззащитности и непривязанности ни к каким ощущениям, что значит в темноте моего разума, стеснении моей воли и скорби и тоске памяти, оставаясь во тьме в чистой вере, которая есть Темная ночь для названных природных способностей (только воля ранена скорбью и печалью, сжигаема любовью и тоскою любви к Богу), — я вышла из себя самой, то есть из той себя, что низко познавала, слабо любила и бедно и скудно вкушала Бога; вышла так, что ни бес, ни чувственность мне не помешали.2. Это было великое блаженство и воистину прекрасный жребий для меня, ибо в окончательном уничтожении и иссякании способностей, страстей, желаний и пристрастий моей души, с коими я низко чувствовала и вкушала Бога, я вышла из свого человеческого общения и действия в Божественные общение и действие. Это значит: мой разум вышел из себя, возвращаясь от человеческого и естественного к Божественному, ибо, объединенный посредством этого очищения с Богом, он познает уже не через собственную силу и естественный свет, но через Божественную Премудрость, с которой объединился. И моя воля вышла из себя, становясь Божественной, ибо, объединенная с Божественной любовью, она не любит низко, с естественной силой, но с силою и чистотою Святого Духа, и воля относительно Бога также уже не действует по-человечески. Точно так же и память меняется от восприятия вечной славы. И наконец, все силы и привязанности души посредством этой Ночи и очищения ветхого человека обновляются в Божественном настрое и наслаждении. Эта строка гласит:
В НОЧИ НЕИЗРЕЧЕННОЙ
Глава V,
приводящая первую строку и начинающая объяснение того, почему это созерцание есть не только Ночь для души, но также скорбь и мука
1. Эта Темная ночь есть влияние Бога на душу, очищающее ее от привычного невежества и несовершенства, естественных и духовных. Созерцатели называют его внушенным созерцанием или МИСТИЧЕСКОЙ ТЕОЛОГИЕЙ, в коей Бог тайно обучает душу и наставляет ее в совершенстве любви, так что она не делает ничего и не понимает, как сие происходит. Поскольку это вселенное созерцание есть любовное познание Бога, оно производит два основных действия в душе: очищая и просвещая, располагает ее к единению любви с Богом; из чего следует, что та же самая любовная премудрость, которая очищает дух блаженных, просвещая их, здесь очищает душу и просвещает ее.2. Но может зародиться сомнение: почему Божественный свет, который, как мы говорим, просвещает и очищает душу от ее неведения, душа называет здесь Темной ночью? На это следует ответить, что Божественная Премудрость по двум причинам есть не только Ночь и тьма для души, но также и более — мука и скорбь для нее. Первая из них состоит в высоте Божественной Премудрости, которая превышает способности души и таким образом является для нее тьмой; вторая же состоит в низости и нечистоте души, и посему Премудрость для души тягостна, мучительна и притом темна.
3. Чтобы доказать первый тезис, надлежит привести истинное учение Философа, гласящее, что, чем более Божественные вещи ясны и явны сами по себе, тем более они естественным образом темны и сокрыты для души. Так, чем ярче свет, тем сильнее он ослепляет и помрачает глаза совы, и чем более ясно и открыто видится солнце, тем более оно затемняет зрение, отнимая его, ибо превосходит зрение из-за его слабости[138]. Поэтому, когда Божественный свет созерцания захватывает душу, которая еще не просвещена полностью, он порождает в ней духовную тьму, потому что не только превосходит ее, но также лишает естественного познания и помрачает его действие. Посему святой Дионисий и другие мистические богословы называли это внушенное созерцание лучом тьмы[139], каковым оно является, как следует знать, для души непросветленной и неочищенной — ибо своим великим сверхъестественным светом побеждает естественную силу разума и личности. Давид также сказал: «облако и мрак окрест Его» (Пс. 97: 2) — не потому, что это так само по себе, но лишь для нашего слабого познания, которое при таком безмерном свете помрачается и остается бессильным, не постигая; что тот же Давид объяснил, сказав: «великое сияние Его присутствия пронизывало облака»[140] (Пс. 17: 13), то есть облака между Богом и нашим восприятием. Поэтому Бог, отводя от Себя душу, которая еще не преображена этим просветляющим лучом Его тайной мудрости, творит темные сумерки в ее разуме.
4. Ясно, что это темное созерцание вначале болезненно для души, потому что у сего внушенного свыше Божественного созерцания есть множество чрезвычайно благих свойств, а воспринимающая их душа полна множества мерзостей, причем мерзостей предельно скверных, ибо она еще не очищена, и из этого следует, что, будучи не в силах заключить две противоположности в одном субъекте, душа неизбежно скорбит и страдает, чувствуя, что в ней эти две противоположности сражаются друг с другом, по причине очищения души, происходящего через сие созерцание. Это мы докажем следующим образом.
5. Что касается первого, свет и мудрость этого созерцания очень ясны и чисты, а душа, которую они захватывают, темна и нечиста; посему душа очень страдает, воспринимая их в себя; так больные гноящиеся глаза чувствуют боль от вторжения яркого света. Из-за нечистоты души эта боль безмерна, когда душа воистину захвачена этим Божественным светом, потому что, когда этот чистый свет вторгается в душу, чтобы изгнать нечистоту, душа чувствует себя столь нечистой и несчастной, что ей кажется, будто Бог против нее и она делает противное Богу. Сие происходит от ощущения, которое терзает здесь душу — ей кажется, будто Бог оставил ее. Это было одним из самых тяжких испытаний, которым подверг Бог Иова; и он вопрошал: «Зачем Ты поставил меня противником себе, так что я стал самому себе в тягость?» (7: 20); потому что душа, ясно видя здесь посредством сего света (хотя и во тьме) свою нечистоту, явственно познает, что недостойна ни Бога, ни какого бы то ни было творенья; и самые большие страдания ей причиняет то, что она думает, будто это никогда не изменится и все хорошее для нее закончилось. Ее разум глубоко погружается в познание и ощущение собственных ничтожества и несчастий, ибо здесь все они предстают ее глазам в этом дивном и темном свете, и, ясно видя их в себе, она не сможет уже чувствовать ничего другого. Мы можем понять это чувство из свидетельства Давида, сказавшего: «Упрёками за беззаконие Ты наказал человека, разрушил и иссушил его душу; так потрошат паука» (Пс. 39: 12).
6. Второй вид страданий причиняет душе ее естественная, моральная и духовная слабость, посему, когда это Божественное созерцание захватывает душу с некоей силой, желая укрепить и укротить ее, душа так сильно страдает от своей слабости, что это едва ли не убивает ее; особенно иногда, когда это захватывает её с несколько большей силой, ибо чувство и дух, словно находясь под неким неизмеримым и темным гнетом, страдают и мучаются столь сильно, что для них было бы облегчением решение умереть. Это узнал на опыте Иов, изрекший: «Не хочу, чтобы Он в полном могуществе говорил со мною, чтобы давил меня тяжестью Своего величия»[141] (23: 6).
7. В силе этого угнетения и скорби чувствует себя душа настолько чуждой того, чтобы ей благодетельствовали, что ей кажется (а так оно и есть), что то, в чем она обычно находила некую опору, ушло вместе со всем остальным, и нет никого, кто посочувствовал бы ей. В этом смысле сказал также Иов: «Помилуйте меня, помилуйте меня вы, друзья мои; ибо рука Божия коснулась меня» (19: 21). Сколь это дивно и печально: таковы нечистота и слабость души, что руку Бога, саму по себе столь нежную и сладостную, душа ощущает здесь столь тяжкой и отвратительной — при том что она не гнетет и не давит, а лишь прикасается, и прикасается милосердно, ибо делает это с целью оказать душе милость, а не покарать ее.
Глава VI,
о других видах страдания, которые претерпевает душа в этой Ночи
1. Третий вид страсти и скорби, который претерпевает здесь душа, она ощущает потому, что здесь объединяются две противоположности — человеческая и Божественная; первая есть это очищающее созерцание, а вторая — собственно душа. И Божественное так захватывает душу, чтобы выварить и обновить ее, чтобы сделать Божественной, обнажая от привычных пристрастий и свойств ветхого человека, с коими она крепко объединена, спаяна и согласована, так разрушая и ослабляя духовную субстанцию души и поглощая ее глубокою тьмой, что эта душа чувствует себя разрушающейся и уничтожающейся пред лицом и видом своих страданий в жестокой гибели духа; так проглоченный зверем чувствует себя перевариваемым в его темной утробе, терпя эти страдания, как Иона во чреве китовом (2: 1). Посему в этой гробнице темной смерти она должна находиться для духовного воскресения, коего ожидает.2. Образ этой страсти и скорби, хотя воистину она превосходит любой образ, описал Давид, сказавший: «Окружили меня стоны смертные; скорби ада объяли меня, и я кричу в муках»[142] (Пс 18: 5–6). Но то, отчего душа страдает здесь, и то, что она сильнее всего ощущает (ей явственно кажется, будто Бог отверг ее и, ненавидя, выбросил во тьму; и это тяжкое и скорбное несчастье), — чувство, будто Бог оставил ее. Все это описывал и Давид, много страдавший от сего: «Между мертвыми брошенный, — как убитые, лежащие во гробе, о которых Ты уже не вспоминаешь, и которые от руки Твоей отринуты. Ты положил меня в ров преисподний, во мрак, в бездну. Отяготела на мне ярость Твоя, и всеми волнами Твоими Ты поразил меня» (Пс. 88, 6–8). Посему воистину, под гнетом этого очищающего созерцания душа очень живо чувствует тень смертную, стоны смертные и муки адовы, состоящие в ощущении того, что Бог оставил ее, покарал и отверг, что она недостойна Его и Он гневается на нее; все это душа ощущает здесь, и более того — ей кажется, что это уже навсегда.
3. Точно так же душа чувствует, что ни одно из творений не может ей помочь, но все презирают ее — особенно друзья, как продолжал Давид: «Ты удалил от менямоих друзей и знакомых, я стал отвратительным для них» (Пс. 88: 9). Все это хорошо определил пророк Иона, узнавший сие на себе во чреве китовом: «Ты вверг меня в глубину, в сердце моря, и потоки окружили меня, все воды Твои и волны Твои проходили надо мною. И я сказал: отринут я от очей Твоих, однако я опять увижу святый храм Твой. (Он сказал так потому, что здесь Бог очищает душу, чтобы видеть это.) Объяли меня воды до души моей, бездна заключила меня; морскою травою обвита была голова моя. До основания гор я нисшел, земля своими запорами навек заградила меня» (2: 4–7). Под «запорами» здесь понимаются несовершенства души, мешающие ей получать удовольствие от сего сладостного созерцания.
4. Четвертый вид страдания причиняет душе другое свойство этого темного созерцания — его величие и высота, заставляющие душу чувствовать в себе другой предел — глубокой нищеты и страдания. Сие происходит от главных страданий, которые душа претерпевает в этом очищении, поскольку она ощущает в себе глубокую пустоту и нищету относительно трех видов благ, составляющих удовольствие души, каковые суть блага временные, естественные и духовные, видя себя поверженной в их мучительные противоположности, как то: в мерзость несовершенств, в сухость и отсутствие впечатлений, воспринимаемых способностями, и в беспомощность духа во тьме. Поскольку здесь Бог очищает душу согласно ее чувственной и духовной субстанции и согласно внутренним и внешним способностям, нужно, чтобы душа была погружена в пустоту, нищету и беззащитность всех этих частей, оставлена в сухости, в пустоте и во тьме; потому что чувственная часть очищается в сухости, способности в пустоте от впечатлений, а дух — в темных сумерках.
5. Все это Бог совершает посредством сего темного созерцания, в котором душа не только страдает от пустоты и молчания естественных ощущений, служивших ей опорой, что порождает весьма мучительное страдание, подобное тому, как если бы воздух застывал и застревал в легких, не позволяя дышать; но сие также очищает душу, уничтожая, опустошая и истощая в ней (как огонь выжигает ржавчину и патину металла) все пристрастия и несовершенные привычки, которые она усвоила за всю жизнь; и из-за того, что они очень глубоко укоренились в субстанции души, нестерпимо тяжело отречение от них и внутренняя мука кроме названной телесной и духовной нищеты и опустошенности. Чтобы подтвердить это, мы приведем свидетельство пророка Иезекииля, сказавшего: «Прибавь дров, разведи огонь, вывари мясо; пусть все сгустится и кости перегорят» (24: 10). Под сим понимается страдание, переносимое пустотой и нищетой чувственной и духовной субстанции души. И кроме этого, он говорит тут же: «И когда котел будет пуст, поставь его на уголья, чтоб он разгорелся, и чтобы медь его раскалилась, и расплавилась в нем нечистота его, и вся накипь его исчезла» (24: 11). Этими словами описано тяжкое страдание, которое душа претерпевает здесь, очищаясь огнем сего созерцания; как говорит пророк, чтобы очиститься и уничтожить ржавчину пристрастий, что находится в средоточии души, нужно, чтобы сама душа воистину уничтожилась и разрушилась в своих врожденных страстях и несовершенствах.
6. Посему в этом горниле страданий душа очищается, словно золото в тигле, как сказал мудрец[143] (Прем. 3: 6), и чувствует в этом великую отрешенность в самой субстанции души с предельной нищетой, в коей она уподобляется умирающему; как можно видеть в том, что говорил Давид, восклицая к Богу следующим образом: «Спаси меня, Боже; ибо воды дошли до души моей. Я погряз в глубоком болоте, и не на чем стать; вошел во глубину вод, и быстрое течение их увлекает меня. Я изнемог от вопля, засохла гортань моя, истомились глаза мои от ожидания Бога моего» (Пс. 69: 12–44). Таким образом Бог крепко смиряет душу, чтобы затем высоко вознести ее (Лк. 18: 14) и, если бы Он не повелевал, чтобы эти чувства, оживающие в душе, быстро засыпали, она умерла бы в самом скором времени. Но порою случается такое: чувствуется, что внутри она еще жива, и иногда сие ощущается так ясно, что душе кажется, будто она видит отверстый ад и преисподнюю; ибо о тех, с кем сие происходит, сказано, что воистину они «сойдут живыми во ад» (Пс. 54: 16), так как в этой Ночи очищаются таким же образом, как там, и это очищение — то же, что должно произойти там; и посему душа, прошедшая через него, либо вовсе не входит туда, либо задерживается там ненадолго, ибо один час, проведенный здесь, полезнее долгого времени, проведенного там.
Глава VII,
продолжающая обсуждать тот же предмет, говоря о других скорбях и стеснениях воли
1. Скорби и стеснения воли здесь также безмерны, так что иной раз они приводят душу во внезапное воспоминание об ее несчастьях, в коих она видит себя сомневающейся в своем исцелении. Вместе с этим усиливается воспоминание о прошедшем благоденствии; потому что обычно, когда души входят в эту Ночь, они получают много радости от Бога и много служат Ему; и им причиняет сильное страдание видеть, что они отдалены от сего блага и уже не могут стяжать его. Это также сказал Иов (ибо узнал на опыте): «Я был спокоен; но Он потряс меня; взял меня за шею и избил меня, и поставил меня целию для Себя. Окружили меня стрельцы Его; Он рассекает внутренности мои, и не щадит; пролил на землю желчь мою. Пробивает во мне пролом за проломом; бежит на меня, как ратоборец. Вретище сшил я на кожу мою, и в прах положил голову мою. Лице мое побагровело от плача, и на веждях моих тень смерти».(16: 12–16).2. Таковы и так тяжелы страдания этой Ночи, и столько свидетельств из Священного Писания, говорящих о них, мы могли бы привести, что нам не хватило бы времени и силы записать это, ибо, без сомнения, всего, что можно сказать, недостаточно. Однако через уже приведенные свидетельства можно отчасти представить сие. И, чтобы закончить с этим стихом и лучше дать понять то, что творит в душе эта Ночь, я напомню, что чувствовал в ней пророк Иеремия, который оплакивал сие во многих словах следующим образом: «Я человек, испытавший горе от жезла гнева Его. Он повел меня и ввел во тьму, а не во свет. Так, Он обратился на меня и весь день обращает руку Свою; измождил плоть мою и кожу мою, сокрушил кости мои; огородил меня и обложил горечью и тяготою; посадил меня в темное место, как давно умерших; окружил меня стеною, чтоб я не вышел, отяготил оковы мои, и когда я взывал и вопиял, задерживал молитву мою; каменьями преградил дороги мои, извратил стези мои. Он стал для меня как бы медведь в засаде, как бы лев в скрытном месте; извратил пути мои и растерзал меня, привел меня в ничто; натянул лук Свой и поставил меня как бы целью для стрел; послал в почки мои стрелы из колчана Своего. Я стал посмешищем для всего народа моего, вседневною песнью их. Он пресытил меня горечью, напоил меня полынью; сокрушил камнями зубы мои, покрыл меня пеплом. И удалился мир от души моей; я забыл о благоденствии, и сказал я: погибла сила моя и надежда моя на Господа. Помысли о моем страдании и бедствии моем, о полыни и желчи. Твердо помнит это душа моя и падает во мне» (Плач. 3: 1–20).
3. Обо всем этом плакал пророк Иеремия, очень живо описывая страдания души в сием очищении и в Ночи духа. Посему следует испытывать великое сострадание к душе, которую Бог погружает в сию несчастную и ужасную Ночь, хотя из этого проистекают великие блага для нее, когда, как сказал Иов, «возносит (Бог) в душе из тьмы великие блага, и производит на свету тень смертную» (12: 22), таким образом, что, как сказал Давид, «да будет Его свет, как были Его сумерки» (Пс. 139; 12). Со всем этим, с безмерной скорбью, с коей она идет вперед, страдая и испытывая величайшую неуверенность в своем исцелении — так как «верит (как сказал здесь пророк), что не закончатся ее несчастья», ей кажется, как сказал тот же Давид, будто «ее поместил Бог во тьму, как давно умерших, посему стосковался в ней ее дух и исстрадалось ее сердце» (Пс. 143: 3) — что происходит от великой скорби и печали. И пока это длится, по причине одиночества и беззащитности, порожденных этой Темной ночью, душа не найдет ни утешения, ни опоры ни в каком учении или духовном учителе, потому что, хотя ей многими способами объясняют, что она может обрести утешение через блага, которые есть в этих скорбях, поверить этому она не может. Она так напоена и переполнена этим безмерным ощущением несчастий, в коем столь явственно видит свое ничтожество, что ей кажется, будто они говорят это, не понимая ее, так как не видят того, что видит и чувствует она, и иной раз вместо утешения она скорее воспринимает новое страдание, и ей кажется, что нет никакого средства от ее несчастья. И вправду, так и есть, ибо, прежде чем Господь закончит очищать душу тем способом, которым Он хочет, никакое средство или лекарство не принесет ей пользы и не поможет в ее страданиях, тем более что душа так же мало может в этом положении, как узник в темном застенке, у которого связаны руки и ноги — так, что он не может ни двигаться, ни видеть, ни ощущать никакой радости от горнего или дольнего, пока дух не смирится, не смягчится и не очистится, не станет столь проницательным, простым и утонченным, что может сделаться единым с Духом Божьим, согласно степени единения любви, каковую Его милость захочет даровать этой душе, соответствующей этому очищению, более или менее сильному и более или менее длительному.
4. Но, если воистину должно нечто произойти, в зависимости от того, насколько сильно сие очищение, несколько лет, в течение которых душа погружена в него, перемежаются периодами облегчения, когда через данное Богом освобождение сие темное созерцание больше не захватывает душу с очищающей силой, а захватывает просветляюще и любовно, так что душа, как бы радостно вышедшая из этой тюрьмы и из плена[144], и свободно отдыхающая на просторе, ощущает и вкушает великую сладость мира и любовного дружества с Богом, с изобильной легкостью духовного сообщения. Это — признак здоровья души, дарованного ей названным очищением, и признак изобилия, которое ожидается; иной раз это таково, что душе кажется, будто ее труды уже завершились. Сие есть свойство духовных состояний в душе, если они действительно духовные — когда душа пребывает в тяготах, ей кажется, что она уже никогда не выйдет из них и что ее блага иссякли, как это можно видеть в приведенных свидетельствах; а когда душа вкушает духовные блага, ей также кажется, что ее несчастья уже закончились, и блага никогда больше не отнимутся; так Давид, видевший, что с ним это происходит, каялся в этом, говоря: «И я говорил в благоденствии моем: “не поколеблюсь вовек”» (Пс. 30: 7).
5. Сие происходит потому, что нынешнее состояние духа, пребывающего в одной противоположности, своим действием изменяет нынешнее состояние и ощущение другой противоположности; но то же самое не происходит таким же образом в чувственной части души, ибо ее ощущения слабы. Но, в то время как дух здесь еще не вполне очищен и омыт от пристрастий, которые дает внутренняя часть, он несет в себе противоречия; и, хотя дух не меняется, поскольку пристрастен к ним, он сможет измениться в муках; так изменился, как известно, Давид после многих несчастий и страданий, хотя во время его благоденствия ему казалось, что оно никогда не прейдет. Так и душе, которая видит себя пребывающей в этом изобилии духовных благ, не бросаются в глаза корень несовершенств и нечистота, которые все еще остаются в ней, ибо она думает, что ее труды уже завершились.
6. Но эта мысль приходит нечасто, ибо до того, как закончится духовное очищение, эти сладостные сообщения очень редко приходят так изобильно, что скрывают невыкорчеванный корень таким образом, что душа перестает чувствовать там, внутри, что ей чего-то не хватает или что она должна что-то сделать, и сие не позволяет ей полностью насладиться дарованным облегчением, чувствуя там, внутри, как бы своего врага: хотя он будто бы успокоился и уснул, есть подозрение, что он возродится и вновь примется за свое; и, когда душа более спокойна и меньше испытывает себя, она вновь поглощается и захватывается другой стадией, худшей и более долгой, темной и мучительной, чем прошедшая, причём она может длиться дольше, чем первая. И здесь душа снова начинает верить, что все хорошее для нее закончилось навсегда; ей недостаточно опыта, который принесло прошедшее благоденствие, коим она насладилась после первоначальных трудов (в коем она также думала, что больше ни о чем уже не будет скорбеть), чтобы перестать верить на этой второй стадии стеснения, что все хорошее уже кончилось и не вернется, как в прошлый раз; ибо, как я говорю, причина этой твердой уверенности — нынешнее состояние духа, которое уничтожает в душе все, что в ней есть от противоположного состояния.
7. Именно поэтому страждущие в чистилище страдают от великих сомнений в том, что они когда-либо выйдут оттуда и их мучения кончатся; хотя обычно они обладают тремя богословскими добродетелями, то есть верой, надеждой и любовью, та действительность, в которой они страдают и лишены Бога, не позволяет им наслаждаться нынешним благом и утешением от этих добродетелей. Ибо, хотя им бросается в глаза, что они любят благо Бога, это не утешает их, потому что им кажется, будто Бог не любит их и они недостойны этого; напротив, так как они видят, что лишены Его и погружены в такое ничтожество, им кажется, что они несут в себе очень много зла, и посему отвратительны Богу и отвергнуты им навсегда по весомым причинам. И так, хотя в этом очищении душа видит, что сильно любит Бога и готова отдать за Него целую тысячу жизней (и это правда, ибо в этих тяготах сии души со многой верностью любят своего Бога), всё же это не приносит душе облегчения, а, скорее, причиняет большую скорбь; ибо, любя Его так, что не имеет иной заботы, кроме как радеть о Нем, и видя себя столь несчастной, она не может поверить ни тому, что Бог любит ее, ни тому, что она когда-либо это обретет, но, скорее, тому, что она навсегда отвратительна не только Ему, но и всякой твари — и страдает, видя, что заслуживает быть отвергнутой Тем, Кого она так любит и жаждет.
Глава VIII,
говорящая о других страданиях, которые терзают душу в этом состоянии
1. Другая вещь сильно терзает здесь душу, делая ее безутешной, — то, что, поскольку эта Темная ночь препятствует способностям и пристрастиям, душа не может ни вознести страсть или разум к Богу, ни молиться Ему; ей кажется, как пророку Иеремии, что Бог «закрыл себя облаком, чтобы не доходила молитва наша» (Плач. 3; 44), и потому она хочет сказать, как в приведенном свидетельстве: «Он преградил дороги мои квадратными каменьями» (Плач. 3: 9). И если иной раз душа молится, эта молитва настолько лишена силы и сока, что ей кажется, будто Бог не слышит ее и не обращает внимания, как говорит тот же пророк: «И когда я взывал и вопиял, задерживал молитву мою» (Плач. 3: 8). И вправду, это время не для того, чтобы говорить с Богом, но для того, чтобы полагать, как говорит Иеремия, «уста свои в прах, если вдруг к нему пришла бы надежда» (Плач. 3: 29), терпеливо перенося свое очищение. Бог творит сие здесь в душе при ее бездействии; посему она не может ничего: ни молиться, ни внимать вещам Божественным, ни тем более сделать что-либо в других, мирских делах и заботах. И не только это с ней происходит: часто случаются также такие приступы отчужденности, а память погружается в такое глубокое забвение, что порой проходит долгое время, в течение которого она не знает ни того, что сделала или подумала, ни того, что делает или должна сделать, и не может заметить (хотя и хочет) ничего из того, в чем находится.2. Поскольку здесь не только разум очищается от своего света, а воля — от своих пристрастий, но и память — от своих рассуждений и познаний, нужно также уничтожить в ней их все. Чтобы исполнилось то, что сказал о себе Давид, — то есть чтобы в этом очищении «я был уничтожен и не разумел» (Пс. 72: 22)[145]; (сие «не разумел» относится здесь к этому неведению и забвению, каковое причиняется внутренним созерцанием, поглотившим душу) дабы душа со своими способностями расположилась и настроилась на Божественное для Божественного единения любви, нужно, чтобы сначала она была поглощена вместе с ними всеми этим Божественным и темным духовным светом созерцания и тем самым отстранилась от всех пристрастий и впечатлений от творения, и единственное, что останется тогда при ней, — это ее намерение. Чем более чисто и просто этот Божественный свет захватывает душу, тем более он помрачает ее, опустошает и уничтожает в ней страсти к отдельным впечатлениям и пристрастиям, порождаемым как горним, так и дольним; и чем менее чисто и просто он захватывает душу, тем меньше отчуждает ее и тем меньше она бывает помрачена. Это кажется невероятным — сказать, что сверхъестественный Божественный свет тем больше помрачает душу, чем она яснее и чище, и чем менее чиста она, тем меньше он ее помрачает. Если рассмотреть доказанное выше, оно соответствует изречению Философа, гласящему, что сверхъестественные вещи тем темнее в нашем разуме, чем они ясней и отчетливей сами по себе.
Перевод с исп. Ларисы Винаровой
Комментарии Составитель В. Крюков
01
Сен-Сюльпис. — Церковь принадлежала ранее аббатству Святого Сульпиция. Ее начали возводить в середине XVII в. на месте часовни святого Петра, стоявшей здесь с XII в. Строительство сопровождалось множеством затруднений. Начнем с того, что церковь строили более 130 лет, но из-за недостатка средств одна из двух башен (Гюго сравнил их с «двумя большими кларнетами»!) не была закончена. Южная башня так и осталась на пять метров ниже северной, украшенной статуями четырех евангелистов! Внутри находится обелиск белого мрамора и гномон, позволяющий определять наступление весеннего равноденствия и Пасхи. Внутренняя отделка продолжалась более полутора столетий. Главный фасад храма также долго оставался незавершенным — для того чтобы закончить работы, пришлось сменить архитектора. Наконец, вразрез с первоначальным замыслом, фронтон храма заменила нарядная балюстрада… Дело в том, что фронтон сгорел от удара молнии — и это бедствие было сочтено Господней карой и вновь воскресило множество слухов и сплетен об истории аббатства, в самом деле не вполне однозначной… Некогда за стенами аббатства находился семинарий Сен-Сюльпис — католическое учебное заведение. Документы рассказывают, что семинарий был основан в эпоху Людовика XIII известным богословом Жан-Жаком Олье (см. коммент. 57). Мемуары современников рисуют аббата Олье человеком тяжелого характера, сторонником крайнего самоотречения и умерщвления плоти для лиц духовного звания. Многие, впрочем, полагали, что к концу жизни у Олье прослеживались признаки душевной болезни, что сыграло свою роль в создании определенной мистической обстановки в семинарии Сен-Сюльпис… С аббатством Сен-Сюльпис и именем Олье связывают также некое таинственное «Общество Святой Евхаристии». Говорят, что к обществу имели отношение суперинтендант финансов Людовика XIV Фуке, философы Фенелон и Ларошфуко, баснописец Лафонтен, представители знатнейших аристократических родов и даже принцы крови… Общество, противостоящее кардиналу Мазарини и критикующее политику короля, вскоре было запрещено и распущено. Богословская же школа в Сен-Сюльписе ничуть не пострадала, и по-прежнему оставалась элитным учебным заведением для отпрысков дворянских семей. Со временем репутация Сен-Сюльпис ничуть не изменилась. В XVIII в. обучаться в нем одновременно означало в глазах света и получить прекрасное духовное образование, и вступить в масонское общество — семинарий едва ли не легально считался центром французского масонства! (обратно)02
Жак-Мари-Луи Монсабре — проповедник в Нотр-Дам де Пари. Анри Дидон — либеральный католический проповедник. Морис д’Юльст — ректор Католического института в Париже. Констан Коклен — знаменитый комический актер. (обратно)03
Жоскен Депре (Josquin Despres) (ок. 1440–1521 или 1524) — франко-фламандский композитор. Представитель нидерландской школы. Обобщив ее достижения, отказался от чрезмерных усложнений музыкальной ткани, способствовал прояснению полифонического стиля. Автор месс, мотетов, светских песен, инструментальных пьес. Палестрина, Джованни Пьерлуиджи да Палестрина (Palestrina) (около 1525 г., Палестрина, близ Рима — 2 февраля 1594, Рим), — итальянский композитор, глава римской полифонической школы. В 1544–1551 г. органист и капельмейстер главной церкви г. Палестрины. С 1551 г. работал в Риме (в частности, в папской капелле, в церкви Санта-Мария Маджоре, Сикстинской капелле). Творчество Палестрины связано в основном с духовной хоровой музыкой а капелла. Палестрина добился новой, более ясной и пластичной выразительности в полифонической музыке и тем самым вместе с другими композиторами того времени подготовил стилевой перелом, наступивший на рубеже XVI–XVII вв. Палестрина написал более 100 месс, около 180 мотетов, гимны, магнификаты, духовые и светские мадригалы. Орландо Лассо (около 1532–1594), — франко-фламандский композитор. Представитель нидерландской школы. Работал во многих городах Европы. Творчески претворил характерные черты нидерландской, немецкой, французской и итальянской музыки. Создал высокие образцы полифонического искусства (свыше 2000 светских и духовных сочинений). (обратно)04
Лесюёр, Жан Франсуа (Jean-François Lesueur) (1760–1837) — французский композитор, много и плодотворно писавший о музыке, профессор парижской консерватории, автор опер и духовных произведений. Капельмейстер ряда французских храмов в середине XIX в. (обратно)05
Квентин Метсю (Метсюс) (10 сентября 1465/1466, Лёвен, Южный Брабант — 13 июля/16 сентября 1530, Антверпен) — фламандский живописец. Стремился к синтезу принципов нидерландского и итальянского Возрождения. Работал в Антверпене, писал большие алтарные картины и жанровые сцены моралистического содержания, в которых проявился его интерес к реальному жизненному началу — портретным характеристикам, бытовой обстановке, пейзажной среде. Оказал сильное влияние на нидерландских и немецких мастеров XVI в. (обратно)06
Люкарна (франц. lucarne) — оконный проём в чердачной крыше или купольном покрытии. Люкарны, имеющие декоративное значение, снаружи часто украшены наличниками, лепными обрамлениями и т. п. (обратно)07
Франджипани (Frangipani) — римская аристократическая фамилия, происхождение которой связывается с родом Анициев (Anicii) времен римских императоров; но по историческим памятникам ее можно проследить лишь с 1014 г. В XI–XIII столетиях эта фамилия несколько раз играет важную роль в истории Италии, главным образом Рима: члены ее были вождями партии гибеллинов. Фома Челанский (Tommaso da Celano) — итальянский писатель XIII в., писавший по-латыни. Родился в местечке Челано в Аббруццах, неизвестно в каком году; был, по-видимому, одним из первых последователей Франциска Ассизского, хотя и не упоминается у Ваддинга в числе 12 апостолов святого. В 1221 г. назначен кустодом миноритских монастырей в Вормсе, Майнце и Кельне, в 1222 г. — полномочным министром немецкой орденской провинции. В 1230 г. вернулся в Ассизи, где, по поручению Папы Григория IX, написал «Жизнь св. Франциска», сосредоточившись прежде всего на легендарных чертах образа святого. Реальные факты мирской жизни Фомы Челанского практически отсутствуют. Впоследствии, по приказанию генерала ордена, он написал второе житие св. Франциска, где последний представлен в несколько ином освещении — сообразно с воззрениями его строгих последователей. Это второе жизнеописание Франциска издано в Риме в 1880 г. Умер Фома в 1255 г. Ваддинг приписывал ему несколько латинских гимнов, в том числе знаменитый Dies irae, в котором изображен необычайно грандиозными чертами Страшный суд и представлены чувства человека в ожидании конца мира. Гимн Dies irae в несколько измененном виде сделался достоянием католической Церкви, войдя в состав заупокойной обедни, и положен неоднократно на музыку величайшими композиторами. Святой Бернард, Бернар Клервоский (Bernard de Clairvaux; Bernardus abbas Clarae Vallis, 1091, Фонтен, Бургундия — 20 или 21 августа 1153, Клерво) — французский средневековый мистик, общественный деятель, аббат монстыря Клерво (с 1117). Происходил из знатной семьи, в двадцатилетием возрасте вступил в цистерцианский орден, где своим подвижничеством снискал популярность. В 1115 г. основал монастырь Клерво, в котором стал аббатом. Благодаря его деятельности малочисленный цистерцианский орден стал одним из крупнейших. Бернар Клервоский придерживался мистического направления в теологии, был ярым сторонником папской теократии. Активно боролся с ересями и свободомыслием, в частности, был инициатором осуждения Пьера Абеляра и Арнольда Брешианского на церковном соборе 1140 г. Активно боролся с ересью катаров. Не будет преувеличением сказать, что Бернар Клервоский — один из основателей средневековой христианской мистики. Основа мистического вдохновения, по Бернару, — смирение. У него же описываются 12 ступеней мистического восхождения. Любовь — лучший плод смирения. На основе смирения и любви достигается молитвенное созерцание Истины. Вершина его — состояние мистического экстаза. Участвовал в создании духовно-рыцарского ордена тамплиеров. Был главным идеологом и организатором второго Крестового похода (1147), написал первый устав для духовно-рыцарских орденов (устав тамплиеров). Содействовал росту монашеского ордена цистерцианцев, в его память получившего название бернардинцев. На фоне невыразительных фигур Пап того времени, среди которых были и его ученики из Клерво, святой Бернар приобрел колоссальный авторитет в церковных и светских кругах. Он диктовал свою волю Папам, французскому королю Людовику VII. Целью человеческого существования считал слияние с Богом. Канонизирован в 1174 г. (обратно)08
Мадлен — Король Карл VIII посвятил это место святой Марии Магдалине, «которая с незапамятных времен особо почиталась горожанами». На протяжении веков церковные здания сменяли здесь друг друга, пока по решению Наполеона I (1806) не была выстроена нынешняя церковь. Здание, проект которого был заказан Пьеру-Александру Виньону, предполагалось посвятить славе наполеоновской Великой армии, архитектура должна была вдохновляться примером греческих храмов. Людовик XVIII продолжил работы по изначальному проекту, но завершенный в 1842 г. храм был отдан Церкви. Здание поддерживают 52 коринфских колонны, на треугольном фронтоне изображен Страшный суд, работа скульптора Филиппа-Анри Лемера. (обратно)09
Массне, Жюль Эмиль Фредерик (Massenet, Jules Emile Frdric) (1842–1912) — французский композитор, родился 12 мая 1842 г. в Монто. Был удостоен нескольких наград Парижской консерватории, а также Римской премии; в 1878–1896 гг. был профессором композиции в консерватории. В 1878 г. избран в Академию изящных искусств. Самые известные оперы Массне — «Манон» (1884), «Вертер» (1892), «Таис» (1894) и «Жонглер де Нотр-Дам» (1902). Среди сочинений других жанров — несколько ораторий, сюиты для оркестра, фортепианные пьесы, песни, а также концерт для фортепиано с оркестром. Умер Массне в Париже. Дюбуа, Теодор Франсуа Клеман (1837–1924) — французский композитор, служил капельмейстером парижских церквей Св. Клотильды и Св. Марии Магдалины, преподавал в консерватории, автор актуальных поныне руководств по гармонии и контрапункту, а также ряда произведений для исполнения в католической церкви, в том числе оратории «Семь слов Христа». Годар, Бенжамен Луи Поль (Benjamin-Louis-Paul Godard) (1849–1895) — французский композитор и пианист. Известен главным образом как автор салонных пьес для фортепиано — скрипач и композитор. Написал трио, скрипичный концерт, фортепианные пьесы, небольшие вокальные сочинения, симфонические произведения; инструментовал также Kinderscenen Шумана. Видор, Шарль-Мари (1844–1937) — органист, композитор и педагог. Так же, как и С. Франк, преподавал в Парижской консерватории игру на органе и композицию. Некоторые ученики С. Франка также учились у Ш.-М. Видора. Можно сказать, что Ш.-М. Видор наравне с С. Франком взрастил целое поколение замечательных музыкантов, ставших позже во главе французской композиторской школы. Хотя Ш.-М. Видор сочинял в различных жанрах духовной и светской музыки, основную известность получили его органные сочинения, предназначенные для грандиозных симфонических органов работы органного мастера А. Кавайе-Коля. Наряду с А. Гильманом Ш.-М. Видор явился основоположником жанра органной симфонии. Его десять органных симфоний представляют собой масштабные, технически сложные многочастные композиции, в которых орган трактуется как эквивалент большого оркестра. (обратно)10
Не было у меня пути в Дамаск… — Речь идет о пережитом апостолом Павлом опыте встречи с воскресшим Иисусом Христом, который привел его к обращению и стал основанием для апостольской миссии. В период массовых гонений на христиан юный фарисей Савл (ивр. Шауль), способнейший выпускник Иерусалимской раввинской академии, получил от саддукейского первосвященника полномочия привести в Иерусалим христиан из Дамаска для сурового наказания. В 7–9 главах Деяний Апостолов несколько раз говорится об активном участии Павла (называемого вплоть до Деян. 13:9 исключительно Савлом) в гонениях на раннюю христианскую церковь; сам Павел также упоминает в ряде посланий, что до обращения участвовал в преследовании христиан. Савл был, по всей видимости, моложе Иисуса. Весьма вероятно, что оба они находились в Иерусалиме в одни и те же пасхальные дни. Однако в Новом Завете нет никаких свидетельств того, что он видел Иисуса до казни. Разумеется, что, наделенный особыми полномочиями по истреблению христианства за пределами Палестины, юноша не мог и подумать тогда, что Господь уже назначил его «сосудом избранным Себе». Как повествует книга Деяний, на пути в Дамаск Савла внезапно ослепил ярчайший свет. Повалясь на землю, он услышал голос Господа: «Савл, Савл, почему ты гонишь Меня?» Спутники ослепшего Савла также слышали голос Христа и Его повеление идти в Дамаск к христианской общине. Приведенный к христианам, Савл принял у них крещение, во время которого прозрел и стал Павлом. Ярость иудеев, взбешенных обращением Савла, заставила его бежать в Иерусалим. Впоследствии «апостол язычников», не входивший в число двенадцати апостолов, стал одним из главных идеологов христианства и автором нескольких книг Нового Завета (девять посланий различным церквам и четыре послания частным лицам). Одним из самых значимых его посланий является Послание к Римлянам, написанное в 58 г. в Коринфе и адресованное христианской общине Рима. Ревностный проповедник Евангелия в Палестине, Греции, Малой Азии, Италии и других регионах античного мира, апостол Павел перенес много страданий за распространение веры Христовой и был обезглавлен в Риме при Нероне в 64 г. (по другой версии — в 67–68 гг.). (обратно)11
Выпустив в свет биографию Жиля де Рэ… — Жиль де Монморенси-Лаваль, барон де Рэ, граф де Бриеннь (фр. Gilles de Montmorency-Laval, baron de Rais, comte de Brienne, осень 1404 — 26 октября 1440), известен как Жиль де Рэ (фр. Gilles de Rays) или Жиль де Ретц (фр. Gilles de Retz) — французский барон, маршал и алхимик, чьё имя овеяно ореолом страшных легенд, подлинность которых оспаривается современными историками. Родился на границе Бретани и Анжу в замке Машкуль. Ветеран Столетней войны. Сподвижник Жанны д’Арк и военный руководитель её ополчения. В 1429 г. произведен в маршалы. На следующий год удаляется в свои поместья. После доноса недоброжелателей был привлечен к суду инквизиции, в результате которого объявлен алхимиком, убийцей, гомосексуальным маньяком-педофилом и садистом. За приписанные ему зверства 26 октября 1440 г. он был повешен в Нанте, а тело предано сожжению. Разговоры о реабилитации Жиля де Рэ начались в 1992 г., когда по инициативе литератора Жильбера Пруто был организован судебный процесс, который проходил в Люксембургском дворце. Судебная коллегия, в которую вошли адвокаты, писатели, политические деятели (в том числе два экс-министра), учёные, изучила материалы инквизиционного суда, завещания и ленные грамоты. В результате был сделан ошеломляющий вывод: процесс был сфабрикован. Спустя 552 года после казни Жиль де Рэ был признан невиновным и официально реабилитирован. В народном сознании Жиль де Рэ превратился в легендарного Синюю Бороду. Этот образ использовали в музыке Поль Дюка и Бела Барток, в литературе Шарль Перро, Морис Метерлинк и Жорис-Карл Гюисманс (1891) (см. роман «Без дна», вышедший в издательстве «Энигма» в 2006 г.). (обратно)12
Гёррес, Йохан Йозеф фон (Gorres, Johann Joseph von) (25 января 1776–1848), — немецкий католический публицист, историк, светский теолог. Родился в Кобленце. В 1786–1793 гг. учился в местной гимназии, затем самостоятельно изучал медицину, естествознание, историю. В 1794 г. Кобленц в составе рейнского левобережья был захвачен французами. В это время Гёррес познакомился с идеями французского Просвещения, приветствовал присоединение родного края к Французской республике и разделял идеи Французской революции (был председателем клуба якобинцев в Кобленце). Вышел из Католической церкви и занялся политической публицистикой. Побывав в 1798–1799 гг. в Париже, Гёррес утратил интерес к Франции, разочаровался в революции. Прекратил публицистическую деятельность и с 1800 г. был учителем естествознания в средней школе Кобленца, а в 1806–1808 гг. преподавал в должности приват-доцента в Гейдельбергском университете. Знакомство с немецкими литераторами, «гейдельбергскими романтиками» А. фон Арнимом и К. Брентано (с последним издавал «Газету для отшельников»), пробудило в нем интерес к фольклору и мифологии. В 1808 г. возвратился в Кобленц, где в 1814–1816 гг. издавал ежедневную газету «Райнишер Меркур» (антинаполеоновской направленности), первую крупную политическую газету в Германии. После выхода в свет брошюры Гёрреса «Германия и революция» (Teutschland und Revolution, 1819) вынужден был переехать в Страсбург и затем в Швейцарию. В изгнании Гёррес примирился с Римско-католической Церковью (1824), участвовал в издании строго церковного католического журнала «Католик» (Der Katholik). Результатом занятий христианской мистикой стали его книги «Святой Франциск Ассизский — трубадур» (Der Heilige Franziskus von Assisi, ein Troubadour, 1826), «Эмануэль Сведенборг» (Emanuel Swedenborg, 1827) и главный его труд «Христианская мистика» (Die christliche Mystik, 4 тома, 1836–1842). Кстати, Ж.-К. Гюисманс при написании романа «На пути» почерпнул немало сведений из этого фундаментального труда. В 1827 г. король Людвиг I Баварский пригласил его занять профессорскую кафедру всеобщей истории и истории литературы в Мюнхенском университете. Рупором кружка Гёрреса стал журнал «Эос», а с 1838-го — «Историко-политический журнал для католической Германии». Эти издания постепенно превратились в важные литературные органы формирующегося политического движения немецких католиков, выступавших за свободу Германии и ориентированных на создание «Великой Германии». Блаженная Лидвина. — Лидвина из Скедама (нидерл. Liduina van Schiedam, 18 марта 1380, Скедам, под Роттердамом — 14 апреля 1433, там же) — нидерландская святая. В пятнадцатилетием возрасте, катаясь на коньках, упала и сломала ребро. Стала калекой, тридцать пять лет провела без движения (сегодня её болезнь описывают как рассеянный склероз). Обходилась без сна и еды, почти без питья. Совершала чудеса. Сочинений не оставила. Могила Лидвины превратилась в место поклонения, в 1434 г. над ней была воздвигнута церковь. Биографию Лидвины написал Фома Кемпийский. Канонизирована в 1890 г., день памяти — 14 апреля. Книга о святой была написана Ж.-К. Гюисмансом в 1901 г. (обратно)13
…непорочный аромат «Золотой легенды» Иакова Ворагинского… — Иаков Ворагинский (лат. Jakobus de Voragine, итал. Jacopo da Varazze) (1230, Варацце, близ Генуи — 13 или 14 июля 1298, Генуя) — монах-доминиканец, итальянский духовный писатель. В 1292 г. архиепископ генуэзский, автор первого перевода Библии на народный итальянский язык, оставшегося неизданным, а также «Sermones quadragesimales et dominicales» (Венеция, 1589; Тулуза, 1874–1876) и житийного сборника «Золотая легенда» (Legenda aurea sive historia Lombardica). Этот сборник, составленный в 1250-е гг., без всякой критики, частью по письменным источникам, частью на основании устных народных преданий, был в Средние века широко распространён и переведён почти на все европейские языки. В качестве литературного материала использовались как канонические, так и популярные апокрифические Евангелия, к примеру «От Никодима»; истории из «Житий святых отцов» Иеронима, «Церковной истории» Евсевия, «Зерцала исторического» Винсента из Бове, труды Амбросия Медиоланского, Альберта Великого, Иосифа Флавия, Григория Турского, Иоанна Кассиана, Кассиодора и многие средневековые произведения. Всего выявлено более 130 использованных им текстов, хотя для многих историй определить источник, откуда Иаков Ворагинский взял тот или иной сюжет, не удалось: кроме пересказа текстов старых авторов он добавил множество легенд и сказаний, взятых им из устных рассказов. (обратно)14
Каботинка (фр. Cabotine — разг. устар., неодобрит.) — женщина, стремящаяся к артистической карьере, к внешнему успеху, блеску и переносящая актерские манеры в жизнь. (обратно)15
Вот сам Гюстав Флобер написал замечательную повесть по мотивам легенды о святом Юлиане Милостивце. — «Легенда о Юлиане Милостивце» Г. Флобера явилась одной из позднейших переработок (1877) агиографического материала «Золотой легенды» Иакова Ворагинского. (обратно)16
«Лики святых» Элло… — Ревностный католик, но весьма посредственный писатель, Эрнест Элло (Ernest Hello) (1828–1885) в своих произведениях — «Человек» (1872), «Лики святых» (1875) — разрабатывал тему христианской мистики. (обратно)17
Средние века в «Подражании Христу» тоже прокляли эту жизнь… — Имеется в виду книга Фомы Кемпийского «О подражании Христу». Томас Хемеркен родился в 1379/80 г. в Кемпене (неподалеку от Кельна). От этого места и происходит его имя: Фома Кемпийский. Родители его были бедны, но все же отправили в школу в Девентер (Голландия), которой управляли «Братья общинной жизни». Это движение было начато Геертом де Гроотом (1340–1384), богатым каноником. Он основывал неформальные мирские общества, и его последователи занимались просвещением. В 1387 г. несколько его учеников основали Обитель каноников-августинцев в Виндесхайме, рядом с городом Цволле в Голландии, и она стала «материнской обителью» для расширяющегося ордена. К 1500 г. существовало около 100 дочерних обителей. Все это оформилось в движение «Новое благочестие». Несмотря на название, было оно скорее традиционным, чем новомодным. Ударение делалось на обращение, на важность практической христианской жизни и святости, на размышления (особенно о жизни и смерти Иисуса) и на часто совершаемое причастие. Основано оно было на учении святых Августина, Бернарда и Бонавентуры. Сама же идея обществ, занимающихся светским трудом в городах и не живущих по «Уставу», была весьма новой. В 1399 г. Фома поступил в обитель каноников-августинцев, расположенную в пригороде Виндесхайма. Так как его старший брат был там приором, то Фоме не позволили стать ее полным членом, но когда в 1406 г. его брата перевели в другое место, он стал монахом. Там он писал, проповедовал, переписывал рукописи, исполнял роль духовного советника и оставался здесь до самой своей смерти в 1471 г. Он написал много трудов, среди которых наиболее известна работа «О подражании Христу». «О подражании Христу» составлена из четырех книг. Первоначально они были отдельными трактатами, каждый из которых находился в обращении к 1427 г. Первая печатная версия 1473 г. включала в себя сразу четыре книги и быстро превратилась в стандарт. Трактаты были первоначально анонимными, что привело к спекуляциям по вопросу авторства. Уже к 1460 г. их стали приписывать популярному автору Иоганну Герзону. С меньшим уровнем вероятности впоследствии были предложены и другие варианты. Сейчас принято считать, что их написал Фома Кемпийский. «О подражании Христу» — одна из самых популярных классических книг. Уже к концу XV столетия она выдержала девяносто девять изданий, а к настоящему времени — более двух тысяч. В книге содержатся идеи, которые принадлежат христианству в целом и не относятся конкретно ни к одному вероисповеданию. Название книги вводит в заблуждение. Собственно говоря, это лишь название первой главы первой книги, не совсем точно указывающее на общее содержание труда. Главные темы книги — самоанализ и смирение, самоотречение и дисциплина, примирение со своей участью и любовь к Богу. Первая книга посвящена началам христианской жизни (в монастыре), а последняя — святому причастию. Вторая и третья книги рассказывают о внутренней жизни и духовном утешении. (обратно)18
Церковь Сен-Северен. — Великолепный образец «пламенеющей готики», церковь Сен-Северен (St-Severin) свидетельствует об этом своей полурозеткой: в ней вместо привычных лепестков — языки пламени. В интерьере церкви прослеживаются элементы ранней и поздней готики. История церкви уходит далеко в века. Построена в XI в. (раньше, чем Нотр-Дам!) на месте меровингской часовни VI в., после того как последняя была полностью разрушена норманнами. Названа часовня была в честь отшельника Северена, под влиянием которого внук Хлодвига I постригся в монахи. Видимо, это был настолько выдающийся акт прозелитизма, что отшельника объявили святым. Долгое времяцерковь оставалась единственным приходским храмом всего левобережья Парижа. С XIII по XVI в. она несколько раз перестраивалась, а портик получила от разрушенной в середине XIX в. церкви Сен-Пьер о Бёф. (обратно)19
…витражи были рисованы предтечами эпинальских картинок… — Своеобразная разновидность примитивного искусства, эпинальские картинки стали популярны во Франции в начале XIX в. Значительная их часть выпускалась фабрикой, открытой в 1824 г. в городе Эпиналь, — отсюда название. Кроме религиозных и нравоучительных сюжетов (вроде лубочной истории блудного сына) эпинальские картинки представляли собой исторические «хроники» (известна, например, серия сюжетов о Наполеоне, в которую входила «хроника» о походе на Россию). (обратно)20
Как святая Агнесса осталась невинной в блудилищах… — Святая Агнесса родилась осенью 290 г. Она принадлежала к знатной римской фамилии и обладала необычайной красотой. Руки ее добивались многие знатные молодые люди, но Агнесса с детства решила посвятить себя Богу. Когда отец задумал выдать ее замуж за Прокопия, сына римского префекта, Агнесса отказалась. И тогда было решено наказать непокорную девушку. Когда в 303 г. римский император Диоклетиан издал указ, направленный против христиан, тринадцатилетняя Агнесса была схвачена и привлечена к суду. Мучители Агнессы задумали провести девушку голой по улицам Рима, а потом отдать на поругание. Заключенная в темницу, Агнесса молилась всю ночь. И произошло чудо — к утру у нее выросли длинные волосы, которые прикрыли ее наготу. Юноши, входившие к Агнессе с дурными намереньями, выбегали в ужасе и трепете: вся темница была освещена неземным сиянием, а рядом с девушкой они видели ангела. Последним в камеру вошел оскорбленный отказом Прокопий. Но как только он прикоснулся к Агнессе, тут же упал замертво. Агнесса претерпела мученическую смерть — она была обезглавлена, но с тех пор ее почитают как святую. Спустя всего три десятилетия, при императоре Константине Великом, в честь Агнессы была воздвигнута церковь. Она рано погибла и рано была увековечена в памяти человеческой. День святой Агнессы католическая Церковь празднует 21 января. (обратно)21
Рейсбрук. — Иоганн ван Рейсбрук (Joannis Rusbrochii, 1293–1381) — знаменитый фламандский мистик, чаще именуемый как «Удивительный», родился в Рейсбруке, деревушке под Брюсселем. В семь лет он покидает свою семью и отправляется в Брюссель к своему дяде Иоганну Гинкарту, бывшему священником в одной из городских церквей, чтобы укрепить христианское мироощущение и получить образование — он изучает грамматику, риторику, диалектику и quadrivium (музыку, арифметику, геометрию и астрономию). Но все же его более интересуют теологические проблемы, в которые он погружается благодаря изучению трудов Платона, Плотина, Ареопагита и Августина; не исключено, что он был знаком и с трудами Альберта Великого и Майстера Экхарта. В 1317 г. происходит посвящение Рейсбрука в духовный сан. Более двадцати лет он вместе с Иоганном Гинкартом и Фрэнсисом Коденбергом ведет очень строгую, уединенную и полную аскетизма жизнь, а в 1343 г. принимает отшельничество в лесу под Суаньи. Но в подлинном уединении Рейсбрук находился недолго, так как к нему стало стягиваться большое количество людей, желающих стать его учениками. Такое положение приводит к тому, что 13 марта 1349 г. образуется августинский монастырь в Грюнендале. Его первым настоятелем становится Фрэнсис Коденберг, а приором — Рейсбрук. Именно этот период, с 1349 г. до смерти Рейсбрука 2 декабря 1381 г., был для него наиболее благоприятным для обретения мистического опыта и создания многих сочинений, описывающих этот опыт. Со временем известность Рейсбрука как «божьего человека» и «экстатического доктора» (doctor exstaticus) выходит далеко за пределы Брабантского герцогства и распространяется по всей Голландии, Германии и Франции. Так, например, известный рейнский мистик и проповедник Иоганн Таулер (см. коммент. 29) хорошо знал труды Рейсбрука, хотя вряд ли они встречались друг с другом. Значимость Рейсбрука для своего времени некоторые исследователи видят и в том, что он был предтечей или даже основателем нового мистического движения в Нидерландах — так называемого devotio moderna (новое благочестие), которое выступало связующим звеном между рейнскими мистиками и голландским реформаторским движением, возглавляемым Герхардом Грооте (1340–1389). Последний уважал Рейсбрука как учителя и любил как друга, и именно его влияние было определяющим для формирования взглядов Г. Грооте, а также религиозно-мистического духа «Братства совместной жизни», наиболее известным представителем которой в следующем поколении является Фома Кемпийский (1380–1471) (см. коммент. 17). Вообще в XV в. Рейсбрук был одним из самых влиятельных мистиков — его особый мистический дух можно в той или иной степени обнаружить у кардинала Николая Кузанского (1401–1464) и Дени Картузианца (1402–1471). Последний, кстати, перевел все труды Рейсбрука на латынь (так как он писал только на своем родном языке) и назвал его «новым Дионисием», с той только разницей, что, по его мнению, Рейсбрук «ясен там, где непонятен Ареопагит». В конце XIX — начале XX в. интерес к мистике Рейсбрука был вызван изданием книги о нем известным французским писателем Морисом Метерлинком. В 1908 г. Рейсбрук по инициативе Папы Пия X был причислен к лику святых. Из написанных И. Рейсбруком трактатов до нас дошло 12, из них самыми значимыми являются «Царство возлюбленных божьих», «Книга о высшей истине» и «Одеяние духовного брака» (1350). «Мистическое единение» с Богом для Рейсбрука отнюдь не пантеистическое всепоглощение, в котором его позже обвиняли. Так, например, в «Книге об истине» он пишет, что «ни одна тварь не может быть святой и не может обрести святость в такой мере, чтобы утратить при этом свою тварность и стать Богом». Но при этом он открыто признает, что человек еще при жизни, совершенствуя свой способ созерцания от чувственного до мистической интуиции посредством углубления в подлинные основания своей души, может достичь божественного единения. Анджела из Фолиньо. — В блаженной Анджеле из Фолиньо (1248–1309), которая отошла от греховной жизни и обратилась к отшельничеству, мы видим мистика самого высокого уровня, чьи ведения и откровения позволяют поставить ее рядом со св. Катериной Генуэзской (см. коммент. 29) и св. Терезой (см. коммент. 21). Она была известна своим последователям как «наставница богословов», и среди ее учеников можно упомянуть блистательного и деятельного брата-спиритуала Убертина Казальского. Преобладание в мистицизме Анджелы метафизического элемента свидетельствует о высоком уровне духовной культуры, достигнутой в среде францисканцев ее времени. К XVI в. ее сочинения, переведенные на народный язык, заняли прочное положение в классике мистицизма. В XVII в. их широко использовали Франциск Сальский (см. коммент. 77), г-жа Гийон (см. коммент. 78) и другие католические созерцатели. Родившись на семнадцать лет раньше Данте, чей великий гений по праву отмечает начало духовного возрождения, Анджела представляет собой связующее звено между итальянским мистицизмом XIII и XIV вв. Святая Тереза. — Тереза родилась 28 марта 1515 г. в Авиле в семье благородного дворянина Алонсо Санчеса де Сепеды. Полное имя Терезы было Тереза Санчес Сепеда Давила-и-Аумада. Семья Терезы была весьма знатна и богата и состояла в родстве со многими благороднейшими домами Кастилии. В детстве Тереза была весьма впечатлительным ребёнком, отличавшимся глубокой набожностью, её любимой книгой было собрание жизнеописаний святых и мучеников. В юности, несмотря на мысли о монастыре, Тереза не оставалась в стороне от светских увлечений, она сильно увлеклась рыцарскими романами и даже сама написала один. В возрасте 20 лет Тереза тайно бежала из дома и поступила в кармелитский монастырь Благовещения, приняв при этом монашеское имя Тереза Иисуса. В первые годы в монастыре Тереза тяжело заболела и долгое время оставалась парализованной; когда же её привезли умирать в отчий дом, она сумела оправиться и вернулась в монастырь. Постепенно она превратилась из юной девушки в мудрую и зрелую монахиню, вокруг неё сформировался круг людей, обращавшихся к ней за духовными советами, как в монастыре, так и за его стенами. Вторая половина жизни Терезы была посвящена главным образом деятельности по созданию новых кармелитских монастырей и написанию книг. Она умерла в 1582 г. во время очередного путешествия в монастыре Альба де Тормес. Тереза Авильская вошла в историю как реформатор кармелитского монашества в Испании. Как описывала позднее Тереза в своих книгах, во время жизни в монастыре она получила необычный мистический опыт: ей были явлены видения Иисуса Христа и херувима, пронзившего ее сердце огненным копьём. Мистикой проникнуты все сочинения святой Терезы. Писать Тереза начала более по послушанию, нежели по желанию. Начав литературную деятельность, когда ей было уже за 50, она сумела оставить после себя большое литературное наследие, фактически став не только первым богословом-женщиной в истории католической Церкви, но и первым испанским писателем-женщиной. Самой значительной книгой Терезы стал «Внутренний замок». В этом мистическом трактате она изображает душу как замок с многочисленными комнатами, в центре которого находится Христос. Достигающий успехов в молитвенной практике переходит из одной обители в другую, пока не пройдет наконец в самую сокровенную комнату. Каждому переходу соответствует тот или иной тип молитвы. Святая Тереза беатифицирована в 1614 г. Папой Павлом V, канонизирована в 1622 г. Папой Григорием XV. День её памяти отмечается католической Церковью 15 октября. Св. Екатерина Сиенская (Catharina Benincasa, Caterina da Siena) (1347–1380) — святая католической Церкви, дочь сиенского красильщика. С ранних лет обнаружила повышенную религиозность, отчасти обусловленную влияниями соседнего монастыря доминиканок. Мечтою Екатерины было вступление в орден Св. Доминика. Приняв обет девства, она расстроила задуманный родителями брак, преодолела сопротивление матери и вступила (около 1362 г.) в число «кающихся сестер св. Доминика». Уже ранее обнаружившиеся аскетические наклонности Екатерины достигли теперь полного развития. Не внимая уговорам матери, она предалась суровым постам, самобичеваниям и молитвам, присоединив сюда и «дело милосердия», а во время чумы 1374 г. — самоотверженное служение больным. Характернейшей чертой религиозности Екатерины является мистицизм. В экстатических видениях она общалась со Христом, Пречистой Девой и святыми, получала от них поучения, утешение и советы. Подобно Екатерине Александрийской и, вероятно, под влиянием легенды о ней Екатерина Сиенская была обручена с Христом… Произошло это так: в 1367 г., когда вся Сиена справляла карнавал, девушка предпочла молиться в своей комнатке Господу: «Сочетайся со мной браком в вере!» И тут ей явился Господь и сказал: «Ныне, когда остальные развлекаются, Я решил отпраздновать с тобой праздник твоей души». И было Екатерине видение: она оказалась на небесах, узрела небесное воинство, Иисуса и Богоматерь. Дева Мария протянула руку девушки своему Сыну. Он надел ей на руку золотое кольцо с прекрасным алмазом и четырьмя жемчужинами и сказал: «Се, Я сочетаюсь с тобой браком в вере, Я — Творец и Спаситель твой. Ты сохранишь эту веру незапятнанной до тех пор, пока не взойдешь на небо праздновать со Мной вечный брак». С тех пор и до самой смерти она носила на пальце видимое только ей обручальное кольцо; она восприняла также невидимые для других, но болезненно ощущаемые ею стигматы, соответствующие пяти ранам Христовым, что и подало повод к сопоставлению Екатерины Сиенской, «серафической девы», с «серафическим отцом» св. Франциском. Мистик и визионер того же типа, что и святая Хильдегарда, св. Катерина сочла своим долгом положить конец распрям среди духовенства и принести мир в Церковь. Истинный последователь Данте в открытии Реальности и величайший итальянский мистик после св. Франциска, св. Катерина демонстрирует нам жизнь в единении в ее наиболее богатой и совершенной форме. Она была одновременно политиком, учителем и созерцателем, соблюдая при этом устойчивый баланс между внутренней и внешней жизнью. В 1377 г. Екатерина выступает в роли миротворительницы враждующих знатных родов Тосканы, участвует в пропаганде Крестового похода, едет в Авиньон, чтобы примирить Папу Григория XI с Флоренцией, горячо ратует за переезд Папы из Авиньона в Рим. Во время схизмы Екатерина становится на сторону Урбана VI и содействует упрочению власти. Ее очень метко прозвали «матерью тысяч душ». Получив незначительное образование, преследуемая постоянными болезнями, она тем не менее сумела за время своей непродолжительной деятельности изменить ход истории, обновить религию и создать одну из жемчужин итальянской религиозной литературы — «Божественные диалоги». Канонизирована Пием II в 1461 г. Покровительница Италии и Рима. Маддалена Пацци. — Святая Мария Маддалена деи Пацци (1566–1607) — флорентийская кармелитка, автор множества мистических сочинений. Родилась 2.4.1566 г. во Флоренции, происходила из аристократического рода Пацци. В 1582 г. вступила в монастырь кармелиток Санта-Мария дельи Ангели во Флоренции и годом позднее дала орденский обет, лежа в постели больная. С 1585 г. она страдала от тяжелейших внутренних испытаний и мучительных болей, причем она была лишена чувства помощи Бога. За 5 лет ее исполненная стремления к страданию душа была очищена для высшего мистического соединения с Богом. Ее принцип гласил: «Страдать, но не умирать». Ее высказывания во время и после видений записывали другие сестры. Они относятся ко многим вопросам духовной жизни, к тайне Троицы и Вочеловечения. Она принадлежит к самым значительным женщинам-мистикам католической церкви. Имела дар прорицания и чудотворения. Многие годы она была наставницей послушниц, затем заместительницей игуменьи. Умерла 25.5.1607 г. Ее нетленные мощи покоятся в ближнем Carecci. Причислена к лику блаженных в 1626 г., к сонму святых — в 1669 г. Изображалась как кармелитка с пылающим сердцем или терновым венцом в руке (так как в экстазе она испытывала все страдания Христа), с копьем и губкой (орудия страданий Христа); со стигмами. День памяти 25 мая. (обратно)22
Катарина Эммерих. — Анна Катарина Эммерих (1772–1824) из Дюльмена — немецкая монахиня августинского ордена, «носила на себе стигматы Страстей Господних». Прикованную к постели Эммерих ежедневно посещали сверхъестественные видения, в том числе крестных страданий Христа. Известно, что рана на животе Анны Катарины Эммерих напоминала необычное распятие в форме буквы V — в церкви в городе Косвельд, в Германии, где она медитировала еще ребенком. Стала известной не за свое исключительное благочестие, а прежде всего благодаря тому, что провозвестником ее страданий стал Клеменс Брентано (к сожалению, не всегда объективно повествовавший о ее видениях). В католических домашних библиотеках того времени, наряду с трудами Мартина из Кохема, чаще всего встречались книга Брентано «Страдания и смерть Господа нашего и Спасителя» и его описание видений ясновидящей Катарины Эммерих, которая в XIX в. предсказала всю последующую историю Европы: «И видела я: великое противостояние раскололо Землю — зеленые и голубые объединились против белых». 5 октября 2004 г. Иоанн Павел II беатифицировал немецкую монахиню и визионерку Анну Катарину Эммерих, ибо она «собственной плотью испытала страдания Господа нашего Иисуса Христа». (обратно)23
Кармелиты — монашеский орден, связанный традициями с духовностью монахов-отшельников (эремиты) с горы Кармель и признающий своими небесными покровителями пророков Илию и Елисея, а также св. Илариона Великого (IV–V вв.); в результате реформы ордена во второй половине XVI в. от кармелитов отделились т. н. босые кармелиты, образовавшие самостоятельный орден. Ныне оба ордена относятся к числу нищенствующих. Формально орден кармелитов был учрежден крестоносцем Бертольдом Калабрийским (ум. в 1195), по просьбе которого патриарх Альберт Иерусалимский в 1209–1214 гг. составил устав, утверждавший правила монашеской жизни кармелитов, главной целью которой объявлялось «единение с Богом в неустанной молитве». Устав предписывал кармелитам, помимо соблюдения трех монашеских обетов, обязательный труд, каждодневный пост в период с торжества Воздвижения Креста Господня (4 сентября) до Пасхи (за исключением воскресений), воздержание от мясной пищи (за исключением времени болезни и пребывания в пути, когда приходилось просить подаяние), молчание с вечерни до литургии 3-го часа следующего дня и ограничение словесного общения до необходимого минимума в другое время суток. Важные элементы духовности кармелитов почерпнуты из наследия Терезы Авильской и Иоанна Креста и развиты кармелитскими мистиками. Согласно Терезе Авильской, молчание, одиночество и покаяние, практикуемые кармелитами, должны способствовать неустанной молитве по примеру пустынников с горы Кармель, а изучение Св. Писания и других духовных сочинений — вести к созерцанию и готовить к плодотворной апостольской деятельности. Наметившийся в период Реформации кризис в ордене, больше всего затронувший немецкие провинции, во второй половине XVI в. сменился тенденцией к внутреннему обновлению, чему способствовало претворение в жизнь постановлений Тридентского собора, в числе официальных богословов которого были 14 кармелитов, и в первую очередь подвижническая деятельность Терезы Авильской и Иоанна Креста в Испании, в результате которой сформировалась автономная ветвь кармелитов — carmelitae discalceati, босые кармелиты: то, что монахи ходили босиком, символизировало возвращение к первоначальным аскетическим идеалам ордена. Клариссы. — Орден святой Клары (лат. Ordo Sanctae Clarae, OSCI) — женский монашеский орден Римско-католической Церкви, тесно связанный духовно и организационно с орденом францисканцев. Основан в 1212 г. св. Кларой Ассизской при храме Св. Дамиана в Ассизи (см. также коммент. 34). Распространение ордена шло параллельно с развитием ордена францисканцев. В 1230 г. монастыри клариссинок были во всех крупных городах Италии, а к 1263 г. действовало уже 76 монастырей по всей Европе. В 1253 г. Папа Иннокентий IV утвердил составленный св. Кларой устав ордена. В 1263 г. Папа Урбан IV принял обновленный устав, который был принят частью ордена; монахинь, живущих по этому уставу, стали называть урбанианками. В XIV–XV вв. орден был многократно реформирован, в результате реформ образовались два независимых ордена, принявших реформированный устав св. Клары: колеттанки во Франции и францисканки-концепционистки в Испании. В период Реформации орден пережил сильное сокращение численности монахинь, однако в XVII в. начал бурно развиваться, распространившись в том числе и в Америку. В этот период появилось несколько новых направлений внутри ордена: капуцинки, фарнезианки и эремитки. Во время французской революции многие монастыри были ликвидированы, но к середине XIX в. орден восстановил свои позиции во Франции и остальной Европе. (обратно)24
Сен-Жермен-де-Пре — бенедиктинское аббатство на левом берегу Сены (в черте современного Парижа). Построено в 511 г. Хильдебертом I по совету парижского городского епископа св. Жермена, позднее похороненного в этом монастыре. Имя епископа было присвоено аббатству в 576 г. Сен-Жермен-де-Пре был в Средние века одним из богатейших монастырей Франции. В аббатстве жил монах-бенедиктинец Аббон Горбатый. В одной из церквей аббатства долгое время находились мощи Пьера Абеляра. (обратно)25
Фома Аквинский (иначе: Фома Аквинат или Томас Аквинат, лат. Thomas Aquinas) (1225, замок Роккасекка, близ Аквино, недалеко от Неаполя — 7 марта 1274, монастырь Фоссануова, около Рима) — итальянский католический богослов, первый схоластический учитель Церкви, princeps philosophorum (князь философов); с 1879 г. признан официальным католическим религиозным философом, который связал христианское вероучение (в частности, идеи Августина Блаженного) с философией Аристотеля. Родился близ Аквино (Неаполитанское королевство) в семье графа Ландольфа, родственника короля Фридриха Барбароссы. Детство провел в родовом замке и в соседнем монастыре бенедиктинцев, где получил начальное образование. Продолжил учебу в Неаполитанском университете и там вопреки желанию семьи, прочившей его в настоятели монастыря, вступил в нищенствующий орден Доминика (1244). В 1245–1252 гг. молодой монах, посвятивший свою деятельность философии и богословию, слушал лекции Альберта Великого, одного из первых христианских аристотеликов, в Париже и Кельне. В 1252 г. началась преподавательская деятельность Фомы Аквинского в Париже. Он вел курс Священного Писания и участвовал в богословских диспутах. В 1259 г. Фома Аквинский снова в Италии, где работает над толкованием Евангелия, читает лекции по канонике, готовит для Папы материалы по соединению с Православной Церковью. Параллельно занимается философией, пишет комментарии к Аристотелю и метафизические трактаты. Фома Аквинский первый проводит четкую и резкую границу между верой и знанием. Разум, по его мнению, только дает обоснование непротиворечивости откровения, веры (мистерий); возражения же против них рассматриваются лишь как вероятные, не вредящие их авторитету. Как теолог понимал бытие Бога в смысле христианской религии и разделял идею творения мира из ничего и бессмертия души, которая как «чистая форма» не может быть разрушена, однако она не существует до земной жизни, а создается Богом. Душа приобретает знания не в результате воспоминаний, как у Платона, а благодаря чувственному восприятию, в которое облечено познание идеи, озаряемое интеллектом. Всё мироздание рассматривается Фомой Аквинским как универсальный иерархический порядок внутри бытия — порядок, который установлен Богом и указывает всему существующему его прирождённое место. Интеллект, по его мнению, подчинен воле. Для совершения нравственных поступков человек должен уважать естественный порядок в личной жизни и обществе. Одним из наиболее важных результатов богоучения св. Фомы Аквинского является выведение пяти доказательств бытия Бога, пяти путей, благодаря которым мы можем от чувственно воспринимаемого мира, являющегося для нас первично постигаемым, продвигаться к познанию факта существования Бога и познанию многих Его качеств. Кроме того, он много писал о невидимом бытии, в частности, описал иерархию ангелов и их свойства. В 1265 г. Фома Аквинский начал работу над главным произведением своей жизни, «Итог богословия» (Summa Theologia), в котором стремился изложить универсальную систему христианской веры и этики. Фома Аквинский продолжал трудиться над ним до 1272 г. В этом году его посетило мистическое озарение. «Больше я ничего не могу сделать, — сказал он, — мне открылись такие вещи, что теперь все написанное мною кажется мне соломой и я могу лишь ждать конца своей жизни». Фома Аквинский скончался в цистерцианском монастыре на пути в Лион, куда он был призван Папой на собор. Человек глубочайшего смирения, он всегда жил в бедности, отказывался от всех почетных церковных должностей. Католическая Церковь канонизировала его в 1323 г. и причислила к Учителям Церкви. Учение Фомы Аквинского (томизм) долгое время считалось наиболее авторитетным в католическом богословии. (обратно)26
Базилика Святой Клотильды (1846–1857) — подражание готическому стилю XIII и XI вв. Святая Клотильда (475–545) была дочерью Хильперика, правившего вместе с двумя своими братьями в королевстве Бургундском, от Юры до Дюранса. Православная по матери, в то время как все другие бургундские правители были охвачены арианством, она была вынуждена бежать после убийства своих родителей дядей и жить в набожности в Женеве. Молодая и красивая принцесса была замечена послами Хлодвига, короля франков, который попросил ее руки, чтобы закрепить союз своего народа с бургундцами (в 492 г.). Мягкостью и примером своего добродетельного поведения, королева оказала большое влияние на Хлодвига, который согласился на крещение их больного ребенка, исцелившегося по молитвам своей матери. Но что касается самого себя, то Хлодвиг оставался глух к обращениям своей супруги. Это продолжалось до того дня, когда, прежде чем встретить алеманнов в Тольбиаке, за Рейном (496), он, испуганный превосходством противника, обратился к «Богу Клотильды» и дал Ему обещание принять крещение, если Тот дарует ему победу. По преданию, накануне битвы Клотильда, по ангельскому откровению, вручила Хлодвигу экю, украшенное тремя геральдическими лилиями — эмблемой Святой Троицы, которые с тех пор стали гербом королей Франции. Франки одержали победу, и король выполнил обещание и, вслед за катехизическим уроком, преподанным ему, крестился у святого Ремигия, епископа Реймса в Рождество 496 г. Это крещение Хлодвига, а с ним и более трех тысяч дворян и солдат, открыло путь в обращению его народа, предназначенного к тому, чтобы стать христианской нацией с многообещающим будущим. (обратно)27
…стал вспоминать молитву — и вспомнил ту, которой святой Пафнутий научил куртизанку Таис… — В житиях святых Димитрий Ростовский так повествует о чудесном преображении Таис: «В стране Египетской жила некогда женщина развращенная, бесстыдная и нечистая по своей жизни. Имея одну дочь, по имени Таисию, она научила ее тому же постыдному образу жизни, которому и сама навыкла, отвела ее в блудный дом и отдала на служение сатане, на пагубу многим душам человеческим путем прельщения их ее красотою; ибо Таисия была весьма прекрасна по своей наружности и прославилась повсюду красотою своего лица. Из-за плотского вожделения к Таисии многие приносили ей много золота и серебра, блестящих и дорогих одежд. Прельщая поклонников своих, она доводила их до такого разорения, что многие, потеряв ради нее свое имущество, впали в нищету, а иные, заводя из-за нее между собою ссоры, били друг друга и покрывали пороги ее дома своею кровью. Услышав о сем, преподобный Пафнутий, одевшись в мирские одежды и взяв с собою золотую монету, вошел в дом, где жила Таисия. Увидев ее, он дал ей монету в виде платы, как бы желая остаться с нею. Таисия, взяв деньги, сказала ему: — Войди в комнату. Пафнутий вошел вместе с нею и увидел постланное высокое ложе; сев на нем, он сказал Таисии: — Нет ли другой комнаты, тайной, затворимся в ней, чтобы о нас никто не знал? Таисия отвечала: — Есть; впрочем, если ты людей стыдишься, то и в этой укроешься от них, потому что двери затворены и никто сюда не войдет и не узнает о нас, а если боишься Бога, то нет места, которое могло бы утаить тебя пред Ним, и если бы даже под землею ты скрылся, то и там Бог видит. Услыхав от нее такие слова, Пафнутий сказал ей: — Разве и ты знаешь о Боге? Таисия отвечала: — Знаю и о Боге, и о блаженстве праведных, и о муке грешных. Тогда ей старец сказал: — Если ты знаешь о Боге, и о будущем блаженстве, и о муках, то зачем оскверняешь людей и погубила уже столько душ? Осужденная в геенну огненную, ты понесешь мучения не за свои только грехи, но и за тех, кого ты осквернила. При сих словах Таисия с плачем поверглась к ногам старца, восклицая: — Знаю я и то, что для согрешивших есть покаяние и для согрешений — прощение, и надеюсь твоими молитвами избавиться от грехов и получить милость Господню. Но молю тебя, подожди меня немного, только три часа, и потом, куда повелишь мне, пойду и, что скажешь мне, сделаю. Старец указал ей место, где будет ждать ее, и ушел. Тогда Таисия, собрав все сокровища свои, приобретенные путем разврата, ценою до четырехсот литр золота, вынесла их на средину города и, разведя огонь, положила на него все это, и перед всем народом сожгла, восклицая: — Приидите все, грешившие со мною, и смотрите, как я сжигаю то, что вы мне дали. Предав огню нечистым образом приобретенное богатство, она пошла на место, где ждал ее Пафнутий. Старец повел в девичий монастырь и, испросив небольшую келию, ввел в нее Таисию и затворил ее там; двери же келии он крепко заделал и заколотил, оставив только маленькое оконце, чтобы чрез него можно было подавать ей немного хлеба и воды. — Как велишь мне, отче, молиться Богу? — спросила Таисия святого Пафнутия. — Ты недостойна, — отвечал старец, — ни произнести имени Господня, ни рук твоих поднять к небу, ибо уста твои исполнены скверны и руки твои загрязнены нечистотою; говори лишь, часто обращаясь к востоку: “Создавший меня, помилуй меня!” И пробыла Таисия в том затворе три года, молясь Богу, как научил ее Пафнутий, вкушая лишь немного хлеба и воды, и то только раз в день. По прошествии трех лет Пафнутий, побуждаемый милосердием к ней, отправился к великому Антонию, желая узнать, простил ли ее Бог или нет. Придя к старцу, он поведал ему все о жизни Таисии. Антоний призвал учеников своих и повелел им затвориться каждому отдельно в келии своей и всю ночь молиться Богу, чтобы Он открыл кому-либо из них о Таисии, кающейся о грехах своих. Ученики исполнили повеление отца своего и умолили Бога: Он открыл о ней одному из них, по имени Павлу, которого называли Препростым. Стоя на молитве ночью, он увидел в видении небеса отверстые и одр стоящий, постланный весьма богато и сияющий великою славою; три девицы, пресветлые лицом, стояли и охраняли его, и венец лежал на одре том. При виде сего Павел спросил: — Верно, не иному кому-либо уготованы сии одр и венец, как отцу моему Антонию. Тогда раздался к нему голос: — Не отцу Антонию сие уготовано, но Таисии, бывшей блуднице. Пришедши в себя, Павел стал размышлять о виденном и, когда настало утро, пошел к блаженным отцам Антонию и Пафнутию и поведал им о своем видении. Они же, услыхав о том, прославили Бога, принимающего истинно кающихся. Тогда Пафнутий пошел в девичий монастырь, где жила Таисия в затворе и, разломав двери, хотел вывести ее. Но она стала просить его: — Позволь мне, отче, остаться здесь до смерти моей и сокрушаться о грехах моих: так много их у меня. Старец отвечал ей: — Человеколюбец Бог уже принял твое покаяние и простил грехи твои, — и вывел ее из затвора. Тогда блаженная Таисия сказала: — Поверь мне, отче, что, как только вошла я в затвор, я представила все грехи мои пред мысленными очами моими и, взирая на них, плакала непрестанно. Не удалились все злые дела мои от очей моих и доныне, но предстоят предо мною и ужасают меня, так как за них я буду осуждена. Выйдя из затвора, блаженная Таисия через пятнадцать дней впала в недуг и, проболев три дня, благодатию Божиею, с миром почила. От одра болезни она была перенесена на тот одр, который видел на небе уготованным ей Павел Препростый, где восхваляется она с преподобными во славе и радуется во веки. Так грешница и любодейца предварила нас в царствии Божием». (обратно)28
…братья Лессепс стали служителями провидения: извлекли сбережения у недотеп… — Фердинанд де Лессепс, французский дипломат, инженер, автор проекта и руководитель строительства Суэцкого канала. В историю вошел, правда, как великий коррупционер и жулик планетарного масштаба… Успешное завершение строительства и открытие Суэцкого канала принесли ему заслуженную славу: Лессепс стал членом Французской академии. Академии наук, множества научных обществ, награжден орденом Почетного легиона. Однако современники до самой смерти припоминали Лессепсу скандал с возглавляемым им акционерным обществом «Панама» для сооружения Панамского канала. Крах этой компании в 1888 г. привел к разорению десятков тысяч мелких держателей акций. Для сокрытия хищений, злоупотреблений и тяжелого финансового положения правление компании подкупило французских министров, сенаторов, депутатов и редакторов газет. В переносном смысле слово «Панама» стало означать крупную политическую и финансовую аферу. После официального расследования Лессепс и его сын Шарль были приговорены в феврале 1893 г. к пяти годам заключения. (обратно)29
Святой Дионисий Ареопагит — странный безымянный автор, приписывавший свои работы Дионисию Ареопагиту, другу св. Павла, и адресовавший свои послания о мистицизме сподвижнику последнего, Тимофею. Псевдо-Дионисий был, по-видимому, сирийский монах, а цитируемые им фрагменты из сочинений Отцов Церкви показывают, что его труды не могли быть написаны ранее 475 г. — скорее всего, расцвет его деятельности относится к началу VI в. К числу его основных работ относятся трактаты о небесной иерархии и именах Бога, а также короткое, но бесценное сочинение о мистической теологии. Средневековый мистицизм буквально пропитан концепциями Дионисия. В частности, в XIV столетии — золотом веке мистической литературы — фраза «Дионисий говорит» встречается с завидным постоянством и обладает для тех, кто ее использует, таким же весом, как цитаты из Библии и изречения Отцов Церкви. Значение трудов Дионисия заключается в том, что он был первым и, на протяжении долгого времени, единственным христианским автором, попытавшимся искренне и точно описать деятельность мистического сознания и природу экстатического постижения Бога. Эти труды выполнили свою задачу настолько хорошо, что, читая их, позднейшие созерцатели находили в них отражение и частичное объяснение своих самых сокровенных переживаний. Поэтому для описания собственного опыта они перенимали язык и метафоры Дионисия, ставшие впоследствии классическими терминами науки о созерцании. Именно Дионисию христианская литература обязана представлением об Абсолютном Божестве как о «Божественной Тьме» и безусловным отрицанием «всего, что есть» — т. е. всего воспринимаемого поверхностным сознанием. Кроме того, благодаря Дионисию получил распространение так называемый «путь отрицания» — учение, согласно которому душа достигает Абсолюта, погружаясь в «божественное неведение». Подобная идея присутствует также в греческой и индийской философии. Благодаря Дионисию она вошла и в обиход католического христианства. Святой Бонавентура (настоящее имя Джованни Фиданца; 1221–1274) — средневековый теолог, францисканский схоласт, генерал францисканского ордена. Бонавентура родился в Боньяреджо (в Тоскане). В 1243 г. вступил в францисканский орден, Учился в Париже, где впоследствии преподавал теологию. В 1256 г. был избран генералом своего ордена, впоследствии Папа Григорий X, избранию которого Бонавентура способствовал, сделал генерала кардиналом и епископом Альбанским. Бонавентура полагал, что платоновские идеи существуют. Однако, по его мнению, совершенное познание идей дано только Богу. С большим уважением он относился к св. Августину, поддерживал также онтологическое доказательство существования Бога Ансельма Кентерберийского. Попытки синтезировать христианство с учением Аристотеля считал враждебными христианству. Теология является для Бонавентуры владычицей всех светских наук, которые он объединяет под общим понятием философии, а единение с Богом, к которому любовь ведёт человека шестью ступенями познания, — величайшим благом. Это подробно обосновывается им в схоластическом сочинении «Itinerarium mentis in Deum» и в мистическом сочинении «Reductio artium in theologiam». Согласно учению Бонавентуры, у человека три ока: телесное, мысленное и созерцательное; последнее вырабатывается самоуглублением в душу как отражение Бога, самоуничижением, самоотречением и искренней молитвой. Как было 6 дней творения, так есть 6 степеней созерцания, за которыми следует высшее благо, слияние с Божеством. Из сочинений Бонавентуры следует также отметить «Breviloquium» и «Centiloquim» (руководства догматики), а также комментарий к «Sententiae» Петра Ломбардского. Его «Biblia pauperum» представляет искаженное аллегорически-мистическими толкованиями изложение священной истории для мирян. В качестве папского легата Бонавентура участвовал в церковном соборе в Лионе, где 15 июля 1274 г. умер, изможденный своими аскетическими упражнениями. В 1482 г. Сикст IV причислил Бонавентуру к лику святых, а в 1587 г. Сикст V — к величайшим Учителям Церкви. Как мистика его высоко ценил даже реформатор Лютер. Францисканцы противопоставляли его, как своего величайшего учёного, столпу схоластики, доминиканскому монаху Фоме Аквинскому. Лион, где покоятся останки Бонавентуры, избрал его своим патроном. Гуго Сен-Викторский (Hugues de Saint-Victor) (1097–1141) — французский философ-мистик, богослов, педагог. Родился во Фландрии в знатной семье. Получил начальное образование в Хаммерслебенском монастыре близ немецкого города Хальберштадта, затем переехал в Париж, который был центром философско-теологического образования Западной Европы. Обосновался в аббатстве Сен-Виктор, где находилась крупная философская школа, созданная Гильомом де Шампо. Гуго Сен-Викторский — самый знаменитый представитель этой школы, с 1138 г. — ее глава. Гуго Сен-Викторский — автор многочисленных богословских («О таинствах христианской веры», «О суетности мира», «Описание небесной иерархии св. Дионисия Ареопагита» и др.) и дидактических («Описание карты мира», «О грамматике», «Практическая геометрия» и др.) трактатов. Самое известное его философско-дидактическое сочинение — «Дидаскаликон», написанный в 20-е гг. Этот труд резюмирует дидактическую литературу поздней Античности и раннего Средневековья. Вобрав в себя основные достижения философской и дидактической мысли, он даёт стройное и краткое определение системы знаний и наук, способов и последовательности их освоения, связывая всё это с системой мира и со смыслом существования человека. «Дидаскаликон, или Семь книг назидательного обучения» по своему философскому содержанию — одно из лучших и наиболее характерных сочинений XII в. Поскольку средневековой философии был присущ дидактизм (задача состояла не только в познании истины, но и в передаче её другим), философия была схоластической и философские труды создавались в форме диалога между учителем и учеником. Поэтому Гуго Сен-Викторский при написании этого трактата поставил перед собой откровенно дидактическую цель — наставить учащихся в том, что, как и в какой последовательности читать, чтобы быстрее постигнуть искусства и науки. Чтение должно перемежаться с размышлениями и запоминанием прочитанного и услышанного от учителя. Рассказ о различных науках и искусствах Гуго Сен-Викторский связывал с картиной мироздания, которая объяснила разнообразие знаний. Ричард Сен-Викторский (ум. 1173) — шотландский или ирландский августинец, которого Данте считал «сверхчеловеком в высшей из наук»[146]. Принадлежал к тому же парижскому аббатству св. Виктора, что и его учитель и современник философ-схоласт Гуго (1097–1141). Оказал значительное влияние на позднейшую мистическую литературу. Духу Ричарда и св. Бернара было суждено господствовать в ней на протяжении последующих двухсот лет. Благодаря этим именам возникло то, что, собственно, называется теперь литературой средневекового мистицизма. На языке столь любимого Ричардом символизма он представлен Вениамином, любимым сыном Рахили[147] — своеобразной эмблемой созерцательной жизни, — и описан во всех подробностях в двух основных писаниях бенедиктинца — «Вениамине Большом» и «Вениамине Малом». Хотя Ричард считал мистицизм «наукой сердца» и не испытывал уважения к светской учености, благодаря глубокой интеллектуальности его трудов средневековый мистицизм практически не пострадал от выпадов недалеких ортодоксальных критиков. Он систематизировал и передал средневековому миру античную мистическую традицию, восходящую к Плотину и Ареопагиту. Так же как и его учитель Гуго, Ричард был подвержен средневековому пристрастию к тщательно разработанным аллегориям, искусным построениям, четкой классификации и нумерологическим конструкциям. …оба Экхарта… — Майстер Экхарт (1260–1328) (нем. Meister Eckhart) — немецкий теолог и философ, один из крупнейших христианских мистиков. В ранней юности поступив в доминиканский орден, учился в кельнской Высшей школе, где еще царил дух Альберта Великого. После трехлетнего лекторства был назначен приором в Эрфурте и викарием Тюрингии. С сентября 1300 г. Экхарт состоял lector biblicus в Париже, в коллегии Св. Иакова, т. е. читал лекции, посвященные комментированию Св. Писания. Здесь он получил степени бакалавра и лиценциата. В 1303 г. вернулся в Эрфурт и в том же году был назначен приором вновь образованной саксонской провинции ордена. В 1311 г. на собрании ордена в Неаполе великий магистр послал его в Париж в качестве лектора-магистра. Время с 1312 по 1320 г. Экхарт провел, по-видимому, в Страсбурге, как видно из его проповедей. В 1320 г. был назначен приором во Франкфурт. Экхарт — автор проповедей и трактатов, которые сохранились в основном в записях учеников. Главная тема его размышлений: Божество — безличный абсолют, стоящий за Богом. Божество непостижимо и невыразимо, оно есть «полная чистота божественной сущности», где нет никакого движения. Через своё самопознание Божество становится Богом. Бог есть вечное бытие и вечная жизнь. По концепции Экхарта, человек способен познать Бога, поскольку в человеческой душе есть «божественная искорка», частица Божества. Человек, приглушив свою волю, должен пассивно предаться Богу. Тогда душа, отрешенная от всего, вознесется до Божества и в мистическом экстазе, порывая с земным, сольется с Божественным. Блаженство зависит от внутренней самодеятельности человека. Высшую цель мистики Экхарт видит не в уничтожении личности, не в пассивном прозябании ее, как некоторые его предшественники, но в возвышении ее как действующей совместно с Богом. Согласно его учению, созерцательная жизнь есть средство достижения истинно деятельной жизни. Экхарт считал возможным для человека еще при жизни дойти до такого состояния хотя бы на короткое время и даже сам бывал в нем. В этомсостоянии, по словам Экхарта, дух пребывает в непосредственном созерцании Истины без всяких образов, тело же лишено внешних чувств и пребывает в тихом покое, члены остаются без движения. Созерцание Бога в образах и видениях, способностью к которому хвалились другие мистики, не имело значения для Экхарта. Он не придавал этим видениям никакой цены, находя, что образы только препятствуют высшему созерцанию. Так как для мистики главное — познание сущности Божией, в чем и состоит святость и блаженство, то перед этой главной целью христианской жизни отступают на второй план добрые дела. Высшее состояние, доступное для духа, пока он пребывает в теле, есть такое, когда он добродетелен уже не по принуждению, а добродетель делается как бы его свойством. Человек, достигший такого состояния, не думает о награде за добродетель; он видит цель добродетели в ней самой, забывая о благах земных, почестях, покое и даже о самом Царствии Небесном. Дела, которые совершает душа, слишком ничтожны, чтобы Бог мог наградить их по всей справедливости. Истинная доброта заключается в доброй воле, которая подчинена воле Божией. Экхарт сходится с Оригеном, Климентом Александрийским и другими Учителями Церкви, признававшими, что учение христианства имеет стороны эзотерическую и экзотерическую — хотя совершенно в духе мистики старается сделать доступной для массы и эзотерическую сторону христианской религии. Допустив возможность для каждого христианина вступить в непосредственное общение с Божеством, Экхарт тем самым нарушил строгие границы, которые Римская Церковь установила между клиром и светскими людьми. Получалось, что и не имеющий духовного звания человек может быть учителем священника. Итак, учение о всеобщем священстве — доктрина, общая многим средневековым сектам. Экхарт не сочувствует монашеской жизни, находя в ней лишь внешнюю форму благочестия и осуждая ее исключительность. Он не придает никакого значения реликвиям и прочим внешним признакам богопочитания. Ортодоксальное христианство не могло принять концепцию Экхарта. 14 января 1327 г. он был допрошен инквизиторами. На недостойное их поведение (они окружили его шпионами) Экхарт принес жалобу Папе, выражая готовность подчиниться решению Церкви, если учение его будет признано неправильным. 13 февраля 1327 г. в доминиканской церкви в Кёльне Экхарт заявил публично, что готов отречься от всего ошибочного и еретического, что может быть найдено в его учении. Многими исследователями это заявление толкуется в смысле отречения Экхарта от его взглядов, но Прегер убедительно доказал, что нигде, может быть, Экхарт не высказал так ясно сознание своей правоты. В 1329 г. последовала папская булла, осуждавшая 17 основных положений Экхарта как еретические, 11 — как подозрительные; в конце ее говорилось, что от 26 из 28 положений Экхарт отрекся сам. Экхарт не дожил до окончания процесса; он умер в 1327 г. До Экхарта мистическое созерцание не имело под собой твердой почвы и не могло выйти из пантеизма неоплатоников. У Экхарта глубина философской мысли соединилась с силой и оригинальностью фантазии. Он первым из мистиков освободился от пантеистических воззрений и разрешил основные вопросы о сущности Бога и души в христианском духе. Для своих философско-богословских исследований Экхарт пользовался не латинским, а немецким языком, желая сделать их возможно более доступными для массы. Ему приходилось создавать немецкий философский язык, и эта трудная задача была выполнена им гениально. Всем этим он проложил дорогу для дальнейшего философского исследования в Германии. Воззрения Экхарта оказали значительное влияние на учение позднейших мистиков, Таулера и Сузо. В XX в. в Ватикане был поднят вопрос о реабилитации Экхарта. Иоганн Таулер (нем. Johannes Tauler, 1300–1361) — немецкий мистик и проповедник, первый из последователей Майстера Экхарта. Родом из Страсбурга, родился в семье богатого купца. Отказался от значительного состояния и в 1318 г. вступил в доминиканский орден. Занимался преимущественно изучением произведений древней и новейшей мистики (Прокл Диадох, Дионисий Ареопагит, но особенно Майстер Экхарт). Побывав в Кёльне, может быть, и в Париже, стал проповедником в Страсбурге. Несмотря на интердикт, наложенный на Страсбург Иоанном XXII, Таулер вместе с другими доминиканцами продолжал проповедь, вследствие чего должен был в 1339 г. переселиться в Базель, где близко сошелся с Друзьями Бога. В конце 1340-х гг. Таулер снова был в Страсбурге. Здесь посетил его Друг Бога из Оберланда. Под влиянием последнего он в течение двух лет подвергал себя тяжелым аскетическим послушаниям. Впрочем, и так называемое обращение Таулера, и деятельность его во время интердикта подвергаются сомнению, и не без оснований. «Существует предание, что Таулер был приведен к своему обращению одним просвещенным мирянином, неким Другом Бога из Оберланда, — писал Рудольф Штайнер. — Здесь перед нами таинственная история. Где жил этот Друг Бога, об этом существуют только догадки; а кто он был, о том и догадок нет. По-видимому, он много слышал о характере проповедей Таулера и после этих рассказов решил поехать к нему в Страсбург, где тот был проповедником, чтобы исполнить некую миссию. Отношения Таулера и Друга Бога и влияние, которое последний оказал на него, мы находим в сочинении, приложенном к старейшим изданиям проповедей Таулера под заголовком “Книга учителя”»[148]. В 1352 г. Иоганн Таулер снова начал проповедовать в Страсбурге и других местах. Как мистик Таулер отличается от Экхарта тем, что гораздо меньше занимается философскими идеями, а требует главным образом проявления христианского духа в практической жизни. Он настаивает на простоте веры, на осязательном проявлении духа, исполненного любви к Богу. Человек высокой нравственности, он беспощадно осуждал недостатки Церкви — алчность, роскошь, жестокость и другие пороки светских и духовных. Проповеди Таулера — единственные его аутентичные произведения — это трубный глас, призывающий к подвигам духа. Они оказали воздействие на многих позднейших мистиков, особенно на св. Терезу и св. Иоанна Креста. Из его сочинений и проповедей многие остались в рукописи. Его «Predigten» (1498) Гамбергер обработал на верхнегерманском наречии (1872); избранные проповеди издал Лангдорф (1892). Генрих Сузо (нем. Heinrich Sense, 21 марта 1295 или 1297, Констанц — 25 января 1366, Ульм) — немецкий поэт и философ-мистик, ученик Майстера Экхарта. Принадлежал к рейнским мистикам. Беатифицирован в 1831-м. День памяти — 2 марта. Происходил из рыцарского рода фон Бергов. Принял фамилию матери. В 13 лет ушел в доминиканский монастырь Св. Николая в Констанце. С 1323 г. учился в Кёльне у Майстера Экхарта, в 1327-м вернулся в Констанцский монастырь, где провел 20 лет. В 1330 и 1336 гг. был обвинен в ереси и привлечен к суду, но признан невиновным. С 1346 г. жил в Ульме, где и умер. Могила не сохранилась. Для такого субъективного, романтичного, глубоко погруженного в собственную душу и свои личные отношения с Богом человека, как Сузо, мистицизм был не столько доктриной, предназначенной для передачи другим людям, сколько интимным личным странствием. Хотя он и был опытным философом и богословом, а также преданным последователем Экхарта, его автобиография — документ гораздо более подробный и откровенный, чем более известная «Жизнь» св. Терезы, — представляет собой в основном запись его радостей и печалей, видений, экстазов и страданий. Даже его мистические трактаты построены в форме диалогов, как если бы он не мог оторваться от личностных и драматических аспектов духовной жизни. Дионисий Картезианец (1402–1471) — один из великих религиозных деятелей XV в. Так же как на его друга ученого-платоника кардинала Николая Кузанского (1401–1464), на Дионисия огромное влияние оказали мистические сочинения Рейсбрука, все работы которого он перевел на латынь и называл его «новым Дионисием», с той разницей, что Рейсбрук «ясен там, где непонятен Ареопагит». Именно благодаря многочисленным сочинениям Дионисия, пользовавшимся большой популярностью в последующие века, доктрины средневековых мистиков дошли до мира Возрождения. Святая Гильдегарда — Хильдегарда Бингенская (нем. Hildegard von Bingen, 1098 — 17 сентября 1179, монастырь Рупертсберг под Бингеном) — немецкая монахиня, настоятельница монастыря бенедиктинок в долине Рейна. Автор мистических трудов, религиозных песнопений и музыки к ним, а также трудов по естествознанию и медицине, почитается как святая, хотя формально не была канонизирована. Когда Хильдегарде было четырнадцать, она поселилась в женском ските под Бингеном под покровительством тамошнего мужского бенедиктинского монастыря, посвященного св. Дизибоду. Образование Хильдегарды охватывало по меньшей мере элементарные занятия по Библии и латинской патристике, семь свободных искусств и литургию бенедиктинцев. В 1136 г. Хильдегарда взяла на себя руководство женской монашеской общиной — к тому времени в ските было уже около десяти монахинь. В 1147–1152 гг. она добилась строительства монастыря Рупертсберг под Бингеном, куда и перевела общину. В 1165 г. был создан филиал монастыря в Айбингене, сохранившийся до сих пор, куда принимались и послушницы недворянского происхождения. Хильдегарда всю жизнь отличалась слабым здоровьем, что способствовало её интенсивной внутренней жизни. С юности у неё были видения, о которых она первоначально рассказывала только своей наставнице Ютте фон Шпонхайм. В возрасте сорока двух лет Хильдегарда, по ее собственным словам, получила Божественное повеление записать свои видения. После долгих сомнений она посоветовалась со своим духовником, который показал ее записи аббату. По настоянию аббата и местного архиепископа Хильдегарда продолжила записи и за десять лет записала 26 видений, составивших труд «Sci vias lucis» (Познай пути Света), обычно известный как «Scivias», визионерское представление всего круга бытия от Троицы до Страшного суда. Публикация «Scivias» получила одобрение св. Бернара Клервоского и Папы Евгения III. С детских лет Хильдегарда сочиняла гимны и музыку к ним; в 1150 г. она собрала свои произведения, написанные для литургических нужд ее монастыря и соседних общин, в цикле под названием «Symphonia armonie celestium revelationum» (Созвучие мелодий небесных откровений). В него вошло более 70 одноголосных песнопений в жанрах духовной музыки (антифоны, респонсории, секвенции, гимны), сгруппированные по определённым литургическим темам, причем особое внимание уделялось Деве Марии и св. Урсуле. Сохранилось также 82 напева из ее оратории «Ordo virtutum» (Ряд добродетелей), которая посвящена теме борьбы за Душу человеческую между 16 Добродетелями и дьяволом (единственная роль для мужского голоса). По сути «Ordo virtutum» является первым в истории представлением в средневековом жанре моралите; судя по всему, оратория была исполнена монахинями монастыря Хильдегарды в 1152 г. на освящении церкви в Рупертсбсрге. Среди других важных работ Хильдегарды следует назвать написанную около 1150–1160 гг. «Liber subtilitatum diversarum naturarum creaturarum» («Книгу о внутренней сущности различных природных созданий»), которая сохранилась в виде двух частей: «Liber simplicis medicinae» («Книги о простой медицине»), известной обычно как «Физика», и «Liber compositae medicinae» («Книга об искусстве исцеления»). В «Физике» описываются растения, минералы, деревья, камни, животные и металлы с присущими им лечебными и нелечебными свойствами. Многое из медицинских наставлений Хильдегарды имеет только историческую ценность, но есть также сведения и советы, не потерявшие свою актуальность и сегодня. Умерла Хильдегарда в 1179 г. в основанном ею монастыре Рупертсберг под Бингеном. Ее житие было написано двумя монахами, Готфридом и Теодорихом. Святая Екатерина Генуэзская — св. Катерина Генуэзская (1447–1510) — младшая дочь вице-короля Неаполя Джакопо Фьеши. Из этого итальянского рода вышло двое Пап. Катарина с детства стремилась к монашеству и готовилась к нему; ее старшая сестра, с которой младшая любила молиться, ушла в монастырь. Однако в 1463 г. девушку выдали замуж из политических соображений, чтобы закрепить мирный союз между партией гвельфов (к которой принадлежал и род Фьеши) и партией гибеллинов (к которой принадлежал род ее мужа Гьюльяно Адорно). Личного счастья ей этот брак не принес: Гьюльяно оказался самовлюбленным шалопаем, который изменял жене и редко бывал дома. Первые пять лет семейной жизни Катерина провела в печали и одиночестве, затем несколько лет пыталась развеяться в светской жизни. И вдруг 20 марта 1473 г. (число она запомнила крепко) Катерина после исповеди встала на колени, чтобы получить благословение и вдруг почувствовала волну благодати и невероятной любви Божией. Все печали и беды оказались рядом с этим чувством ничтожными и мелкими. Через несколько дней Катерине было видение Распятого Господа. С этого времени она стала причащаться ежедневно (что тогда было большой редкостью). И одновременно резко изменил свою жизнь ее муж: обращение жены, ее молитвы и полное денежное банкротство — все это и еще нечто невидимое соединилось так, что и он обратился к Богу. Более того, решился стать членом францисканского ордена, его «третьего» отделения для мирян (терциарием). Катерина же, восхищавшаяся францисканцами, не последовала примеру мужа, хотя его стремление к бедности разделила. Они переехали из своего палаццо в маленький домик в беднейшем квартале Генуи и посвятили себя помощи нищим. С 1479 г. их пригласили жить в Памматонском госпитале, и Катерина до 1490 г. проработала здесь простой няней, а затем стала администратором и казначеем. Особенно тяжело пришлось ей во время чумы 1493 г., когда умерло 80 процентов населения Генуи. Сама Катерина заболела, но выжила, хотя здоровье оказалось подорванным навсегда и в 1496 г. она оставила руководство больницей, продолжая здесь жить и работать. На следующий год умер Гьюльяно, оставив после себя незаконнорожденную дочь, которой Катерина стала второй матерью (по тем временам это было неслыханное самопожертвование). Все эти годы Катерина жила без всякого духовного руководства и, видимо, даже не каждый год ходила к обязательной исповеди. Около 1499 г. в больницу назначили ректором священника Катанео Маработто, с которым она сразу нашла общий язык. Точнее, «они понимали друг друга, просто поглядев друг другу в лицо», как писал биограф. Она откровенно призналась ему в том, в чем не решалась открыться другому представителю духовного сословия: «Отче, я не знаю, в теле я нахожусь или в душе. Я бы и хотела исповедаться, но не знаю, чем грешна». Маработто не стал переделывать Катерину, чем доказал свой талант пастыря. Он писал: «Какие-то грехи она назвала, но, в сущности, ей не было дано видеть их, как и многие другие, совершенные ею. Она была похожа на маленького ребенка, который по неведению совершил какой-то ничтожный проступок и, если ему скажут: “Ты сделал плохо”, смутится и покраснеет, но все же не потому, что теперь на опыте познал, что такое зло». Катерина не заботилась об индульгенциях, относилась к ним без всякого уважения. Уже через полтора года после кончины Катерины ее тело торжественно перенесли с кладбища и похоронили в мраморной гробнице. Почитание ее стало массовым, когда люди увидели, что останки нетленны. В 1694 г. их поместили в прозрачном гробу, где они покоятся по сей день. Остались от Катерины и две книги: «О чистилище» и «Духовный диалог». Беатифицирована в 1737 г., канонизирована Бенедиктом XIV. Память 15 сентября. Подобно своей тезке из Сиены, она совмещала страстную любовь с непрестанной деятельностью, была конструктивным мистиком, глубоким мыслителем и экстатической натурой. Катерина Генуэзская — единственный пример самозабвенной мистической жизни того времени: ее современники по большей части были визионерами более заурядного типа и проявляли лишь слабые отблески того духа, который столь ярко сиял в св. Катерине Генуэзской. Святая Гертруда. — Св. Гертруда Великая (ок. 1255 — 17 ноября 1301 или 1302). В пять лет эта девушка, о семье которой никаких сведений не сохранилось, была отдана в монастырь бенедиктинок в Саксонии, который существовал на средства аристократического рода Хакеборнов. Ее учительницей стала св. Мелхтилда фон Хакеборн (см. коммент. 89), которая не скрывала от Гертруды и других послушниц своих мистических откровений. В двадцать шесть лет Гертруда пережила первое из тех видений, которые сделали ее знаменитой. Перед сном она увидела Иисуса в облике молодого человека. Когда Он заговорил, Гертруде показалась, что она на хорах в церкви, в том уголке, где она обычно молилась. При этом она сознавала, что находится в дормитории (общей спальне), но слышала голос: «Я спасу и избавлю тебя. Не бойся». В видениях Гертруды были повторяющиеся образы: особенно часто ее внимание привлекали раны Христа, которые она называла «сверкающими алмазами». Как и ее учительница Мелхтилда, Гертруда мысленно обращалась к Сердцу Иисуса и говорила, что дважды прикладывала голову к груди Спасителя и слышала биение Его Сердца. Она говорила о духовном браке, которым она сочеталась с Иисусом через Его Сердце, и сразу добавляла: «Тем обручальным кольцом, которое скрепляет союз души с Богом, является страдание». Книгу, в которой собраны рассказы о ее откровениях (из пяти глав книги лишь вторая написана самой Гертрудой), назвали «Вестник любящий благости Божией», и Гертруда подчеркивала, что старалась исправить свои грехи не столько из страха справедливого гнева Божия, сколько ради Его любви. Это было новое, это был духовный переворот, необъяснимый ни предшествующим развитием истории, ни циничными выкладками тех «психологов», которые тем смелее судят давно умерших людей иной культуры, чем менее способны понять своих современников. На протяжении предшествующих столетий в европейском благочестии преобладал страх перед внезапной смертью и озабоченность тем, как бы не умереть без соответствующих обрядов, «гарантирующих» рай. Гертруда говорила: «Всем сердцем хотела бы перед смертью получить целительные последние Таинства, но все же лучшим и самым надежным приготовлением к кончине мне кажется воля Божия и Его помазания. Уверена, что, как бы я ни умерла — внезапно или со всеми церемониями, — меня не предаст Его милосердие, без которого я в любом случае не смогу спастись». Последние десять лет жизни Гертруда тяжело болела. Формально ее не канонизировали, но в 1677 г. Папа Иннокентий IX вписал ее имя в Римский мартиролог, а Климент XII сделал ее почитание общим для католиков. Память 15 ноября (когда в 1738 г. Папа Климент вписывал память св. Гертруды Великой в святцы, он увидел, что «место занято» Григорием Чудотворцем, и перенес память Гертруды на 15-е, сказав: «Нельзя передвинуть память того, кто сам двигал горы» — по преданию, Григорий однажды передвинул огромный камень; в пересказе Григория Двоеслова камень превратился в целую гору). (обратно)30
Святой Иоанн Креста Господня. — Святой Иоанн Креста (также известен как св. Хуан де ла Крус и св. Иоанн Крестный, исп. Juan de la Cruz) (24 июня 1542, Онтиверос, Испания — 14 декабря 1591, Убеда, Испания), настоящее имя Хуан де Йепес Альварес (исп. Juan de Yepes Álvarez) — католический святой, писатель и поэт-мистик. Реформатор ордена кармелитов. Учитель Церкви. Хуан происходил из знатной, но обедневшей дворянской семьи, жившей в окрестностях Авилы. Юношей поступил в госпиталь, для ухода за больными. Образование получал в иезуитской школе в городке Медина-дель-Кампо, куда в поисках средств к существованию перебралась его семья после смерти отца. В 1568 г. вступил в орден кармелитов, получил богословское образование в Саламанке. Затем стал одним из основателей реформированного кармелитского монастыря Дуруэло. В монашестве принял имя Иоанн Креста. В ордене кармелитов в это время шли распри, связанные с реформами ордена, инициированными св. Терезой Авильской (см. коммент. 21). Иоанн стал сторонником реформ, имевших целью возврат к первоначальным идеалам кармелитов — строгости и аскетичности. Фундаментальный принцип богословия св. Иоанна состоит в утверждении, что Бог есть все, а человек — ничто. Следовательно, чтобы достичь совершенного соединения с Богом, в чем и состоит святость, необходимо подвергнуть интенсивному и глубокому очищению все способности и силы души и тела. Деятельность Иоанна многим в монастыре пришлась не по вкусу, по клеветническим доносам он трижды привлекался к суду, много месяцев провел в тюрьме в тяжелых условиях. Именно во время заключения Иоанн начал писать свои прекрасные стихи, проникнутые особым мистическим духом и религиозным трепетом. Его перу также принадлежат прозаические трактаты — «Восхождение на гору Кармель», «Темная ночь души», «Песнь духа», «Живое пламя любви». Мистики, подобные поэту и созерцателю св. Иоанну Креста, появились, по-видимому, в ответ на необходимость направить в нужное русло беспорядочную религиозную жизнь того времени. Они были «святыми контрреформации» — в период церковного хаоса они возложили весь колоссальный вес своей святости на чашу весов ортодоксального католичества. В то время как Игнатий Лойола создал остов духовного воинства, которое должно было преследовать ереси и защищать Церковь, св. Тереза, работая в исключительно неблагоприятных условиях, вдохнула жизненные силы в великий религиозный орден и возвратила ему его призвание — способствовать достижению единения с трансцендентным миром. В этом ей помогал св. Иоанн Креста — психолог, философ и великий мистик, который вернул персональный опыт испанской школы в основное русло мистической традиции. Скончался св. Иоанн Креста в Убеде. В 1726 г. был канонизирован Папой Бенедиктом XIII, в 1926 г. Папа Пий XI объявил его Учителем Церкви. День памяти св. Иоанна Креста в католической Церкви — 14 декабря. (обратно)31
…она же и государственный человек — Кольбер женских монастырей. — Жан-Батист Кольбер (фр. Jean-Baptiste Colbert; 29 августа 1619–6 сентября 1683) — знаменитый французский государственный деятель, сын зажиточного купца из Реймса. Поступив на государственную службу, вскоре обратил на себя внимание Мазарини, назначившего его своим управляющим. На этом посту Кольбер с такой ревностью и изобретательностью отстаивал интересы своего патрона, что тот усердно рекомендовал его Людовику XIV. Не зная увлечений, он, однако, обладал широким кругозором, привык ставить себе высокие цели, но в то же время был упрям, суров до жестокости, что позволило ему успешно осуществить ряд реформ в финансах, промышленности и торговле. При Кольбере были значительно расширены французские колонии, усилен торговый и военно-морской флот. Педантическая регламентация, тирания правительства во всех мелочах жизни сильно ожесточили население против Кольбера. С клиром Кольбер вел постоянную борьбу за права государства: пытался уменьшить численность духовенства, но тщетно, и тогда из 44 менее важных церковных праздников настоял на отмене 17. Разорительные войны уничтожили плоды его долголетних трудов, и ему под конец жизни пришлось убедиться в несовместимости экономической системы с внешней политикой Людовика. Когда он, сломленный этой неудачей, в немилости у короля, умер 6 сентября 1683 г., народ, ожесточенный тяжкими налогами, напал на похоронное шествие и лишь с помощью военной силы удалось оградить гроб от народного гнева. (обратно)32
«Tantum ergo». — В Римско-католической Церкви песнопение, исполняемое перед Святыми Дарами во время адорации. Текст песнопения представляет собой две последние строфы гимна «Pange lingua», написанного известным католическим богословом Фомой Аквинским (1225–1274) (см. коммент. 25). (обратно)33
В Ла-Салетт, в Лурде были видения. — В 1846 г. Пречистая Дева явилась двум молодым пастухам — Мелани Кальва и Максамену Жиро в Ла-Салетт (Франция). 11 февраля 1858 г. — пастушке Бернадетте Субиру в Лурде (Франция). По свидетельству Бернадетты, 25 марта «прекрасной Дамой» были произнесены слова: «Я есмь Непорочное зачатие». (обратно)34
Согласно предписанию святого Франциска… — Франциск Ассизский (1182–1226) — святой, учредитель названного его именем нищенствующего ордена. Он знаменует собой перелом в истории аскетического идеала, а потому и новую эпоху в истории западного монашества и римской курии. Франциск углубил идею бедности: из отрицательного признака отречения от мира он возвел ее в положительный, жизненный идеал, который вытекал из идеи следования примеру бедного Христа. Вместе с этим Франциск преобразил и самое назначение монашества, заменив монаха-отшельника апостолом-миссионером, который, отрекшись внутренне от мира, остается в мире, чтобы среди него призывать людей к миру и покаянию. В 1209 г. Франциск в своей часовне услышал за обедней слова (Мф. 10: 7–11), с которыми Христос послал своих учеников проповедовать о наступлении царства небесного: «Не берите с собой ни золота, ни серебра, ни меди в пояса свои, ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха». Франциск просил священника повторить и разъяснить ему латинский текст и, вникнув в смысл его, с восторгом воскликнул: «Вот чего я хочу», — снял с ног обувь, бросил посох и препоясался веревкой… В 1212 г. к Франциску явилась 18-летняя Клара Шиффи, дочь соседнего помещика, и тайком от отца приняла от Франциска пострижение — так начиналась духовная стезя св. Клары Ассизской. Несмотря на угрозы и побои родни, к ней вскоре присоединилась ее 14-летняя сестра Агнесс. Франциск поместил их у бенедиктинок, а потом отдал в их распоряжение церковь Св. Дамиана, где и возникла женская община бедных сестер, из которой развился женский орден клариссин (см. коммент. 23). Франциск примыкал к аскетическому, средневековому идеалу; но в преемство Христа, как его понимал Франциск, включалась любовь к человеку. Благодаря этому аскетический идеал получил иное, новое назначение. «Господь призвал нас не столько для нашего спасения, сколько для спасения многих», — было девизом Франциска. Если в его идеал, как и в прежний монашеский, и входит отречение от мира, от земных благ и личного счастья, то это отречение сопровождается не презрением к миру, не брезгливым отчуждением от греховного и падшего человека, а жалостью к миру и состраданием к нищете и нуждам человека. Не бегство из мира становится задачей аскета, а возвращение в мир для служения человеку. Не созерцание идеального божеского царства в небесной выси составляет призвание монаха, а проповедь мира и любви, для установления и осуществления царства Божия на земле. Хотя не существует свидетельств о том, что св. Франциск Ассизский знал о пророчествах «Вечного Евангелия», до него не могли не дойти какие-то сведения о них, а также о катарах и прочих ересях, приходивших в Италию с севера. Многие ереси делали особое ударение на евангельском представлении о нищете, но мистический гений Франциска, который вполне мог получить духовную пищу из этих источников, был сам по себе поразительно оригинален. Св. Франциск был редчайшей самовыражающейся личностью, великим духовным реалистом, не допускавшим никаких альтернатив духовной нищете и радостной мистической жизни. Св. Франциска не коснулось воздействие монашеской дисциплины и сочинений Дионисия и Бернарда. Единственным литературным произведением, безусловно оказавшим на него влияние, был Новый Завет. Проповедь такого идеала могла привести Франциска к столкновению с духовенством и курией; но глубокое смирение, проявлявшееся в наивно-трогательных формах и, однако, бывшее плодом усиленной работы над собой, удерживало Франциска в среде Церкви. Неспособный кого-либо осуждать, Франциск не мог сделаться реформатором. Его братская любовь ко всякой твари составляет основание его поэзии. Он кормит зимой пчел медом и вином, поднимает с дороги червяков, чтобы их не раздавили, выкупает ягненка, которого ведут на бойню, освобождает зайчонка, попавшегося в капкан, обращается с наставлениями к птицам в поле, просит «брата огонь», когда ему делают прижигание, не причинять ему слишком много боли. Весь мир, со всеми в нем живыми существами и стихиями, превращался для Франциска в любящую семью, происходившую от одного Отца и соединенную в любви к Нему. Вместе с Франциском мистицизм вышел в «открытое пространство», попытался трансформировать повседневную жизнь, заговорил на народном языке и стал воспевать Божественную Любовь в песнях трубадуров, оставаясь при этом вполне лояльным к католической Церкви. Никому после него не удалось уловить его секрет — секрет духовного гения редчайшего типа. Он оставил свой след в истории, искусстве и литературе Западной Европы. Последние дни Франциска были очень мучительны; страдания его были облегчены уходом св. Клары и его собственным настроением. Он прибавил к своей «Хвале Господа и всех творений» строфу с хвалой «сестре нашей, телесной смерти», и не как аскет, а как поэт закончил жизнь словами: «Жить и умереть мне одинаково сладко». Св. Франциск Ассизский скончался 4 октября 1226 г.; уже два года спустя он был канонизован Папой Григорием IX, бывшим кардиналом Уголино. (обратно)35
…этот грозный святой, человек южный, — гонгорист и злоупотребляет метафорами! — Луис де Гонгора-и-Арготе (исп. Luis de Góngora y Argote, 11 июля 1561, Кордова — 23 мая 1627, там же) — испанский поэт эпохи барокко, поэзия которого насыщена сложным и подчас темным метафоризмом. Учился праву в университете Саламанки, служил каноником в кафедральном соборе Кордовы. С 1589 г. странствовал по Испании, выполняя поручения капитула. В 1609-м вернулся в родной город. В 1617 г. был назначен королевским капелланом, до 1626 жил при дворе короля Филиппа III в Мадриде. В 1627 г. серьезно заболел, потерял память и снова возвратился домой, где в крайней бедности вскоре умер от апоплексии. Принято делить творчество Гонгоры на два периода — «ясный» (до 1610) и «темный». В первый период он пишет лирические и сатирические стихи — традиционные сонеты, романсы, летрильи. Плоды второго периода: «Ода на взятие Лараче» (1610), мифологическая поэма «Сказание о Полифеме и Галатее» (1613) и венец поэзии Гонгоры, одна из вершин испанского стихотворного искусства — цикл пасторальных «Поэм уединения» (исп. Soledades). Из задуманных четырех поэм («Уединение в поле», «Уединение на берегу», «Уединение в лесу», «Уединение в пустыне») написаны только первая и часть второй. Созданное Гонгорой в этот период причисляют к «ученой» поэзии, так называемому культеранизму или культизму (исп. el culteranismo, el cultismo) — течению барочной словесности, на протяжении жизни Гонгоры вызывавшему острую литературную полемику. (обратно)36
Мария Агредская, Мария Иисусова (исп. Maria Jesús de Ágreda, собственно Мария Фернандес Коронель, 2 апреля 1602, Агреда, Сория — 24 мая 1665, там же) — испанская монахиня ордена Непорочного зачатия, духовная писательница. С детства имела видения, переживала состояния экстаза, отличалась суровым аскетизмом. В 25-летнем возрасте стала аббатисой францисканского монастыря в Агреде, основанного ее родителями. Автор мистических и аскетических сочинений, наиболее известное из которых, трактат «Мистический Град Божий» (опубл. 1670), был внесен в индекс запрещенных книг (1681). Кроме того, известна ее переписка с королем Филиппом IV по вопросам государственного управления. (обратно)37
…тогда книга г-на Олье… — Жан-Жак Олье (1608–1657), духовный писатель, первый настоятель церкви Сен-Сюльпис. До 1624 г. жил в Лионе, где его отец был интендантом короля. Учился в коллеже иезуитов. В 1622-м получил благословение Франциска Сальского (см. коммент. 77). Эта встреча произвела на него огромное впечатление. С 1625 по 1629 г. занятия философией в коллеже Арку (Harcourt), затем теологией в Сорбонне. В течение этого периода он проповедовал в духе эпохи. В 1639 г. Олье впадает в депрессию… В течение двух лет остается в состоянии прострации и глубокого отвращения к самому себе. Усугубляет это состояние и кончина в 1641 г. его духовника, отца Кондрена. Олье полностью отдается Богу, отказываясь выйти из духовной темноты собственными силами, и лишь благодаря сокровенному озарению возвращается к жизни к Пасхе 1641 г. В сентябре 1641 г. в церкви Сен-Сюльпис Олье торжественно открывает новое сообщество, которое в декабре перерастает в первый семинар; занимается активной пасторской деятельностью (литургия, катехизис, благотворительная деятельность), посвящает много времени исповеди и духовным наставлениям. Впоследствии установленный при приходе семинар становится известен как семинар Сен-Сюльпис (см. коммент. 01). Цель Олье состоит в подготовке настоящих пасторов, а не только искусных теологов, как это делала Сорбонна. Параллельно он основывает братство священников Сен-Сюльпис. В 1652 г. после тяжелой болезни выходит в отставку, освободившись от тяжкого груза обязанностей кюре Сен-Сюльпис. С 1653 по 1657 г. Олье, хотя и ослаблен болезнью, продолжает заниматься миссионерской работой. В 1657 г. болезнь обострилась… Олье скончался в Париже 2 апреля, в возрасте 48 лет. (обратно)38
Орден святого Бенедикта (лат. Ordo Sancti Benedicti, OSB) — старейший католический монашеский орден, основанный св. Бенедиктом Нурсийским в VI в. Термин «бенедиктинцы» иногда употребляют по отношению к другим монашеским орденам, использующим «Устав св. Бенедикта», например, камальдулам или цистерцианцам, что не вполне корректно. Главный упор в деятельности бенедиктинцев делается на молитвы, интеллектуальные занятия, религиозное искусство, миссионерскую работу. Девиз ордена: «Ora et labora» («Молись и работай», лат.). После смерти св. Бенедикта в 547 г. основанный им монастырь Монте-Кассино просуществовал недолго и был разрушен лангобардами около 577 г. (позднее он был восстановлен). Монахи при поддержке Папы Григория I Великого разошлись по разным странам, способствуя распространению устава и идей св. Бенедикта. Вскоре бенедиктинские монастыри возникли в Англии, Франкском королевстве, других странах Западной и Центральной Европы, а к XI в. и в Восточной Европе. Поскольку «Устав св. Бенедикта» не предусматривал централизованных структур, объединяющих монастыри, то обители, использующие бенедиктинский устав, до XI в. были независимыми. В X–XI вв. орден претерпел несколько существенных реформ: начали появляться конгрегации монастырей, от бенедиктинцев отпочковались ордена камальдулов и цистерцианцев, была проведена реформа монашеской жизни, т. н. Клюнийская реформа (по названию аббатства Клюни). В XIII в. возникли новые, бурно развивающиеся ордена доминиканцев и францисканцев, изменилась структура европейского общества, что предопределило начало упадка ордена бенедиктинцев. Еще более усилился этот упадок в ходе Реформации и секуляризации XVIII в. В XIX в. началось возрождение ордена, которое продолжилось и в XX в. (обратно)39
…если верить Иустину Философу… — Иустин Философ (Иустин Великий, Иустин Римский, Иустин Мученик, Юстин Мученик) — святой, философ, мученик, один из апологетов и Отцов Церкви, уроженец Самарии. Изучал древнегреческую философию, в том числе философию Платона, но не удовлетворился ими. Принял христианство и учил людей христианству в Риме, где около 165 г. и претерпел мученическую кончину. Память его празднуется 1 июня. Иустин написал диалог с иудеем Трифоном об истине христианского закона, в котором с глубокой ученостью, ясностью и спокойствием ведет спор ветхозаветным оружием, и пишет две апологии. Первой (большей) апологией, написанной не раньше 150 г., он пытался снискать христианам покровительство императора Антонина Пия, второй — расположить Марка Аврелия к более кроткому обращению с ними, но в то же время старался представить языческую философию предшественницей христианства, а христианство — откровением того, что философия только предчувствовала. Другие творения Иустина — например, его сочинение против современных ему гностиков, которым пользовались Ириней и Ипполит, — до нас не дошли. Творения Иустина чрезвычайно важны для раскрытия учения Церкви середины II в., особенно по вопросу о применении к христианскому мировоззрению александрийского учения о Слове. (обратно)40
…данный святой Мехтильдой. — Мехтильда Магдебургская (нем. Mechthild von Magdeburg, 1207, диоцез Магдебурга — 1282, монастырь Хельфта, Айслебен) — немецкая мистическая писательница, бегинка, впоследствии монахиня-цистерцианка. Из семьи мелких саксонских дворян. В 12 лет имела первое видение. С 1230 г. жила в Магдебурге. Около 1250 г. начала писать трактат «Свет Божества» — одно из первых откровений святого Сердца Иисуса, ставшего впоследствии важным элементом католического культа. В 1270 г. вступила в цистерцианский монастырь Хельфта, где, глубоко почитаемая сестрами-монахинями, умерла. Мехтильда Магдебургская описывает свое единение с Богом в сугубо индивидуальных терминах, которые присущи скорее поэтам-романтикам ее времени, чем ранним религиозным писателям. Ее работы, переведенные на латынь, читал Данте — их влияние прослеживается в «Рае». Некоторые ученые даже полагают, что именно Мехтильда Магдебургская выведена там под именем Матильды, хотя иные считают, что прообразом героини Данте послужила св. Мелхтилда Хакборнская (см. коммент. 89). Не канонизирована, к XV в. ее сочинения были забыты. Их открыли вновь только в XIX в. (обратно)41
Святой Августин. — Августин Блаженный (лат. Augustinus Sanctus, полное имя Аврелий Августин) (13 ноября 354, Тагаст, Нумидия — 28 августа 430, Гиппон, близ Карфагена) — философ, христианский богослов, проповедник и политик. Один из Отцов Церкви, основатель августинизма. Оказал огромное влияние на западную философию и католическую теологию. Некоторая часть сведений об Августине восходит к его автобиографической «Исповеди» («Confessiones»). Через манихейство, скептицизм и неоплатонизм пришел к христианству, учение которого о грехопадении и помиловании произвело на него сильное впечатление. Наиболее известными из сочинений Августина является «De civitate Dei» (О граде Божьем) и «Confessiones» (Исповедь), его духовная биография, сочинение «De Trinitate» (О Троице), «De libero arbitrio» (О свободной воле), «Retractationes» (Пересмотры). Его память отмечается католической Церковью 28 августа, Русской православной Церковью — 15 июня по старому стилю. (обратно)42
Вспомните Бенуа Лабра! — Бенуа Лабр (1748–1783) — святой католической Церкви, прославленный крайней бедностью жизни. (обратно)43
Святая Роза из Лимы (1586–1617) — перуанская монахиня, уловившая в Новом Свете отблеск Божественного огня, зажженного великими кармелитами Испании. (обратно)44
…запел гимн святого Амвросия… — Святой Амвросий Медиоланский (ок. 340–4 апреля 397) (лат. Sanctus Ambrosius) — миланский епископ, великий христианский святой, проповедник, гимнограф, один из четырех великих Учителей Церкви. В 373 г. Амвросий был назначен на должность префекта северной Италии с резиденцией в Медиолане (ныне Милан), который был тогда вторым городом Италии вслед за Римом. Медиолан во время наместничества Амвросия сотрясали распри между арианами и ортодоксальными христианами. В 374 г. эти распри помешали избранию нового епископа, поскольку каждая сторона хотела видеть на этом месте своего ставленника. В качестве компромисса была предложена кандидатура Амвросия, который пользовался уважением в городе. Амвросий, который даже не был крещен (практика позднего крещения была распространена в то время даже в христианских семьях), пытался отказаться, но после поддержки его кандидатуры императором Валентинианом I согласился. 30 ноября 364 г. Амвросий был крещен, затем рукоположен в священники и 7 декабря поставлен в епископы, пройдя, таким образом, за 7 дней все ступени церковной иерархии. После избрания он пожертвовал Церкви все свое огромное богатство и до конца жизни соблюдал обет нестяжательства, ведя скромный и строгий образ жизни. Одной из главных сфер деятельности епископа была борьба с арианством и язычеством. Строго отстаивая чистоту ортодоксальной веры, он добился на этом поприще значительных успехов. Императоры Валентиниан I, Грациан и Феодосий I весьма уважали миланского епископа и во многом под его влиянием боролись с язычеством в Империи. После того как Феодосий жестоко расправился с восставшими фессалоникийцами, Амвросий наложил на него епитимью и предложил публично покаяться. Авторитет епископа был таков, что император вынужден был подчиниться. К концу жизни епископ Амвросий пользовался всенародной любовью. Христианские источники сообщают о многочисленных чудесах, совершенных им в этот период. Под его руководством в Милане были построены две базилики — Амвросианская и Апостольская (ныне храм Св. Назария), а также основан мужской монастырь. Умер св. Амвросий 4 апреля 397 г. в Великую субботу. Хотя Амвросий почитался святым еще при жизни, его память совершается в Церкви с IX в. Св. Амвросий является покровителем Милана. Память святого Амвросия Медиоланского в католической Церкви — 7 декабря, а в православной — 20 декабря (7 декабря по ст. стилю). Наиболее известные труды св. Амвросия: «О таинствах» (De sacramentis), «О вере» (De fide), «О Св. Духе» (De Spiritu Sancto) и «Шестоднев» (Hexaemeron). Выдающийся латинский богослов св. Августин считал Амвросия Медиоланского своим учителем и наставником. (обратно)45
…подобно злосчастной Данаиде… — Данаиды — дочери сына египетского царя Даная. Спасаясь от брата своего Египта, с которым вместе правил Ливией, Данай бежал с 50 дочерьми в Аргос, где впоследствии стал царем. Там он построил храм Аполлону и научил жителей безводного Аргоса рыть колодцы, а где их рыть, указывали его дочери, Данаиды, обладавшиедаром отыскивать подземные воды. Между тем в Аргос прибыли 50 сыновей Египта и силой заставили Даная выдать за них Данаид. По приказанию Даная, которому оракул предсказал смерть от руки зятя, Данаиды в первую брачную ночь убили своих мужей, кроме одной Гипермнестры, спасшей своего мужа Линкея. От его руки впоследствии погиб Данай и его дочери. По имени Даная жители Аргоса стали называться данаями. Данаиды за свое преступление были осуждены в Тартаре наполнять водой бездонную бочку; отсюда выражение «работа Данаид» — бесплодная, нескончаемая работа. (обратно)46
…бенедиктинок непрестанного поклонения [Святым Тайнам]… (сакраментки). — Женский монашеский орден, основан в Париже в 1631 г. Мехтильдой, прежде бывшей настоятельницей монастыря в Брюге. Устав ордена, написанный Мехтильдой, утвержден был Папами Иннокентием XI (1676) и Климентом XI (1705). (обратно)47
Трапписты. — Официально орден цистерианцев строгого соблюдения (лат. Ordo Cisterciensis Strictioris Observantiae) — католический монашеский орден, ответвление цистерцианского монашеского ордена, основанный в 1663 г. (по другим данным, в 1636-м), A-Ж. ле Бутилье де Рансе, первоначально коммендатором, с 1662 г. аббатом цистерцианского монастыря в Ла-Траппе во Франции (откуда и название), как реформистское движение, в ответ на послабление правил и высокий уровень коррупции в других цистерцианских монастырях. Женская ветвь ордена была основана Луизой, принцессой де Конде. Трапписты соблюдают «Устав св. Бенедикта» более строго, чем в остальных орденах. Они обязаны молиться 11 часов в сутки, трудиться (первоначально в поле), соблюдать молчание, прерываемое только для молитв, песнопений и по другим уважительным причинам, и строгий пост, облегчаемый только для больных. Трапписты одеты в рясу с капюшоном, подпоясанную веревкой, и обуты в деревянные башмаки. Монахи некоторых северных монастырей зарабатывали на жизнь изготовлением ликеров, а в Бельгии — известного пива. Другие монастыри производили сыр, хлеб, одежду и гробы. Во время революции трапписты были изгнаны из Франции, куда вернулись в 1817 г., и поселились в Швейцарии, России и Пруссии, где также были преследуемы. В 1834 г. Папой Григорием XVI ордену было даровано название Религиозная конгрегация цистерцианцев Нотр-Дам де Ла-Трапп. Распорядок дня траппистов: 2.00 — Подъем, одеяние: белая ряса. По праздничным дням подъем в 1.30. 2.05 — В церкви малая служба, затем великий канон до 4.00. 4.00 — Каждый священник служит обедню. Затем три четверти часа свободного времени. 5.30 — Зала капитула. Аббат дает наставления. 6.00 — Возвращение в дортуар, где каждый монах располагает своего рода альковом. Наведение порядка. Затем служба Шестого часа. 8.00 — Ежедневная торжественная обедня в присутствии всей общины. Утренний завтрак. 9.00 — Выход в поле или на иную работу. Одеяние: белая ряса, черная мантия. Монахи, исполняющие особые должности, расходятся по своим местам. 11.30 — Общая трапеза. Суп, овощи или молочное блюдо, фрукты или мармелад. Стакан вина, пива или сидра. Мясо — никогда. 12.15 — Час отдыха. Можно полежать или погулять в саду. 13.15 — Работа в поле, в мастерских или на ферме. 16.30 — Вечерня в часовне. Монах возвращается на хоры семь раз в день. 17.15 — Ужин: овощи, сыр. С 15 сентября до Пасхи — 180 г хлеба и что-нибудь из фруктов. 17.45 — Перерыв: медитация в монастырской галерее или чтение в библиотеке, богословский доклад и т. п. 18.30 — Повечерие. 19.00 — Отход ко сну. С Пасхи до 14 сентября отход ко сну в 20.00. (обратно)48
Киновия (греч.: совместная жизнь, общежитие) — христианская монашеская коммуна, монастырь общежитийного устава, одна из двух (наряду с отшельничеством) форм организации монашества на начальном историческом этапе. Монахи киновии все необходимые еду, одежду, обувь и прочее получают от монастыря. Труд монахов киновии безвозмезден, результаты труда полностью принадлежат монастырю. Все монахи киновии (вплоть до настоятеля) не имеют права собственности и личного имущества, а следовательно, прав дарения, наследования и так далее. (обратно)49
Бригитта Шведская (швед. Birgitta) (1303, Финстад, Швеция — 23 июля 1373, Рим, Италия) — католическая святая, основательница ордена бригитток, покровительница Европы, Бригитта родилась в 1303 г. в аристократической шведской семье. В 13 лет ее выдали замуж за высокородного дворянина Ульфа Гудмарссона, в супружестве имела 8 детей, одна из дочерей св. Бригитты была позднее прославлена как св. Екатерина Шведская. Несмотря на то что ее взгляды формировались в аристократическом окружении, Бригитта с юношеских лет отдавала предпочтение духовным ценностям и мало заботилась о материальных, помогая бедным и больным всей округи. В 1344 г. скончался супруг Бригитты, после чего она поселилась рядом с цистерцианским монастырем Альвастра. Через некоторое время ее начали посещать видения, из которых она черпала философско-религиозные мысли и в которых ей открывались будущие события. В 1346 г. в одном из таких озарений св. Бригитта получила повеление основать новый монашеский орден. Король Швеции Магнус Эрикссон был благосклонен к этой идее и выделил землю в Вадстене под будущий монастырь ордена. Однако Папа Климент VI из Авиньона отклонил прошение св. Бригитты. В 1350 г. Бригитта переехала в Рим, где жила до самой смерти, совершая регулярные паломничества. Снискала в Риме добрую славу своей добродетельной жизнью и милосердием. Св. Бригитта способствовала прекращению авиньонского пленения Пап и возвращению Св. Престола из Авиньона в Рим. В 1370 г., вернувшийся в Рим Папа Урбан V разрешил наконец св. Бригитте учредить новый орден, получивший впоследствии название бригитток, и построить монастырь в Вадстене. Св. Бригитта умерла в 1373 г. в Риме, сразу после паломничества в Иерусалим. Ее тело было впоследствии перезахоронено в Вадстене. Откровения св. Бригитты были записаны и многократно изданы на латыни и на других языках. Они оказали значительное влияние на более поздние религиозные средневековые тексты. Многие политики и военачальники Средневековья узнавали себя в персонажах пророчеств св. Бригитты. В 1391 г. была канонизирована Папой Бонифацием IX, а в 1999 г. провозглашена покровительницей Европы Папой Иоанном Павлом II. Память св. Бригитты в католической Церкви — 23 июля. (обратно)50
…в экстазе бормочет тайны, открытые для нее Ветхим Деньми. — Христос Ветхий Деньми (Ветхий Денми, Ветхий Днями) — изображение Иисуса Христа в облике седовласого старца. Эпитет «Ветхий Деньми», как и источник иконографии, восходит к Ветхому Завету. В видении пророка Даниила (Дан. 7: 9, 13) Бог описывается в виде старца. Понимание библейского Ветхого Деньми как Бога Отца, первого Лица Святой Троицы, приводит к таким формально запрещенным иконографическим схемам изображения Троицы, как Отечество и Сопрестолие. Догмат о неизобразимости Бога Отца и неоднократно описываемые в Библии антропоморфные облики Божества (Быт. 3: 8; 32: 24–28; Исх. 6: 1, 33: 23; Дан. 7: 9, 13 и др.) приводят к выводу о том, что видимым людям являлось второе Лицо Троицы, Бог Сын. В иконописи подобная точка зрения выражается в надписывании имени Иисуса Христа над изображением Ветхого Деньми. (обратно)51
…«Пресвятая Кровь» отца Фабера… — Предположительно имеется в виду Джордж Стэнли Фабер (George Stanley Faber, 1773–1854) — английский богослов. Важнейшие труды: «Dissertation on the mysteries of the Cabiri or the Great Gods of Phoenicia» (1803); «The Origin of Pagan Idolatry» (1806); «Apostolicity of Trinitarianism» (1832) и др. Ораторианцы. — Католическая конгрегация, возникшая в 1558 г. в Риме по инициативе Филиппа Нери (см. коммент. 68). В капелле при устроенном им госпитале стали собираться для совместного чтения и толкования священных книг духовные лица, не приносившие монашеских обетов. Это учреждение (утвержденное в 1577 г.) было перенесено в 1611 г. во Францию (кардиналом Берюлем). Ораторианцы (особенно французские) прославились своими заслугами в области философии и науки. (обратно)52
…оставить в своих строках, как на плате Вероники, запечатленный образ Его Лика. — Плат Вероники (также Убрус Христа или Спас Нерукотворный) — имеется в виду легенда о еврейской женщине Веронике, которая подала свой плат (убрус) Христу во время Его пути на Голгофу, чтобы утереть пот. Образ Иисуса в терновом венце запечатлелся на плате и стал первой нерукотворной иконой. В православной традиции — это икона Спас Нерукотворный, имеющая другую версию происхождения. (обратно)53
Матиас Грюневальд (нем. Matthias Grünewald, Mathis Gothart-Nithart) (Вюрцбург, 1470 или 1475 — Галле 1528) — немецкий живописец, крупнейший мастер эпохи Возрождения. Работал при дворе майнцских архиепископов и курфюрстов (1508–1525). В своем творчестве с беспредельной эмоциональной силой выразил трагический накал и возвышенный мистический спиритуализм эпохи. (обратно)54
Рогир ван дер Вейден (Rogier van der Weyden) (1399/1400, Турне — 18 июня 1464, Брюссель) — фламандский живописец. Родился в семье резчика по дереву. Начал работать как скульптор, в зрелом возрасте стал учиться живописи у Робера Кампена в Турне. В 1435 г. переехал в Брюссель, стал членом городской гильдии живописцев. Многому научился у Яна ван Эйка. С 1435 г. городской живописец в Брюсселе, работал по заказам герцогского двора Филиппа Доброго, монастырей, знати, купцов-итальянцев. Цель творчества художник видел в постижении индивидуальности личности, был глубоким психологом и прекрасным портретистом. Сохранив спиритуализм средневекового искусства, наполнил старые изобразительные схемы ренессансной концепцией активной человеческой личности. Дирк Боутс (нидерл. Dirk Bouts) ок. 1410, Харлем — 6 мая 1475, Левен) — нидерландский живописец. Боутс жил и работал в Левене, где он был городским живописцем с 1468 г. На Боутса оказали влияние Ян ван Эйк и Рогир ван дер Вейден. (обратно)55
Ида из Лувена (умерла в 1300 г.) — цистерцианская монахиня, явившая пример экстатического служения божественной любви и исполнения тех обязанностей, которые она налагает. С необычайной нежностью она заботилась о духовных и повседневных нуждах тех, кто находился рядом с нею. Птицы иногда прятались у нее на груди. В XIII в. многие монахини этого ордена воплощали собой сострадание ко Вселенной. Примеры этого отношения можно встретить в дальнейшей истории Средних веков. Своей интуитивной нежностью они расширяли порой слишком узкие границы мужского богословия. Луиза Лато (1860–1893) — крестьянка из Италии. В 13 лет девочка попала под копыта коровы, отчего у нее все внутренние органы оказались поврежденными. Луиза не вставала с постели, но есть все-таки, хотя и понемногу, продолжала. В 1868 г. ей случилось мистическое видение, после чего она поднялась вдруг с постели, и тут выяснилось, что у нее появились стигматы. Луиза вообще перестала есть. Тем не менее она, как могла, работала некоторое время на ферме, но вскоре опять слегла. Когда обеспокоенные родители уговорили ее что-нибудь съесть, все кончилось для нее сильнейшей рвотой. Девушку обследовали врачи, но никакого объяснения странной аномалии не нашли. С 1871 г. ее уже никто не пытался кормить. Даже воды она не могла выпить. А между тем прикованная к постели женщина выглядела вполне нормально. Однако к 33 годам к ней внезапно подступила смерть, так что ее едва успели причастить. (обратно)56
Жан Фуке (Jean Fouquet) (ок. 1420, Тур — 1481) — французский живописец, первый мастер французского Возрождения, выдающийся портретист и миниатюрист, глава Турской школы. (обратно)57
…припоминаются истории о сношениях с суккубами. — Суккуб (от лат. succuba, наложница) — в средневековых легендах демон в обличье женщины, посещающий ночью молодых мужчин и вызывающий у них сладострастные сны. Характерно, что при описании суккубов средневековыми демонологами слово succuba использовалось крайне редко. Для именования этого класса существ использовалось другое латинское слово, succubus, которое относится к мужскому роду. Вероятно, это связано с тем, что, согласно воззрению демонологов, суккуб — это дьявол в женском обличье. Часто описывается как молодая привлекательная женщина, однако имеющая когтистые стопы ног и, иногда, перепончатые крылья. Похитив обманом мужское семя, суккуб, по мнению некоторых теологов, мог иметь потомство в виде подобных себе демонических сущностей. (обратно)58
…служить приютом последователям Янсения… — Янсений (лат. Cornelius Otto Jansenius, Корнелий Янсен) (28 октября 1585–6 мая 1638) — знаменитый голландский богослов. Его особенно занимали вопросы свободы воли и божественной благодати. В 1630 г. стал профессором богословия в Лувене и учил в духе строгого августинизма. Уже в это время ему неоднократно приходилось вступать в спор с иезуитами по поводу различных догматических вопросов. В 1636 г. Янсен стал епископом Ипернским. В Иперне он закончил изданное уже после его смерти сочинение: «Augustinus, sive doctrina St. Augustini de humanae naturae sanitatae, aegritudine, medicina etc.». В этой книге Янсен выставлял философию Аристотеля виновницей пелагианской ереси и утверждал, совершенно в духе Августина, что человеческая природа порочна, что свободы воли не существует, что спасение человека зависит не от дел его, а от искупляющей силы божественной благодати, что спасутся только те, которые предопределены к спасению. При жизни Янсен обнародовал несколько небольших богословских сочинений, в которых полемизировал с иезуитами, а в 1635 г. выпустил памфлет «Mars Gallicus», в котором осуждал Ришелье за поддержку протестантов во время Тридцатилетней войны. Учение Янсена, изложенное в его книге об Августине, сделалось основанием янсенизма. Сам автор, быть может, и не подозревал, какой шум поднимет его книга; едва ли она и стала бы исходным пунктом крупного религиозного движения, если бы иезуиты не подвергли ее ожесточенной критике. Подчиняясь влиянию иезуитов, Папа Урбан VIII буллой «In eminenti», изданной два года спустя после напечатания книги, запретил ее (1642). (обратно)59
…приняла обеты Третьего ордена святого Франциска… — Францисканцы («ordo fratrum minorum», «минориты», «меньшие братья») — нищенствующий монашеский орден, основан св. Франциском Ассизским близ Сполето в 1208 г. с целью проповеди в народе апостольской бедности, аскетизма и любви к ближнему. В 1223 г. Папа Гонорий III утвердил устав ордена в булле Solet annuere. Основанием ордена францисканцев было положено начало нищенствующим орденам. Орденское одеяние — темно-коричневая шерстяная ряса, подпоясанная веревкой, к которой привязаны четки, круглый короткий клобук и сандалии. Устав ордена предписывал совершенную бедность, проповедь, уход за больными телесно и душевно, строгое послушание Папе. Второй (женский) орден св. Франциска называется орденом бедных клариссинок, основан в 1224 г. св. Кларой, сподвижницей св. Франциска (см. коммент. 34). Третий орден св. Франциска (т. н. терциарии) — учрежден св. Франциском около 1221 г., получил в 1401 г. собственный устав и название Третьего ордена устава св. Франциска. Терциарии приносили монашеские обеты, но продолжали исполнять свои обычные обязанности в миру. (обратно)60
…воспоминание о святотатстве, в которое втянула его госпожа Шантелув. — Имеется в виду один из эпизодов романа «Без дна» (издательство «Энигма», коллекция «Гримуар», 2006): Дюрталь по приглашению госпожи Шантелув присутствует на черной мессе. (обратно)61
…вызвать в себе воспоминание о Мемлинге… — Ханс Мемлинг (нем. Hans Memling, нидерл. Jan van Mimmelynghe, лат. Johannes Memmelinc или Memlinc) (1433/1435, Зелигенштадт — 1494, Брюгге) — фламандский живописец немецкого происхождения. В религиозных картинах с тонко разработанными интерьерными и пейзажными фонами объединил позднеготические северные традиции с достижениями итальянской живописи Возрождения. Учился у Рогира ван дер Вейдена в Брюсселе, с 1465 г. жил в Брюгге, где вскоре стал городским живописцем. Писал картины на религиозные темы, жанровые сцены и портреты. (обратно)62
Кафизма, кафисма. — В богослужебной традиции Византийского обряда — раздел Псалтири. Название происходит от греческого слова, означающего «сидение», что указывает на практику сидения на богослужении во время чтения кафизм (впрочем, принято считать, что первоначально во время чтения или пения кафизм стояли, а сидели на следующих за ними седальнах и на следующих за седальнами святоотеческих чтениях). Псалтирь разделена на 20 кафизм таким образом, чтобы все они были приблизительно одинаковой продолжительности. Поэтому разные кафизмы содержат разное число псалмов. Больше всего псалмов в 18-й кафизме, туда включены 15 псалмов (псалмы 119–133), именуемые «песнями степеней». Кафизма 17-я, напротив, содержит только один псалом, разделенный на 3 части. Это псалом 118, или т. н. «Непорочны». Прокимен (греч.) — соответствующий какому-либо церковному празднику стих Псалтири; поется в церкви перед посланиями. (обратно)63
…мы буквально следуем бревиарию святого Бенедикта. — До литургической реформы II Ватиканского собора, в Римско-католической Церкви (латинском обряде) вместо названия «литургия часов» — общее наименование богослужений, должных совершаться ежедневно в течение дня (за исключением Мессы), — использовался термин «канонические часы», книга же, содержащая эти богослужения, именовалась «Бревиарий». (обратно)64
Блаженный Геррик. — Предположительно Геррик из Иньи (ок. 1075–1157), — цистерцианский мистик, продолживший традицию святого Бернарда, который понимал единение с Богом как сокровенный брачный союз. Мистическое переживание страстей Христовых у Геррика было столь сосредоточенным и напряженным, что у блаженного открылись священные стигматы. Блаженный Геррик впервые ввел в тезаурус мистической рефлексии такую важную проблему, как самопознание в начале мистического пути к Богу. (обратно)65
Христина Удивительная (1150, Брюстем под Льежем — 1224). Французская крестьянка, в пятнадцать лет осиротевшая, а в двадцать два пережившая каталептический припадок: она перестала двигаться, окружающие не могли различить ни дыхания, ни сердцебиения, и Христину на следующий же день понесли в церковь отпевать. Во время мессы она внезапно ожила, села в гробу и, по словам биографа, «как птичка» вскарабкалась на крышу церкви. Народ в панике бросился вон. Окончив службу, священник уговорил девушку спуститься, и та рассказала, что побывала в аду, в чистилище и даже в раю, где ей предложили либо остаться, либо вернуться на землю и своими молитвами и страданиями помочь войти в рай тем, кого она видела в чистилище. Она решила вернуться… Вела она себя в дальнейшем так, что многие видели в ней бесноватую: старалась держаться подальше от людей, объясняя, что после райских ароматов запах человеческого пота ей отвратителен, бегала по лесам, забиралась на деревья, скалы и башни, ходила по изгородям, как акробат. Она могла взять в руку раскаленные угли и окунуться в ледяную воду без малейшего ущерба для здоровья. Ее пытались связать, как тогда обычно поступали с сумасшедшими, но она всякий раз чудесным образом освобождалась от самых тугих и сложных пут. Жила подаянием. Однажды, когда священник, не знавший обстоятельств ее жизни, отказал странной оборванной женщине в причастии, Христина в негодовании выскочила из храма, побежала по улице и бросилась в реку… Лишь к старости она стала терпимее к присутствию людей. Ее приютили монахини монастыря Св. Екатерины в Сент-Тронде; здесь ее уже при жизни считали святой. К ней обращались за советами люди самого высокого общественного положения. Биографию Христины написал знавший ее лично кардинал Жак де Витри. Память 24 июля. Петр из Алькантара (1499–1562) — францисканский монах, прославившийся многими чудесами, представитель т. н. обсервации. Обсервация официально ведет свое начало с 1368 г., когда генерал францисканского ордена Фома Фриньано разрешил брату Павлу из Тринчи удалиться в скит для более совершенного исполнения устава. В 1384 г. Павел получил разрешение принимать послушников, то есть открыть свой новициат. Это движение быстро распространилось: открывались монастыри, объединявшиеся в провинции, а в 1388 г. у обсервантов появился собственный настоятель, ставший викарием генерала ордена. Таким образом, ревнители строгого исполнения устава и совершенной бедности (altissima paupertas) получили свою отдельную организационную структуру, возглавляемую собственным генералом и получившую название «Меньшие братья обсерванты» (от observantio — соблюдение, имеется в виду соблюдение устава). Впрочем, обсерванты по-прежнему назывались францисканцами. В дальнейшем постоянные требования еще большей строгости разделили обсервантов на обсервацию регулярную и строгую, начало последней положил св. Петр из Алькантара, который суровость жизни довел до пределов человеческих возможностей: ел только раз в три дня, и то очень мало, спал два часа в сутки, притом сидя, в любое время года ходил босиком, постоянно носил металлический пояс и бичевал себя. Агния (Агнесса) Пражская, Богемская (1205, Прага — 2 марта 1282, там же). — Дочь короля Богемии Оттокара I. В возрасте трех лет ее обручили с наследником силезского герцога, а еще через три года жених умер. Когда сам германский император Фридрих II, овдовев, пожелал жениться на Агнессе и ее брат, ставший королем, дал согласие, Агнесса обратилась непосредственно к Папе, умоляя его не дать совершиться браку, так как хочет быть невестой Христа. Папа воззвал к благочестию мужчин — и Фридрих Барбаросса, всегда умевший подать свой проигрыш красиво, изрек: «Если бы она предпочла смертного, я бы стал мстить, но меня не оскорбляет, что она предпочла Небесного Царя». Агнесса посвятила себя делам благочестия и заботе о бедных. В 1233 г. она на свои средства основала в Праге госпиталь, при котором возник орден Рыцарей Креста с Красной Звездой, а также монастырь кларисс (женское ответвление ордена францисканцев), куда она поселила монахинь из Триента и в котором в 1234 г. постриглась сама. Агнесса всегда старалась, чтобы в монастыре сохранялся дух строгой бедности. Существует множество свидетельств о совершенных ею чудесах. Беатифицирована в 1874 г… Память 2 марта (у францисканцев 8 июня). Святой Иосиф из Купертино (1603–1663, канонизирован 16 июля 1767 г.). — Одним из наиболее необычных христианских святых, в большей степени подверженных левитации, был Иосиф Деза. Канонизированный после смерти как святой Иосиф из Купертино, он родился в 1603 г. в Южной Италии в бедной семье. В детстве он уже был очень набожным и таким рассеянным, что товарищи по школе дали ему прозвище Открытый Рот. Повзрослев, вел необычайно аскетичную жизнь. К тому времени, как ему исполнилось 17 лет, он носил власяницу и посыпал еду — несколько видов овощей, которыми он питался крайне редко, — невыносимо острым перцем, чтобы получать как можно меньше удовольствия от пищи. В 1620 г. орден капуцинов принял его в свои ряды, но из-за своей рассеянности и приступов религиозного экстаза, которые всегда случались в неурочное время, через восемь месяцев был исключен из ордена. В Гроттальи, недалеко от своего родного города, Иосиф устроился ухаживать за мулами в монастырь францисканцев, и в 1625 г. ему был присвоен клерикальный статус. Два года спустя он стал послушником в монастыре в Гроттальи и 28 марта 1628 г. был посвящен в духовный сан. В монастыре Иосиф вел очень строгий образ жизни — подвергал себя таким истязаниям, что стены его кельи были забрызганы кровью, а свою скудную трапезу приправлял таким количеством жгучего перца, что монаха, который как-то попробовал ее, тошнило три дня. Экстазы Иосифа причиняли такое беспокойство окружающим, что ему запретили находиться с другими монахами на хорах или в столовой. Эти странности, а также разраставшиеся слухи о чудесах, происходящих с Иосифом, привлекли к нему внимание церковных властей: ему было предписано отправиться в Неаполь, чтобы предстать перед священной инквизицией. Однако строгое расследование не дало никаких результатов, и ему разрешили служить в церкви Святого Григория из Армении. Тогда-то и случилось нечто удивительное… Во время мессы в одной из частных церквей Иосиф отошел в угол, чтобы помолиться. Внезапно он поднялся в воздух и, преклонив колени, со странным криком поплыл к алтарю с простертыми руками. Увидев его, сияющего, среди горящих свечей, несколько монахинь в ужасе начали кричать: «Он загорится! Он загорится!» Через некоторое время Иосиф снова издал тот же странный крик и, по-прежнему коленопреклоненный, вылетел из алтаря. Посреди церкви он плавно приземлился, не получив никаких повреждений. После этого, к еще большему ужасу монахинь, он вскочил на ноги и закружился в танце, восклицая: «О Пресвятая Дева, Пресвятая Дева!» Другой случай левитации наблюдал сам Папа. Иосиф поехал в Рим, где ему организовали встречу с Урбаном VIII. В присутствии святого отца Иосиф быстро впал в экстатическое состояние и поднялся в воздух, где находился до тех пор, пока глава ордена не привел его в чувство. Увидев это, Его Святейшество заявил, что, если Иосифу суждено умереть раньше него, он лично засвидетельствует, что все это чистая правда. Однако в апреле 1639 г. по приказу из Рима Иосиф был вызван в Ассизи. Там за свои вознесения он был подвергнут уничтожающей критике — его публично называли лицемером, ему угрожали, его унижали. Эта травля продолжалась два года. Иосиф сносил оскорбления терпеливо и покорно, но в душе мучительно страдал. Когда известия о преследовании необычного монаха дошли до главы ордена францисканцев, тот призвал его в Рим. Вскоре Иосиф вернулся в Ассизи, где местные жители радушно приветствовали его. В этот период левитации начали происходить с ним так часто, что стали вполне обычным явлением. В состояние экстаза Иосифа нередко приводила музыка. Однажды в канун Рождества несколько пастухов по просьбе Иосифа играли на свирелях в церкви в Гроттальи. Музыка настолько ему понравилась, что он пустился в пляс. Потом, тяжело дыша, с криком поднялся в воздух и пролетел около 18 м к высокому алтарю, где, обхватив руками дарохранительницу, коленопреклоненный, парил примерно 15 мин. среди горящих свечей. Иногда полеты Иосифа случались прямо на улице. Однажды он гулял по саду со священником, который воскликнул: «Как красивы небеса, созданные Богом!» Тут Иосиф испустил характерный крик и взлетел на верхушку оливкового дерева, где оставался не менее получаса, стоя на коленях на тонкой ветке. На этот раз чувства вернулись к нему, прежде чем он опустился на землю, и священник вынужден был принести лестницу, чтобы помочь ему сойти. Иосиф был способен поднимать с собой в воздух и других людей; говорили, что однажды он таким образом излечил одного буйнопомешанного, Валтасара Росси, от лунатизма. Иосиф наложил руку ему на голову и сказал: «Синьор Балтасар, не будьте мнительны, а обратитесь к Богу и его Святейшей Матери», затем взял его одной рукой за волосы и, поднявшись с ним в воздух, находился в полете около четверти часа. Когда заходит речь о всяких невероятных событиях, сразу возникает мысль, что все это не более чем вымысел или мистификация. Но в деле Иосифа из Купертино имеется много свидетельств от знаменитых европейцев, которые подтверждали, что видели чудеса, которые он творил. В 1645 г. испанский посол, посетивший папский двор, побывал в келье Иосифа в Ассизи и потом рассказывал своей жене, что «видел второго святого Франциска». Его жене тоже захотелось посмотреть на чудо, и Иосифу приказали спуститься в церковь, чтобы поговорить с ней. «Да, конечно, — ответил он, — но не знаю, смогу ли говорить…» То, что последовало потом, подтвердили многочисленные свидетели: «Как только он вошел в церковь и его глаза остановились на статуе Непорочной Девы, которая стояла над алтарем, он воспарил в воздух и, преодолев около дюжины шагов над головами присутствующих, припал к подножию статуи. Потом, вознесши Ей хвалу и издав характерный протяжный крик, полетел обратно… Опустившись на землю, он вернулся в свою келью, оставив посла, его жену и большую свиту стоять в безмолвии и изумлении». Другим знаменитым очевидцем полетов Иосифа был Иоанн Фридрих, герцог Брансуик, который посетил Ассизи в 1651 г. и пожелал непременно увидеть знаменитого монаха. Герцога в сопровождении двух компаньонов провели в комнату, из которой они могли тайно наблюдать, как Иосиф служит мессу. На их глазах монах вдруг издал странный крик и, коленопреклоненный, поднялся в воздух, подался на пять шагов назад, а потом полетел к алтарю, пред которым некоторое время парил, одержимый экстазом. По мере того как слава Иосифа росла, росло и число желающих поглазеть на чудеса. В 1653 г. возмутителю спокойствия приказали покинуть Ассизи и следовать в капуцинский монастырь в Пьетра-Росса. Проведя там три месяца, Иосиф поехал по монастырям. Чудеса продолжались. Наконец его сослали в монастырь в Озимо, неподалеку от Анконы, и там летом 1663 г. Иосиф тяжело заболел. В последние месяцы жизни его посещал хирург Франческо Пьерпаоли, рассказавший, что однажды, прижигая в келье Иосифу ногу, видел, как святой впал в состояние транса и поднялся на высоту ладони над стулом, на котором сидел… Иосиф умер 18 сентября 1663 г. Последними словами, которые он произнес перед тем, как впасть в предсмертное беспамятство, были: «О, что за пение, что за чудесные звуки! Какой аромат, какое сладостное, райское благоухание!» (обратно)66
Святая Колетта Корбисская (фр. Colette) (1380–1446). — Родилась в Пикардии, происходит из фамилии Буале. Уже в ранней юности оказывала помощь бедным и больным. После смерти родителей примкнула сначала к бегинкам, затем к клариссинкам и в течение трех лет жила отшельницей в аббатстве Корбон. В стремлении к восстановлению первоначальной строгости ордена ей оказал поддержку признанный во Франции Папа Бенедикт XIII, посвятивший ее в настоятельницы ордена. Так возник, отпочковавшись от клариссинок, новый орден — нищенствующие клариссинки, или колеттанки. Святая Колетта относится к тем мистикам-реформаторам, чьи вдохновенные работы способствовали оживлению францисканской духовности. Уже Сикст V причислил Колетту к лику блаженных, но ее канонизации препятствовало посвящение ее авиньонским Папой времен великого раскола. Была канонизована Пием VII лишь в 1807 г. Святая Альдегонда, игуменья Мобежская (умерла в 684). — Принадлежит к древнему аристократическому франкскому роду. В юности, чтобы не вступать в брак, убежала из родительского дома. Приняла монашеский постриг от епископа Камбранского. При этом таинстве с неба слетел голубь и возложил покрывало на ее голову. В 661 г. основала монастырь в Мобене, где и стала первой игуменьей. Жизнь святой Альдегонды отмечена многочисленными видениями и чудесами. Существует предание о двенадцати видениях святой Альдегонды. Память 30 января. (обратно)67
Святая Коломбо из Риети, Колумба Риети (ок. 1430–1501) — францисканская монахиня-визионер. Мария Баньези, Мария Флорентийская (1577). — Дочь зажиточного и знатного флорентийца, Мария Баньези, однако, в детстве оказалась на попечении кормилицы, которая едва не уморила ее голодом; во всяком случае, желудок девочки был испорчен, так что она на протяжении всей жизни не могла есть нормальную пищу. Она мечтала стать монахиней кармелитского ордена, который как раз в это время был реформирован и стал одним из самых строгих. Ее старшие сестры стали монахинями, но Марию отец решил выдать замуж. Протестовать было бесполезно, и Мария воспротивилась чужой воле по-своему: она заболела. Болезнь была явно истерического характера: временная слепота и глухота, потеря сна и аппетита, боли в желудке. Отец щедро платил докторам, лекарства, которых, видимо, не жалели, окончательно лишив Марию здоровья. Только через четырнадцать лет отец сдался и согласился, чтобы Мария стала кармелиткой, но на сей раз уже сами монахини отказались ее принять: калека в монастыре была бы всем в обузу. Тогда Мария стала членом Третьего ордена доминиканцев. На короткое время ей даже стало лучше, она вставала и сходила в церковь, но затем болезнь взяла свое и до конца жизни, еще четверть века, Мария была прикована к постели. Какого бы рода ни была эта болезнь, Мария не только переносила ее без жалоб, но и постепенно стала центром притяжения для многих людей: к ней приходили за советом, утешением, даже за исцелением. Ее навещали два священника-доминиканца, которые руководили ее духовной жизнью, к ней приходили за духовным утешением многие люди, восхищавшиеся ее молитвенным усердием и прозорливостью. Но почитатели приходили и уходили, а слуга — тиран, издевавшийся над женщиной, которую ему поручили опекать, — оставался. Мария терпеливо выносила его. После ее смерти обнаружилось, что Марию почитали святой не только миряне, — кармелитки поместили ее останки в свой монастырь, где они покоятся по сей день нетленными. Память 28 мая. Агнесса де Ланжак, Агнесса от Иисуса (1602–1634). — Вступила в доминиканский орден в монастыре в Ланжаке, игуменьей которого стала в 1627 г. В 1631 г. ей явились Иисус и Мария и внутренне побудили ее молиться за некоего священника, которого она не знала. Мать Агнесса благоговейно повиновалась и горячо молилась за неведомого ей человека. Три года спустя в монастырь явился основатель семинария Сен-Сюльпис, и Агнесса поняла, что это и есть тот священник, за которого она молилась (имеется в виду Ж.-Ж. Олье; см. коммент. 37). Год спустя игуменья Агнесса умерла, оставив своим сестрам как особое назначение молиться за священнослужителей. Жизнь Агнессы от Иисуса отмечена многими чудесными феноменами и видениями. Беатифицирована в 1994 г. (обратно)68
Филипп Нери (1515, Флоренция — 1595). Один из четырех сыновей флорентийского нотариуса Франческо Нери. В восемнадцать лет его послали в Сан-Джермано к бездетному родственнику, преуспевающему купцу, у которого не было своих детей, так что можно было надеяться, что он сделает Филиппа своим наследником. Но вскоре после приезда с Филиппом произошло нечто, что он называл «обращением», и торговля стала ему неинтересна. Без денег и планов он отправился в Рим. Его приютил у себя в доме знакомый флорентиец, детям которого он стал давать уроки, а остальное время жил как отшельник, почти не выходя из комнаты. Через два года он покинул уединение с решимостью послужить Богу и три года изучал философию и богословие, подавая большие надежды, но неожиданно бросил учебу и стал проповедовать Евангелие горожанам. Ночами он часто уходил молиться в катакомбы Св. Себастьяна на Аппиановой дороге. Здесь на Пятидесятницу 1544 г. ему было видение: огненный шар вошел в его уста и, проникнув в грудную клетку, коснулся сердца… Чувство божественной любви так обожгло его, что он стал кататься по земле и кричать: «Хватит, хватит, Господи, я больше не выдержу!» С тех пор часто среди бела дня его охватывала судорога, он обнажал грудь, чтобы остудить ее. В 1548 г. с помощью своего духовника Филипп основал братство бедняков, члены которого брали на себя заботу о неимущих паломниках (из этого вырос знаменитый госпиталь Св. Троицы, который в 1575 г. принял более 145 тысяч паломников). 23 мая 1551 г. он был рукоположен и с тех пор целыми днями исповедовал людей в церкви Сан-Джироламо делла Карита. Он организовывал собрания, на которых читали жития святых, обсуждали проблемы духовной жизни. Когда же для этих собраний построили специальное помещение — «ораторию», Филиппа и работавших с ним священников стали называть ораторианцами. У Филиппа появились ученики (в том числе будущий великий церковный историк Чезаре Бароний), некоторые из них сами стали священниками и работали вместе с ним над религиозным просвещением народа. В 1575 г. Папа Григорий XIII благословил новую конгрегацию (она была названа конгрегацией Оратория); ей была выделена древняя, полуразрушенная церковь в Валичелла. Ее восстановили, и Нери наконец-то покинул убогое жилье, в котором жил с первого дня своего пребывания в Риме, переселившись в келью при храме. В последние годы жизни Нери пользовался беспредельным почитанием римлян, поддержкой кардиналов и сильных мира сего, приходивших к нему за духовными советами наряду с отверженными. В праздник Тела Христова 24 мая 1595 г. он весь день, как всегда, принимал посетителей, светился от счастья и веселья, даже врач сказал ему, что не видел его в таком хорошем состоянии уже лет десять. Отпустив последнего посетителя, Нери вздохнул: «Ну что же, пора умирать». Ночью начался приступ болезни. Бароний, сидевший у одра умирающего, просил его сказать напутственное слово или хотя бы благословить учеников; Филипп уже не мог говорить, но перекрестил собравшихся и скончался. Его останки покоятся в восстановленном им храме (Чьеза Нуова), где и по сей день проповедуют ораторианцы. Канонизирован в 1622 г. Память 26 мая. Ж. М. Вианней в своей книге «Проповеди и уроки закона Божия» (Брюссель, 1969) приводит его личную молитву: «Боже мой, держи меня крепко; Ты знаешь, как я грешен: если Ты отпустишь меня хоть на мгновение, я боюсь Тебя предать». Святая Маргарита Кортонская (1247–1297) — францисканская монахиня. Святой Пахомий. — Преподобный Пахомий Великий, родом египтянин. Язычник, он поступил на военную службу во время войны между Константином Великим и Максимианом (312 г.). Приветливая встреча жителей-христиан одного фиваидского города, через который случилось проходить войску, и прекрасные о них отзывы произвели на Пахомия сильное впечатление. По окончании войны он принял крещение, удалился в Фиваидскую пустыню и здесь прожил несколько лет под руководством отшельника Паламона. В Тавенне Пахомий впервые устроил монастырь на началах общежития и составил строгий монастырский устав. Скончался 14 мая 347 г. Память 15 мая. Преподобный Иларион Великий (291–371) родился в палестинском селении Тавафа. Его послали для изучения наук в Александрию, где он познакомился с христианами и принял святое крещение. Услышав об ангельской жизни преподобного Антония Великого (память 17 января), Иларион отправился к нему, чтобы научиться угождать Богу. Вскоре Иларион возвратился на родину. Родители его уже умерли. Раздав имущество родственникам и нищим, Иларион поселился в пустыне около города Маиума. Преподобный усиленно боролся с нечистыми помыслами, смущавшими ум и распалявшими плоть, побеждая их тяжелым трудом, постом и прилежной молитвой. Дьявол устрашал святого призрачными видениями. Во время молитвы святой Иларион слышал плач детей, рыдание женщин, рев львов и других зверей. Преподобный понимал, что эти ужасы наводят бесы, чтобы прогнать его из пустыни, поэтому пересиливал страх с помощью усердной молитвы. Однажды на преподобного Илариона напали разбойники, и он силой своего слова убедил их оставить преступную жизнь. Скоро о святом подвижнике узнала вся Палестина. Господь даровал преподобному Илариону власть изгонять нечистых духов. Этим благодатным даром он освободил от уз много недужных. Больные приходили для исцеления, и преподобный врачевал болезни безвозмездно, говоря, что благодать Божия не продается. Через обоняние святой узнавал, какой страстью одержим тот или иной человек. Приходили к преподобному Илариону и желающие спасти свою душу под его руководством. С благословения преподобного по всей Палестине начали возникать монастыри. Переходя из одной обители в другую, он утверждал в них строгий подвижнический образ жизни. За семь лет до кончины преподобный Иларион поселился на Кипре, где подвизался в пустынном месте, пока Господь не призвал его к Себе. Святая Лютгарда. — Предположительно Людгарда Тонгрская (1182, Тонгр в Нидерландах — 16 июня 1246). Отец Лютгарды, занимаясь торговлей, разорился, и хотя девушка была красивой и веселой, не проявлявшей особой религиозности, двенадцатилетнюю бесприданницу отдали не замуж, а в монастырь. Впрочем, она и здесь жила скорее как в пансионе, спокойно покидала обитель, принимала посетителей, в том числе и мужчин. Но однажды во время приятного разговора она вдруг онемела… Ей было видение: Христос указывал на Свои раны и заклинал ее любить Его и только Его. С этого мгновения она посвятила себя Иисусу как Жениху. Монахини поначалу отнеслись скептически к такому внезапному энтузиазму, но Лютгарда продолжала ощущать присутствие Иисуса почти телесно, переживала экстазы, мистически сострадала Его крестным мукам. Пробудившаяся в ней любовь к Богу была и любовью ко всем, за кого умер Христос: она страдала, думая о несчастьях окружающих, молилась о близких и дальних, просила Бога вычеркнуть ее имя из Книги Жизни, только не отвергать тех, о ком она молится. По совету своей подруги Христины Удивительной (см. коммент. 65) Лютгарда через двенадцать лет после поступления в монастырь перешла в обитель с более суровым уставом, цистерцианский монастырь в Эвьере. В 1235 г. она ослепла, приняв это с радостью как возможность целиком сосредоточиться на Боге. Память 16 июня. (обратно)69
Святой Антоний Падуанский (лат. Antonins Patavinus), Фернандо де Буйон (порт. Fernando de Bulhões) (15 августа 1195 — 13 июня 1231) — католический святой, выдающийся проповедник, один из самых знаменитых францисканцев. Будущий великий святой родился в семье знатного лиссабонского рыцаря Мартина де Буйона. При крещении получил имяФернандо. Мальчик рос живым и непоседливым, и отец не сомневался, что он пойдет по его стопам и выберет рыцарскую стезю. Но в юном возрасте Фернандо принял решение стать монахом и поступил в лиссабонский монастырь Св. Викентия, принадлежавший ордену регулярных каноников (ветвь августинцев). Через несколько лет молодой монах разочаровался в затворнической монастырской жизни. Гибель его отца в битве с маврами при Лас-Навас-де-Толосе в 1212 г., а также мученическая смерть в Марокко пятерых знакомых францисканцев, вызвали в нем горячее желание проповедовать Евангелие. В глубине души он мечтал о мученическом венце, полагая, что не может быть прекраснее смерти, чем смерть за веру. В 1220 г. Фернандо покинул орден регулярных каноников и стал францисканцем, приняв монашеское имя Антоний. На генеральном капитуле ордена францисканцев Антоний познакомился с основателем ордена святым Франциском Ассизским. После капитула Антоний по его просьбе был отправлен в удаленный монастырь Монте-Паоло неподалеку от города Форли, где вел ничем не примечательную тихую жизнь, когда однажды на празднике в Форли он, к удивлению всех и к своему собственному изумлению, победил в дружеском соревновании всех выдающихся ораторов, как своего ордена, так и доминиканского. Вскоре его послали учиться к знаменитому богослову Фоме Галлону, а после окончания занятий Антоний сам стал преподавать богословие в университете Болоньи. На очередном капитуле ордена Франциск Ассизский поручил Антонию проповедовать в городах северной Италии, охваченной ересью катаров. Антоний отправился прямо в Римини, город, где у катаров было больше всего сторонников. Пламенные проповеди Антония и совершенные им чудеса быстро возвратили город в лоно Церкви, после чего святой продолжил свою проповедническую деятельность среди еретиков уже на юге Франции. Проповедь св. Антония была успешной даже в Тулузе — городе, принадлежавшем лидеру альбигойцев Раймону Тулузскому. В 1224 г. Антоний стал настоятелем францисканского монастыря близ города Ле-Пюи. Слава о его проповедях, чудесах и добродетельной жизни становилась все шире, его называли «Светоч ордена». На очередном капитуле Антоний был избран провинциалом южной Франции, далее он посетил Сицилию, где основал несколько новых монастырей, а затем его избрали провинциалом Северной Италии, где было неспокойно — гвельфы боролись с гибеллинами. Понадобилась вся сила ораторского таланта св. Антония и кропотливая работа его собратьев, чтобы привести людей к миру. Самый кровавый тиран Италии, Эццелино да Романо, был настолько потрясен смелостью святого, пришедшего к нему в замок в одиночестве, что отпустил пленников, заключенных в замке. Папа Григорий IX предложил Антонию почетный пост в римской курии, но святой отказался. Его последние годы жизни прошли в Падуе. Святой Антоний был канонизирован сразу после смерти — в 1232 г. В 1263 г. его мощи были перенесены в великолепный собор, который жители Падуи построили в честь святого. При этом оказалось, что язык великого проповедника остался в целости и сохранности. 16 января 1946 г. Папа Пий XII провозгласил святого Антония Падуанского Учителем Церкви. Святой Франциск Ксавьер (исп. Francisco (de) Javier, баск. Frantzisko Xabierkoa) (7 апреля, 1506, Хавьер, Наварра — 2 декабря, 1552, остров Шангчуан у побережья Китая) — христианский миссионер и сооснователь Общества Иисуса (ордена иезуитов). Римско-католическая Церковь считает его самым успешным миссионером в истории христианства, обратившим в христианство большее число людей, чем кто бы то ни было, за исключением, быть может, апостола Павла. Франциск Ксаверий родился в замке Хавьер (Наварра) в аристократической баскской семье. В возрасте 19 лет Франциск Ксаверий отправляется учиться в Парижский университет, который кончает в 1530 г. Он продолжает изучать теологию и знакомится с Игнатием Лойолой. 15 августа 1534 г. в часовне Монмартра Игнатий Лойола, Франциск Ксаверий, Петр Фабер др. приносят клятву посвятить свои жизни Богу. Так было основано Общество Иисуса. Почти всю жизнь, с 1541 и до своей кончины, Франциск Ксаверий проповедовал в самых отдаленных уголках земного шара, обращая в христианство туземцев и представителей других религий: в португальской Индии и на Цейлоне, на Молуккских островах (сегодняшняя Индонезия) и в Японии… В начале сентября 1552 г. Франциск Ксаверий на борту «Санта Круз» достиг китайского острова Шангчуан, в 10 км от южного берега континентального Китая, в 200 км к юго-западу от того места, где позднее возникнет Гонконг, а 21 ноября он упал в обморок сразу после мессы. Франциск Ксаверий умер на острове 2 декабря 1552 г., в возрасте 46 лет, не сумев достигнуть материкового Китая. Вначале он был похоронен на острове Шангчуан, а в декабре 1553 г. тело Ксаверия было перевезено в Гоа, столицу португальской Индии, где и находится поныне. Раз в 10 лет на 6 недель его нетленные мощи выставляют для всеобщего обозрения (последний раз это случалось в 2004 г.). Франциск Ксаверий был беатифицирован Папой Павлом V 25 октября 1619 г., и канонизирован Папой Григорием XV 12 марта 1622 г., одновременно с Игнатием Лойолой. День его памяти в католической Церкви — 3 декабря. (обратно)70
…огонь, охвативший Урсулу Бенинказу, основательницу ордена театинок… — Театинцы (или киетинцы, квиетинцы, павлинцы) — монашеский орден, основанный в Риме в 1524 г. кардиналом Караффой (позже Папа Павел IV), епископом Теате, и утвержденный в 1540 г. Орден театинцев стал школой высшего духовенства и пользовался большим уважением; распространился главным образом в Венеции и Неаполе, где направил свою деятельность на преследование еретиков. Его члены разошлись по всей Италии, Франции, Германии, Испании, Польше, простерли свою миссионерскую деятельность даже на Кавказ. Целью ордена был строгий монастырский режим, жизнь в апостольской простоте; поэтому театинцы называются также апостолическим духовенством, или, так как они не имеют собственности (ни заработанной, ни приобретенной через подаяние), а живут только тем, что посылает Господь, — «организованным клиром божественного Промысла». Во главе ордена стоит генерал. Среди членов ордена были женщины. Папы Урбан VIII и Климент IX присоединили к нему конгрегации театинок беспорочного зачатия (soeurs de l’immaculée Conception) и театинок пустынниц (Théatines de l’hermitage), основанные родственницей Катерины Сиенской (см. коммент. 21) Урсулой Бенинказой (20 октября 1547 — 20 октября 1618). Аскетическая жизнь Урсулы с десятилетнего возраста была ознаменована пророческими видениями и мистическими экстазами, во время которых монахиню охватывало неистовое пламя (см.: Joseph von Görres. Die christliche Mystik, 1836–1842). (обратно)71
Блаженный Герлах. — Герлах Петерсен (1378–1411) — каноник из Виндесхейма, мистик, названный «Вторым Фомой Кемпийским», автор прекрасного пропитанного духом платонизма «Пламенного монолога с Богом». (обратно)72
…превратил религию в смягченный фетишизм канаков… — Канаки — коренные народы Меланезии, проживающие в Новой Каледонии, где составляют почти половину населения. Название происходит от гавайского словосочетания «канака маоли», нередко употреблявшегося в прошлом европейскими купцами и миссионерами в качестве уничижительного названия для многих неевропейских островитян Тихого океана. (обратно)73
Фра Беато Анджелико (Анжелико, итал. Fra Beato Angelico, букв, «брат Блаженный Ангельский», собств. имя Гвидо ди Пьетро, имя в постриге Джованни да Фьезоле) (1400–1455) — итальянский художник эпохи Раннего Возрождения, доминиканский монах. Герард Давид (Gerard David) (ок. 1460–1470, Аудеватер, Южная Голландия — 13 августа 1523, Брюгге) — фламандско-нидерландский живописец, представитель раннего Северного Возрождения. Учился у Ханса Мемлинга (см. коммент. 61). С 1494 г. был городским живописцем в Брюгге. (обратно)74
Ламия (лат. lamia) — общеупотребительное латинское слово, обозначающее ведьму. Согласно классической греческой легенде, Ламия была царицей Ливии и возлюбленной Зевса, родившей ему нескольких детей. Гера из мести превратила красоту Ламии в безобразие, а детей убила. В отчаянии Ламия стала отнимать детей у других матерей. Ламия может возвращать свою прежнюю красоту, чтобы соблазнять мужчин и пить их кровь. Слово lamia использовалось в Вульгате как эквивалент еврейского имени Лилит. Слово имеет многочисленные ассоциации в фольклоре и легендах: в сочинениях демонологов lamia обозначала вампира или ночной кошмар. По народным представлениям греков ламиями называются вампиры, под видом прекрасных дев привлекающие юношей и высасывающие у них кровь. (обратно)75
Гимн святого Амвросия Te lucis ante terminum… — Святому Амвросию (см. коммент. 44) приписывают авторство двух раннехристианских гимнов: Hymn at Dawn (Гимн на рассвете) и Te lucis ante terminum (На закате дня), связанных с темами мрака и света. Музыка, особенно в первой части, крайне проста и архаична. (обратно)76
Нидермейер Луи (фр. Abraham Louis Niedermeyer) (27 апреля 1802, Ньон — 14 марта 1861, Париж) — французский композитор швейцарского происхождения. Учился в Вене у Игнаца Мошелеса (фортепиано) и Э. А. Фёрстера, затем пробовал себя в Риме и Неаполе. С 1823 г. жил в Париже. Поставил здесь четыре оперы — все без особенного успеха. Наиболее известным произведением Нидермейера остался романс на знаменитое стихотворение Ламартина «Озеро». Во второй половине 1850-х в значительной мере переключился на решение педагогических и организационных задач. Принял руководство Институтом церковной музыки, основанным А. Э. Шороном, и реорганизовал его в активно развивающееся учебное заведение. Вместе с Жозефом д’Ортигом Нидермейер основал посвященный церковной музыке журнал «La Maîtrise». (обратно)77
Франциск Сальский (фр. St François de Sales — Святой Франсуа де Саль) (21 августа 1567, Савойя — 28 декабря 1622, Лион) — католический святой, епископ Женевы, Учитель Церкви, основатель конгрегации визитанток. Св. Франциск родился в знатной савойской семье. В возрасте тринадцати лет уехал в Париж, где получал образование сначала в коллеже иезуитов, затем в Парижском университете. В 1579 г. отправился в Падую для продолжения обучения праву и теологии в местном университете. В 1593 г. против воли отца стал священником. Впрочем, когда сразу после рукоположения Франциск, несмотря на молодость, получил почетную должность декана женевского капитула, отец смирился со священническим призванием сына. В качестве своих небесных покровителей молодой декан избрал св. Франциска Ассизского (см. коммент. 34) и св. Филиппа Нери (см. коммент. 68). Поскольку после Реформации город Женева стал центром кальвинизма и католическая церковь была там запрещена, резиденция епископа Женевы располагалась в г. Анси в Савойе. Соответственно и деятельность Франциска поначалу проходила в родных местах, тем более что существовала потребность в борьбе с кальвинизмом, проникавшим в Савойю из Женевы. Франциск начал проповедническую деятельность в Шабле, ставшем почти полностью кальвинистским, обращаясь главным образом к беднякам. Это было сопряжено с большими опасностями: дважды его пытались убить, но проповеди Франциска были столь действенны, что через четыре года район был полностью возвращен в католическую веру. Слава Франциска росла, легенды ходили как о его проповедях, так и о его добродетелях. Многие его недоброжелатели были покорены терпением и кротостью святого. В 1599 г. он был назначен коадьютором епископа Женевы. В следующем году он посетил Францию, где познакомился с секретарем и исповедником короля Генриха IV кардиналом де Берюлем, знаменитым богословом, который сделался его хорошим другом. Де Берюль познакомил Франциска с молодым Винсентом де Полем (см. коммент. 83), эта встреча двух будущих святых была важна и полезна для обоих. Король Генрих IV также имел несколько бесед с Франциском и был настолько покорен его умом и святостью, что просил его остаться в Париже, однако Франциск отклонил это предложение и вернулся в Савойю. В 1602 г., после смерти епископа Грайнера, Франциск сам стал епископом Женевы. До самой смерти он неустанно служил делу Церкви в Савойе и Франции, проповедовал, способствовал росту приходов, спешил на помощь бедным и обездоленным. Вместе со святой Жанной де Шанталь (см. коммент. 79 и 83), духовным руководителем которой он был, Франциск основал в Анси в 1610 г. женский орден визитанток, духовное руководство которым осуществлял до самой смерти. Умер св. Франциск в Лионе. Похоронен в Анси. Св. Франциск Сальский оставил после себя большое количество сочинений, составляющих вместе 14 томов. Наиболее важные и известные его труды — «О любви Бога» и «Наставление в христианской вере». Труды св. Франциска стали фундаментом для многих выдающихся богословов, развивавших его идеи. Особое значение имеют труды св. Франциска в контексте религиозного спора католических авторов с кальвинизмом, в особенности с кальвинистским учением о предопределении, горячим противником которого был св. Франциск. В 1661 г. Папа Александр VII беатифицировал Франциска, в 1665 г. он же канонизировал его, а в 1867 г. Франциску Сальскому был присвоен почетный титул Учитель Церкви. В 1923 г. Папа Пий XI провозгласил его покровителем писателей и журналистов. День памяти в католической Церкви — 24 января. (обратно)78
Мари Гийон. — Жанна Гийон (Madame Guyon, урожденная Жанна Мари Бювьер де ла Мот) (1648–1717), родилась в Монтере (Франция) в католической семье. В два с половиной года ее отдали в Урсулинскую семинарию в Монтере; в четыре перевели к бенедиктинцам; в десять отправили в доминиканский монастырь. Когда ей исполнилось пятнадцать, семья переехала в Париж, и Жанна стала выходить в свет. В шестнадцатилетнем возрасте она вышла замуж за Жака Гийона, богатого человека старше ее на двадцать два года, но брак оказался несчастливым. Внутренне замкнувшись, Жанна искала утешения в книгах — постоянно читала Фому Кемпийского «Подражание Христу». Когда Жанне исполнилось двадцать восемь, ее муж умер. В следующие годы она все больше углублялась в свою внутреннюю жизнь. Если Христос истинно живет в нас, решила Жанна, тогда необходимо предоставить Ему место внутри, а не вовне. Это значит отречься от всего в этом мире и подчинить все Христу. Абсолютная отдача стала ее целью. Она писала: «Когда “я” умирает в нашей душе, тогда там живет Бог; когда “я” упразднено, тогда Бог восседает на троне». И Жанна отвернулась от религии, направленной на все внешнее, а обратилась к внутренней вере. Она прекратила посещать церковь и занялась размышлениями, прекратила молитвы вслух и в сокровенной тишине начала общаться с Христом. В тридцать четыре года она стала путешествовать и учить внутреннему христианству. Большая часть учения мадам Гийон основана на доктринах Мигеля де Молиноса (1535–1600) (см. коммент. 80), испанского иезуита, с которым она переписывалась. В 1675 г. Молинос изложил свои взгляды в книге «Духовный руководитель», положительно воспринятой Папой Иннокентием XI. И все же в 1685 г. Молинос был арестован инквизицией по обвинению в ереси. Суд инквизиции признал его виновным и приговорил к пожизненному заключению. В темнице его пытали до тех пор, пока он в конце концов не сдался и не подписал покаянную исповедь. Жестокие пытки подорвали его здоровье, и в 1696 г. он умер в возрасте шестидесяти восьми лет. Другим известным в те времена христианином, с которым переписывалась мадам Гийон, был Франк Фенелон (1651–1715), архиепископ Кембриджский (см. коммент. 81). В противоположность Молиносу Фенелон изучил почти все, что он знал о созерцательном христианстве из писем Жанны Гийон и из личных бесед с нею. Они были близкими друзьями в течение двадцати пяти лет. Учение мадам Гийон становилось все более популярным, и духовенство начало обвинять ее в ереси. Римская церковь учила, что любые взаимоотношения с Богом возможны лишь посредством церковных обрядов и таинств, но Жанна Гийон говорила, что каждый человек может прямо общаться с Богом в себе и что созерцательная жизнь превыше всех ритуалов. Против нее выдвинули обвинение в ереси и аморальных отношениях с ее духовником, отцом Лакомбом, который в путешествиях сопровождал мадам Гийон и ее дочь. После ареста Жанны отец Лакомб также был арестован, брошен в темницу, а затем переведен в больницу для душевнобольных, где в умственном расстройстве подписал свидетельство о прелюбодеянии с мадам Гийон. Несмотря на то что Фенелон великолепно выступил в ее защиту и что большинство сочинений мадам Гийон всего лишь воспроизводят ортодоксальное учение о созерцательной молитве, ее «пассивная молитва» была осуждена за квиетистскую направленность. Следующие семь лет Жанна провела в темнице. Ее переводили из тюрьмы в тюрьму, из одного монастыря в другой, пока в сентябре 1698 г. не поместили в Бастилию, где она провела четыре года. Зимой 1701 г., когда Жанна тяжело заболела, Людовик XIV освободил ее на шесть месяцев, но изгнал в Бло, что в ста милях от Парижа. Позже король продлил ее освобождение еще на шесть месяцев, а затем на неопределенный срок, однако настоящей свободы она так и не получила: ей было строжайше запрещено покидать Бло. В этот период она написала сотни писем и автобиографию. Жанна Гийон умерла 9 июня 1717 г. в возрасте шестидесяти девяти лет и была погребена в Бло у церкви Гордельеров. После себя она оставила более шестидесяти письменных трудов, которые стали духовной классикой. (обратно)79
Приверженцы другого, так называемого умеренного мистицизма, группировались около Франциска Сальского и его приятельницы, знаменитой баронессы Шанталь. — Этот узкий круг избранных возник в Париже XVII в. в противовес ослепительной светской жизни, а также застою и порочности официальной религии. Этот мистический ренессанс, по-видимому, берет свое начало в работах английского монаха-капуцина Бенедикта Кэнфилда (1520–1611), а в миру Вильяма Фитча, который на старости лет поселился в Париже и стал центром духовного влияния. Среди его учеников были г-жа Акари (1566–1618) и Пьер де Берюль (1575–1629). Через них его учение о созерцании оказало воздействие на всех великих религиозных деятелей того периода. Дом г-жи Акари — женщины в равной степени замечательной и своей высокой духовностью, и своими провидческими способностями — стал средоточием растущего мистического энтузиазма, выразившегося также в энергичном реформаторском движении внутри Церкви. Одним из основателей нового течения был Берюль. Г-жа Акари, которую в те времена называли «совестью Парижа», посещала новообращенных и призывала их к более строгой и святой жизни. В 1604 г. на ее средства во Франции были построены первые дома реформированного ордена кармелиток, причем туда нередко приходили монахини-испанки из числа новообращенных св. Терезы. Поэтому французский мистицизм очень многим обязан прямому контакту с испанской мистической традицией. Г-жа Акари и три ее дочери также стали монахинями-кармелитками. Именно дижонские кармелитки посвятили в практику созерцательной жизни св. Жанну Франсуазу де Шанталь (1572–1641) (см. коммент. 83). Ее духовный отец, один из основателей ордена Визитации св. Франциск Сальский (1567–1622) (см. коммент. 77), тоже в юности был членом кружка г-жи Акари. (обратно)80
…она навлекла на себя ярость грозного Боссюэ, который обвинил ее в двух модных ересях, молинизме и квиетизме. — Жак Бенинь Боссюэ (фр. Jacques Bénigne Bossuet) (27 сентября 1627 — 12 апреля 1704) — знаменитый французский проповедник и писатель, епископ Мо. Родился в Дижоне. Окончил иезуитскую школу в родном городе, а затем, в возрасте 15 лет, отправился в Париж, чтобы изучать философию и теологию в Наваррском коллеже (Collège de Navarre). В 1652 г. получил степень доктора теологии. В 1661 г. Людовик XIV назначил его проповедником в Шапель-Рояль, а в 1671-м ему было поручено воспитание дофина. В этом же году Боссюэ был избран членом Французской академии. В 1681 г. он стал епископом Мо, посвятив остаток жизни защите католической религии. В своих трудах Боссюэ опирался на святоотеческие писания (в частности, св. Иоанна Златоуста). Один из современников даже называл его «последним из Отцов Церкви». Боссюэ написал ряд библейских толкований в виде гомилий: на Откровение (1689), на Псалтирь и Песнь Песней (1690), на Притчи, Екклезиаст, Премудрости сына Сирахова (1693) и на пророчества Исайи о Христе (1704). В книгах «Рассуждение о всеобщей истории» и «Политика, извлеченная из Священного Писания» он выразил идеи, близкие к учению библейских пророков. Рассматривая исторические события с точки зрения промыслительных деяний Божьих, он писал: «То, что мы в нашем неведении считаем случаем, вытекает из верховного плана, в котором определены и причины и следствия». Выступая поборником догматической строгости, Боссюэ осудил рационалистическое истолкование Св. Писания Р. Симоном и квиетизм Фенелона. Умер в Париже. Боссюэ был не только одним из самых красноречивых проповедников своего времени, но и выдающимся историком, защитником чистоты католического вероучения и духовным лидером французской церкви в последние десятилетия XVII в. Его красноречие изысканно, слог поэтичен и живописен, отмечен яркой образностью и одушевлен глубоким религиозным чувством. Молинизм. — Основоположник этой системы — испанский иезуит Луис де Молина (1535–1600). После выхода в свет его сочинения «Concordia de liberi arbitrii cum gratiae donis» (Лиссабон, 1588), дискуссия, начавшаяся в лоне католической Церкви еще в 1581 г., достигла высшего накала. В духе определений Тридентского собора Молина утверждал сохранение нравственной свободы человека, несмотря на реальность в нем первородного греха, а также свободы воли, действующей под влиянием благодати и соработающей с ней. Идя вразрез с восходящей к позднему Августину традицией, теолог фактически минимизировал последствия грехопадения: в результате преступления Адама человек лишился только сверхъестественных, то есть внешних по отношению к его природе даров (вечной жизни, например), а основные качества его природы остались неповрежденными. Чтобы компенсировать утраченные дары и придать дополнительные силы падшему человеку, Бог дает ему благодать, которая, при том, что у человека остается свобода выбора — принять ее или нет, — делает его способным преодолевать конкретные искушения, соблюдать заповеди и тем самым претендовать на жизнь вечную. Несмотря на то что попытки «реабилитировать» падшую человеческую природу и смягчить августинскую концепцию последствий грехопадения предпринимались (хотя и по-разному) еще представителями зрелой схоластики в лице Фомы Аквинского и теологов-францисканцев, молинизм подвергся критике за видимость того, что воля человека детерминирует характер благодати и определяет степень ее эффективности. И хотя Молина принадлежал к Обществу Иисуса, оно никогда не поддерживало крайнего молинизма. Последний был запрещен генералом ордена Клавдием Аквавивой в 1613 г., а также осужден назначенной Климентом VIII комиссией теологов в 1598 г. Квиетизм (франц. quiétisme, от лат. quietus — спокойный, безмятежный, quies — покой) — религиозно-этическое учение, проповедующее мистическо-созерцательное отношение к миру, пассивность, спокойствие души, полное подчинение божественной воле, безразличие к добру и злу, к раю и аду. Возникнув в конце XVII в. внутри католицизма, квиетизм выражал рост оппозиционных настроений против папства. Идеи квиетизма были развиты испанским священником М. Молиносом (1628–1696), издавшим в Риме в 1675 книгу «Духовный руководитель». Согласно учению квиетистов, душа, примирившаяся со всеми страданиями и отрешившаяся от мира, полностью погружается в божественную любовь. Католическая церковь, и особенно иезуиты, резко выступили против квиетизма В 1685 г. Молинос был заключен в тюрьму, а 68 положений квиетизма были осуждены как ересь. Идеи Молиноса были развиты его последовательницей во Франции Ж. М. Гюйон (1648–1717) (см. коммент. 78), в защиту которой выступил епископ Ф. Фенелон (см. коммент. 81). Однако особая церковная комиссия, возглавляемая Ж. Боссюэ (см. выше), осудила квиетизм как безнравственное еретическое учение и добилась заключения Гюйон в Бастилию. (обратно)81
Франсуа Фенелон (де Салиньяк, маркиз де ля Мот Фенелон) (1651–1715) — знаменитый французский писатель. Родился в Перигоре, в древней дворянской семье. До 12-летнего возраста мальчик прожил в родовом замке, часто пропуская занятия вследствие слабого здоровья; потом учился в Кагорском университете и в Парижской семинарии Св. Сульпиция; 24-х лет от роду вступил в духовное звание. Парижский архиепископ назначил его духовником в новой женской конгрегации, Nouvelles catholiques, образованной из молодых девушек, только что обратившихся из протестантизма в католичество. В 1688 г. Фенелон познакомился с известным мистиком, мадам Гийон (см. коммент. 78). Очень скоро между ними установилась тесная дружба, и Фенелон ввел свою подругу в кружок г-жи Ментенон (см. коммент. 82), где Гийон своим страстным темпераментом увлекла даже расчетливую и холодную возлюбленную короля. Сам Фенелон до того увлекся идеями квиетизма, которые проповедовала Гийон, что не задумался открыто защищать их, рискуя положением и карьерой. Преследования, которым подверглись идеи Гийон, не сразу отозвались на судьбе ее друга. Опала мадам Гийон началась в 1693 г., а еще долго после того Фенелон был в почете; в 1695 г. он был возведен в сан епископа Камбрезского и продолжал занимать должность воспитателя герцога Бургундского. Поворот к худшему произошел лишь после того, как он издал в защиту квиетизма книгу «Explication des maximes des saints sur la vie intérieure» (1697). Против нее выступил Боссюэ (см. коммент. 80); Фенелон ответил, и спор был предоставлен на решение Рима. Курия долго колебалась, ибо Боссюэ, опора галликанизма, далеко не был там популярен, но обидеть могущественного французского короля Папа не решался (двор был на стороне Боссюэ). Первый приговор курии был благоприятен Фенелону: голоса судей разделились поровну, но под давлением Людовика Папа велел вновь пересмотреть дело, и во второй инстанции книга Фенелона была единогласно осуждена. Фенелон заблаговременно покинул двор и отправился в свою епархию. Камбре совсем недавно был присоединен к Франции по Нимвегенскому миру; население его было преимущественно фламандское и к новому государю особенной любви не обнаруживало. Нужно было примирить его с Францией; это стало целью Фенелона, и он ее в значительной степени достиг. Умер Фенелон в Камбре 1 января 1715 г., за восемь месяцев до Людовика XIV. (обратно)82
Ментенон Франсуаза д’Обинье (фр. Maintenon, 1635–1719) маркиза Ментенон — вторая жена Людовика XIV. Внучка предводителя гугенотов д’Обинье, она была крещена по католическому обряду, но воспитана в протестантизме. В 1639 г. родители взяли ее с собой на Мартинику, вот почему впоследствии она получила прозвище «Прекрасная индианка». После смерти отца (1645) вернулась с матерью во Францию. Здесь ее сначала взяла к себе тетка Виллет, строгая кальвинистка; но другая ее родственница, католичка Нельян, отдала ее в монастырь урсулинок в Париже, где Ментенон после долгого сопротивления обратилась в католичество. В 1650 г. умерла ее мать, и два года спустя Нельян выдала ее замуж за знаменитого поэта-паралитика Скаррона. После смерти мужа она была приглашена мадам де Монтеспан (1669) заняться воспитанием ее детей от Людовика XIV и исполняла свои обязанности с большой добросовестностью и тактом. В 1683 г. королева умерла, и вся привязанность Людовика обратилась на Ментенон. В 1684 г. маркиза сочеталась тайным браком с королем. Она все больше подпадала под влияние духовенства. В письмах, программах и наставлениях Ментенон отражаются мысли и воззрения Фенелона. Ее духовники давно уже ставили ей задачу вернуть короля на путь благочестия. Так что вторая половина царствования Людовика XIV в значительной степени объясняется влиянием маркизы. В сложных политических вопросах Людовик часто спрашивал ее совета, однако постоянного, руководящего значения в политике Ментенон не имела — многое приписывается ей несправедливо. После смерти Людовика XIV Ментенон удалилась в Сен-Сир, где и умерла. (обратно)83
Святой Венсан де Поль (фр. Vincent de Paul) (1581, Пюи, Франция — 27 сентября 1660, Париж), — католический святой, основатель конгрегации лазаристов и конгрегации дочерей милосердия. Родился в бедной крестьянской семье в одном из самых нищих регионов Франции. Благодаря счастливому случаю и покровительству местного помещика, заметившего необычайный ум мальчика, смог получить общее образование в Даксе, затем изучал богословие в Тулузе. В 1600 г. рукоположен в священники. Сильное влияние на формирование взглядов св. Венсана, в 1612 г. настоятеля небольшого прихода близ Парижа, оказали три личных знакомства: со знаменитым богословом кардиналом Берюлем, взгляды которого очень импонировали Венсану и который очень помог молодому священнику в первый период его парижской жизни; со св. Франциском Сальским (см. коммент. 77), после встреч с которым в Венсане на всю жизнь запечатлелось стремление к святости, а также с Корнелием Янсением (см. коммент. 58), учение которого, впоследствии известное как янсенизм, св. Венсан не принял и в дальнейшем активно с ним боролся. На протяжении последующих 10 лет выполнял обязанности капеллана в семье знатного генерала Гонди, в чьих владениях многократно видел бедных крестьян, влачивших жалкое существование. Этот жизненный опыт повлиял на него настолько, что вся дальнейшая деятельность Венсана проходила под знаком помощи больным и бедным. В 1625 г. св. Венсан основал конгрегацию миссионеров или конгрегацию лазаристов (по имени монастыря св. Лазаря, где располагалась резиденция конгрегации). В 1633 г. Папа Урбан VIII утвердил ее конституцию, и в том же году св. Венсан создал вместе с герцогиней Луизой де Марийак конгрегацию дочерей милосердия, главным делом которой стала помощь бедным, больным, брошенным детям и каторжникам. В первой половине XVII в. во Франции упадок среди клира был ужасающ — многие священники не умели ни читать, ни писать; в монастырях традиции были забыты, дисциплина расшаталась, и наряду с ленью и невежеством царила открытая безнравственность. Одной из главных заслуг св. Венсана является создание стройной системы подготовки священников: предсеминарий и семинарий. Работой над созданием этой системы во Франции св. Венсан занимался с 1626 г. до самой смерти. Сам св. Венсан основал 18 семинариев и множество школ и предсеминариев. Система св. Венсана быстро распространилась на соседние страны, что имело колоссальное значение в улучшении уровня образования клира и его нравственном воспитании. После смерти Папа Бенедикт XIII провозгласил его блаженным, а Папа Климент XII — канонизировал 16 июля 1737 г. День памяти в католической Церкви — 27 сентября. Шанталь Жанна Франсуаза де (Jeanne Françoise de Chantal) (1572–1641) (см. также коммент. 77 и 79) — французский мистик. Испытала воздействие идей Франциска Сальского (см. коммент. 77), основала (1610, Аннеси, Франция) женский монашеский орден Визитации, или Посещения (Св. Девой Марией Елисаветы — матери Иоанна Крестителя). (обратно)84
…короне королевы Рецесвинты, хранящейся в музее Клюни. — Имеется в виду так называемая вотивная корона — вид церковной утвари, ювелирное украшение. Особенно известны произведения вестготских мастеров VII в. Представляет собой богато орнаментированный обруч-корону, который вносился в церковь как жертвенный вклад («по обету» — ex voto). Обычно подвешивались под арками или же над алтарем таким образом, чтобы крест, свисающий с короны, приходился прямо над Распятием, водруженным на престоле. Наиболее прославленные вотивные короны — это находки из клада в Гварразаре (обнаружен в 1858–1861 гг. близ Толедо). Включал 6 корон, две из которых, более крупные, содержали имена дарителей, королей Реккесвинта (Рецесвинта) — король вестготов (649–672, совместно с отцом до 653) — и Свинтилы. Все находки выполнены из золота, украшены эмалью и обильно инкрустированы драгоценными камнями. В настоящее время эти реликвии разделены между музеем Клюни (Франция) и в Национальным археологическим музеем в Мадриде. Корона Реккесвинта (653–672 гг.) находится в Мадриде и представляет собой широкий золотой обруч с 22 подвесками из драгоценных камней и золотых букв, которые составляют фразу — (R) ECCESVINTUVS REX DEFERET, то есть «Дар короля Реккесвинта». Корона подвешена на четырех золотых цепях, скрепленных сверху замком в форме стилизованного цветка. Из центра крепления спускается длинная цепь, оканчивающаяся массивным золотым крестом, украшенным жемчугом и сапфирами. (обратно)85
Пруденций Климент Аврелий (348–410), христианский поэт. Родом из Испании, он начал свою карьеру юристом, затем работал на высших государственных должностях. Но на 57-м году жизни удалился в монастырь, где и умер. В этот последний год своей жизни он и написал все свои замечательные поэтические произведения, главное из которых — «Liber cathemerinon» — собрание гимнов для повседневной молитвы. Здесь произошло воцерковление эпических и лирических форм римской классической поэзии. Современники ставили его в один ряд с Горацием. Седулий (Sedulius) — один из известнейших христианских поэтов. Расцвет славы Седулия совпадает с правлением Феодосия Младшего и Валентиниана, что позволяет отнести время его рождения ко 2-й половине IV в. Родиной Седулия был, предположительно, Рим, во всяком случае — Италия. Закончив образование, Седулий отправился в Грецию, где под влиянием своего друга, Македония, поступил в духовное звание и, вероятно, был рукоположен. Средневековым читателям не мог не нравиться и своеобразный мистицизм, проникающий все произведения Седулия. От Седулия до нас дошли два гимна Христу; в первом проводится параллель между Ветхим и Новым Заветом, а второй воспроизводит земную жизнь Спасителя. (обратно)86
…в следующее воскресенье, неделю Ваий, но тогда с этим сочинением Фортуната исполнялся вечнозеленый гимн Теодульфа… — Неделя ваий, вход Господень в Иерусалим, Вербное воскресенье — христианский праздник, отмечаемый в воскресенье (Неделю), предшествующее Неделе Пасхи, то есть шестую Неделю Великого поста. В русских богослужебных книгах называется также Неделей Цветоносной, а в просторечии Вербным воскресеньем, что связано с тем, что пальмовые ветви в России в народном обиходе заменяли на вербы. Фортунат (Фортунит). — Имеется в виду апостол от семидесяти, упоминаемый апостолом Павлом в 1-м Послании к коринфянам: «Я рад прибытию Стефана, Фортуната и Ахаика: они восполнили для меня отсутствие ваше, ибо они мой и ваш дух успокоили. Почитайте таковых» (1 Кор. 16:17–18). Теодульф — лучший поэт эпохи Карла Великого. По происхождению Теодульф был вестгот. Пришел к Карлу из Испании или из Септимании. Карл обратил внимание на всестороннюю образованность Теодульфа (в одном из своих стихотворений, De libris, quos legere solebam, он перечисляет своих любимцев — языческих философов и христианских писателей). Приблизив Теодульфа к себе, Карл назначил его в 788 г. епископом Орлеанским и аббатом Флерийским. Теодульф был одним из первых советников Карла по делам Церкви, принимал участие в споре об исхождении Святого Духа, собрал в своем сочинении «De Spiritu Sancto» материал для решения этого вопроса. Он пользовался сначала большим уважением у Людовика Благочестивого, но в 817 г. его обвинили на Ахенском соборе в сношениях с Беренгаром, итальянским королем, лишили сана и сослали в монастырь в Анжере. Виновность свою Теодульф до конца жизни отрицал. Получив прощение в 821 г., Теодульф отправился в Орлеан, но по дороге умер. Стихотворение «Гимн на неделю Ваий» было написано Теодульфом, когда он содержался под стражей в Анжерском монастыре. Сохранилось больше 70 его стихотворений, два богословских трактата и несколько проповедей. (обратно)87
Григорий I Великий (лат. Gregorius PP. I) (ок. 540–12 марта 604) — Папа Римский с 3 сентября 590 по 12 марта 604. Своими трудами Григорий Великий, чтимый Церковью как ее учитель, в значительной степени сформировал новый христианский запад на месте разделенной империи, а его проповеди и толкования библейских книг: «Моралии на Книгу Иова», «Беседы на Евангелия», «Беседы на Книгу пророка Иезекииля», «Толкование на Песнь песней» и «Пастырское правило» стали неотъемлемой частью западной христианской традиции. (обратно)88
Беда Достопочтенный (лат. Beda, англ. Bede) (ок. 672 или 673–27 мая 735) — бенедиктинский монах в монастыре святого Петра в Нортумбрии и в монастыре святого Павла в современном Джарроу. Написал одну из первых историй Англии под названием «Церковная история народа англов» (лат. Historic ecclesiastica gentis Anglorum). Беда был прозван «достопочтенным» (venerabilis) вскоре после своей смерти. В 1899 г. католическая Церковь назвала его одним из Учителей Церкви. Уже на восьмом году жизни он поступил в монастырь Уирмаут, где пробыл до 691 г., получив там превосходное образование. Отсюда он перешел в соседний, подвластный Уирмауту монастырь Джарроу (основан в 681), где на 19-м году жизни стал дьяконом и в 702 г. — священником. С этого времени начинается его писательская деятельность, состоявшая главным образом в толковании книг Ветхого и Нового Завета. Беда написал много ценных для его времени комментариев к Священному Писанию, кроме того, гомилии, жития некоторых святых, гимны, эпиграммы, сочинения по хронологии и грамматике. Полные собрания его трудов изданы в Париже (1544 и 1554), Базеле (1563) и Кельне (1612 и 1688). Главное его сочинение, беспристрастно обработанное по летописям «Historic ecclesiastica gentis Anglorum» в 5 книгах, переведенное Альфредом Великим на англосаксонский язык, остается одним из важнейших источников древнейшей истории Англии до 731 г. Беда тщательно и критическим образом подбирал источники для своей истории. Он также внес изменения в Вульгату, и его версия официально использовалась католической церковью до появления Новой Вульгаты в 1979 г. Беде также принадлежит «открытие» имен Трех Волхвов, посещавших Младенца Иисуса: Каспар, Балтазар и Мельхиор. В Новом Завете эти имена не упоминались, однако благодаря Беде вошли в Священное предание. На одре смерти закончил перевод Евангелия от Иоанна на англосаксонский язык, диктуя его своим ученикам. Похоронен в монастыре Джарроу; впоследствии останки его перевезены в Дурхэм. Петр Дамиани (Petrus Damianus, 1006/1007, Равенна — 22/23 февраля 1072, Фаэнца) — святой, «доктор Церкви», кардинал. В богословии Петра относят к той группе мыслителей, которые полагали, что после Христа человечеству достаточно Божественного Откровения для разрешения всех важных вопросов бытия и что Откровение заменяет любое другое знание, беспомощное в истолковании тайн веры. Поэтому Дамиани принадлежит известное утверждение о том, что философия служит Св. Писанию подобно тому, как служанка прислуживает своей госпоже. Петру Дамиани принадлежат 7 агиографических произведений, 53 проповеди, около 240 поэтических сочинений (гимнов, молитв и пр.), 180 писем. Некоторые из его творений читались и были очень актуальны на протяжении всего Средневековья. Тело святого переносилось шесть раз, а с конца XIX в. покоится в часовне его имени в кафедральном соборе Фаэнцы. Поклонение св. Петру Дамиани совершается со дня его смерти. В 1828 г. Папа Лев XII провозгласил его «доктором Церкви», а 23 февраля определил днем его памяти во всей западной Церкви. Ансельм Кентерберийский (лат. Anselmus, в Италии известен как Ансельм из Аосты, итал. Anselmo d’Aosta) (1033, Аоста, Италия — 21 апреля 1109, Кентербери) — христианский богослов, средневековый философ, архиепископ Кентерберийский (с 1093). Представитель рационализма и один из основоположников схоластики. Доказывал возможность доказательства бытия Бога с помощью онтологического рассуждения, им же впервые и сформулированного в трактате «Proslogion» (1077–1078). Канонизирован католической Церковью в 1494 г. Упоминается Данте Алигьери в «Божественной комедии» («Рай»). (обратно)89
…«Откровения» святой Мехтильды, ее же книгу «Особенная благодать» и «Свет Божества» ее тезки, сестры из Магдебурга… — Правильно: Мелхтилда (Мелхтилдис) (ок. 1248 — 19 ноября 1298). Девочкой семи лет Мелхтилда была отдана на воспитание монахиням бенедиктинского монастыря Россдорф. Здесь уже жила ее старшая сестра Гертруда фон Хакеборн, которая вскоре была избрана настоятельницей. В 1258 г. монахини перешли в монастырь в Хелфте (Саксония), родовом гнезде Хакеборнов. Мелхтилду прозвали «соловьем Христовым» за прекрасное пение в церковном хоре, но прославилась она как мистик. В монастыре ей поручали руководство послушницами (в числе которых была и св. Гертруда Великая). Девушки записывали некоторые из рассказов Мелхтилды о посещавших ее видениях, которые сосредотачивались на образе Христа и Его Сердце. Лишь в пятьдесят лет Мелхтилда узнала, что некоторые из ее рассказов записаны, и пришла в негодование, но в скором времени ей было видение: Иисус сказал, что все эти записи делались по Его воле и вдохновению. Тогда Мелхтилда сама прочла рукопись и внесла необходимые исправления. «Книга Особой Благодати, или Откровения святой Мелхтилды» пользовалась популярностью, но более всего имя Мелхтилды стало известно благодаря приписываемым ей молитвам, которые, однако, сочинены много позже. Общецерковно не канонизирована, но бенедиктинкам было позволено почитать ее как святую. Один из исследователей творчества Данте предположил, что в 27и 28 песнях «Чистилища» под именем донны Мателды изображена именно Мелхтилда. Память 19 ноября. Сестра из Магдебурга — Имеется в виду Мехтильда Магдебургская (см. коммент. 40). (обратно)90
Кассиан Иоанн (ок. 360–435) — основатель монашества в Галлии и один из главных теоретиков монашеской жизни, автор многочисленных богословских трактатов. (обратно)91
Патрология — учение об Отцах Церкви. Теперь патрологию часто отожествляют с патристикой: сочинения, имеющие характер и содержание последней, называются патрологией. Одной из главнейших задач патрологов было издание самих текстов творений Святых Отцов в подлиннике. На первом месте между такими изданиями должна быть поставлена «Patrologiae cursus completus» аббата Миня, состоящая из 161 тома серии греческой и 222 томов латинской. (обратно)92
…лаконские трапезы в обители исцелили меня! — Лакония, Лакедемон, Лакедемония — древнегреческая плодородная область у Лаконского залива, в юго-восточной части Пелопоннеса; главный город — Спарта. В Спарте никто не имел права обедать дома. В центре общественной жизни стояли «обеденные клубы», называвшиеся «сисситии» (букв: совместное питание, общий стол). Члены таких «обеденных клубов» сдавали продукты в общий котел, чтобы их можно было съесть за общим обедом. По преданию, сисситии были задуманы самим Ликургом как инструмент поддержания равенства, с помощью которого община могла контролировать образ жизни своих членов. Общие трапезы не давали спартанцам почувствовать вкус к роскоши. Было запрещено являться на сисситии сытым, после домашнего обеда. Сотрапезники строго следили друг за другом, высматривая тех, кто не ест, и того, кому самая грубая пища не лезла в глотку, поднимали на смех. (обратно)93
Градуал (лат. Graduale, англ. Gradual, часто Grail, от лат. Gradus — ступень) — псалом на данный день церковного года, получивший свое название от места, на котором обычно исполнялся. Псаломщик пел псалом, стоя, как правило, на ступенях амвона. Паства отвечала ему, повторяя последние слова псалма или целый стих. Еще в V в. таким образом исполнялись целые псалмы. Позднее, когда в некоторых местных церквах амвоны стали исчезать, сама идея возвышенного места, с которого пелись или провозглашались псалмы, осталась, закрепившись в названии раздела службы. Градуал, наряду с Introitus, Offertorium и Communio, — самое старое и наиболее важное песнопение мессы. Вместе с сопутствующими ему Alleluia и Tractus он чередуется с чтением Апостолов и Библии. Мелодии градуала обычно богато орнаментированы. В XIII в. появились многоголосные обработки напевов градуала, в XV в. — полифонические мотеты. Начиная с раннего Средневековья количество псалмов градуала неуклонно сокращалось, они вытеснялись гимнами ординария, скромного поначалу дополнения к проприю, которые с течением времени превратились в современную католическую мессу. Градуалами называются также певческие книги, содержащие песнопения мессы. Первые сборники подобного рода появились в Северной Италии в начале X в. Сочинения на тексты псалмов или с использованием их мелодий создали композиторы Палестрина (Италия), О. Лассо (Нидерланды), Г. Шюц, И. С. Бах (под названием «мотеты») (Германия). (обратно)94
…список антифонария святого Григория… — «Антифонарий» — певческая книга, содержавшая репертуар григорианского пения. Сам термин «григорианское пение» происходит от имени Папы Григория I Великого, которому приписывается авторство большинства песнопений римской литургии. Реформа литургии, проведенная Григорием I в конце VI в., обусловила дальнейший путь развития церковной музыки. До этого момента cantus planus исполнялся в четырех основных стилях: галликанский стиль культивировался в Галлии, амброзианский возник в Милане и был назван так в честь святого Амброзия, вестготский — испанский стиль происходил с Верийского полуострова и, наконец, романский стиль. Реформа Григория I заключалась в своего рода «кодировании» и закреплении в традиции определенных текстов и мелодий, а также фиксированного использования календаря литургий. В результате появляется «Антифонарий». В основных чертах григорианское пение складывалось на почве музыкальных традиций Франции, Германии, Швейцарии и Италии. В период своего возникновения и развития григорианское пение вобрало в себя синтез элементов древнейших музыкальных культур германских и кельтских племен.Владимир Крюков
 (обратно)
(обратно)

Последние комментарии
3 часов 41 секунд назад
4 часов 47 минут назад
6 часов 1 минута назад
7 часов 6 минут назад
8 часов 15 минут назад
20 часов 13 минут назад