По реке
 Воды Амударьи текут из республики в республику, спеша отдать себя землям Таджикистана, Туркмении, Узбекистана. Оросить сотни тысяч гектаров новых земель, обводнить миллионы гектаров, сделать удобными для отгонного животноводства — таковы планы девятой пятилетки по всей Средней Азии. И в этом решении много надежды на «реку жизни» — Амударью.
Воды Амударьи текут из республики в республику, спеша отдать себя землям Таджикистана, Туркмении, Узбекистана. Оросить сотни тысяч гектаров новых земель, обводнить миллионы гектаров, сделать удобными для отгонного животноводства — таковы планы девятой пятилетки по всей Средней Азии. И в этом решении много надежды на «реку жизни» — Амударью.
Нам предстояло проехать, пройти, проплыть Амударью, разделяющую собой две пустыни — Каракумы и Кызылкум — и дающую жизнь всему, что есть на ее берегах и далеко за их пределами.
Самолет удалялся от Ашхабада, направляясь на северо-восток, в сторону Керки, где Амударья, скатившись с гор, выливалась на равнину; и почти сразу после взлета мы понеслись над пустыней. Достаточно было взглянуть вниз, на бескрайнее грязно-желтое пространство и представить вынужденную посадку, чтобы понять, как благополучно человек научился миновать пустыню, но не жить в ней.
Еще вчера мы пролетали над пустынями рядом с Аралом, и стюардесса призвала желающих посмотреть направо... «В последние годы море пересыхает, — спокойно шуршали невидимые динамики. — Вы можете увидеть новые острова и появляющиеся отмели». И мы их увидели, еще не сознавая в полной мере, что означают эти «новые острова и появляющиеся отмели». Наше путешествие только начиналось, и осмыслить все это было некогда. Да и вряд ли мы могли это осмыслить вот так сразу, сверху, не пройдя положенный нам путь — по реке через три республики.
— Амударья! — тихо воскликнул сейчас кто-то. Это было у Керки...
Глава I. За стеной (Керки — Чарджоу)
В условиях сухого и жаркого климата вода — это жизнь.
В. Я. Нелюбин, Амударья
Мы проникаем за стены города. Как просто это сделать! Ты приближаешься к воротам — пусть даже придется ожидать, когда их откроют, — но вот их отворяют, и городская стена, которую ты только что рассматривал, думая: «А что за ней?», уже за спиной.
Но стены нет... Нет ворот, ожидания и ясного мгновения, когда ты превращаешься из путника в жителя.
Так мы ходим по улицам Керки, не испытав этого мгновения, не став жителями, потому что стена другая. Она все-таки есть: круг жизни и разговоров города, который прожил свою историю без тебя. Разговоры непременны и необычны. Они для этого города и были бы странны в другом. И надо быть не ленивым путником, чтобы проникнуть за «стену».

От реки — там стоит насос — на машине возят воду в глиняные дома: на полив и Тзить. Ведро — копейка. Те, что у самой реки, ходят сами — с коромыслами или гонят осликов с громадными бидонами, блестящими и звонкими, — но дальним лучше отдать копейку. Разговоры о зиме, о том, что гранатов в этом году не будет — деревья померзли до корней, и ветви ломаются с хрустом; о том, что скоро сев; и один из самых обычных разговоров: была вот в этом, например, месте города вода «бешеной»
(«Едва ли есть еще такая река, которая имеет столько названий, как Амударья. У древних арийцев она называлась Вахшу, у арабов — Джейхун (Бешеная. — Прим. автора)
, у римлян — Оксус, у греков — Аракс. Среди местных народностей слово «Аму» произносят как «Амин», что означает старший, эмир или царь. Историки утверждают, что слово «Аму» произошло от наименования города Амуль, который когда-то существовал на берегу Амударьи на месте нынешнего Чарджоу» (В. Я. Нелюбин, Аму-Дарья).) или не была? Чаще была.
Наш спутник ведет нас по улице к реке. Глиняные дома, солнце и множество детей. «Улица Пушкина», — написано по глине. И в детском шуме ни одного русского слова.
Дома только кажутся маленькими. На самом деле потолки в них высоки, даже непривычно высоки, — еще и оттого, что сидишь на полу, — и у каждой семьи, по крайней мере, четыре комнаты. Есть и пять, и шесть, и обязательный двор. Всего лишь глина — дерева на постройку идет мало, — глина, вода и камыш, но дом обходится не меньше чем в три тысячи. Строят его, как у нас уж почти не встретишь, — всем миром. У начинающего строиться собирается обязательный совет стариков: думают, приглашают людей самых умелых (сейчас, кстати, в комнате для гостей модно расписывать стены — есть и такой мастер), потом будет той
(Той — слово общее для всех среднеазиатских языков. Самый приемлемый перевод — праздник. Поводы самые разнообразные: свадьба, юбилей, окончание сельских работ и т. д.)
. Все вроде обычно. Но если кто-то из мастеров не придет?
«Так не бывает», — серьезно отвечает наш спутник, но не удивляется вопросу. Толик, инструктор в Керкинском райкоме комсомола, родился здесь, отец туркмен, мать русская. Очень сильный — у него первый разряд по самбо, сила же здесь предмет особой гордости, и, наверное, еще и от этого он очень спокоен. Впрочем, спокойствие, пожалуй, самая общая и ясная черта местных жителей. Толик объясняет, что, если приглашенный хоть однажды не пришел, его никогда больше не позовут, но и к нему никто не придет никогда. Прощения просто не бывает, никогда не было. И мало таких, почти нет.
— По-другому нельзя, — уже наступает Толик. — Как по-другому?
И мы, спасибо ему, понемногу начинаем забывать, что по-другому можно.
От реки можно уехать, уйти, но все равно о ней не забудешь. Все вокруг родилось от нее и живет ею: и дома, и люди в них, и каждое дерево уже зацветающих абрикосов. Под каждым стволом, чуть в стороне, — яма; от дерева к дереву — не прерывающийся нигде арык; и в яме и в арыке — желтая, мутная вода Амударьи. И странна чистота цветка и мутность родившей его воды.
Мы едем к мавзолею Астана-Бабы.
— Он мог повернуть реку вспять, — говорит Толик. — А когда умер, на том месте за ночь вырос мавзолей.
Мавзолей громадный, сверкающий. «Памятник архитектуры XV—XVI веков» — очень давно написано на нем. Столь старинных памятников в Туркмении мало, и, естественно, сюда стекаются старики со всей округи: приснилось что-то дурное, случилось ли несчастье — идут сюда. Колючие кустарники вокруг увешаны кусками материи, платками, а один куст просто не виден из-за них — «здесь пролилась кровь», отсюда и предпочтение. Чья? Когда? Это уже не важно.
Но Астана-Баба все же был святым реки. «Если с кем на реке случится что, — рассказывает Толик, — тот обещает: «Доплыву — даю Астана-Бабе столько-то». И уж никогда не обманет, точно принесет. Положит под камень, спрячет, хоть тысячу рублей». Чаще, однако, кладут много меньше: рубль, полтора; кладут монетами. Спасение стало дешевле, и Толик к случаю рассказывает, как совсем недавно они в райкоме прослышали, что сюда со стариками ходит мальчик. Кто, какой? Неизвестно. Толик сам, смущаясь, приходил несколько раз, чтобы найти его, не нашел. «Наверное, так сказали, никто уж из молодых не верит».

Всех заботит одно: как сберечь мавзолей? Ценность его очевидна, колхоз сделал все, что мог, но денег у него хватило только на то, чтобы нанять сторожа и поставить ограду, и то лишь со стороны дороги, со всех других сторон мавзолей открыт.
С этим мы и уходили, и старик у входа — как он оказался здесь? — с легким поклоном прошелестел сухими темными губами: «Пусть сбудутся все ваши желания!» Садились уже в машину, как вдруг появился человек, властно открыл дверцу: «Садам!» — «Салам». — «Я гляжу, кто-то ходит. В дом надо заходить. Чай пить прошу!» Ослушаться было нельзя.
Его зовут Розы. Путь до дома недолог, но Розы успевает рассказать, что он школьный учитель, кончил историко-филологический, а дом его рядом с мавзолеем, и ему удобно быть «хранителем». Он никак не желает называть себя сторожем.
С непонятной пока нам гордостью Розы показывает свой дом. «Вот лук, вот чеснок... Там клевер». И уже через пять минут, сидя в доме и глядя, как его жена месит для чореков тесто, мы понимаем его гордость. Рассказ Розы прост.
— Я на жизнь не обижаюсь, — говорит он, улыбаясь...— Но в шестьдесят седьмом году случилось несчастье. Жена умерла. Делать надо, как все. А смерть дорогая штука. Семь дней, потом сорок, а год — еще больше... Вот и остался я, — он показывает на ребятишек. Их трое, и они все здесь. — Поставил задачу: все на подъем народного хозяйства. Вот в шестьдесят восьмом году женился, тоже потратить пришлось...
Но веселый хранитель Астана-Бабы опять улыбается и ласково глядит на жену. Она же смотрит на него смущенно, ожидая, что сейчас будет рассказ про нее. И правда.
— Привел, так сказал ей: «Вот смотри, какие они маленькие... Если сделаешь так: си раз погладишь, а один раз уронишь, все — конец мне! А я тебя любить буду, я сильный, очень буду любить».
Она не уронила. Розы знает это, поэтому так легко и рассказывает. Нам весело и совсем не неловко от его шутки. Мы сидим еще долго.

Умный рассказывает о том, что видел, дурак — что ел, но мы едим пирог — запеченный, в лепешку клевер — и не можем нахвалиться. У всех в огороде эта грядка клевера — первая после зимы зелень. Первый пирог, первые витамины. Делу неизвестно сколько сотен лет, а я этого не знал.
Простая вещь, простые рассказы, но та стена, о которой я говорил, становится словно прозрачней.
Слушать в Средней Азии — это искусство уважать; не перебивать говорящего и как можно чаще подтверждать: да, мне хорошо, понятно, очень интересно... И не говорить ни одного из этих слов. Обязательному научаешься быстро. Весь запас кивков, одобрительных покачиваний головой и междометий расходуй без скаредности — тогда ты хороший слушатель, а я — рассказчик.
Так я слушаю полную и полную достоинства женщину. Под ее руководством работают девушки на Керкинской ковровой фабрике.
«Нитки нам привозят из Мары». — «Цо-цо-цо!» — «Полтора месяца нужно. Это чтоб один ковер соткать. А то и все два, два с половиной». — «Ай-яй-яй». — «Смотря какие девушки». — «О-о-о!»
На письме эти восклицания даже смешны — чего тут удивляться? — все просто. Но вот поди ж ты, женщина видит, что мне это действительно нужно. Только что была замкнута — и девушки нет-нет поглядывают на нас, смущают, — а теперь говорит, говорит, и ей интересно. Это видно.
Ковер будет стоить тысячу — тысячу сто рублей, а девушки за работу получат половину. Их две у каждого ковра, но некоторым помогают сестренки или знакомые — совсем маленькие. Никто их не зовет, сами приходят. Такие сосредоточенные, пресерьезные: заведет нитку в основу — обрежет, заведет — обрежет, прибьет дараком
( Дарак — расческа, тяжелая, с удобной ручкой (туркм.).)
, и снова плывут тонкие руки: от края к середине — завести, обрезать... Лучшие туркменские ковры получаются вот так. Эксперты потом проверяют ценность ковра примитивно, но безошибочно: опускают край в кипяток: не вылинял — хороший, дней на десять-пятнадцать на солнце: не изменил цвет — отлично, а рисунок и так виден. Он не богатый, но старинная сдержанность его словно подталкивает фантазию: орнамент уходит вглубь, возвращается на поверхность и растекается по ковру, заливая его и выплескиваясь за края. Я не осмелился бы назвать срок, через который рисунок этот стал бы понятным и надоедливым, — день, год... А может, вся жизнь?

Женщина смеется: «Украинки были, декада. Одна села: «Дай попробую!» Веселая такая... Потом встать не может. «У вас, — говорю, — ноги не так устроены».
Как надо доверять друг другу! Весь ковер вдвоем: завести — обрезать... Два месяца! Если делать что-то одно два месяца — да что угодно! — век не забудешь, узнаешь сделанное хоть через тридцать лет!
— Нет, — покачивает головой женщина. — Они же одинаковые.
Она говорит о коврах.
«И вы свои не можете узнать?» Задумалась и не захотела солгать. «Нет», — ответила твердо. И это ее, кажется, опечалило.
Здесь — Керки, а через реку, тоже на самом берегу, — уже Керкичи. Вверх по течению, очень далеко, видны робкие очертания гор, это с них спустилась река. Амударья здесь становится широкой. Кругом одни начала, и все видны: начало реки и начало Памира; здесь начало Каракумов, на том берегу — уже Кызылкум, и видны барханы. Тут начинается равнина, и узбеков, живущих за Керкичй, называют такырными — равнинными. Но это Туркмения. Все перемешалось. Легко и естественно.
В любую сторону от реки можно удаляться в обе пустыни, но только при одном условии: если есть канал. Мы миновали начало Каршинского канала — он еще строится, — и теперь машина виражами идет по такырам. Виражи все больше, больше — объезжаем места, где на солончаках выступила подпочвенная вода: там пустыня превратилась в мягкое месиво, оно хватает колеса и втягивает их в себя с омерзительной быстротой.
— Вон мираж, — спокойно говорит шофер.
Это не какой-то «индивидуальный» мираж, он постоянный для всех. Далеко влево блестела огромная заводь. Полуостров земли косой заходил в воду, а на краю косы стоял совершенно ясный белый домик, в таких живут бакенщики; дом отражался в воде — отражение даже чуть покачивалось. И ничего этого не было.
Потом не было огромного болота с кочками, только птиц не хватало на нем, й, наконец, на горизонте показалась отара: абсолютно четко виднелись овцы, но последние — штук сто или больше — паслись прямо в воде. Мистика какая-то! Овцы-то хоть настоящие?
Шофер только рассмеялся. Немного погодя мы остановились. Отара стала совсем ясной, как на ладони, и пастух в середине — на коне. Но несколько овец, отставших далеко, так и шли по «воде». Мы прислушались, и до нас донесся обрывающийся тонкий звон колокольчика. Того самого, какие льют из чистой меди теперь уж только редкие старики и продают их пастухам: за штуку — барана.
Все было настоящим. Кроме воды.
Мы торопились на первую ферму. И не зря. Еще вчера там должна была кончиться вода, и мы везли ее, взяв из Амударьи. Несколько ферм с загонами расположились в самой пустыне, и там пасутся семьдесят тысяч овец совхоза, который даже имя себе взял у реки — «Амударья». Разговор, конечно, о зиме. Вот слова: «страшная», «жуткая», «и что с природой происходит?», «такой не было, только в шестьдесят восьмом...»
А вот рассказ... Сорок машин везли корм на ту же ферму, куда мы сейчас едем, но застряли, отъехав всего пять километров от Керкичи. Все сорок. Сутки ни взад ни вперед. Никто не мог прорваться через буран в Керкичи, чтобы сообщить о несчастье. Наш шофер тоже стоял в той колонне, но не хочет ничего вспоминать. Спросишь — сожмет губы и молчит, словно не слышит, только по глазам видно, что вспоминает ту метель. Замерзнуть в каких-то пяти километрах от жилья!
Я знаю, что спасло их. Секретарь обкома увидел колонну с воздуха — облетал на вертолете отары, — по рации сообщил в Керкичи...

Помню, как говорили о зиме шестьдесят восьмого. Это было в Туркмении под Бахарденом. Вертолеты смогли добраться наконец до дальней отары, и люди увидели жуткую картину: засыпанное снегом стадо и старик пастух среди мертвых уже овец — живой. Никак не хотел садиться в вертолет — сидел и плакал, совершенно откровенно, беззвучно, глядя поверх овец и поздно прилетевших людей...
Но кому хочется об этом вспоминать? Особенно сейчас. Уже пробилась в пустыне трава, все молят о дожде, а в пустыне время любви у черепах.
На ферме ни деревца, для этого воды не хватает, — и впечатление тягостное. Но пастух великолепный. Могучий голый череп и под ситцевой рубахой — непомерные покатые плечи. Он сидит на ковре, поджав ноги, и его колени под ватой стеганых брюк как два валуна. И сам он — огромный валун в пустыне. И жена ему под стать. Так они и сидят рядом, изредка поднимая пиалы с чаем.
Мы случайные гости, и им, привыкшим к уединению, нет смысла становиться вдруг разговорчивыми и разменивать свое значительное молчание на дешевое оживление к случаю. Как только будет построен Каршинский канал, все сорок километров, что мы ехали сюда, займут хлопковые поля туркмен. «А дома? — спрашиваем мы о центральной усадьбе совхоза в Керкичи. — Целый поселок?» — «Отдадим им». Все давно решено, и нет сожалений. «Мы уйдем туда», — пастух едва качнул руку с пиалой. В той стороне — пустыня.
Я забыл сказать, что Толик — он ведь с нами, — когда бывает той с гурешем (с борьбой), часто получает приглашения — все-таки первый разряд по самбо. Но сейчас он шепчет мне: «Я на эту сторону, к узбекам, бороться не хожу. Никогда. Боюсь! Ни-ка-кие подсечки их не берут... У них как корни вместо ног, пятнадцать корней!»
Но в другой юрте — совсем хрупкая молодая женщина. А юрта — музейный экспонат, не верится, что это в пустыне, — совсем нежилая красота. Но здесь живут. В люльке ребенок. Спит. В сторонке сундук, весь блестит. Кипы цветных одеял, почти все ватные. «Человек на пятнадцать есть, — говорят. — Это у всех». Еще ковры. Но главная красота — вышивки, свисающие по стенам юрты полотнищами. Полтора-два года до свадьбы невеста работает над ними, и рисунок не должен повториться ни в одной вышивке. Но как можно, чтобы он не повторился вот так?
Вдобавок ко всей красоте гнутое дерево шатра, сходящееся к отверстию вверху, как лучи к солнцу. Бывает, что когда его гнут, то коптят для крепости. Здесь же оно светлое. Еще больше сходства с лучами.
Нельзя все это передать. Но мой спутник хочет попробовать снять. Вот уж истинно мужской разговор начинается! Что может делать женщина, когда ребенок спит? Мужчины — а их набилось в юрту человек шесть — долго и искренне обсуждают, чем ей заняться. Наконец решают, что «всем можно заниматься, всем хозяйством: вышивать хоть...» И она садится вышивать. Достает нитки, начатую вышивку, совсем непохожую на те, что висят в юрте, и делает все так покойно, будто только что не было никакого лишнего шума, и она одна в зацветающей пустыне — только где-то муж с отарой, а здесь неслышно спит их ребенок.
И мужчинам сразу становится неловко.
«Если хоть раз стало неловко, значит нет стены: Да и была ли она? Незнание было». Я думаю так, а автобус везет нас в Чарджоу. Это двести десять километров почти прямого шоссе вниз по Амударье. Река справа, ее не видно. Слева Каракумы, там только столбы электропередачи, барханы, норы сусликов и еще частые колеи от проехавших машин: каждая из них ведет к отарам, но сколько надо проехать, чтобы попасть к ним... Жизнь справа. Это весь берег реки до шоссе: где километр, где меньше или больше. Поля под хлопчатник, промытые уже в четвертый раз, — соль белеет лишь на разделяющих квадраты полей насыпях; а на полях там и сям корявые узловатые гиганты тутовника: они уродливы, каждый год люди обрезают у них почти все ветви, скармливая листья шелковичным червям, но, странно, уродливость их не безобразна.
Рядом со мной — нас разделяет проход — сидит мальчик лет двенадцати. Он только что догадался, зачем это кнопка в подлокотнике. «Я думал, чтобы сигнал давать шоферу: нажмешь ее, и он остановится». Он радостно улыбается тому, что разгадал секрет, и все хочет «напугать» меня.
Я уснул, не откинувшись, и он все же нажал «кнопку». Испуганный, я услышал его смех и увидел его веселое лицо: «Двадцать два верблюда прошло, один за одним. А ты спишь!» Как он смеется хорошо.
...Что же нас ждет дальше на этой реке?
Глава II. Три капитана (Чарджоу — Шарлаук)
Амударья, Аральское море являются воднотранспортной магистралью Средней Азии, связывающей с помощью железной дороги промышленные центры Советского Союза с отдельными районами Таджикской, Узбекской и Туркменской союзных республик.
В. Я. Нелюбин, Амударья
Гроза металась на всем пространстве от Керки до Чарджоу. Амударья всю Ночь не отпускала от себя тучи, и они, озлобленные связью с рекой, посылали в воду, молнию за молнией. Утром же люди, как обычно бывает после долгого бешенства природы, сходились друг с другом быстро и непринужденно. Так, Рая, встретив нас на теплоходе, начала рассказывать о своей жизни, словно мы были ее друзьями.
В каюте «Теплотехника» было холодно и сыро, мы сидели не сняв плащей и ожидали прихода капитанов. «Их много будет, — пообещала Рая. — Спят, наверно. Старые». И тут же возвращалась к тому времени, когда в первый год войны она приехала сюда «совсем маленькой» — не было шестнадцати. «Эвакуировалась, думала, на три месяца, а получилось на всю жизнь... Я татарка, мне их язык легкий», — говорила она про узбеков. И вот пятнадцать лет она плавала по Амударье, и сейчас на маленьком «Теплотехнике» плыла в своей привычной должности — поваром.
Мы глядели в иллюминаторы. Тихие струи дождя без шелеста — и это казалось странным — падали с неба и исчезали в реке. Вода брала в себя воду ненасытно и жадно. Все вокруг словно застыло, решив, что это состояние и есть самое лучшее. Лишь облака, как старую скатерть, кто-то все время стягивал, таща их с севера на юг, и не мог стянуть совсем. И еще на пристани совершалось что-то загадочное: люди железными сетями ловят берег... Там, где они прошли, берега обложены камнями, поверх них натянуты металлические сети: проволока толщиной в мизинец плотно оплетает камни, и они топорщатся сквозь сеть грубо и будто бы вечно. Но над всем этим дух Турткуля.
По всей Амударье нет человека, который бы не слышал о городе Турткуле, но до сих пор нет людей, которых бы этот рассказ не интересовал — это завораживающий дух трагедии.
Город стоял на правом берегу, но не подходил к реке близко, как и все города на Амударье, где берег не каменистый. «Сумасшедшая» сама пошла на него. Больше десяти лет она шла точно на город: не заливала его, не топила, не было явной катастрофы — она просто выгрызала берег, вылизывая его снизу своим мокрым коричневым языком, — и берег падал и падал... В этом слепом действии воды одновременно были и бездушность и зловещий, прямо живой замысел, потому что, как только город был смыт, река словно забыла, что у нее есть этот берег, и кинулась на противоположный.
Вот почему промокшие люди у пристани железными сетями ловят свой берег...
Первый капитан появился неожиданно. Кто-то спускался в каюту, мы это слышали, и тут же из-за плеча вошедшего вынырнула Рая: «Самый главный капитан!»
Оба рассмеялись. «Хусейн, механик», — представился он.
— Еще два капитана! — крикнула сверху Рая. — Идут!
Едва взглянув на пришедших, следовало безоговорочно принять терминологию Раи: это был «рыжий капитан» — Гяндзя (светловолосые узбеки редкость), и за ним в полной капитанской форме шел «старый капитан» Курбан.
Мы отвалили.
Такое количество капитанов («С тремя все меляки будут наши», — не замедлила проворчать Рая) было не случайным. После полной воды рейс «Теплотехника» открывал сезон на Амударье, задача же первых рейсов по многолетней традиции заключалась в том, чтобы идти и видеть, куда в этом году кинулась река: надо было нащупать ее новое русло, и ни у кого не было сомнения, что оно совсем другое, чем в прошлые годы.
Река неслась впереди нас, обваливая и круша свои берега. То и дело с далеким звуком взрыва глыбы подмытого песка рушились в реку, и тогда у берега зависал мгновенный голубой фонтан искрящейся воды. Река тут же водоворотом деловито останавливалась возле упавшей глыбы, и не успевали мы проскочить это место, как все было кончено: глыба превращалась в песок и сама, уже несуществующая, неслась вперед, чтобы помочь воде выхватить новый кусок берега. Во всем мире только"Колорадо и Хуанхэ несли в себе больше наносов, чем эта летящая под нами река.
Мелькали подкошенные в тугаях травы и деревья, уже наполовину неживые: корни их вымыты, а стволы зависли над водой. Но не былр ни одного ствола, лежащего "на воде. Как только ветви подкошенного дерева касались реки, она мгновенно подхватывала и уносила все дерево.
Капитанов все это не интересовало, они смотрели только на реку. Курбан, «старый капитан», глядел в бинокль, отыскивая вешки, Гяндзя же стоял у штурвала.
— Дурная река, — проворчал «рыжий капитан», когда я поднялся к ним. — Канал половину берет, — это относилось к Каракумскому каналу. — Узбекканал тоже половину. Совсем плохо плавать!
— Русло установится, — пообещал Курбан. — Знаков будешь слушаться, хорошо дойдешь... Сорок девять лет плаваю, — гордо выпрямился он. — Бакенщик любой, все меня знают. — Сейчас он плавал капитаном на теплоходе-агитаторе, последние два года. — Я плыву, свистят с берега мальчишки, старики выходят. «Давай, — кричат, — кино!» — «Вам-то зачем?» — спрашиваю. «Надо, — говорят. — Мы здесь совсем дундук стал. Старый совсем. Давай кино!»
Капитаны рассмеялись. Себя они стариками не считали, хотя «рыжему капитану» было за шестьдесят, «старому» же много больше. Их спокойствие над бешено несущейся рекой было великолепно. Оно не нуждалось ни в чем постороннем, питалось само собою и было невыразимым в словах. Можно было только принять жизнь этих людей и их самих, как они есть. Река и, главное, ее побережья жили благодаря этим и другим таким же спокойным людям. Полтора миллиона тонн грузов в год перевозили именно они, и хотя, как они сами говорили, «левый берег совсем почти отвязался от нас, весь Хорезмский оазис сел на железную дорогу», но на правом дороги еще не было, и та же Каракалпакия восемьдесят процентов грузов получала по реке. Рассказ же Курбана, когда он, чуть опьянев от обеда, принялся рассказывать о себе, был трогателен.
Он сидел в каюте, тяжело прислонившись к переборке, и веки его упали.
— До «агитатора», — начал он, — я плавал капитаном на «Белинском». Семнадцать лет. И в Нукус и до Аральского, везде ходил... А однажды пришли к Чарджоу, а там приказ. То приходим — домой бежишь скорей-скорей, а тут никто не уходит. «Чего, — говорю, — сидите? Отплавались! Завтра резать придут. На металлолом». Сам повернулся и ушел. Пришел утром, а они тут, вся команда. Водки я принес, коньяку, а сам, веришь, плачу, и все. Ничего не могу поделать с собой!
Мы опустили глаза. По голосу было слышно, что «старый капитан» и сейчас того гляди заплачет,
— Купил я его, — сказал он.
— Как?
— А так. Заплатил пятьдесят девять рублей в пароходстве и купил. Все панели снял, обшивку. Домой отнес... Так я и остался теперь на своем «Белинском». На всю жизнь. Дома он теперь, вокруг меня. До смерти, значит.
Курбан неожиданно быстро встал: «На мостик надо. Пойду».

В тугае собирают солодок. Трактор с плугом ходит вдоль берега, отваливая темную землю, и она тут же высыхает, становясь белесой. На распаханной земле ровные большие кучи уже вынутого из земли корня. И люди на корточках с мангалами в руках. Пока мы идем к ним, Хусейн рассказывает: «Самый первый сорт. Кёк — по-туркменски. Такой сорт в Америке только есть. Река Амазонка знаешь?» — «Да». — «Там стреляют, говорят. Охраняют. За один корешок убить могут. Очень ценный корень, тоже первый сорт. Второй сорт на Сырдарье... На этой земле дыни хорошо растут — гуляби»,
Я знаю, что солодок на что только не идет: и для пены в огнетушителях, и для лекарств, и в пиве он есть, и для кондитерской промышленности. И все вот этот корень, который растет тут сам собой почти по всем берегам Амударьи. Земли, которые выбирает солодок, самые плодородные, поэтому часты споры: взять их под хлопок или оставить корню?
Мы здороваемся, и все прекращают работу. Но мангалы (1 Мангал — серп без зазубрин; им подцепляют корень, вытаскивают, отрезают (туркм.).) не кладут. Здесь работают две туркменских семьи, так удобней — семьей. Глава одной, молодой совсем человек, говорит, что платят восемь рублей за тонну, «собираем, складываем, потом забирают в Чарджоу: там не знаем что, там завод». (Там прессуют, много корня идет за границу.)
Вмешивается Хусейн, он все знает: «Лекарства делают. Сто лекарств». Надо сказать, что цифрами менее круглыми здесь редко пользуются, но Хусейну можно верить. Мы возвращаемся, и он говорит: «В войну чая не было, брали кёк. Кусочек режешь мелко-мелко, в чайник бросай — зеленый будет, вкусный. Вечером попробуем».
...Невкусный. Сладость приторная, почти тошнит. Мы выплескиваем весь чайник за борт. «Война была, — стеснительно улыбается Хусейн, но огромные красивые глаза его грустны. — Тогда было вкусно».
Летящие пески встретили нас у 42-го поста, когда от Арала нас отделяло восемьсот километров. Поднялся тонкий сухой песок с островов и побережий. Берегов не видно, не говоря уж о знаках, — ни одной вешки.
Туман. Летящий туман. Такое впечатление. А сейчас полдень. Песок слепит глаза. Даже небо над нами стало белесым. Мы в пыльном кольце, и только прямо над нашими головами, в зените еще сияет голубой круг, и в нем — совсем чистое солнце. Но уже тронулись пески на барханах. Мы прижимаемся к правому берегу, Хусейн увидел там вешку — это Кызылкум. Барханы дымятся, а некоторые еще видные островки на реке слева от нас словно испаряются клубами легкого песка. Но он бесконечен.
Где-то на правом берегу остатки крепости, но она в трех километрах от берега, и в этом летящем песке нет надежды увидеть ее. «Там во дворце жила девушка», — мечтательно говорит Хусейн.
Мы не увидим Кыз-Калы — «скалы девушки». И я замечаю, что Рая сидит тихо, подперев голову рукой. У нее красивый платок — как она говорит: «земля — черная, цветы — красные».
— А я была там, — неожиданно говорит она и не убирает руку. — На теплоходе остановились, пять дней стояли — что делать? Два раза успела сходить. Земля там мягкая...
Здесь под солнцем земля во многих местах становится мягкой. Может, от соли? Соль поднимается и поднимает верхний слой.
— Идешь, — говорит Рая, — а нога проваливается... Пусто там, или золото, или люди живут?
Наш костер на берегу, а над нами — над рекой и пустынями огромные теплые звезды. Ветер стих, нас накрыла ночь, и вокруг так тепло и приятно, и ощущение, что вот так тепло и хорошо на всей земле.
Оказывается, капитаны наши бурлачили. В теплой темноте слушать об этом странно: это что-то на Волге... Репин... Давно.
— А-а-а! — почему-то сердится Гяндзя. — Тогда человек дурак был, совсем дурак! Такой дундук, подпись свою поставить не мог. Как корова!
Но и не вспоминать не может, хотя и ругается.
— Пятьсот каюков было, — говорит он. — Туда-сюда как мухи ходили... Ветер главное. Ветер северный — восемнадцать суток шли, нет — месяц, больше. Пятьсот двадцать километров!
Капитаны вспоминают, как делались лямки, и спорят, что лучше подкладывать на плечо: сухую траву или тряпки?
— Форма была, — говорит Курбан. — Зеленые майки и красные трусы. В Чарджоу шили.

Оказывается, ходили с каюками до тридцать третьего года. Были и пароходы, «двадцать пять котлов», но топились они саксаулом, и саксаул в Приаралье скоро весь сожгли — хватило его ровно на двадцать девять лет.
— Всё возили, — опять сердится Гяндзя. — Пятьдесят-шестьдесят тонн, целый вагон. Хлопок возили, соль... Все тогда знали, что куда идет. Теперь ничего не знаешь! Хлопок на заводе чистят, семена прямо по трубе в колхоз летят... Ничего не видно! Плохо.
Я чуть не засмеялся, но Хусейн приложил палец к губам: молчи, мол, старик говорит.
— Дундук был человек, — разошелся Гяндзя. — Босиком ходили. Сапог резиновых тогда не было. То по грязи, то по воде — в чем пойдешь? По осоке плохо: ноги режешь, живот режешь, все режешь...
Рае смешно, нам смешно, но капитаны едва улыбаются.
Уже казалось, что мы благополучно дойдем до крепости Дая-Хатын, когда «Теплотехник» дернуло так, будто кто-то в идиотской игре набросил аркан на весь корпус. Летящее, как река, время замерло, вернее, показало, что оно есть, существует. Солнце низко, 16.00, а крепость всего в двух постах от нас, каких-то восемь километров...
Но нас тащит на мель, хотя мы и успели развернуться: парусит надстройка, давит течение. Я был на мостике, когда у Гяндзи вырвало из рук штурвал. У «рыжего капитана» хватило ловкости, чтобы вовремя убрать руки, иначе было бы плохо — штурвал на несколько секунд словно исчез — один только круг был виден.
17.00. Вода, летевшая мимо нас, когда мы сели, наверняка пролетела уже Дая-Хатын. Скорость ее здесь метра три в секунду. В час — одиннадцать километров...
И не так уж спокойны наши капитаны. Курбан придумал удерживать нос, упираясь багром в песок дна и привалив багор к борту. «Старый капитан» болтается на конце багра, словно насаженный на него. Хусейн и я идем помогать ему. Сдвинуть судно не сдвинешь, но, по идее, парусить должно меньше — мы же не пускаем нос. И неизвестно, то ли время приходит сниматься или багры помогли, но нос пошел вправо: едва-едва, чуть-чуть...
17.30. Обман. Мы все еще «моем песок» — месим его винтами. Хусейн, словно успокаивая всех, сообщает, что «это врут, что здесь есть такие капитаны, которые видят сквозь воду». Когда неровное дно, можно видеть. Опытный тут и правда разглядит, где глубже. Даже по тому, как волна от винта идет. «Вон, смотри, — показывает Хусейн. — Волна над меляком пошла, на глубь не идет». А если под водой ровный такыр? «Ни за что, — качает головой Хусейн, — не узнать, где русло. Все тут на ощупь идут».
Мы как раз в таком месте.
Сорвались!.. Еще задевая днищем песок, мы ползем и ползем к берегу. Ощущение, что мы не плывем, а едем в автомобиле: нас переваливает с борта на борт — то та, то другая сторона днища ползет по песку. А через полчаса выясняется, что к крепости подхода нет. Дарья разлилась в этом месте метров на триста, но глубиной всего сантиметров сорок.
Но судьба награждает нас зрелищем. Далеко в темнеющих песках еще более темной шапкой из земли вырастает крепость... «Богатая женщина». Река делает поворот — и вдруг загоревшийся в заходящем солнце шлем крепости поворачивается к нам воротами. Они целы, в них видно небо, и это как свет в неожиданно прорубленной стене: не было его — и вот он!
Все огорчены, что ближе пристать не удалось — до Дая-Хатын по берегу километров семь. Но такая уж эта река... Однако на нашем суденышке скоро становится весело. Дело в том, что мы стоим сразу за огромной песчаной стеной: вершина ее в небе — где-то метрах в пятидесяти от уровня воды. Тот склон, которым она повернулась к нам, крутой, и капитаны — Гяндзя и Курбан — спорят, кто из них сейчас поднимется на вершину. Оказывается, когда таскали каюки, то здесь было одно из самых трудных мест. Внизу идти негде — скала отвесна, к тому же осыпается — приходилось привязывать веревку к мачте каюка, самим же взбираться по этой отвесной скале. «Как мальчик ведет кораблик по луже», — неожиданно поясняет Хусейн.
Мы уговариваем капитанов решить спор завтра утром, и они, будто бы нехотя, соглашаются.
Река скоро совсем перестанет «знать», кому она принадлежит: пока мы еще в Туркмении, но впереди Хорезм, невдалеке Ургенч, Бухара, а там Нукус — уже Каракалпакия. И, начиная от Дая-Хатын, берега оживляются. Стадо коров, двое рыбаков в лодке, поселок нефтяников, еще какой-то поселок...
Капитаны, как дети, рады, когда на берегах появляется что-нибудь, кроме песков. Когда же показывается поселок Каракульсовхоза, оживляется и Хусейн: «Большой! Ничего не было... В пятьдесят девятом году два дома только стояло». А это лишь постоянный поселок, где-то в песках отары. В ста — ста пятидесяти километрах от берега пасутся бараны с самой лучшей шерстью.
Все больше насосов по берегам. Большие — чешские («семь кубов в секунду») и наши — поменьше («три куба»). Их трубы с неистовой силой сосут воду Амударьи, втягивая в себя даже огромных рыб. А на полях уже исчезают арыки. Земля промыта, арыки засыпают, и поля становятся просторными и большими. Хусейн говорит, что там будет хлопок, тоже «самый лучший», потому что хорошему хлопку нужна вода, уход и солнце — «три тысячи двести градусов должен набрать хороший».

В Каракульсовхозе Хусейн никогда не был: «все мимо плавал», и сейчас идет с нами.
Воскресенье, но все работают: самый сезон, надо чистить шкурки. Процесс прост, однако узнать о нем удается с трудом — никто из девушек, что чистят шкурки, по-русски не говорит. А Хусейн куда-то пропал.
В отарах режут барашков, шкурки засаливают и, выдержав в соли 10—11 дней, привозят сюда, на берег Дарьи. Здесь девушки счищают соль ножами, развешивают шкурки на шестах, и они, переломившись надвое, сушатся на солнце. Потом их переворачивают, и тут же, сидя на корточках, девушки счищают остатки соли, срезают клоки запекшегося по краям мяса и, перевернув, начинают вычищать шерсть — в ней песок.
Это каждый год, это издревле, и то, что это было здесь всегда, видно в каждом движении рук. Лопаточка мелькает быстро. Она кажется сделанной из какого-то ценного дерева, но это не так. Тахта — обыкновенный кусочек фанеры, но так отполировалась от бесконечных движений, что превратилась в благородное, дерево — красноватое, ровное по краям, так и отливает на солнце блеском.
Шкурка готова. Последние удары по ней красной палочкой из кандыма (она крепка, как саксаул, но безукоризненно пряма; когда-то из кандыма делали стрелы) — и шкурка укладывается под пресс: доски, на них огромные камни. Здесь витки каракуля приобретут свою форму, которую они потеряли при засолке (В Чарджоу мы были на каракулевой фабрике. Там и говорили нам, что туркменский каракуль лучший. Поразило же более всего количество сортов — их триста! И в каждом сорте еще семь подсортов.).
На берегу смех. Девушки что-то говорят, но мы ничего не понимаем. Старуха в полинявшем халате хочет выступить толмачом и думает, что чем медленнее и старательнее будет она произносить слова, тем будет понятней. Наконец она произносит слово «паспорт». Все просто хотят фотографироваться! И все понятно, хорошо, и все довольны друг другом.
Мы уплываем.
Уже видна теснина Дуль-Дуль. Это здесь пророк Али перепрыгнул реку на коне. И, как видение, среди песков возникает впереди совершенно блестящий подвесной мост. Мы все на носу. Зрелище необычайное. В пустыне — нечто фантастическое.
— Красивый... Всегда смотрю,— вырывается у Раи.
— Труба там, газ на Урал идет, — говорит Хусейн.
— Дальше Дарья кончилась, — перебивает вдруг Рая.
И точно, мы на мели...
— Иди! Ищи Дарью! — смеется Рая.
Хусейн берет у Курбана бинокль. Смотрит долго. Ищет.
— Сейчас найдет Дарью, — говорит ласково о нем Рая, а ему кричит: — Ты чай утром пить не должен, не заработал... Ищи, ищи Дарью!
Как мы будем прощаться с ними? Кажется, будто всю жизнь вместе проплавали...
Глава III. Полуслепая (Нукус)
Если схематично изобразить речную систему Амударьи с ее притоками и ирригационными каналами, то она будет похожа на дерево, у которого ветви — притоки, а корни — ирригационные каналы.
В. Я. Нелюбин, Амударья
Она стала больше похожа на дерево... Мы не дошли до Арала. Есть слепые реки пустынь. Мургаб, Таджен, Зеравшан — они никуда не впадают, теряясь в песках. Но сейчас под Нукусом ослепла Амударья.
Она отдала свою воду Ашхабаду, наполнив ею Каракумский канал, река отдала себя Голодной степи, хлопку Туркмении и Узбекистана, ею живет Хорезм. Ее водой каждый год промывается и орошается вся земля, где человек посадил хотя бы один росток. И вот здесь, где до Аральского моря еще двести пятьдесят километров, русло реки можно перейти по сухому песку. Река отдала себя всю.
Нукус собирает воду, перегородив Амударью насыпью. Весной насыпь даже приходилось взрывать, чтобы не было наводнения, а сейчас вода была где-то в десяти километрах вверх от насыпи...
На всех картах Амударья впадает в Аральское море, но сейчас в устье ондатры ползут по песку, отыскивая бочаги, а рыбе некуда идти нереститься.
Нукус скоро найдет себе выход. Как только будет построен Тахиаташский гидроузел, город уже не останется без воды даже на день, как это случилось теперь. Водохранилище будет накапливать в себе воду. Но Арал? И все то спокойное благополучие, которое мы видели до сих пор, пройдя от Керки до Нукуса?
— Если пересохнет Арал, не знаю, что будет, — говорит нам главный инженер Управления машинного орошения Роман Александрович Пружинский. — То есть это все знают, можно предположить... Преобладающие ветры с устья, с Арала. Оттуда пойдет на нас соль. Это будет не то что засоление. Почвы по всей реке и так засолены, промывать их надо три-четыре раза. А тогда их не промоешь ничем. Но что делать?— разводит руками Пружинский. — Только у нас по Каракалпакии на Дарье около тысячи насосов. Там за ними совхозы — и у каждого свой план, и всем нужна вода. Надо работать, нужен хлопок. Жить нужно. Чтобы сюда дошла Дарья, приходится иногда просто снимать с насосов команды. Иначе местное начальство все равно заставит их качать. Снимешь, опечатаешь, тогда уж все.
Все это заботит, кажется, всех. Об этом можно говорить долго, каждым словом добавляя и добавляя тревоги. Но уж говорено. Вот что писал, например, по этому поводу вице-президент Академии наук Туркменской ССР, академик ВАСХНИЛ И. Рабочее:
«В ирригационном строительстве проектирование должно вестись с перспективой... В настоящее время в бассейнах рек Амударьи и Сырдарьи орошается около пяти миллионов гектаров. В ближайшее десятилетие за счет использования вод среднеазиатских рек поливные массивы расширятся до 8 миллионов гектаров... Но развитие хлопководства во многом зависит от равновесия природных факторов. Хочется в связи с этим поделиться мыслями о возможных последствиях, связанных с интенсивным использованием на орошение вод Амударьи и Сырдарьи. Водные ресурсы бассейна Аральского моря составляют около трех процентов речного стока страны и оцениваются в 125 кубических километров. До последнего времени из Амударьи и Сырдарьи в Арал сбрасывалось примерно 50 кубических километров воды. Этого достаточно, чтобы сохранялся оптимальный водный баланс моря, благоприятный для рыбоводства и судоходства.
Аральское море выполняет и другие функции. Огромная площадь его водного зеркала, заросли в дельтах рек и прибрежное мелководье создают на огромной площади специфический микроклимат... Благодаря этому в северных районах бассейна Амударьи, где производится около миллиона тонн хлопка (Каракалпакия, Хорезм, Ташауз), безморозный период продолжается 180—190 дней. Вот почему в этих широтах климат благоприятен для возделывания теплолюбивого хлопчатника. С уменьшением стока рек в Аральское море может резко сократиться его водная поверхность. Море уже не станет в такой мере, как сейчас, выполнять роль своеобразного терморегулятора, смягчающего температурный режим орошаемой зоны. Вряд ли сохранятся благоприятные условия низовьев рек Средней Азии после «усыхания» моря.
Поэтому наряду с интенсивным использованием свободного стока этих рек необходимо решать весьма сложную и вместе с тем назревшую задачу о переброске в Арало-Каспийский бассейн вод некоторых сибирских рек».
...Это было написано в прошлом году.
Ю. Лексин, В. Орлов (фото), наши специальные корреспонденты
(обратно)
На все руки микромастера

Однажды произошел такой случай. Отправили партию тракторов из Европы в тропическую страну. Перед отправкой отдел технического контроля тщательно проверил все — в том числе смазку каждого сочленения рулевых тяг, каждого подшипника колес. Тракторы прибыли к месту назначения, их выгрузили из трюмов теплохода на пирс, и примерно месяц они простояли там без движения: у заказчика случилась какая-то заминка. А через месяц на завод пришла негодующая телеграмма: как вы могли отправить трактора без единого грамма смазки?! Начальник отдела технического контроля и главный инженер срочно вылетели на расследование. Действительность превзошла самые мрачные их ожидания. Сочленения выглядели так, словно их разбирали и несколько раз мыли в керосине! Лишь кое-где блестящие поверхности были тронуты еле видимым налетом. По нему-то и удалось установить, что злоумышленниками были микробы, начисто съевшие смазку...
Обычно слово «микроб» в нашем сознании ассоциируется со словом «враг» — мы думаем прежде всего о болезнях. И не только люди, но даже, как видим, техника страдает от микроагрессора. Тем не менее друзей среди микробов у нас куда больше, чем врагов. Куда больше... И от того, насколько тесными станут наши взаимоотношения с микробами, в немалой мере зависит перспектива завтрашнего дня, сама судьба человеческого рода.
Микробы против голода
Мир земной жизни подобен айсбергу. На поверхности, доступные обычному взгляду, находятся все относительно крупные существа, начиная с каких-нибудь мошек и кончая слонами. Конечно, мы знаем — кто же этого теперь не знает? — что существует еще обширный мир микроорганизмов. Тем не менее обыденное сознание воспринимает биосферу прежде всего как совокупность зримых организмов и растений; микроскопические существа уходят при этом в тень, выглядят в сознании мелкой, а потому малосущественной деталью великой картины жизни. Это большое заблуждение.
Земля, вода, воздух, сами тела животных и растений буквально пропитаны микроорганизмами. В одном кубическом сантиметре жидкости их может быть больше, чем людей на Земле. Деятельность этих «ничтожных множеств» грандиозна настолько, что от нее, как мы увидим в дальнейшем, зависит даже рельеф планеты, Такая это могучая сила!
Могучая, не слишком изученная и поразительная. Микроорганизмы — предмет давней зависти химиков, ибо, во-первых, они осуществляют массу таких реакций, которые нам пока даже непонятны; во-вторых, все, что делают эти природные «химики», они делают с точки зрения технологии просто блистательно.
Понятно, что уже одно это обстоятельство заставляет нас искать секреты микробиологического «производства», пытаться сращивать работу микробиологических «предприятий» с предприятиями большой химии и, наконец, прямо и непосредственно все в больших масштабах использовать микробов в производстве. Выражение «идеальная химическая лаборатория» применительно к микроорганизмам не просто дань образности. Практически нет такого сырья, будь то органика или минералы горных пород, которое бы не использовали те или другие виды микроорганизмов. А производительность! Каждый микроорганизм способен переработать питательной среды в 30—40 раз больше веса собственного тела. Плюс, как уже говорилось, высокосовершенная, отработанная миллиардами лет эволюции технология производства стольких различных веществ, что их ассортимент наверняка богаче ассортимента нашей химической индустрии.
Уже сейчас перенесенные за последние 15—20 лет из лабораторных колб и пробирок в заводские установки мириады микроорганизмов выполняют для нас около тысячи (тысячи!) химических реакций. Только благодаря их помощи мы имеем сейчас многие антибиотики, витамины B12, А1, Д2 — иным, чисто химическим путем мы просто не можем их получить.
Но, как ни внушительны эти результаты, они ничтожны по сравнению с тем, что нам могут дать микробы в будущем.
Две трети населения земного шара недоедает — такова суровая истина сегодняшнего дня. По мнению одного зарубежного ученого, «суть сельскохозяйственного кризиса может быть выражена двумя словами, звучащими не менее угрожающе, чем водородная бомба, а эти слова — нехватка белков».
Белок — основной элемент питания человека и животных. Можно наедаться досыта, но если в пище не хватает белка, то организм слабеет и плохо противостоит инфекциям. В мире же ежегодно не хватает около трех миллионов тонн животного белка (это 15 миллионов тонн мяса) и около полутора миллионов тонн белка растительного. А население земного шара стремительно растет... И не ясно, удастся ли достаточно быстро поднять сельское хозяйство в экономически и социально отсталых странах. Перспективы тут, во всяком случае, не слишком лучезарные.
К счастью, в последнее десятилетие наметился иной, не традиционный путь. Нет существ, которые бы синтезировали белок более интенсивно; чем микроорганизмы. Причем исходным сырьем для такого микробиологического производства белка могут быть, с нашей точки зрения, никчемные отходы, начиная с шелухи семечек, кончая отбросами нефтепереработки. В принципе задача выглядит очень просто: надо найти подходящие микроорганизмы, дать им подходящее сырье, поместить в благоприятные условия, и тогда мы будем иметь белка столько, сколько пожелаем.
На деле задача оказалась невероятно сложной. «Охотники за микробами» буквально обшарили землю, пытаясь отыскать в нефтяных пластах, иле, воде, почвах таких микробов, которые охотно делали бы то, что нам надо, и так, как надо. Собственно, первые отрадные успехи наметились примерно лет десять назад. Тогда удалось найти, приспособить такие микроорганизмы, которые успешно перерабатывали углеводороды нефти в кормовой белок. Это было первой крупной победой. Уже работают целые заводы, которые выпускают кормовой продукт, синтезированный микробами из парафиновой фракции нефти. Он уже широко применяется на многих птицефабриках страны. Точно так же во многих совхозах скот сейчас питается кормом, в котором пятнадцать и более процентов микробного белка. Это оказалось настолько выгодным, что вскоре у нас будет построено несколько новых заводов производительностью порядка 240 тысяч тонн кормового, изготовленного микробами продукта в год (что равноценно появлению нескольких сотен тысяч гектаров новых и отличных лугов).
Но мысль ученых стремится дальше. Хотя нефть — сравнительно дешевый корм для микробов, все же ее надо добыть, получить определенные фракции. А что, если попробовать кормить микробов газами? Ведь во многих случаях эти газы просто сжигаются или выбрасываются в атмосферу.
Попытки заменить нефть метаном многие годы терпели неудачу. Оказалось, что любителей этой пищи трудно выделить в чистом виде и затем создать для них соответствующие условия роста. Несколько лет микробиологи бились над этой проблемой и наконец достигли задуманного. В одной из лабораторий Института биохимии и физиологии микроорганизмов АН СССР в городе Пущино сейчас можно увидеть колбы с мутной светловатой жидкостью. Здесь в бульоне с минеральными солями (средой обитания микробов), через который пропускают метан, и размножаются эти удивительные существа. И хотя сегодня биомасса лучше накапливается на нефти, ученые считают, что выращивание микробов на газообразных углеводородах будет рентабельнее.
Так или иначе, съедая за завтраком яйцо, а за обедом бифштекс, мы нередко уже сегодня пользуемся услугами прирученных микроорганизмов, которые поставили пищу снесшей яйцо курице и откормили давший бифштекс скот. Но это промежуточное состояние; в недалеком будущем между нами и пищевыми микробами не всегда будет посредник. Дело тут вот в чем. Выход животноводческой продукции по отношению к затраченным кормам не превышает 20—30 процентов у молодых, быстро растущих животных и всего 5—10 процентов у взрослых особей. Иными словами, непосредственно готовит нам мясную пищу в лучшем случае лишь один животновод из пяти: четверо работают только на самих животных.
Естественно, возникает вопрос: так ли уж необходимо посредничество животных?
Разумеется, речь идет не о том, чтобы кормить людей тем же, чем микробы кормят скот. Но микробы в принципе могут производить и такую пищу, которая после дополнительной обработки ничем — ни видом, ни вкусом, ни запахом — не будет отличаться от привычной.
Согласен, сегодня такая перспектива вряд ли способна вызвать большой энтузиазм. И меньше всего я хочу тут кого-нибудь упрекать в консерватизме. Хочу пояснить только одну вещь: бифштекс, произведенный микробами, продукт ничуть не более искусственный, чем тот, который приготовлен из мяса животного. Речь идет всего-навсего о замене (частичной или полной, сказать пока нельзя) одних стад другими. И если новые «сельскохозяйственные животные» дадут во всех отношениях пищу не хуже, а то и лучше, то о чем сожалеть? Впрочем, нет, сожалеть есть о чем; мне тоже не хотелось бы лишаться того, что тысячами нитей связано с духовным миром человека, — сельских стад. Но тут ничто не мешает нам оставить при себе сельских животных, но уже не с целью убоя, а просто потому, что без них жизнь как-то беднее.
Но все такого рода проблемы пока дело будущего. Сегодня есть вот что. Есть микробиологические белки, полученные из всевозможных отходов, которые по составу почти не уступают лучшим белкам мяса и молока. Эти белки оказались вполне пригодными для изготовления искусственной икры. В США сейчас делают искусственную «курятину» из соевого белка (в спросе недостатка нет). В последние годы жителей Центральной Америки приучают к «никапарине» — обогащенному белками продукту из смеси кукурузы, семян хлопчатника, сухих дрожжей, синтетических витаминов и других добавок. К этому продукту приходится именно приучать взрослое население голодающих районов. Дети же едят «никапарину» (она приготовлена в виде вкусной каши) с большим удовольствием.
По подсчетам, изготовление пищи из отходов, минуя животноводство, позволит увеличить производство белка сразу в пять раз.
Микробы — это рудокопы и санитары будущего
Микроорганизмы — сила поистине геологическая. На дне Мирового океана океанологи обнаружили колоссальные скопления железомарганцевых конкреций микробиологического происхождения. Все важнейшие мировые месторождения железа, по мнению ряда ученых, имеют бактериальную основу. Велико участие микробов также в образовании нефти и газа. Ну а коль эти бесконечно малые существа ведут такую титаническую геологическую деятельность в масштабах нашей планеты, то их, естественно, нужно заставить работать на человека не только в химической, пищевой, фармацевтической промышленности, в сельском хозяйстве, но и в горнорудной и металлургической индустрии.
В раздумьях на тему, что будет делать человечество, когда кончатся запасы серы, исписано немало чернил, но выход нашелся совершенно неожиданно. Ученым было известно, что арабы, живущие у озера Айнез-Зауя в Северной Африке, много лет добывают на его берегах серу. Но ее запасы не иссякают! Та же картина наблюдается и на озере Серном Куйбышевской области, в котором еще при Петре I добывали серу для производства пороха. Чтобы постичь тайну возобновления серы, ученые построили миниатюрную модель африканского озера и поставили ряд опытов: в обычную колбу засыпали гипс и сульфат натрия, затем в этот же сосуд поселили сульфатредуцирующих и так называемых пурпурных бактерий. Первые образовали из исходных веществ сероводород, а вторые переводили его в серу. Модель работала ничем не хуже своего гигантского прототипа: на стенках и дне колбы выпадал осадок серы!
Позвольте, может сказать читатель. Одно дело осаждение серы в естественных водоемах, другое — получение ее в стеклянной колбе. Хватит ли сил у микробов, чтобы поставить такое дело на индустриальную ногу? Это ведь не производство пенициллина. Речь тут идет о сотнях тысяч и миллионах тонн! Но не будем спешить о выводами. Обратимся к расчетам ученых. А они показывают, что, если воспроизвести условия лабораторных экспериментов в озере глубиной 5 метров и площадью один квадратный километр, то за сто дней серобактерии выработали бы от 100 до 500 тысяч тонн серы! Как видите, эти цифры довольно убедительно говорят о высокой «производительности труда» рабочих-невидимок. Значит, все дело в том, чтобы создать микробам подходящие условия, и тогда они будут работать лучше любых титанов. Такие условия не так уж трудно найти или создать. Английские ученые Батлин и Посгейт предложили, например, «заразить» серобактериями некоторые озера Африки и Австралии, чтобы превратить их в подобие озера Айнез-Зауя. Не менее подходящей, а главное — дешевой средой для «прокормления» созидателей залежей серы могут стать сточные воды. Здесь можно получить двойной выигрыш: микробы будут, вырабатывать серу и одновременно уничтожать городские отбросы.
На протяжении всей геологической истории микроорганизмы были главными «санитарами» планеты. Но сейчас процессы самоочищения уже не могут справиться с обилием индустриальной грязи, с новыми для природы химическими веществами. Но полностью ли иссякли потенциальные возможности мира простейших, невидимых глазом существ? Нельзя ли мобилизовать резервы самой жизни, чтобы справиться с очисткой планеты?
К счастью, как выяснилось, микробы и здесь могут прийти к нам на выручку. Вот один из самых тяжелых случаев — осевшие в почве ядохимикаты. У нас нет способов удаления таких веществ, а природе они, как правило, чужды, следовательно, и в природе трудно найти силы, которые бы их нейтрализовали. Трудно, но все-таки можно.
Удалось установить, что почвенные микробы способны перестраивать обмен веществ в своем крошечном организме так, что даже неизвестные природе синтетические вещества разлагаются и перерабатываются. Это отрадная новость. Сейчас в ряде стран ведутся микробиологические исследования по разложению ядохимикатов в почве, по выведению наиболее активных культур микробов, которые вызывают такое разложение.
Нашлись среди микробов и «специалисты-санитары» по очистке воздуха. Так, в Японии, например, недавно открыто вещество бактериального происхождения, позволяющее уменьшить загрязнение воздуха выхлопными газами.
Из всех бытовых отходов больше всего хлопот доставляют пластмассы: сами они почти не разлагаются, а уничтожить их нелегко.
И тут ученые вынуждены были обратиться за помощью к микроорганизмам. Не так давно из Англии пришла обнадеживающая новость. Удалось вырастить четыре вида микроорганизмов, превращающих полихлорвиниловые пленки в углерод. Сотрудники Техасского (США) микробиологического института вывели породу микроорганизмов, с ненасытным аппетитом пожирающих почти любую пластмассу. Ученые надеются, что эти бактерии наконец решат проблему городских свалок, забитых «вечными» пластмассовыми пакетами и другими синтетическими изделиями. Оригинальный метод уничтожения пластмассовой тары разрабатывают шведские ученые. Они выводят специальные бактерии, которые будут «вводиться» в пластмассу при ее изготовлении. Некоторое время бактерии должны находиться в состоянии покоя, а когда тара будет выброшена, они активизируются и разрушат пластмассу!
Сильнейшей загрязнитель воды — нефть. Опасность уже нависла над морями и океанами — и снова помочь нам тут могут микробы. Советские ученые нашли 37 видов своеобразных пожирателей нефти. Их переселили в лаборатории, где они стали успешно размножаться на «диете» из мазута, нефти и солярового масла. Вскоре их пошлют на нефтеналивные суда, где они под наблюдением специалистов будут чистить танки. Сходные работы ведутся в США.
Вернемся, однако, к добытчикам руды. Как видим, трудно найти вещества — будь то естественные или искусственные, которые противостояли бы тем или иным видам микроорганизмов. «Неприступной крепостью» в этом смысле до недавнего времени казалось золото. Казалось совершенно невероятным, что на золото могут воздействовать какие-то там бактерии. Но невероятное стало фактом.
В Сенегале на берегу реки Ивары есть золотоносный холм Ити. Месторождение это промышленного значения не имеет, так как размер частиц самородного золота не превышает микрона и концентрация его чрезвычайно низка. Лишь местные старатели, затрачивая массу сил и времени, стоически продолжают копать и промывать землю, получая в награду за свой поистине сизифов труд мизерные пылинки желтого металла. Казалось бы, за многие десятилетия хотя и кустарной разработки тощие запасы золотоносной породы должны были бы иссякнуть. Но не тут-то было! Впечатление создавалось такое, будто кто-то все время пополняет запасы золота. Как в серных озерах...
«Безумную гипотезу», что запасы рудной зоны пополняют особые микробы, которые, каким-то образом растворяя золото, концентрируют его в породе, высказал директор Бюро геологических изысканий и шахт в Дакаре Р. Мартинэ. Были поставлены опыты — и они подтвердили гипотезу!
Правда, до сих пор не очень ясно, как именно микробы воздействуют на золото. Но сам способ уже запатентован. Если эксперименты в промышленных масштабах оправдают надежды лабораторных опытов, то горнодобытчики, понятно, не будут ждать разгадки секрета — они просто начнут использовать микробов на золотых приисках.
После этого вряд ли кого удивят многочисленные сообщения о том, что микроорганизмы, как у нас, так и за рубежом, уже «зачислены в горняки». В Онтарио (Канада) бактериальным способом получают ежемесячно более пяти тонн окиси урана. Подобным способом добывают сейчас уже медь, железо, марганец, цинк, молибден, хром и некоторые другие металлы.
Особенно важно, что, например, в опытах на Дегтярском руднике (Урал) десятки тонн меди были получены с отработанных участков. Важно это вот почему. За четыреста суток обычного химического окисления минерала халькопирита (важнейшего промышленного источника меди) оттуда извлекается только 18 процентов металла. Бактерии за тот же срок извлекли 58 процентов. Когда же исследователи получше разобрались в том, что благоприятствует работе бактерий, а что ей мешает, то им удалось резко ускорить процесс: сейчас бактерии извлекают из халькопирита 90 процентов меди всего за 35 часов! Не фантазия и 98-процентное извлечение меди...
Беру на себя смелость утверждать, что в этих успехах кроется революционный сдвиг в добыче полезных ископаемых. Металлургам все чаще и чаще приходится иметь дело с бедными рудами, иногда на 99 процентов состоящими из пустой породы. Впереди еще более тяжелые времена, так как, судя по всему, уже в 80—90-х годах промышленность будет испытывать острую нехватку некоторых цветных металлов. Значит, придется разрабатывать совсем уж бедные руды, чья добыча сейчас давала бы чистый убыток. И еще. Как правило, в отработанных месторождениях остается от 5 до 20 процентов руды, брать которую либо невозможно, либо невыгодно. Использование бактерий меняет ситуацию. Микробиологический метод позволяет даже в рамках сегодняшнего дня с выгодой добывать металлы из очень бедных руд или с отработанных участков. Именно таким образом, например, из старых заброшенных забоев одного мексиканского рудника за год было извлечено 10 тысяч тонн меди! Там же, в Мексике, бактерии заставили добывать медь из отвалов, хотя меди содержалось в них всего 0,2 процента. Результат — 650 тонн металла в месяц.
Бактерии могут добывать не только металлы, но и нефть. Было известно, что образование газов в некоторых месторождениях нефти есть результат деятельности микробов. Возникла идея использовать эту деятельность для добычи «мертвой», никак уже не извлекаемой нефти. Идея себя оправдала. Специальные бактерии — газообразователи, «командированные» в нефтяной пласт, стали образовывать из нефти метан, водород, азот, углекислоту. По мере накопления газов их давление нарастало, кроме того, растворяясь в нефти, они снижали ее вязкость. И скважины ожили! Одноразовой микробиологической обработки нефтяного пласта хватило на два года...
Но, возможно, микробы проявят себя даже не столько под землей, сколько под водой.
В Мировом океане есть все элементы (даже золота там десять миллиардов тонн). По существу, моря и океаны — это гигантский склад любых нужных нам веществ, будущее «экономическое сердце» планеты. Затруднения в одном: концентрация подавляющего большинства ценных веществ в морской воде ничтожна.
Но для микроорганизмов это далеко не всегда препятствие. Известно, например, что некоторые виды бактерий воздвигают в океане целые острова, осаждая из морской воды соли магния и кальция. Есть организмы, приспособленные к накоплению цезия, некоторых радиоактивных элементов и ряда других веществ. Как им удается концентрировать тот же цезий, которого в воде ничтожно мало, мы не знаем. Но можно согласиться с известным океанологом академиком Л. А. Зенкевичем, который считает, что методу биологической концентрации нужных человеку веществ из морской воды принадлежит будущее. Не за горами время, когда в морях и океанах появятся подводные плантации бактерий-металлургов и мириады микроорганизмов будут добывать людям все, начиная с магния и кончая тяжелой водой.
Микробы становятся энергетиками
Перспективы применения микробов столь обширны и разнообразны, что волей-неволей приходится говорить лишь о самых важных, так сказать, стратегических направлениях. Ранее приведенные примеры, вероятно, достаточно поясняют место микробиологии и ее роль в развертывании научно-технического прогресса, что отражено и в Директивах девятой пятилетки. Но чтобы показать широту проблемы, я все же остановлюсь на двух частных случаях, взятых из далеких друг от друга областей.
Известно ли жителям села, что микробы могут помочь им в строительстве прудов? Речь идет вот о чем. В некоторых местах грунт недостаточно плотен, вода фильтруется, заболачивая местность, и водоем создать не удается, даже если он очень нужен. Известно, однако, что на дне болот благодаря анаэробным (бескислородным) бактериям образуется водонепроницаемый слой. Это навело сотрудников Грузинского научно-исследовательского института гидротехники и мелиорации на мысль использовать анаэробов для создания прочного ложа искусственных водоемов. Способ оказался весьма эффективным. Доступен он любому хозяйству. Нужно снять бульдозером покров земли, уложить соответствующее количество соломы, сена или стеблей кукурузы, отходы, богатые клетчаткой, и снова засыпать их землей. Ложе будущего водоема готово. Влага, проникая сквозь земляной покров в слой клетчатки, способствует интенсивному размножению в нем анаэробных бактерий, которые, изменяя структуру почвы, создают грунт, практически не пропускающий воду.
Теперь несколько слов о бактериях-энергетиках. Идея использования «живого электричества» в век атомной энергетики может показаться смехотворной. Ведь и раньше пытались создавать биоэлементы, в которых бактерии возбуждали бы реакции, могущие давать ток (достаточно, например, вспомнить биоэнергетическую установку, созданную в конце прошлого века инженером Н. Мельниковым). Но биоэлементам не сопутствовал успех. О чем же может идти речь теперь? О широком использовании биоэлементов на Земле и в космосе.
Все дело в том, что для питания разнотипных, биоэлементов в принципе годятся листья, трава, опилки, сок кокосовых орехов... Короче говоря, заряжать такие источники тока можно где угодно и, в общем, чем угодно, так как вполне можно создать биоэлементы, требующие для подзарядки лишь солнечный свет и некоторые соли.
Не стану уверять, что биоэнергетика сулит какие-то небывалые перспективы. Но биохимические элементы уже сейчас работают в морских буях, автоматических гидролокаторах, маяках, то есть там, где требуются долгодействующие, автономные, не слишком мощные источники тока. Здесь они успешно конкурируют даже с атомными батарейками. Судя по зарубежной печати, разработка новых биоэлементов ведется и для космоса.
Мир микроорганизмов пока изучен гораздо хуже, чем мир животных и растений. Можно утверждать, что микробиологам сейчас известно не более десятой доли видов микроорганизмов, населяющих водоемы и почву. Поиск полезных бактерий, которых можно было бы «приручить», заставить работать на человека, в сущности, только начинается. Предстоит выделить и изучить сотни новых видов, которые раньше было невозможно обнаружить на питательных средах, применявшихся со времен Луи Пастера и Роберта Коха. Одной из важнейших проблем ближайшего будущего является выведение микробов «домашних пород», обладающих повышенной активностью. Исходя из этого, ученые намечают провести в 70-х годах большую работу по окультуриванию «диких» форм микробов и созданию новых, более полезных культур путем радиационных и химических мутаций и гибридизации. По эффективности и производительности они будут, как полагают микробиологи, в сотни раз превосходить своих «диких» собратьев. Они смогут выполнять функции, не свойственные ни одному природному микробу, выполнять их направленно и с большим успехом. Наука сможет дать новые методы получения микробов по заказу — для каждой области практики будет создана своя культура микроба...
Фантасты, а теперь уже и ученые обсуждают возможность существования во вселенной «нетехнических», например «биологических», цивилизаций, то есть таких, где производство осуществляется не машинами и автоматами, а управляемыми и создаваемыми искусственно живыми сообществами. Для таких гипотез, как видим, есть основания. Нет сомнения, что производство XXI века будет разительно отличаться от современного. Возможно, во мне говорит пристрастие бионика, но мне кажется, что перспектива заключается в биологизации техники и технизации биологии; производство не столь отдаленного будущего видится мне как биотехническое. И важнейшую роль в нем будут играть те самые «ничтожные» микроорганизмы, которые по традиции рассматриваются нами преимущественно как враги.
Изот Литинецкий, кандидат технических наук
(обратно)
Лошади из Лилипутии
Когда-то русский писатель и философ В. Ф. Одоевский, рисуя картину отдаленного будущего в 4338 году, предсказывал, что лошади тогда; утратив деловое значение, будут доведены до размеров собаки или даже кошки. В Америке подобное пророчество, кажется, уже осуществили. Вообще американские коннозаводчики прилагают много усилий и фантазии, чтобы удовлетворить растущий спрос на лошадей, способных ужиться с автомобилями, холодильниками и телевизорами. В Западной Вирджинии же эта фантазия зашла так далеко, что там стали разводить в самом деле комнатных пони — карликовых лошадей ростом от 80 до 40 сантиметров.
Впечатление такое, будто эти лошадки расплодились от тех животных, которых Гулливер привез с собой из Лилипутии. Но нет, это мистер Смит Макоуэн из Родерфилда, кондитер-профессионал, он же коневод-любитель, вырастил табунок лилипутских лошадей. Макоуэн не применял никаких средств, искусственно задерживающих рост. Годами он вел естественный подбор мельчайших пар, так называемых шетландских пони и достиг в своем роде рекордно малых результатов.
Прежде слава самых маленьких лошадей в мире принадлежала питомцам аргентинской фермы Рекрео де Рока. На специальном конкурсе, устроенном телевидением, владелец этой фермы показал лошадку ростом в 60 сантиметров. Тогда Макоуэн продемонстрировал Кусочек Сахара — так звали кобылку, едва достигавшую 50 сантиметров. Затем Макоуэн превзошел самого себя: у него появился четвероногий лилипут ростом около 40 сантиметров.
«Их можно держать в комнате, с ними играют маленькие дети, они служат отрадой для тех стареющих любителей лошадей, у которых все в прошлом, но которые все же хотят иметь при себе живой сувенир», — рассказывает Макоуэн о своих лошадках. Короче, забава для малых и старых. Вопрос, разумеется, в том, кому эта забава по карману. Дороже дорогого автомобиля стоит такая лошадка. И чем она меньше, тем, конечно, дороже.
Д. Седов
(обратно)
Экспедиция «Вокруг света» продолжается

В № 3 «Вокруг света» за 1969 год был опубликован очерк нашего специального корреспондента А. Рябикина «Голос Аджимушкая». В очерке рассказывалось о защитниках Центральных и Малых аджимушкайских каменоломен, сражавшихся с фашистами с мая по октябрь 1942 года. Особенно взволновало читателей предположение автора о том, что каменоломни, возможно, хранят в себе тайну пока еще не найденного архива подземного гарнизона. В том, что архив существовал, сомнений нет. Об этом говорят опросы оставшихся в живых участников обороны, советские документы тех лет и даже свидетельства противника. В очерке же вполне справедливо говорилось, что «трудно предположить, что защитники Аджимушкая решились навсегда расстаться с летописью своей борьбы. В сейфе были наградные листы, записки и донесения о героизме и мужестве бойцов гарнизона. Были и другие воинские реликвии. С такими документами люди расстаются лишь тогда, когда нет никакой возможности, ни одного шанса сохранить их». Далее говорилось, что и враг вряд ли мог завладеть последним сокровищем гарнизона. «Фашисты так по-настоящему и не спускались в каменоломни. Они боялись их. Даже после того, как перестали из подземелий раздаваться выстрелы, каменоломни по-прежнему были окружены колючей проволокой. У входов дежурили солдаты. С фанерных дощечек смотрели написанные черной краской слова: «Осторожно. Запретная зона», «Осторожно, партизан».
С тех пор прошло тридцать лет, но еще не разобраны многие завалы, не изучены галереи, где находился штаб гарнизона, полковая радиостанция, службы полка, госпитали. Каменоломни сильно разрушены. В ряде мест завалы достигают десятка метров, а частые обвалы, многотонные глыбы и остатки боеприпасов затрудняют работу поисковых групп.
Возможно, под землей есть отсеченные обвалами участки галерей и казематы. В них осталось все, как было в 1942 году. В них, возможно, и скрыты архивы штабов.
Что же стало с этими, безусловно ценными документами?
Один из инициаторов экспедиции — военный историк В. В. Абрамов — за последние годы собрал документы и свидетельства, подтверждающие существование архивов, проливающие свет на самые малоизвестные страницы Аджимушкайских каменоломен. В письме, присланном в редакцию, он пишет: «Их, конечно, спрятали оставшиеся в живых последние защитники. И не обязательно, в сейфе. (Для сохранения документов — для нас! — это был бы лучший вариант.) Сейф из-за его тяжести трудно прятать ослабевшим от голода людям. Документы могли быть помещены и в чемодан, коробку или небольшой ящик».
Это уже был какой-то ход для поисков. Второй ход: кто же были последние защитники?
Пока в живых не найден никто, кто бы был в составе последней группы. В их число входили: подполковник Бурмин Г. М., старший батальонный комиссар Парахин И. П., батальонный комиссар Храмов Ф. И., капитан Левицкий В. М., техники-интенданты второго ранга Желтовский В. И. и Прилежаев А. А., сержант Неделько А., работница керченского торга Кохан В. А. и другие. Как известно, 28 октября гитлеровцы решили окончательно подавить сопротивление в каменоломнях. Они спустились под землю, и там начался бой. Подробности этой схватки неизвестны. Судя по последним разысканиям, она была упорной, так как фашисты потеряли в ней ранеными двадцать человек (по архивным данным).
Ослабевшие от голода защитники были схвачены. Никто из них в живых не остался. Вот результат многолетних поисков... Ф. И. Храмов и В. М. Левицкий умерли от истощения во время переезда на машине из Керчи в Симферополь. Следы И. П. Парахина теряются в симферопольской тюрьме в конце января 1943 года. Палачи издевались над ним как только могли, и нет сомнения, что там они его и замучили. В. И. Желтовский умер от тифа и голода 11 апреля 1943 года в лагере военнопленных города Владимира-Волынского, а Г. М. Бурмин, как стало известно сравнительно недавно, погиб в плену 28 ноября 1944 года. Что касается Вали Кохан (ей было тогда 23 года), то она содержалась в симферопольском концлагере, откуда ей удалось передать родственникам несколько писем, два из которых сохранились. Осенью 1943 года, когда Красная Армия штурмовала Перекоп, а около Керчи высадились части отдельной Приморской армии, фашисты расстреляли всех заключенных лагеря. Среди них была и Валя Кохан.
«Судьба А. А. Прилежаева, — сообщает В. В. Абрамов, — до сих пор неизвестна. Он содержался в тюрьме с последней группой. Есть данные, что родом он из Симферополя, на Салгирной улице у него жила мать-старушка, которая носила ему передачи».
Но нельзя терять надежду на то, что кто-то из последних все же остался жив. Вот что пишет далее историк:
«На Александре Неделько необходимо остановиться подробнее. Не вызывает сомнения, что он был посвящен во многие секреты. Сашу Неделько, «невысокого», «широкоплечего», хорошо помнят участники. По некоторым данным, А. Неделько был ординарцем у полковника П. М. Ягунова, а затем у Г. М. Бурмина. Говорят, что до войны он работал кулинаром ресторана в каком-то большом городе на Украине. Среди последних защитников каменоломен он был менее истощен, видимо, поэтому ему и поручили ответственное задание. Галина Андреевна Матиевская, младшая сестра В. Кохан, ныне керченская учительница, сообщает:
«Осенью 1942 года к нам на квартиру по адресу Крестьянская, 31 пришел изможденный человек лет двадцати. После знакомства он признался, что его звать Саша Неделько и что он выбрался из каменоломен, где находится Валя. Он рассказал, что в каменоломнях страшный голод. Его послали в Керчь якобы поменять вещи на продукты. У него действительно были часы и портсигары. У нас Неделько находился несколько дней, затем в городе по ночам начались облавы. Неделько стал ночевать в катакомбах, которые были на территории города, а затем совсем исчез.
Позже нам стало известно, что Саша арестован и находится в лагере для военнопленных. В 1944 году, уже после освобождения Керчи, мы получили от Неделько письмо, в котором он писал, что бежал из плена и сейчас снова находится в действующей армии. Больше писем от него не было. В 1945 году мы сделали запрос о Неделько по его обратному адресу. Нам ответили, что А. Неделько погиб смертью храбрых. Письма и его обратного адреса не сохранилось».
Таким образом, и этого участника нет в живых. А может быть, где-нибудь живут его боевые товарищи по 1944 году, с которыми он делился своими воспоминаниями о легендарной подземной обороне?
Последний вопрос: есть ли что искать? Могли ли документы сохраниться до наших дней? «Да, — отвечают специалисты. — В Аджимушкайских каменоломнях мало влаги, в течение года в них сравнительно ровная температура. Документ, если он свернут или скомкан, может сохраниться даже в земле, среди каменных завалов. Если же документы хранятся в чемоданах, военных сумках или просто завернуты в бумагу или материю, то сохранность их, как правило, удовлетворительная».
На этот вопрос ответили и первые находки экспедиции. Найденные записи уже отправлены на реставрацию в Библиотеку имени В. И. Ленина.
В работе экспедиции принимают участие Керченский горком КПСС, Крымский обком комсомола и Керченский горком комсомола, историко-археологический музей города Керчи; техническое оснащение экспедиции обеспечивают промышленные предприятия Керчи.
(обратно)
Золотое колымское лето
 «Есть события, о которых нельзя забывать. Иногда, даже и не замеченные современниками, они столь важны по своим последствиям, что именно от них зависят многие позднейшие повороты истории.
К числу таких событий откосится 1-я Колымская экспедиция 1928—1929 годов.
Горсточка хорошо подобранных, но плохо снаряженных, еще не очень опытных, но одержимых единой идеей молодых людей открыла в те годы для Страны Советов громадную территорию к востоку от Лены. Это было второе открытие, поскольку впервые просторные земли Северо-Восточной Азии явили миру сибирские землепроходцы XVII века. Но на этот раз были открыты не только обширные пространства тайги и гор, рек и морей, но и несметные богатства руд и металлов. И за прошедшие с тех пор сорок лет мы оказались свидетелями поразительного экономического и культурного расцвета этих столетиями прозябавших земель...
Теперь уже трудно себе представить, что у истоков удивительного преображения края, который легко вместил бы все государства Западной Европы, лежат мысль, труд и воля нескольких энтузиастов.
Два геолога, Юрий Александрович Билибин и Валентин Александрович Цареградский, задумали Колымскую экспедицию, разработали план исследований и два долгих года самоотверженно его осуществляли. Сергей Дмитриевич Раковский, Эрнест Петрович Бертин и Дмитрий Николаевич Казанли братски делили с ними все опасности экспедиции, они копали в этой вечно мерзлой земле первые шурфы, промывали первое золото и чертили первые карты.
«Первооткрыватели» — давно и по праву называют их поэтому на Колыме.
Я давно хотел описать эту историческую экспедицию на край земли — туда, где прошла значительная часть и моей жизни...»
Эти строки взяты из авторского предисловия к книге ныне покойного геолога Евгения Константиновича Устиева «К истокам золотой реки». Книга готовится к печати в издательстве «Мысль».
Мы предлагаем читателям журнальный вариант нескольких глав из книги Е. К. Устиева.
...Валентин Цареградский возвращается из очередного маршрута. После долгого плавания на плоту по реке Буюнде, а потом по Колыме в одноместной якутской лодчонке он добрался до устья Среднекана и увидел в темноте, среди прибрежного тальника, смутно белевшее пятно палатки...
«Есть события, о которых нельзя забывать. Иногда, даже и не замеченные современниками, они столь важны по своим последствиям, что именно от них зависят многие позднейшие повороты истории.
К числу таких событий откосится 1-я Колымская экспедиция 1928—1929 годов.
Горсточка хорошо подобранных, но плохо снаряженных, еще не очень опытных, но одержимых единой идеей молодых людей открыла в те годы для Страны Советов громадную территорию к востоку от Лены. Это было второе открытие, поскольку впервые просторные земли Северо-Восточной Азии явили миру сибирские землепроходцы XVII века. Но на этот раз были открыты не только обширные пространства тайги и гор, рек и морей, но и несметные богатства руд и металлов. И за прошедшие с тех пор сорок лет мы оказались свидетелями поразительного экономического и культурного расцвета этих столетиями прозябавших земель...
Теперь уже трудно себе представить, что у истоков удивительного преображения края, который легко вместил бы все государства Западной Европы, лежат мысль, труд и воля нескольких энтузиастов.
Два геолога, Юрий Александрович Билибин и Валентин Александрович Цареградский, задумали Колымскую экспедицию, разработали план исследований и два долгих года самоотверженно его осуществляли. Сергей Дмитриевич Раковский, Эрнест Петрович Бертин и Дмитрий Николаевич Казанли братски делили с ними все опасности экспедиции, они копали в этой вечно мерзлой земле первые шурфы, промывали первое золото и чертили первые карты.
«Первооткрыватели» — давно и по праву называют их поэтому на Колыме.
Я давно хотел описать эту историческую экспедицию на край земли — туда, где прошла значительная часть и моей жизни...»
Эти строки взяты из авторского предисловия к книге ныне покойного геолога Евгения Константиновича Устиева «К истокам золотой реки». Книга готовится к печати в издательстве «Мысль».
Мы предлагаем читателям журнальный вариант нескольких глав из книги Е. К. Устиева.
...Валентин Цареградский возвращается из очередного маршрута. После долгого плавания на плоту по реке Буюнде, а потом по Колыме в одноместной якутской лодчонке он добрался до устья Среднекана и увидел в темноте, среди прибрежного тальника, смутно белевшее пятно палатки...
Это была палатка Раковского. Сергей Дмитриевич, услышав шум, выскочил из палатки. Проснулись и зашумели рабочие.
— Ну вот и вы здесь, Валентин Александрович, — говорил он, крепко пожимая руку Цареградскому. — Билибин еще не возвратился. Жду со дня на день. Ну как вы? Удачно работалось? Что-нибудь интересное есть? Золото нашли?
— Интересного-то много, — ответил, снимая рюкзак, Цареградский. — Съемка прошла хорошо, а вот золота нет. Только около Среднекана опять (1 Золотая россыпь на Среднекане, притоке Колымы, была открыта экспедицией до описываемых событий.) стали попадаться маленькие значки.
— Да ну! — воскликнул, не скрывая радости, Раковский. — А у меня вот есть золото, да такое, что рот разинешь! Я напал на бешеную россыпь.
Он осторожно приоткрыл полу палатки, чтобы туда не проникли звеневшие вокруг комары, пропустил гостя вперед, а затем и сам скользнул следом.
— Вот проклятие, — пожаловался он, сметая ладонью с потолка успевших залететь насекомых. — Ни днем, ни ночью покоя не дают!
— Так говорите, бешеное золото? — сказал, садясь на вьючный ящик, Цареградский. — Ну рассказывайте!
— Я лучше покажу кое-что для хороших сновидений, а расскажу поподробнее утром!
— Ну что же, можно и так. Показывайте свои чудеса. Мы действительно здорово сегодня утомились. Все-таки больше полусотни километров проплыли.
Только сейчас он почувствовал охватившую его страшную усталость. Руки были деревянными. Плечи так сильно ныли в суставах, что казалось, их вывернули на дыбе. Ноги, наоборот, отекли от долгого бездействия и неудобной позы в лодке. В ушах стоял ровный шум волн, и мерещилось, что все еще всплескивает вода под веслом.
— Вот смотрите. Как собрали в коробку, так и храню в ней!
Раковский протянул ему жестяную коробку из-под ленинградских папирос «Дели».
Взяв коробку, Цареградский едва не выпустил ее из рук: она оказалась непривычно тяжелой.
В коробке доверху теснились матово сиявшие самородки. Все они были сильно окатаны и начисто лишены железистой корочки. Самые мелкие из золотин были с маленькую горошину, самые большие походили формой и величиной на конский боб. Казалось, в палатке засветился золотой фонарик и лучи от него, затмевая свечу, бросают блики на склонившиеся лица.
Такого количества золота в одной пробе Цареградский еще никогда не видел. Все, что им до сих пор удавалось намыть, не шло ни в какое сравнение с тем, что показал ему сейчас худенький сияющий Раковский.
— Действительно, здорово! — выдохнул он наконец. — Как это у вас получилось?
— Э, сох дагор (1 Нет, товарищ (Якутск.).. Уговор пуще денег, — рассмеялся Раковский. — Пойдемте, помогу разбить палатку, а завтра все подробно обрисую. Пока могу сказать одно: никогда в жизни я подобного не встречал!
На следующее утро Цареградский еле проснулся и с трудом выполз из мешка. Болели плечи и поясница. Мозоли на ладонях и пальцах налились кровью и горели как в огне. Впрочем, разве могло быть иначе: два дня они плыли против течения, да еще без всякой предварительной подготовки.
Однако молодость быстро залечивает недуги. После позднего завтрака в тени склонившейся над рекой ивы он почувствовал себя лучше и вновь подивился красоте золотой коробки. Чтобы избавиться от комаров, приятели сели на ветерке, и, закурив, Раковский поведал о своих приключениях.
Билибин поручил ему опробование устьев всех правых притоков Колымы от Таскана до Среднекана; на себя он предполагал взять шлиховое изучение (1 Шлих — фракция минералов большого удельного веса, выделенная (промывкой) из рыхлых горных пород.) правобережья Колымы выше Таскана вплоть до Бахапчи. Оба должны были вести свои работы, спускаясь по Колыме: Раковский — на лодке, Билибин — на кунгасах.
Однако дела со шлиховым опробованием поначалу не ладились. Уровень реки был все еще очень высок, и вода закрывала приустьевые косы. Приходилось брать пробы на золото не совсем там, где требовалось правилами, и это отражалось на результатах. В некоторых пробах обнаружилось небольшое количество золотин, но они были очень мелкими, а их содержание непромышленным. Так продолжалось вплоть до устья реки Утиной — первого большого правого притока Колымы, который они встретили на своем пути к Среднекану. На этот раз картина резко изменилась. Первые же пробы оказались удачными. Почти в каждой из закопушек (1 Горные выработки небольшой глубины.) обнаружилось довольно богатое золото. Хотя пробы еще не были столь богатыми, как некоторые
среднеканские, опытный глаз Раковского видел, что они напали на хвост серьезной россыпи.
Сообразно со смыслом инструкций Билибина Раковский должен был прекратить на этом опробование Утиной и спускаться дальше по Колыме. Но разве может настоящий золотарь бросить уже нащупанную россыпь и уйти от нее к чему-то неизвестному! Следуя за все более многообещающими пробами, он поднимался километр за километром по долине Утиной.
Пробы, которыми он систематически исследовал края утинской россыпи (до середины ее он не мог добраться: это потребовало бы шурфовки), были все более обнадеживающими. Вскоре стало совершенно очевидно, что открыта очень крупная промышленная россыпь, нисколько не уступающая, а может быть, и превосходящая по запасам среднеканскую.
Вечером 21 июня, ровно через год после отплытия экспедиции из Владивостока, с Раковским произошло удивительное событие.
Поднимаясь по долине Утиной (она была названа так в прошлом году Билибиным из-за обилия гнездившихся в ее устье уток), он набрел на небольшой, короткий перекат. Все его помощники были заняты рытьем очередных закопушек, а он решил подыскать подходящее место для ночлега и, насвистывая, медленно брел с рюкзаком по берегу.
«Вот хорошее место для палатки, — решил он, высмотрев ровную, продуваемую ветром площадку у самого переката. — Комаров не будет, и дров вдоволь, и вода есть!»
Он собрал хворосту, разжег небольшой костер и пошел к реке набрать воды в чайник. Река текла в коренном русле прямо поперек простирания слоистой свиты песчаников и глинистых сланцев, которые подходили к другому берегу крутым утесом. Тонкие, почти вертикально торчащие плитки осадочных пород образовали что-то вроде гребенки со скачущей с порожка на порожек говорливой струей. Воды у берегов на перекате было немного, и Раковский прекрасно видел все дно с поблескивающей под лучами заходящего солнца галькой.
«Природная бутара!» (1 Приспособление для промывки золота.)—Он всматривался в гребенчатое дно, где между вертикально торчащими плитками сланца крутились течением чисто омытые водой камешки.
«Вдруг в этой гребенке что-нибудь есть? — подумал он и тут же отбросил эту мысль. — Нет, чепуха, в жизни так не бывает!»
Он присел на корточки и, склонившись над водой, всматривался в игравшие с камешками струйки. «Конечно, ничего. Песок да галька!»
Все-таки, посмотрев немного, он сунул руку в воду и зачерпнул пригоршню песка и гальки. Вода стекла у него между пальцев, и он разжал ладонь.
Что это? Между серо-черной плоской галечкой и чисто промытым зернистым речным песком матово заблестело. «Золото?! Боже мой, конечно, золото! Что же еще?»
Он переложил песок из правой руки в левую и, вороша его указательным пальцем, выловил две золотины: одну — с фасолину, другую — с большую спичечную головку. В голове у него зашумело, как от спирта, кровь бросилась в лицо.
«Руками его не выбрать. Нужно перелопатить всю гребенку. Осмотреть ямки и гнезда...»
Не раздумывая и забыв о костре и чайнике, Раковский бросился к товарищам. Те еще рылись в своих закопушках, метрах в трехстах от переката.
— Ребята, — задыхаясь, крикнул он, — бросайте все! Идем наверх, к перекату! Смотрите, что я нашел на сланцевой щетке!
Он протянул руку и разжал ладонь. Кто-то протяжно присвистнул от восхищения, и все четверо заторопились вслед за Раковским, прихватив свой инструмент.
Скоро на перекате закипела работа. Трое тщательно выскребали между ребрами сланцевой гребенки песок и гальку, двое промывали их на лотке. Тут же на разостланном плаще лежала коробка, в которую ссыпалась золотая добыча. Некоторые особенно крупные самородки оказались прямо на виду под тонким слоем воды; их просто выбирали руками.
— Ни в жисть бы не подумал о таком! — говорил старший из промывальщиков, осторожно стряхивая лоток над жестяной папиросной коробкой. — Сколько на Алдане ни работал, а столь бешеного золота не встречалось!
Азарт заражает. Они забыли о времени, об усталости, о еде. Короткая летняя ночь растворилась в ранних лучах зари, наступило утро, а они все еще собирали золотины. Наконец, когда коробка наполнилась золотыми самородками до краев, а взошедшее солнце пригрело землю, Раковский опомнился:
— Хватит, ребята! Айда спать! Всю щетку промыли насквозь. Если что и осталось, то какие-нибудь пустяки, потом домоем. Шабаш!
Люди с трудом разгибали закостеневшие от холода и работы спины и вылезали из воды на еще покрытую росой береговую гальку. Через несколько минут запылал жаркий костер, на котором они просушили мокрую одежду, а заодно и намытое золото.
(Впоследствии на обнаруженном Раковским месторождении вырос прииск Юбилейный. Это название было дано Раковским в связи с памятной для Колымской экспедиции датой — годовщиной ее отплытия из Владивостока, днем, который можно считать началом открытия Золотой Колымы.)
В тот же день Раковский убедился, что власть золота со старых времен не ослабла. После того как они с трудом заставили себя подняться к полудню, один из рабочих знаком отозвал его в кусты от палатки.
— Слушай, Сергей Дмитрич, — сказал он шепотом, — что я тебе скажу. Что думаешь делать теперь с Утиной-то?
— Как что? Пойдем опробовать долину выше, пока не дойдем до верхнего края россыпи.
— Да не, я же не о том говорю. Скажешь ли начальнику о нашей находке?
Раковский посмотрел на него с удивлением:
— Да ты в своем ли уме, парень? Как же иначе, конечно, скажу!
— А ты не сказывай, — зашептал рабочий. — Пока не сказывай, сразу-то! Осенью Билибин с Цареградским поедут отсюда, а мы с тобой останемся. Артель хорошую сколотим. Постараемся. На всю жисть за одну зиму-лето заработаем. Дело говорю. Слухай меня!
— Слухай, слухай! — рассердился Раковский. — Ты, видно, совсем спятил, что мне такое предлагаешь! Если захочешь остаться, оставайся! Вон артель на Среднекане работает. Старайся с ними, а о таких секретах и не помышляй! Ишь что надумал! Нам доверили, а ты на обман сговариваешь!
— Да нет, я что ж, — струсил рабочий. — Коли не хочешь, как хочешь. Воля твоя. Я могу, конечно, и так постараться. На Среднекане. Только жаль бросать. Уж больно золотишко богатое. Государству-то оно вроде бы и ничто, а рабочему человеку очень даже пригодится.
— Ну, в общем, хватит разговоров! — отвечал Раковский. — Иди кашу варить, да впредь советую о таких думах помалкивать.
— Ты начальнику-то не скажешь?
— Иди, иди, не скажу, черт с тобой! Ты ничего не говорил, я ничего не слышал. Ступай!
На этом инцидент был исчерпан. Единственный случай рецидива старой золотарской психологии стал известен только Цареградскому.
— Ты Юрию Александровичу об этом, пожалуйста, не рассказывай, — попросил Раковский. — Он человек строгий и горячий. Накажет дурака, а чем он виноват, что из старых привычек еще не выжнет? Ведь он в самом то деле не воровать собирался, а добывать своими руками хотел. Золото у него в мозгах с самых ранних лет сидит. Вот он и соблазнился. На минутку!
— Нет, не скажу! — улыбнулся Цареградский и дружески положил руку на плечо собеседника. — А что же вы после этой гребенки делали?
— Проследили россыпь еще на несколько километров выше по реке. Потом вижу: время возвращаться в Среднекан к назначенному сроку. Уложились — и обратно. А тут ни Билибина, ни тебя. Ну и стал лагерем.
Через два дня возвратился из своей поездки по Бахапче Билибин. Он нашел в устье Утиной затеску на дереве и шифрованную записку Раковского о найденной россыпи и поторопился приехать. Его плавание на кунгасе по Малтану и Бахапче также было в смысле золота бесплодным. Таким образом, обе эти больших реки, как и Буюнда, оказались незолотоносными. Однако пробы, взятые промывальщиком Билибина ниже по Колыме, начиная от устья Бахапчи, кое-где содержали небольшие значки золота. Это давало некоторые основания протягивать зону золотоносности куда-то и выше устья Бахапчи.
(Поиски дальнейших лет выявили, что граница этой зоны находится на много сот километров западнее района, охваченного исследованиями 1-й Колымской экспедиции. При этом, как стало ясно уже на Среднекане, золотоносность не является сплошной, а подчиняется очень сложному сочетанию еще не всегда выявленных закономерностей, участки с богатыми коренными месторождениями и громадными россыпями чередуются с обширными бесплодными районами.)
Теперь, когда почти вся экспедиция опять была в сборе (отсутствовал лишь Бертин, который был занят опробованием верховьев Среднекана), можно было разработать новые планы на оставшуюся часть лета.
Билибин, внимательно прослушав отчет Раковского, размышлял недолго.
— Валентин, — обратился он к помощнику, — ситуация изменилась. У нас теперь не один, а два важных объекта: Среднекан и Утиная. Ясно, что мы должны справиться с обоими. Я поеду дообследовать утинскую россыпь и закартирую всю долину Утиной, а тебе придется поднатужиться и заснять всю долину Среднекана. Как, сможешь ли выполнить один то, что мы рассчитывали сделать вдвоем?
Цареградский пожал плечами.
— С геологической съемкой, я думаю, справлюсь, а вот с опробованием труднее. С одним Бертиным мне, пожалуй, не вытянуть. Не успею.
— Почему с Бертиным? А Раковский?
— Так ты и его ко мне прикомандируешь?
— Ну разумеется! Эрнест будет опробовать верхнюю часть Среднекана, а Сергей — нижнюю.
— Вот это дело другое! Тогда справлюсь!
Еще через день в лагерь пригнали лошадей из Сеймчана. Якуты соблюдали свои обещания, хотя им и не удалось сразу собрать больше восьми голов. Со дня на день ожидались лошади из Таскана, позднее обещали привести еще несколько вьючных животных сеймчанцы. Словом, можно было приступить ко второму этапу летних работ.
Подошел август. Короткое колымское лето быстро катилось под уклон. Здесь, в истоках Среднекана, особенно остро чувствовалось приближение осени. Дни были еще теплые, временами даже жаркие, но ночи похолодали. Конечно, печку в палатке ставить было еще рано, но спальный мешок уже приходилось покрывать ночью телогрейкой. Под утро трава и берег совсем узкой здесь реки седели от инея. Мелкие листики низкорослой полярной березки явственно зазолотились, а пахнущая ванилью низкорослая ива с каждой ночью становилась все более багровой.
— Это здесь, наверху, осень торопится, — успокаивал Цареградского Бертин. — Внизу гораздо теплее. Там лето продержится еще с месяц!
Но спешить все-таки нужно. После работ в верховьях им еще предстояла съемка нижнего течения Среднекана, где были проведены лишь беглые наблюдения. Правда, там распространены все те же скучные глинистые сланцы и песчаники, но ведь именно эта однообразная формация сопровождается проявлениями золота. Следовательно, необходимо опробовать все без исключения ручьи, впадающие в Среднекан.
Истоки Среднекана смыкаются с вершиной другого большого притока Колымы — Оротукана. Когда Цареградский поднялся на пологий, местами заболоченный водораздел со скалистыми гранитными останцами, его охватило желание спуститься в открывшуюся перед ним долину. На Оротукане еще не ступала нога геолога. Вместе с тем эта река впадает в Колыму поблизости от сказочно богатой Утиной. Может быть, и Оротукан золотоносен?
Он присел на мягкий лишайник и обирал низенькие кустики высокогорной голубики с очень крупными синими ягодами. Покрытые тонким сизым налетом, они уже давно созрели и отдавали явственным винным привкусом. Рядом сидел Бертин, отправляя пригоршнями холодные ягоды в рот.
— Не опробовать ли нам хотя бы верховья Оротукана? — заговорил Цареградский. — Что-то мне кажется, мы можем зацепиться за новую ниточку.
В открывающихся с перевала далях всегда есть что-то манящее. Врезанное в водораздельный гребень крутое ущелье уводит все глубже вниз и медленно расходится в стороны. Голые каменистые склоны постепенно покрываются сперва редкими, а затем все более густыми кустами. Еще ниже глаз ловит ажурные вершинки лиственниц, и вот далеко под ногами уже сверкает в лучах заходящего солнца извивающаяся ниточка реки. Серые склоны вскоре зеленеют, а затем становятся голубоватыми и, наконец, синими. Горизонт замыкают громоздящиеся одна за другой бледно-фиолетовые горные цепи. Кажется, уходят они в беспредельность и нет им конца и края. Совсем далеко, на границе с сияющим небом, смутно видны белые громады, и даже в бинокль невозможно понять — горы это или облака. Такая картина всегда вызывает неудержимое стремление как бы перешагнуть за рамку и дойти до самых дальних пределов Земли...
На следующий день, 14 августа, Цареградский, взяв с собой промывальщика и каюра, отправился налегке в долину Оротукана.
Поднявшись по уже знакомому пути на перевал, маленький отряд спустился в узкую щель, дно которой было усыпано сухим щебнем. Где-то глубоко под ним журчала вода. Впереди шагал с ружьем и фотоаппаратом геолог, за ним вел в поводу двух навьюченных лошадей каюр, последним шел промывальщик. На плече у Игнатьева наподобие щита висел деревянный лоток, в руках он держал небольшую кирку и скребок. Таким образом, в любом месте можно было не мешкая начать промывку пробы.
Вдруг впереди наверху послышался легкий шум. По склону катились камни. Поднимая облачка пыли, они застревали в осыпи над дном ущелья. Проследив взглядом начало маленького обвала, путники увидели небольшое стадо горных баранов. Легко и быстро перелетая с камня на камень, впереди стада уходили две-три самки с ягнятами. Сзади двигалась небольшая группа подростков, по-видимому двухлеток. Замыкал эту в полном порядке отступавшую группу старый самец, вожак стада. Ясно виднелись громадные, круто завивавшиеся от лба к плечам рога. Они были очень массивны, и казалось чудом, что маленькая сухая голова красивого зверя не склоняется под такой тяжестью. Через каждые несколько прыжков вожак останавливался и, глядя на нежданных пришельцев, ожидал, пока стадо не отбежит еще на несколько десятков шагов. После этого он в два-три прыжка нагонял его и вновь застывал на сером фоне осыпи. Золотисто-серая шкура барана делала его в этот момент почти невидимым, и нужно было вглядеться, чтобы не потерять животное из виду. Стадо уходило без всякой спешки, и все же с каждой секундой разыскать его взглядом среди каменной осыпи становилось все труднее. Вскоре различались лишь белые пятнышки подбрюший, шевелившиеся на темном фоне склона. Шедший сзади каюр лишь цокал языком, показывая на скрывшихся за горным гребнем баранов, и что-то оживленно говорил по-якутски. Цареградский в ту пору еще не выучил якутского языка, а каюр знал лишь несколько слов по-русски. Поэтому они чаще объяснялись друг с другом знаками.
— Чего же ты не стрелял? — можно было понять мимику каюра.
— Мой дробовик их не достал бы. — Геолог указал на свою двустволку. — А кроме того, к чему нам столько мяса? С нас и мелкой дичи хватит!
Еще с прошлой осени Цареградский обратил внимание на многочисленные, хорошо протоптанные тропинки, которые извивались по каменистым горным склонам. Эти тропинки чаще всего огибали вершину по горизонтали или слабо наклонной линии. Местами, однако, тропинки выкидывали неожиданный вольт и то круто взбирались к облакам, то падали к долине. Сперва он принял их за охотничьи пути.
В самом деле, каменные глыбы и щебенка были так плотно утрамбованы, что, казалось, это мог сделать только человек. Но вскоре он понял, что ошибся. На первой же тропинке, по которой ему пришлось идти, он увидел много старого и свежего бараньего помета. Кое-где попадались небольшие утоптанные площадки со следами маленьких твердых копытец и со слежавшимися темными катышками. Каждая площадка всегда имела хороший дальний обзор.
Картина прояснилась. Это были бараньи и козьи тропы, вытоптанные животными за сотни, а может быть, и тысячи лет. Неисчислимые поколения животных ходили по одним и тем же дорогам. Они спасались тут и от комаров, которых сдувал ветер, и от хищников, которых легко можно было высмотреть с этих высот. Превосходный нюх и еще более острое зрение делали горных баранов-архаров трудной добычей для охотников. В тот год Цареградскому ни разу не удалось попробовать их исключительно вкусного мяса.
К полудню отряд спустился по Оротукану километров на пятнадцать. Долина реки сильно расширилась. С обеих сторон на ее склонах появились ясно выраженные террасы, на которых росли чахлые лиственницы. Их нежная, опадающая на зиму хвоя начала золотиться. Необычайно чистый горный воздух был пропитан тонким ароматом хвои, который мешался с горьким запахом увядающей травы и свежестью водяных брызг от бегущего по камням потока. Комаров на открытой ветрам террасе не было, и Цареградский давно не чувствовал такой легкости в ногах и такой ясной радости в душе. Сняв рубашку, он бодро вышагивал своими длинными ногами, далеко опередив спутников.
Вот наконец перед ним показался низкий, прикрытый дерном галечниковый берег, где можно было взять пробу. Сняв с плеча ружье, он присел, поджидая промывальщика. Неглубокая закопушка потребовала немного времени, и через полчаса на лотке уже громоздилась шестнадцатикилограммовая груда породы.
Игнатьев присел на корточки и опустил лоток в сразу замутившуюся воду. Цареградский внимательно следил за промывкой. По каким-то неясным для него самого причинам он возлагал на эту долину большие надежды, ведь ущелье Оротукана находится по соседству с золотоносной долиной Среднекана и еще более богатыми россыпями Утиной...
Вот на лотке остался лишь темный железняковый шлих. Опытный глаз промывальщика первым заметил блеснувшие золотины.
— Есть! — негромко произнес Игнатьев, осторожно смывая с лотка лишнее.
Проба была небогатой, но позволяла надеяться на лучшее. На дне лотка лежало несколько золотинок величиной от маковой крупинки до рисового зернышка. Итак, в долине Оротукана есть золото. Теперь важно выяснить, не случайна ли эта находка.
До вечера они взяли три пробы, и все оказались с золотом. Общая картина становилась достаточно определенной. Видимо, Оротукан входит в пояс золотоносности, так же как и соседние с ним долины Среднекана и Утиной. Сейчас ничего сверх этого узнать уже нельзя, но впоследствии здесь, конечно, необходимо продолжить поиски и разведку. А теперь следует спешить назад. И назначенные сроки, и осень торопят с возвращением.
Перед тем как тронуться в обратный путь, Цареградский взобрался повыше на склон и набросал в своей планшетке схематический план видимой части Оротукана.
(Разве мог он знать, что не позднее чем через год ему суждено стать начальником 2-й Колымской экспедиции, продолжавшей начатые сейчас работы, и именно на Оротукане он выстроит первую большую и хорошо организованную базу? И что в его долине на богатых россыпях с очень крупным золотом вскоре вырастут приисковые поселки? Только на двух из приисков, Оротукане и Пятилетке, уже через десяток лет после этого ясного осеннего утра будут добывать золото многие тысячи людей...)
Изобразив и саму долину, и все видимые ее притоки, Цареградский тщательно загасил папироску и спустился к товарищам. Через несколько минут, побрякивая сбруей, лошади зашагали по мягкому ягелю. Поднявшееся солнце растопило ночной иней, и олений мох уже не хрустел под ногами, как утром.

23 августа почти вся Колымская экспедиция, исключая отряд Билибина, собралась в нижней части Среднекана у разведочного барака Раковского.
После яркого солнца, заливавшего долину, внутри барака казалось сумрачно, сыро и неуютно. Неровный тесаный пол был покрыт всяким мусором, оставшимся здесь еще от весенних сборов. Окна и двери затянуло паутиной, а лежавшее на нарах старое сено заплесневело и пахло гнилью.
Теперь, когда лето подошло к концу, а ночью на реке стало подмораживать берега, понадобилась стоявшая в бараке печка. В первый же вечер в ней ярко запылали дрова, и в отсыревшем помещении сразу стало веселее. Лето прошло исключительно удачно, и каждому из сидевших у камелька с папиросами в зубах было чем похвалиться. Экспедиция открыла несколько крупнейших россыпей, несомненно, государственного значения и установила, что пояс золотоносности охватывает громадную территорию в бассейнах Среднекана, Утиной и Оротукана. Таким образом, можно было смело утверждать, что эта часть Колымского края — один из величайших в мире золотоносных районов...
Тем временем Бертин был занят учетом золота. Все пробы золота, необходимые для дальнейшей обработки, взвешивались на точных весах, записывались в соответствующий реестр, упаковывались в небольшие коробки и укладывались в обитый железом, тщательно запиравшийся и опечатывавшийся ящик. Золото из чрезмерно больших проб, превышавших нужное для лабораторного изучения количество, отбиралось для сдачи по акту в контору «Союззолото», Оглобину. Это была очень кропотливая и ответственная работа, от которой было невозможно увильнуть, но которая не вызывала у Бертина ни малейшего удовольствия.
— Черт бы его побрал, это золото, — ворчал он, распрямляя нывшую спину. — Вот уж не думал, что оно когда-нибудь мне так надоест!
Цареградский не принимал участия в предотъездных хлопотах. У него еще оставался небольшой незаснятый участок в нижнем течении Среднекана, и, проведя сутки в бараке, он отправился с двумя помощниками в последний маршрут.
Необходимые доделки отняли всего лишь два дня. Небольшой правый приток Среднекана оказался не очень интересным в геологическом отношении и не дал ничего нового в смысле золотоносности. Пробы, которые одну за другой промывал Игнатьев, содержали редкие золотинки; их можно было считать всего лишь фоновой золотоносностью для этого района. Наконец и этот последний маршрут подошел к концу. Маленький отряд спустился в долину Среднекана, где пришлось заночевать. До базы оставался дневной переход.
Цареградский с удовольствием растянулся в палатке, раздумывая о том, что предстоящая ночь кладет конец полевым работам экспедиции и что теперь, перед сном, он может себе позволить помечтать о Ленинграде, о шумной толпе в Мариинском театре и о чистой белой
скатерти
, на которой расставлены не пол-литровые эмалированные кружки, а хрупкие прозрачные стаканы. Конечно, немножко обидно, что эти два дня не принесли с собой ничего захватывающего, но жаловаться на судьбу все же не приходится. Правда, он не столкнулся с такой сказочной фортуной, как Раковский на Утиной, но ведь это был чистый случай. К тому же то, что открыл он сам, в теоретическом отношении нисколько не менее важно, чем находка Раковского!
Ночью небо заволокло было тучами и даже покапал небольшой, смешанный со снежной крупой дождик. Но утром нависшие над долиной облака быстро рассеялись, и над рекой заиграли солнечные блики. Прихватив полотенце, Цареградский пробрался через росистые кусты побуревшего ольховника.
Холодный утренний воздух, чистые краски осенней природы и звонкость реки наполняли его бодростью. Напевая и дирижируя себе рукой с полотенцем, он ловко лавировал между кустами, не ведая, что с каждым шагом приближается к одному из самых удивительных приключений этого лета.
Над рекой полусклонилась старая лиственница, корни которой, частью подмытые паводком, повисли над еще влажным от росы галечным руслом. Река отошла от обрыва метра на четыре, и там, где еще недавно бежал летний поток, сейчас округлились крупные серые валуны с уцелевшими между ними лужицами. Как раз у дерева начиналась сухая промоина, по которой можно было сойти к воде.
Выбрав место поудобнее и аккуратно разложив на камешках футляры и полотенце, он разделся до пояса. Обжигающе холодная вода заставила его охнуть, но, сильно растерев грудь и руки, он вошел во вкус и долго фыркал и отдувался, шлепая себя полными пригоршнями воды, а затем так же долго обтирался жестким полотенцем, пока все тело не сделалось красным, как от горчичников.
Уже одеваясь и с трудом пролезая влажными руками в рукава рубахи, он поймал себя на мысли, что перед его глазами мелькнуло что-то странное. В самом деле! Повернувшись на пятке, сделав почти полный оборот, он увидел перед собой на мгновение... коробку из-под какао!
«Что за чушь?! Откуда здесь какао?!»
Однако, просунув голову в рубаху и взглянув в том направлении, где ему померещилась хорошо знакомая с детства коричневая банка, он увидел ее еще раз. Сомнений не было. Между несколькими большими валунами, как раз под свесившимися корнями лиственницы, из-под которых осыпался большой ком земли, застряла высокая фунтовая банка от какао. Даже не подходя к ней, можно было видеть хорошо сохранившуюся надпись: «Какао Эйнемъ».
Он присвистнул: «Вдобавок дореволюционное. Странно!»
Подпираемая со всех сторон валунами, банка почти вертикально стояла на гальке, обратив к нему свой фирменный ярлык. Лишь чистый случай, неожиданный угол зрения, скользящие понизу утренние лучи солнца и укоренившаяся привычка геолога все подмечать позволили ему зацепиться взглядом за эту неожиданную деталь пейзажа. Лишь подойдя вплотную, можно было заметить, что жестянка плотно закрыта крышкой, из-под которой в одном или двух местах уголками выглядывала грязно-серая дерюжка.
Все еще удивляясь, но отнюдь не ожидая чего-либо интересного, Цареградский с некоторой брезгливостью (а вдруг там дрянь какая-нибудь?) взял банку — и тут же понял, что у него в руках случай.
С внезапно заколотившимся сердцем он почти упал на близлежащий валун. Банка весила не меньше хорошего чугунного утюга, которым он когда-то разглаживал в общежитии свои студенческие брюки. В этом краю и в этих условиях только одно могло быть столь тяжелым — золото!

Несмотря на выглядывавшее рядно, крышка все-таки прочно приржавела к корпусу, и понадобилось некоторое усилие, чтобы ее отвернуть. Внутрь был плотно вбит полотнятый мешок неопределенного цвета. Лишь с трудом, похлопывая камнем то по бокам, то по дну банки, удалось вытащить мешок. Развязать же узел оказалось и вовсе невозможно. Очень сильно затянутый и к тому же отсыревший, он не поддавался ни пальцам, ни ногтям, ни даже лезвию перочинного ножа.
Тогда, недолго думая, Цареградский отрезал и узел, и тянущийся от него хвостик. Теперь можно было заглянуть в мешок, но что-то его удерживало. Какое-то чувство неловкости, которое появляется у человека, невольно ворвавшегося в чужую тайну, заставило его помедлить с минуту. Кроме того, он заранее знал, что именно увидит в разрезанном мешке!
Сверху был мелкий золотой песок, среди которого виднелись более крупные золотины и выглядывали края нескольких больших самородков. Покопавшись длинными пальцами в плотной массе песка, он вытащил самый крупный из них. Самородок был похож на небольшую уродливую картофелину. Золото было почти сплошь прикрыто темно-железистой рубашкой, и лишь на выпуклостях выглядывали сверкающие островки чистого металла. Вместо глазков на этой золотой картофелине шершавились маленькие гнездышки кристаллического молочно-белого кварца. Общий вес самородка был не очень велик — вряд ли больше ста или полутораста граммов. «Наверное, много кварцевой примеси», — подумал Цареградский и сунул золотую картофелину обратно.
Прикинув на руке весь мешок, он понял, что найденный клад с лихвой перекрывает всю их летнюю добычу, включая и бешеные сборы Раковского на Утиной. Итак, слепая игра случая превратила его утреннюю прогулку по берегу реки в одно из прибыльнейших достижений Колымской экспедиции!
С большим трудом затолкав увесистый мешок обратно в коробку, он сел на камень и задумался. Что же делать дальше? Первое естественное движение — бежать в палатку и кричать: «Ребята, смотрите, что я нашел!» — было тут же отброшено. Вспомнились соблазны, с которыми пришлось столкнуться на Утиной Раковскому. Вокруг сплошь золотоискатели. Весь смысл жизни для них в золоте, и весть о такой невероятно богатой находке может вызвать всеобщий переполох и совсем неожиданные последствия. «Тем более, — думал он, — что эта банка вполне могла принадлежать какому-нибудь из здешних старателей. Или даже целой артели, наткнувшейся на необычайно концентрированную струю золота и решившей скрыть свою добычу от государственной золотоскупки».
Поразмыслив, он встал, завернул банку в полотенце и, вернувшись в палатку, распорядился сворачивать лагерь. Через час они уже поднимались вверх по долине и вскоре увидели крышу барака разведочной партии Раковского. Теперь все, кроме Билибина и Казанли, были в сборе.
— Ну вот, — говорил оживленный Бертин. — Вот и окончены наши работы. Теперь можно по домам. Эх, и соскучился я по городу, ребята! Как зальюсь в хорошую баню, так и не вылезу, пока не надоест! А потом в кино!
— Сергей Дмитриевич, Эрнест, давайте отойдем в сторонку, — обратился к прорабам Цареградский. — У меня есть к вам секретное дело.
Устроившись на бережку и убедившись, что поблизости никого нет, он рассказал о своей утренней находке и развернул полотенце с коричневой банкой. Взяв ее в руки и повернув к себе надписью: «Эйнемъ», Раковский присвистнул.
— Черт возьми! Здесь не меньше трех килограммов, а то и поболе, — прошептал он.
— Что ты говоришь! — Бертин выхватил у него банку. — Ах, боже мой, вот так находка! Но откуда же может быть это золото? Чья могла быть банка?
— Золото, конечно, среднеканское, — не задумываясь, промолвил Сергей Дмитриевич. — А вот кто был его хозяином, сказать трудно. Вы как думаете, Валентин Александрович?
— Увидев банку дореволюционной фирмы, я сразу подумал, что она была спрятана под лиственницей давно и что золото было намыто задолго до нашего прихода. Кто прятал, конечно, неизвестно. Может быть, сам Бориска или кто-нибудь из его ближайшего окружения...
Тут уместно сказать несколько слов о колымских старателях. Во время империалистической войны в далекие колымские края сбежал из армии некий татарин Сафи Шафигуллин, по прозвищу Бориска. Его и следует считать первым в списке первооткрывателей Золотой Колымы. Этот неграмотный, спасавшийся от ужасов войны и преследования властей горемыка впервые обнаружил здесь крупинки драгоценного металла.
Сперва Бориска искал золото один. Затем он подобрал себе артель таких же голяков, как и он сам, но через несколько лет все-таки отошел от товарищей и вновь стал промышлять в одиночку. Как одержимый, он бродил от долины к долине, пробивая неглубокие шурфы в мерзлом грунте, и промывал, промывал, промывал. Увы, бедняга не знал законов образования золотых россыпей и потому в большинстве случаев мыл не там, где надо, и не так, как надо. В его лотке, по-видимому, чаще всего оказывались пустой речной песок и галька, так как тяжелое золото всегда садится у основания наносов. Чаще всего Бориске не удавалось пробить мощную толщу пустых наносов, и он довольствовался редкими крупинками драгоценного металла, застрявшими на пути к коренному ложу реки.
Бориску нашли зимой 1917/18 года мертвым на краю недорытого шурфа. Он сидел, прислонившись к куче выброшенной породы, и, казалось, дремал. Никаких признаков насилия не было. Старатель, безусловно, умер своей смертью и внезапно. Одно обстоятельство осталось, впрочем, так и не объясненным. Весь шурф был оплетен суровыми нитками из большой шпульки. Цепляясь за ветки кустов и деревьев, серые нитки тянулись от палатки к шурфу, много раз обвивая как шурф, так и мертвого Бориску. Как и все лишенное видимого смысла, это тонкое нитяное оплетение казалось зловещим и исполненным какого-то тайного значения.
В ветхой палаточке под подушкой у покойного нашли небольшой кожаный мешочек с горсточкой мелкого золотого песка.
Чтобы завершить это короткое отступление, следует сказать, что в истории Бориски судьба не упустила случая зло посмеяться.
Тело злосчастного золотоискателя было опущено якутами в выкопанный им шурф и засыпано грунтом из отвала. Двадцать с небольшим лет спустя на этом самом месте вырос громадный прииск Борискин. Однажды приисковый экскаватор подцепил, к ужасу рабочих, в вечно мерзком грунте полностью сохранившийся труп бородатого человека в изорванной одежде старого покроя. Это оказался всё тот же неприкаянный Бориска. Шурф, который он копал перед своей окутанной тайной смертью, находился как раз на краю богатейшей россыпи. Если бы незадачливый первооткрыватель колымского золота углубился в речные наносы еще на два метра, в его руках засверкали бы самородки чистейшего металла величиной от пшеничного зерна до грецкого ореха...
— Но ведь несколько приятелей покойного Бориски работают сейчас у Оглобина. А вдруг кто-нибудь из них... — нерешительно сказал Бертин.
— Не думаю, Эрнест, — прервал его Раковский. — Золото, вероятно, было спрятано много лет назад. Если бы хозяин был здесь, вероятно, давно бы полюбопытствовал, на месте ли банка, и перепрятал ее поближе к своему жилью и в более надежное место.
— Следовало бы, пожалуй, позвать Оглобина и поговорить с ним, — сказал Цареградский. — Он лучше знает свой народ, и с его помощью легче решить, похищено ли золото с его выработок или это давно зарытый клад, хозяина которого, может быть, уже нет в живых.
— Впрочем, это не так важно: золото уже у нас и так или иначе вернется через того же Оглобина государству, — улыбнулся Раковский.
— Не говорите! — возразил Цареградский. — Если хозяева банки находятся тут и узнают о находке, могут произойти большие неприятности.
Через некоторое время к бараку Раковского подошел пыхтящий Оглобин. Взяв банку, он посерел от волнения, и нижняя челюсть его отвисла.
— Что за дьявольщина, что за дьявольщина! — бормотал он, снимая крышку. — Нет, это не мое золото, — заявил он через минуту, перебирая в горсти золотой песок и самородки. Он шумно вздохнул и отер пот со лба. В его глазах засветилось облегчение. — Здесь золото из разных россыпей. Оно разной окатанности и различной пробности. Его долго собирали и, спрятав, не вернулись. Почему не вернулись, черт их знает. Может, померли, а может, выжидают время. Во всяком случае, это не мои работяги и не мои разработки, — закончил он решительно. — Ну что же, когда сдавать будете? — обратился он к геологам.
На следующий день на Среднекан возвратились Билибин и Казанли. Они положили много сил на разведку и оконтуривание россыпи на Утиной. Месторождение оказалось очень многообещающим, и Юрий Александрович находился в том радостно сдерживаемом возбуждении, которое бывает у сильных духом и телом людей, чувствующих, что они достигли трудного, но давно предвиденного победного рубежа. Известие о полной банке с золотом, найденной его помощником, оказалось для него новым источником радости. Он не только не приревновал своего друга к этой новой удаче, как бы сделал мелкий человек с завистливой душой, но, наоборот, бурно восхищался и, шумно хлопая Цареградского по спине, кричал:
— Ай да молодец, Цар, ну и молодчик, Валентин!
Не очень любивший фамильярность молодой геолог смущенно улыбался и молча отводил плечо.
Все процедуры, связанные с сортировкой и взвешиванием найденного золота, составлением нужных протоколов и актов, заняли у Бертина почти целый рабочий день. В конце концов требуемые документы были подписаны Билибиным, Цареградский и Оглобиным, и несколько килограммов золота, история которого так и осталась неизвестной, перешли в собственность государства.
Е. Устиев
(обратно)
Странные боги Меланезии
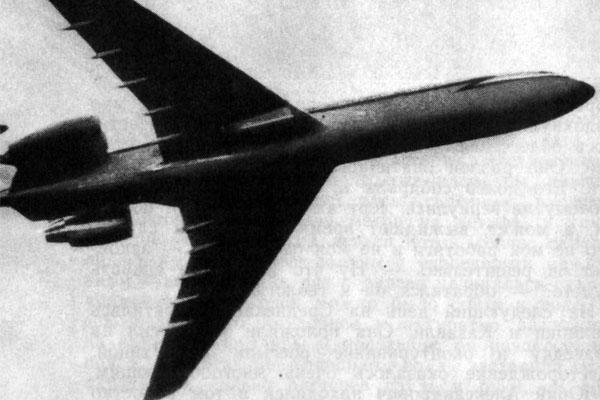 То, о чем я хочу рассказать, я увидел и услышал в Меланезии — на островах в южной части Тихого океана, населенных темнокожими людьми с курчавыми волосами — папуасами и меланезийцами. Я работал врачом на острове Бугенвиль, лечил островитян и часто предпринимал с санитарными отрядами экспедиции в отдаленные от побережья, а следовательно, и от влияния европейцев деревни. Здесь, в самом, кажется, отсталом уголке земли, сохранились ритуалы и обычаи, которые в других местах существовали тысячи лет назад. Это само по себе интересно. Но дело не только в этом. В культах Меланезии, как в зеркале, отразился тот процесс, который происходит при встрече несхожих культур.
В каждом самолете — бог
То, о чем я хочу рассказать, я увидел и услышал в Меланезии — на островах в южной части Тихого океана, населенных темнокожими людьми с курчавыми волосами — папуасами и меланезийцами. Я работал врачом на острове Бугенвиль, лечил островитян и часто предпринимал с санитарными отрядами экспедиции в отдаленные от побережья, а следовательно, и от влияния европейцев деревни. Здесь, в самом, кажется, отсталом уголке земли, сохранились ритуалы и обычаи, которые в других местах существовали тысячи лет назад. Это само по себе интересно. Но дело не только в этом. В культах Меланезии, как в зеркале, отразился тот процесс, который происходит при встрече несхожих культур.
В каждом самолете — бог
Однажды вечером, в воскресенье, мы сидели с Соуи, моим помощником папуасом, на веранде и пили чай. Легкий ветерок приносил к нам запах моря и аромат цветов, а кроме того, разгонял москитов и комаров. В окнах миссионерского дома в Азитави, на другом берегу Вакунайской бухты, горел слабый свет. Это означало, что там собрались на вечернюю службу жители горных селений.
Вдруг послышался отдаленный грохот, и мы увидели на фоне розового заката реактивный самолет, то и дело ныряющий в клубящиеся громады облаков.
— Локим! Балус и-кам уп на го пинис! — воскликнул Соуи. — Локим! Локим! (Смотри! Вон самолет! Он появляется и снова исчезает. Смотри! Смотри!)
В ответ я заметил, что это, вероятно, австралийский военный самолет, возвращающийся на базу на острова Адмиралтейства.
Таких самолетов — с реактивным двигателем, оставляющим за собой длинный пушистый хвост, — Соуи еще не видел. Он не мог больше думать ни о чем, кроме как об этом новом самолете. Он задавал мне бесконечное количество вопросов, но, слушая ответы, даже не пытался понять мои объяснения. Он лихорадочно думал. Думал вслух. Он лишь делал вид, что пытается вникнуть в мои слова. Для него, как и для многих других папуасов и меланезийцев, вся цивилизация белых состояла из необъяснимых загадок.
Конечно, условия жизни в этом районе земли постепенно меняются. И это неизбежно, ибо в действие здесь вступает то, что мы называем законами истории. Эти же законы определили наше собственное развитие — наше и наших предков. Однако Соуи и его соотечественники — в отличие от наших предков — слишком часто подвергались неожиданным и потому оглушающим ударам истории. Первая мировая война. Вторая мировая война.
Нетрудно представить себе смятение племени сиваев, живущих в южной части острова Бугенвиль, когда в 1942 году 150 тысяч японских солдат оккупировали город Буин на южном побережье острова. Все море, до самого острова Велла-Лавелла, буквально кишело военными кораблями. А попробуйте представить себе изумление бугенвильцев, наблюдавших в 1944 году за высадкой на небольшом отрезке западного побережья между городами Торокина и Мотупена-Пойнт союзников! Причем солдат было больше, чем жителей на всем острове.
Когда японские войска высаживались на побережье Бугенвиля, местные жители в панике оставляли родные деревни и уходили в горы. В последние месяцы 1942 года, весь 1943 и весь 1944 годы шли ожесточенные бои за Бугенвиль и Буку, Новую Гвинею и Новую Британию. На месте деревень и цветущих плантаций оставалась сожженная земля...
Все эти события не только нанесли удар по мировоззрению островитян, но и совершенно удивительным образом повлияли на их религиозные представления и материальную культуру.
Я не раз обещал Соуи рассказать ему о вещах, которые составляют основу нашей цивилизации и определяют наши знания, наше богатство, наше благородство и нашу подлость.
Мы сидели на веранде и беседовали, глядя на звезды, рассыпанные по небосводу, чернеющему над морем. В мокрой траве квакали лягушки, а вдали мерно шумел прибой.
Мы говорили о кораблях и самолетах, о пишущих машинках, кинокамерах и биноклях и природе этих вещей. Я объяснял Соуи, зачем белому человеку нужна копра, рассказывал ему о том долгом пути, который проходит металл, прежде чем попадает к потребителю: рудник (место, где добывают камень определенного вида) — металлургический завод — готовое изделие — полка в универсальном магазине. А потом я рассказывал Соуи о войне, бомбах и снарядах.
Нельзя винить одну только войну в том, что культурное развитие этих людей пошло совершенно не в том направлении, в каком следовало бы. Однако после второй мировой войны эти изменения приняли настолько резкий характер, что оказали чрезвычайно глубокое воздействие на все мироощущение островитян.
В те далекие годы, когда звуковое кино в нашем мире еще делало свои самые первые шаги, местные пророки на Соломоновых островах уже начали предсказывать, что скоро вернутся домой их предки — на кораблях, нагруженных драгоценными дарами. Обитатели некоторых островов построили на побережье тайники для будущих даров и стали ждать. Но даров все не было. Тогда пророки и шаманы заявили, что предки не вернутся до тех пор, пока в селеньях есть пища.

И вот, вместо того чтобы собирать урожай на своих крошечных участках земли, островитяне сжигали его. Они преспокойно смотрели на то, как солнце высушивало и рвало на куски рыбачьи сети, а скот вымирал от голода.
Но предки все не возвращались.
И тогда всю Меланезию до самой Новой Гвинеи охватило форменное безумие. Оно как заразная болезнь распространялось из деревни в деревню, от племени к племени. Островитяне вдруг решили, что самолеты, которые тогда же впервые появились над островами, — это не мертвые предметы, а живые существа, такие же, как, скажем, лесные птицы. Откуда они прилетают? Может быть, это гигантские птицы, которых присылают сюда с того света с драгоценными дарами их предки? Может быть, это белые запрещают гигантским птицам садиться на землю, а островитянам пользоваться дарами предков?
Примерно так рассуждали новообращенные жители Новой Гвинеи на миссионерской станции, расположенной в долине реки Ваилала на побережье Папуа. Пытаясь приспособить свой быт и обычаи к догмам, проповедуемым христианской церковью, они создали свое собственное вероучение, основанное на христианском пророчестве о грядущем воскресении из мертвых. Все умершие когда-нибудь воскреснут, но только не на земле, а на небесах. И при этом обретут белую кожу. Следующим выводом было, что все белые — это воскресшие папуасы, которые вернулись на землю. (В то, что существуют большие страны, населенные белыми, меланезийцы отказывались верить.)
Это вероучение называют «ваилалским безумием». Его последователи не имели ни малейшего представления о природе всех тех вещей, которые были рождены техническим прогрессом и теперь принадлежали людям с белой кожей. Им было ясно только одно: предметы, принадлежащие белым, не могли быть созданы рукой человека — ни этих предметов, ни материалов, из которых они сделаны, нет в природе. И тогда возникает вопрос: какая волшебная сила их создала?
Между прочим, островитяне заметили, что не все удивительные и непонятные предметы прибывают сюда вместе с белыми людьми. Многие предметы
приходят сюда уже после прибытия белых людей, на других самолетах и на других судах. Отсюда следует, что их присылают на остров духи.
Тогда почему все это богатство попадает только к белым? Очевидно, белым известны магические обряды, с помощью которых им удается расположить к себе какого-то неведомого бога. И на первых порах создавалось впечатление, будто белые собираются раскрыть коренным обитателям острова эту великую тайну, ибо они открыто говорили об этом своем боге и даже выражали убеждение, что островитяне живут совсем не так, как требует он.
В 1913 году на острове Саибаи в Торресовом проливе внезапно возникло мистическое «безумие», которое получило название «культ маркаи». Один местный пророк предсказал, что все его последователи увидят, как духи умерших возвращаются на родной остров пассажирами большого корабля. Эти духи привезут с собой множество всевозможных вещей и изгонят белых, поселившихся на Саибаи. Те, кто не верит пророку, потеряют все свое достояние. Обещанных богатств, естественно, никто так и не получил, и со временем это мистическое учение было забыто.
Если мы перелистаем еще несколько страниц многотомной истории местных религиозных течений и культов, то найдем упоминание о так называемом «культе супра». Он возник в 1914 году на Новой Гвинее и вскоре получил распространение на соседних островах. «Культ супра» в основных своих чертах напоминал «культ маркаи» и был связан с определенными мистическими ритуалами, после выполнения которых верующие ожидали прибытия из-за океана кораблей с богатыми дарами.
Со временем все более широкие слои местного населения поддавались этому мистическому безумию. В основном это были люди, слушавшие проповеди миссионеров;
Наконец, местные власти отметили появление так называемого «культа карго». «Карго» — по-английски «груз». «Культ карго» стало общим названием для религиозных течений, в основе которых лежало ожидание кораблей, груженных дарами предков. А когда было организовано воздушное сообщение, последователи нового культа стали смотреть на прибывающие самолеты с тем же вожделением, с каким они смотрели на корабли.
Все религиозные течения, составляющие «культ карго», можно разделить на две большие группы, между которыми провела границу вторая мировая война. «Культ маркаи» и «культ супра» — первые, хотя и довольно примитивные, попытки хоть как-то объяснить загадки цивилизации белых. Что же касается мистических течений, возникших после войны, то они являются качественно новой модификацией «безумств». В них уже довольно отчетливо присутствует, так сказать, материалистическое начало. Представители этих новых течений не только пытаются понять незнакомые им явления, но и выдвигают свои требования.
Многие меланезийцы пришли к выводу, что богатые, а нередко и расточительные союзные солдаты были их предками, вернувшимися на острова, чтобы освободить своих детей и внуков. (То, что среди американцев было много негров, лишь утверждало островитян в их убеждениях.) Когда война окончилась и войска были отправлены в метрополию, островитяне решили, что солдаты скоро вернутся с богатыми дарами и возместят то, что было уничтожено войной.
В годы войны коренные жители островов непосредственно познакомились с жизненным укладом и обычаями белых людей. Они, например, заметили, что белые совершают огромное количество совершенно немотивированных и, пожалуй, даже бессмысленных действий. Например, приветствуют флаги — обыкновенные куски пестрой материи, прикрепленные к шестам. Или устанавливают высокие столбы и соединяют их проволокой с маленькими ящиками, потом садятся возле этих ящиков и слушают их. Иногда они одевают мужчин в одинаковую одежду и заставляют их бесцельно ходить в ногу взад и вперед. Более нелепое занятие даже трудно себе представить!
Но через некоторое время наиболее проницательным островитянам показалось, что они нашли объяснение этим на первый взгляд бессмысленным действиям. Они пришли к выводу, что это весьма сложный мистический ритуал, благодаря которому белые завоевали себе благосклонность богов и получили столько богатств, то есть карго.
По сравнению с плантаторами, миссионерами, торговцами и чиновниками местной администрации солдаты были настоящими богачами и, несомненно, в совершенстве владели искусством волшебства. У них были не только корабли, груженные товарами, но и самолеты. Значит, именно через них боги посылали на землю дары. И какие дары!..
Сначала островитяне изумлялись, глядя на консервы, автомобили и холодильники, но очень скоро они стали для них привычными предметами. Когда после окончания войны солдаты — эти новоявленные волшебники — покидали Меланезию, они подарили островитянам множество вещей, что было лишним доказательством их великого богатства и могущества.
В 1959 году многие жители Новой Британии оставили свои горные селения и отправились на побережье к морю, чтобы дождаться прихода подводной лодки, которая отвезет их за море к товарным складам, принадлежащим их предкам. В годы войны они видели, как белые эвакуируются на подводных лодках, и это произвело на них сильное впечатление. Куда еще может плыть подводная лодка, исчезнув в морской пучине, как не в потусторонний мир, где всего в изобилии?

Совсем недавно жители одного небольшого селения на острове Бука собрали множество куриных яиц, в которых, как они полагали, находились белые солдаты. В случае опасности островитяне собирались использовать эти яйца в качестве своеобразного «резерва главного командования». Стоит только разбить яйца, утверждали они, как оттуда выскочат белые солдаты и защитят их от врагов.
На острове Бугенвиль ходило немало слухов о возвращении подводных лодок. Неподалеку от Киета, в 40 километрах к югу от Вакунаи, жители одной деревни даже договорились о том, каких здешних белых они убьют в первую очередь, когда солдаты высадятся на берег. Здешние белые, считали меланезийцы, не дают им пользоваться благами карго. В основном среди приговоренных к смерти оказались миссионеры, за исключением тех, кто лечил больных. Между прочим, со своими собственными, местными проповедниками они тоже собирались расправиться столь же решительно.
Достаточно было маленькой искры, чтобы вспыхнуло возмущение против белых. Но поскольку никакие солдаты на остров так и не прибыли, волнение среди местных жителей постепенно улеглось. До кровавых столкновений дело не дошло.
В один прекрасный день, когда я бродил в горах неподалеку от Вакунаи, мне попался один из символов «культа карго».
Это был черный крест под крышей из пальмовых листьев. Он был окружен шестами: одни шесты низкие, другие высотой в человеческий рост. Возле самого креста на паре столбиков укреплена калитка. Калитку можно было открыть и войти... но здесь не было ни стен, ни забора, и вела она из ниоткуда в никуда.
На платформе рядом с крестом стояло нечто вроде самолетного трапа. Этот трап, сбитый из обтесанных топором дощечек, был около полуметра в длину. Заботливая рука прибила к нему пропеллер и колеса. У подножия креста лежала куча жареного сладкого картофеля. Возле этой весьма условной модели самолета висели на шестах заржавленные японские каски, полные цветов.
Патетика была достаточно наивной, но мне она показалась зловещей. Вернувшись в деревню, я никому не сказал о находке. Оставался я в тех местах не дольше, чем это было абсолютно необходимо. Малейший намек на то, что мне довелось увидеть, мог иметь для меня самые печальные последствия.
Верования, вызванные к жизни вторжением белых на острова, появились не на пустом месте. Почву для их возникновения подготовили местные культы с их пришедшими невесть откуда «чудотворцами», сложной системой запретов и ограничений. Многое в поступках и ритуалах меланезийцев, поклоняющихся тому или иному местному божеству, абсолютно непонятно непосвященному. Да что говорить — сами адепты этих культов, как правило, не могут объяснить свои действия и даже не пытаются сделать это. Изучение местных культов в какой-то мере может помочь нам постигнуть, почему с такой легкостью возникают «безумия», подобные «карго» или «маркаи». Мне, например, помог в этом разобраться «упей» — культ непосвященных в деревне Тсубиаи в горах северного Бугенвиля.
«Упей» — культ непосвященных
Жители деревни Тсубиаи самозабвенно танцевали и веселились.
Казалось, что синеватый свет лунной ночи озаряет землю с самого начала мироздания, все такой же ровный, тихий и загадочный.
На узкой и длинной площадке между хижинами собралась вся деревня. Лица у всех были исчерчены известью, а волосы украшены цветами и листьями. Некоторые держали в руках горящие факелы из бамбука. Танцующие окружили небольшую группу подростков, стоявших в самом центре этого огромного хоровода. На голове у каждого из подростков была большая кувшинообразная шляпа — я видел иу и раньше, — а лица были раскрашены желтыми и белыми точками. Женщины в этом танце участия не принимали.
Мальчики, которые носили эти странные шляпы, еще не прошли посвящения в мужчины. И как непосвященные, до достижения совершеннолетия они считались служителями культа «упей». Именно для них, олицетворявших этот культ, пели и танцевали настоящие мужчины.
«Упей» — это культ, который наложил весьма своеобразный отпечаток на жителей северного Бугенвиля.
Мальчик по имени Экирави начал ходить в первый класс при административном центре в Вакунаи. Родители не знали точно, сколько ему лет, и в регистрационной книге записали, что Экирави десять. Я много раз видел этого шустрого мальчугана в Вакунаи и теперь был, понятно, удивлен, встретив его в Тсубиаи. Он тоже узнал меня и улыбнулся, я же похлопал его по плечу, как старого приятеля.
Экирави сильно изменился с тех пор, как я видел его в последний раз. Теперь на нем была ритуальная шляпа, свидетельствующая о его принадлежности к культу «упей». Я спросил, почему он бросил ходить в школу и зачем надел эту шляпу. Экирави помолчал немного, потом сунул руки под мышки, где у него уже начинали расти волосы, и, прошептав «упе-е-ей», быстро отбежал к остальным ребятам.
Когда у мальчиков начинают расти волосы под мышками, их принимают в число служителей культа «упей». С этого момента они обязаны носить высокую ритуальную шляпу. Посвящение в мужчины происходит лет в пятнадцать-шестнадцать, а до тех пор подростки обязаны носить длинные волосы, заплетенные в косы, которые они запихивают в тулью шляпы. Шляпы забавно раскачиваются у них на голове при каждом резком движении, но сидят достаточно плотно, и еще не было случая, чтобы такая шляпа свалилась. Их изготовляют из длинных и узких листьев саговой пальмы. Одни шляпы желтовато-белые и по форме напоминают луковицу, другие раскрашены в полоску и имеют прямую цилиндрическую форму.
Теперь школой Экирави была сама жизнь, та самая школа, которую посещали все дети Тсубиаи. Здесь они получали практические знания, и никто не заставлял их сидеть целыми днями в закрытом помещении и заучивать буквы и цифры.
Экирави общался только со своими сверстниками. Они жили все вместе в специальном доме на самом краю деревни, и ни одна женщина не имела права появляться там. Иногда Экирави и его товарищи ходили с мужчинами на охоту, вечерами же мужчины, устроившись перед домом «упей», рассказывали о жизни предков.
В глазах у Экирави всегда горело любопытство, к которому, однако, примешивалось нечто похожее на высокомерие. Возможно, он думал о том, что когда-нибудь станет необыкновенно сильным и умным, и его никто никогда не сможет победить, что перед ним откроются все тайны земли.
Однажды вечером мы сидели у костра перед дохлом «упей» и слушали, как жители Тсубиаи беседуют о всякой всячине. Они передавали друг другу табак и раскуривали трубки, а на углях подрумянивались плоды таро и кукурузные початки. Здесь же сидел Экирави со своими товарищами. Мы болтали, жевали и слушали рассказы о культе «упей».
— Странный вы, белые, народ! — сказал кто-то из мужчин мне. — Вы очень умные, все знаете и все умеете, но о том, что мы называем «упей», не имеете никакого представления.
Последовало молчание. Было видно, что мужчина размышлял над тем, как доходчивее объяснить мне суть мировоззрения его народа. Подумав немного, он продолжал:
— В прежние времена «упей» был законом нашего народа. Этот закон держал в послушании нашу молодежь, наших детей. А сегодня мы сами стали как дети. Разучились бороться, разучились отстаивать свои законы и обычаи. Теперь у мальчиков стал слишком длинный язык, и они почти безнаказанно нарушают законы «упей»...
Может, это и так, но тем не менее многочисленные правила, регулирующие поведение каждого члена «упей», отличаются строгостью. До тех пор, пока юноша носит ритуальную шляпу, он не имеет права встречаться с девушками. Этот запрет теряет .силу после того, как он навсегда снимет свою шляпу и либо зароет ее, либо сожжет в каком-нибудь укромном месте в лесу.
Однако ритуальная шляпа — это не только символ «упей». Ее делают такой большой для того, чтобы она могла вместить всю силу, созревающую в молодом человеке.
Мне объяснили, что самое страшное несчастье может постичь ту женщину, которая заглянет в шляпу «упей», или подойдет слишком близко к дому «упей», или войдет в него, или, наконец, увидит подростка без шляпы «упей». Раньше, если происходило что-либо подобное, женщину немедленно убивали; теперь ограничиваются тем, что предают проклятью. Случается, что несчастная умирает просто от страха перед грядущими бедами. Еще лет двадцать назад подростка, нарушившего законы «упей», обрекали на смерть и съедали. Но теперь времена изменились, и «малолетнему преступнику» просто устраивают хорошую порку.
Дом «упей» стоял на столбах. Он был построен из бамбука и листьев саговой пальмы. Стены без окон, дверь очень прочная, сделана из коры; на ней нарисована солнечно-желтая человеческая фигурка, похожая на Петрушку. Я пришел туда на другое утро, но дверь была заперта.
— Можно нам войти туда? — Мы задали этот вопрос нескольким старейшим жителям Тсубиаи и получили положительный ответ.
Один из старцев, по имени Томоиси, поднялся, перешел улицу и медленно направился к дому «упей». Мы пошли за ним, следом двинулись остальные старцы. Один из них отодвинул тяжелые засовы, а его товарищи бормотали в это время не то заклинания, не то молитвы.
Мы очутились в большой комнате, единственной в доме. Сквозь щели в бамбуковой стене струился слабый свет. Когда двери закрылись, нас со всех сторон сдавила тьма.
Скоро на стенах вспыхнули отблески огня, запрыгали тени на лицах людей. Из темноты возникла целая гора аккуратно сложенных спальных циновок, сплетенных из лыка. Между тем огонь в очаге, сложенном посередине комнаты, разгорался все ярче и ярче, озаряя багровым светом лежащего на полу деревянного крокодила с жадными глазами. Под самой крышей высветились копья, луки со стрелами и ритуальные изображения змей.
Все эти предметы, украшенные красным, желтым, черным и зеленым орнаментом, создавали вечерами подростки многих поколений. Вечерами потому, что духи в это время просыпались и кружились вокруг них в облике насекомых и других животных.
Под черным потолком, где тьму не разгоняет даже пламя очага, висела деревянная птица и смотрела на нас, словно из зияющей бездны, круглыми, бесконечно загадочными глазами. То был таисия — сокол, ставший символом всего клана; в Тсубиаи все население принадлежало к клану Таисия.
Я попросил разрешения сфотографировать эту необыкновенную птицу и обратился к одному из старцев. Тот, взвесив все «за» и «против», дал мне такое разрешение.
Мне уже было известно, что подобные символические изображения художники создают в глубокой тайне, и ни одна женщина не имеет права даже взглянуть на них. Поэтому я не удивился, когда старцы, увидев, что перед домом «упей» стоят несколько женщин, велели им удалиться.
Экирави вышел следом за нами с деревянной птицей в руках. Я сделал несколько снимков и вдруг заметил, что из кустов за нами украдкой наблюдает какая-то женщина. Старцы тоже заметили ее.
Последующие события приняли неожиданный и весьма печальный оборот: Томоиси с друзьями засунули птицу-символ в мешок из древесной коры и направились к опушке леса за деревней. Дойдя до леса, они положили мешок на землю и завалили его сучьями. Я понял, что птица, оскверненная взглядом женщины, будет сожжена. Вскоре к нам подошли еще несколько мужчин и с удрученным видом уселись на землю.
Врожденное чувство такта и неизменная деликатность не позволяли этим людям прогнать или хотя бы упрекнуть меня за постигшее их несчастье. Но на лицах их была написана глубокая скорбь. Наконец один из мужчин подошел с факелом к костру и зажег его. Мужчины горестно смотрели на языки пламени, охватившие птицу; время от времени до меня доносились вздохи, полные затаенной печали.
Я пытался что-то сказать, но мне никто не ответил...
Мы расстались с деревней Тсубиаи и направились дальше в горы. Жители здешних деревень оказались много молчаливее. Вулкан Балби был уже совсем недалеко от этих мест, он рычал, не замолкая ни на минуту, грозно и зловеще. В этих далеких селениях люди долго обдумывают каждое слово, прежде чем высказать его вслух.
Но именно здесь нам удалось почерпнуть новые сведения относительно культа «упей».
В деревне Оваваипа мы услышали легенду о том, как он возник. Как ни странно, идея культа как религиозной организации, объединяющей только мужчин, была заимствована много-много лет назад от женщины из племени кунуа, которое живет по другую сторону Императорских гор.
Итак, как гласит предание, в том племени жила одна старая женщина. Она была большая, полная, добрая и сильная. Ее звали Асираи.
Эта женщина обладала магической силой, которую ока употребляла на радость и на пользу людям, и все любили ее. Однажды, когда она пришла в деревню, на голове у нее была надета высокая кувшинообразная шляпа. Эту шляпу она называла «упей-пура» (что означает «упей», никто не знает, «пура» же — это шляпа). Так вот, Асираи сказала, что устраивает большой пир в своем доме, и все, кто хочет пить, есть и танцевать, могут прийти к ней в гости. Мало того, она пригласила на пир все деревни, расположенные по эту и по ту сторону большой горы Балби.
Многие полагали, что Асираи не человек, а добрый дух в человеческом образе, ибо простые люди никогда не устраивали столь роскошных пиршеств с танцами.
...Катастрофа произошла в самый полдень. В разгар праздника, когда все гости были уже порядком опьянены, раздался страшный грохот — это взорвалась гора Балби. Из нее вырвалось огромное облако огня и дыма. Все деревни, расположенные в непосредственной близости от Балби, сгорели дотла. Земля дрожала, а языки пламени падали на людей прямо с неба. Погибли все, кто не пошел в гости к Асираи и остался дома.
Таким образом, Асираи спасла жизнь сотен людей. Ее стали боготворить, и многие племена начали устраивать празднества, подобные тому, какое устроила она. Празднества эти с танцами и жертвоприношениями люди называли в ее честь «упей-пура».
Но Асираи не была бессмертна; когда ее час пробил, она, подобно всем остальным людям, навеки ушла из жизни. Какой-то древний старик украсил голову усопшей цветами. Другой повесил ей на шею ожерелье из дорогих раковин. Третий выкрасил ей лицо охрой, после чего мертвую Асираи посадили на землю, прислонив спиной к стволу дерева. Со всех сторон ее тело обложили бамбуковыми палками, сухой травой и подожгли. Все присутствующие плакали и посыпали себя пеплом.
После погребения Асираи людей снова охватило беспокойство. Однажды старая Асираи спасла их от неминуемой гибели, но кто спасет их сегодня?
И тогда мужчины задумались. Разве они не сильнее женщин? Разве не они с оружием в руках защищали свои семьи и всю деревню? Разве не их отцы, деды и братья погибали под ударами дубин и от стрел, пущенных врагом? И разве не благодаря им, ныне живущим мужчинам, все племя может чувствовать себя в относительной безопасности? А раз так, то и «упей-пура», подобно всем другим торжествам, будет праздником мужчин.
Тогда-то мужчины и взяли на себя организацию праздников в честь Асираи; они дарили ее духу еду и приносили ему жертвоприношения. Со временем женщинам вообще было запрещено присутствовать на этих празднествах, слово «пура» совсем перестали употреблять, а сам праздник получил короткое, хотя и непонятное, название «упей». Содержание праздника с тех пор изменилось, высокая кувшинообразная шляпа, которую носила Асираи, стала своеобразным символом, а сам ритуал превратился в религиозно-нравственное наставление для молодежи, призывающее неукоснительно выполнять строгие и малопонятные предписания до тех пор, пока не наступит совершеннолетие.
«Ну а как же вулкан Балби? — может спросить читатель. — Правда ли, что там произошло извержение, как об этом повествует легенда?»
Да, это правда. В недрах Балби действительно произошел взрыв колоссальной силы. Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на кратер вулкана. Вокруг него до сих пор громоздятся каменные глыбы, которые когда-то были вершиной Балби. Но вот когда произошло извержение? Этого никто не знает...
Финн Риделан, датский путешественник
Перевел с датского К. Телятников
(обратно)
Карьера Грегори Литла, океанографа с «Наутилуса»

Грегори на цыпочках прокрался в смежную комнату и опустился в кресло. Чтобы не разбудить уютно свернувшуюся на неразобранной кровати Джойс, он не стал зажигать света. В темноте нащупал на столике бутылку с виски и сделал большой глоток. Стало легче, хотя смутное беспокойство не отпускало его. Если бы он знал, что на него свалится это неожиданное задание, ни за что бы не стал вызывать Джойс. Стоило ли ей лететь из Штатов в Пирей, чтобы томиться одной в номере? Правда, ребята из «элинт» (1 «Элинт» — отдел электронной разведки в штабе 6-го флота США в Неаполе.) уверяли, что операция на сей раз несложная и совсем не опасная. Только жену в этом убедить оказалось невозможно. После «Либерти» (2 Во время израильской агрессии в июне 1967 года американское шпионское судно «Либерти» было по ошибке атаковано израильскими торпедными катерами и авиацией. В результате его экипаж потерял 34 человека убитыми и 75 ранеными.) она вечно всего боялась да твердила про Аллана. Ну кто мог подумать, что израильтянам вздумается атаковать «Либерти»? Бедняге Аллану не повезло. А ведь на его месте мог быть и он, Грегори, если бы тогда, после Кипра, он не пробился на курсы электронщиков-океанографов.
«Только для президента»
(«Только для президента» — высший гриф секретности, принятый в США.)
Еще в школе Грегори Литл отдавал предпочтение математике и физике, университет он окончил в первом десятке. Довольно плотный, белобрысый, с наметившимися залысинами, Грегори среди студентов, щеголявших в джинсах и ярких спортивных куртках, выделялся строгими темно-серыми костюмами. Он словно бы уже наметил свой будущий облик солидного ученого...
Грегори приблизительно догадывался, чем вызвано срочное приглашение декана факультета профессора Клейтона. Тот уже не раз заводил окольный разговор о том, что собирается делать Литл после окончания учебы.
Но вот несколько дней назад все встало на свои места, когда профессор Клейтон вручил своему любимцу небольшую брошюрку, посоветовав на досуге внимательно изучить ее.
Тоненькая книжонка и впрямь оказалась любопытной. «Организованное в 1952 году Агентство национальной безопасности выполняет высокоспециализированные технические и координационные функции, относящиеся к национальной безопасности», — прочел он на первой странице. И чуть ниже: «Роль агентства заключается в сборе, обработке, сопоставлении и истолковании... сведений, которые должен иметь в своем распоряжении президент Соединенных Штатов» (1 Цитируется по подлиннику.).
Грегори перевернул страницу: «...На службе президента...» Еще на следующей: «...Несет ответственность перед президентом...» Дальше опять: «...Поиски сведений, необходимых президенту...» В конце брошюры был помещен снимок седовласого джентльмена, выскакивающего из роскошного лимузина с портфелем в руках перед Белым домом. Брошюра впечатляла.
Осторожно постучав и услышав: «Входите», Литл открыл дверь кабинета профессора Клейтона.
— Грегори, с вами хочет побеседовать один джентльмен, — поднялся из-за стола декан. — Не робейте, коллега, — ободряюще улыбнулся он. Дверь за деканом бесшумно закрылась.
Почти весь день из кабинета не уходило слепящее солнце, поэтому шторы были задернуты, и свет, пробиваясь сквозь них, наполнял комнату желтовато-бурым туманом. Только теперь Литл разглядел, что за потрескавшимся полированным столом в кольце стульев, что стоял у дальней стены, почти невидимый на фоне темных панелей сидел человек.
— Хеллоу, Грегори! — это было сказано так сердечно, с таким радушием, что усомниться в искренности было просто невозможно. — Меня зовут Майкл.
— Рад вас видеть, сэр, — ответил Литл. Конечно, можно было бы сказать и просто «привет!», но Грегори счел более подходящим сдержанно-уважительное «сэр». В этом было и чувство собственного достоинства, и признание дистанции, исключающей какую-либо фамильярность, и учтивый, но твердый намек на то, что все формы обращения имеют равное право на существование. Мистер Майкл явно не остался глух к этим нюансам. Он чуть нахмурился, но потом предпочел сделать вид, что ничего не заметил, и хозяйским жестом пригласил Литла выбрать место за столом. Затем сел и сам. Сплетя пальцы на затылке, Майкл, как показалось Грегори, целую вечность изучающе рассматривал его. Наконец Майкл прервал затянувшееся молчание.
— Вы, видно, решили, что я собираюсь завербовать вас в шпионы. — Появившаяся при этом добродушная улыбка больше уже не сходила с его лица в продолжение всей беседы. Точнее, это была не беседа, ибо Грегори лишь изредка приходилось вставлять одну-две фразы в словно записанный на магнитофон монолог мистера Майкла. — Ошибаетесь. Нам нужны не шпионы, а ученые-специалисты. Люди, имеющие степень по электронике и прикладной физике, языкам и организации производства, математике и истории, аэронавтике и экономике. Даже лесовод может найти у нас замечательную работу. Нам нужны люди проницательные, эрудированные, способные правильно оценивать других, любознательные...
Смущенный Грегори никогда не предполагал у себя наличия стольких выдающихся качеств.
— Вы поездите по свету, станете очевидцем волнующих событий, а не будете чахнуть в духоте лабораторий. Неплохая альтернатива, не так ли? — с пафосом закончил монолог м-р Майкл. Потом буднично и сухо добавил: — Конечно, сначала мы кое-чему вас немного подучим.
Перед расставанием он попросил мистера Литла сохранить все, что он слышал, в секрете.
Грегори не находил, что он пошел против совести, встретившись с человеком из Агентства национальной безопасности. Ведь АНБ — это не ЦРУ. Да потом, в сущности, он не сказал ничего определенного. Так, общая беседа, в которой его даже ни о чем не расспрашивали, а тем более не требовали каких-либо подписей или обещаний.
Поэтому письмо в простом конверте без всяких штампов, полученное накануне последнего экзамена, повергло Литла, начавшего уже забывать о разговоре с общительным Майклом, в изумление. В нем «уважаемому мистеру Г. Литлу» в достаточно категоричной форме предлагалось прибыть такого-то числа в Форт-Холабэрд, штат Мэриленд.
Так Грегори Литл, стопроцентный янки, улыбающийся, почитающий сильных мира сего и ни в чем не сомневающийся, умеющий рассчитать логику БЭСМ и программу для нее, стал одним из 40 тысяч сотрудников Агентства национальной безопасности, самого засекреченного разведывательного учреждения Соединенных Штатов. Впрочем, прежде чем он получил доступ в штаб-квартиру АНБ — трехэтажное здание в Форт-Миде с наглухо закрытыми окнами и самыми длинными коридорами в мире, окруженное тройным рядом колючей проволоки, — прошло целых полгода.
Мрачноватое здание из серого камня и кирпича в Форт-Холабэрде, куда согласно предписанию явился Литл, ничем не выделялось среди местных шедевров казарменной архитектуры. Находись оно в ином месте, его с равным основанием можно было бы принять и за провинциальный колледж, и за спортивный загородный клуб, и за школу ордена иезуитов. Лишь уродливый сфинкс — символ молчания, — одиноко торчавший в вестибюле, говорил сам за себя. Его попросили подождать — как вспоминал он потом, это были последние спокойные минуты в его жизни. На протяжении следующих месяцев для размышлений просто не оставалось времени. Общая физическая подготовка, обучение приемам рукопашного боя, прыжки с парашютом, методы визуального наблюдения и скрытого фотографирования, проникновение на «объект» и вскрытие хитроумных замков, установка подслушивающих устройств — все это были совершенно незнакомые для Грегори предметы, не имевшие ничего общего с математикой или электроникой, а тем более с тем образом ученого-исследователя, который так соблазнительно рисовал мистер Майкл.
Основной курс — его читал один из ближайших помощников самого Юджина Фубини (1 Юджин Фубини, итальянец по происхождению, в 1963 году был назначен директором АНБ. До эмиграции в США в 1939 году был в Италии членом фашистской организации. Во время войны служил научным наблюдателем и техническим консультантом армии и ВМС США в Европе. Позднее на посту директора АНБ Фубини сменил генерал Маршалл Картер, в течение шести лет до этого работавший в госдепартаменте, а затем заместителем директора ЦРУ при Даллесе и Маккоуне.) (эта тайна просочилась к слушателям неведомыми путями, ибо официально новый преподаватель представился просто как мистер Фрэн) — начался довольно неожиданно.
— Должен вам сказать, — невысокий худощавый мужчина с жидкими пепельно-серыми волосами остановился посреди аудитории и обвел притихших молодых людей насмешливым взглядом, — что время, когда американский президент мог позволить себе заявить, что джентльмены не читают чужих писем, давно миновало. Агентство национальной безопасности именно для того и существует, чтобы проникать в чужие секреты, неважно, скрыты они в абракадабре шифрованных сообщений или электромагнитных импульсах радаров. Для нас представляют интерес любые виды коммуникаций: телефонные, телеграфные, радио, причем не только на государственном уровне. Запомните еще и то, что эпоха Мата Хари и Джеймса Бонда кончилась. Сегодня одна удачно расположенная антенна или один спутник дают куда больший эффект, чем сто лучших шпионов.
На траверзе Латакии
Стив Даймонд, капитан научно-исследовательского океанографического судна «Наутилус» («Длина — 106 футов, водоизмещение — 196 тонн, приписан к 6-му флоту США», — значилось в секретных архивах АНБ), был не только настоящим морским волком, как это принято писать в книгах, но, что более существенно, имел звание кэптена (1 Кэптен — офицерское звание в американском флоте, соответствующее капитану 2-го ранга.) ВМС США. Впрочем, и остальные шестеро членов команды «Наутилуса», за исключением Грегори Литла и Алекса Брикленда, также не были новичками в море и ходили в унтер-офицерских чинах. Все семеро поглядывали свысока на «океанографов» Алекса Брикленда и Литла, хотя Грегори носил звание лейтенанта-коммандера (2 Лейтенант-коммандер — офицерское звание, соответствующее капитан-лейтенанту.) и считался помощником Даймонда, а Алекс был лейтенантом, Литл не без основания считал, что тон тут задал сам капитан «Наутилуса». Во всяком случае, когда после второй бутылки шотландского виски он попытался расспрашивать Даймонда о его морской карьере, то услышал в ответ, что «он, Стив, ходил с морскими конвоями в Северной Атлантике, когда он, Грегори, не мог сам сходить на горшок». Однако в работу Литла и Брикленда капитан никогда не вмешивался.
Когда рано утром Литл поднялся на борт «Наутилуса», стоявшего, как и полагается невинному научному суденышку, в торговой гавани Пирея, обычно непроницаемое медно-красное лицо Даймонда буквально полыхало нетерпением. «Ребята из «элинт» клялись и божились, что не знают деталей операции, говорили только, что она абсолютно безопасна и руководить ею будет некий коммандер
(Коммандер — офицерское звание в американском флоте, соответствующее капитану 3-го ранга.)
по фамилии Джентри. Но похоже, что Даймонд вчера что-то разузнал в оперативном отделе», — подумал Грегори. И не ошибся. Новость, добытая капитаном, была просто сногсшибательной: шеф предстоящей операции Уэйн Джентри был... офицером израильского АМАН (2 АМАН, или «Шерут модиин», — военное разведывательное управление Израиля.).
— Но ведь он же носит фамилию Джентри? — слабо попытался возразить Литл.
— Он такой же Джентри, как я Иезекииль, Натан или дщерь Иевфаева! — Даймонд даже не считал нужным скрывать своего раздражения. Еще бы, ему, кэптену, предстояло быть мальчиком на побегушках у какого-то израильтянина, да еще, наверное, младшего по званию.
Наиболее характерной чертой коммандера Джентри, не считая румяного, моложавого лица и грубоватых манер, оказалась его мания конспирации. Прежде всего все члены команды «Наутилуса» были осмотрены взором строгого экзаменатора, коммандер не сказал ни слова о предстоящей операции, пока судно не вышло за пределы пирейской гавани.
— Все, что вы услышите, джентльмены, — он понизил голос почти до шепота, хотя в рубке были, лишь Даймонд да Литл, — совершенно секретно.
Во время недавнего налета на крупнейший сирийский порт Латакию зенитным огнем был сбит израильский «мираж», снабженный новым секретным электронным оборудованием для «ослепления» радаров. В принципе на таких машинах должен устанавливаться механизм подрыва, который действует автоматически, если пилот катапультируется.
— Однако данный «мираж» не имел подрывного устройства, поскольку это была опытная машина, — закончил Джентри.
— Ясно. С опытными образцами ничего не должно случиться, пока они не запущены в серию, — заметил Литл, поглощенный разглядыванием таблетки алказельцера, с шипением растворявшейся в стакане воды. Ему действительно все было ясно: АНБ разработало новейшую противорадарную аппаратуру и передало ее для опробования в боевых условиях израильтянам. Понятно, что теперь в Форт-Миде готовы на все, лишь бы «мираж», начиненный секретами, не попал в руки арабов. Поэтому-то «Наутилус» и откомандировали в помощь нашим милым друзьям из Тель-Авива. Нет, Грегори не был антисемитом; но Аллан, погибший на «Либерти» по милости этих «друзей», словно стоял перед глазами, хотя прошло уже почти пять лет.
— У вас есть координаты места падения самолета в море, коммандер? — капитан Даймонд позволил себе выдать владевшее им раздражение лишь тем, что сделал ударение на мнимом звании представителя АМАН.
— В день вылета была низкая облачность, волнение баллов семь-восемь, так что...
— В двенадцатимильной зоне
(Двенадцатимильная зона — ширина территориальных вод, находящихся под суверенитетом данного государства.)
или за ее пределами?
— Кажется, за.
— А вам не кажется, что это дохлое дело? — на этот раз Даймонд не стал сдерживаться. — Одно дело работать в открытом море, другое — в территориальных водах. Малейшая оплошность — и команде «Наутилуса» гарантировано длительное содержание за казенный счет...
Рассвет еще только занимался, когда на следующий день судно вышло на траверз Латакии. Как и накануне, в рубке опять маячила фигура Джентри.
— Начнем с четырнадцатимильной зоны непосредственно у территориальных вод, — предложил Литл. — Как рельеф дна, Алекс?
— Судя по промерам эхолотом, отличный. Постепенное понижение от 400 до 900 футов.
— «Мираж» взорвался в воздухе, коммандер? — Грегори повернулся к представителю АМАН.
Джентри пожал плечами.
— Точных данных нет, но какое это имеет значение?
— Если самолет взрывается в воздухе, то сонар даст массу мелких точек. Вроде перца на бифштексе. Та же самая картина будет, если он вертикально врезается в воду. По силе удара это все равно, что поставить на его пути солидную стену. Другое дело, когда он входит в воду по пологой траектории да еще на относительно небольшой скорости.
Через час капитан Даймонд вызвал в рубку Алекса Брикленда, которому предстояло следить за точным местонахождением судна. Дело в принципе было не такое уж сложное — по значениям пеленгов на постоянные станции наведения 6-го флота, выдаваемым судовым локатором, вычислять и прокладывать на карте курс судна.
Вслед за Бриклендом в «собачью конуру» — крошечную кабинку на корме — отправился и Литл. Самая ответственная работа предстояла ему. С помощью «рыбки» — буксируемого под водой за судном сонара, шестифутовой сигары, непрерывно посылавшей по обе стороны от себя звуковые импульсы, — отыскать под толщей воды остатки «миража». Отражаясь от дна и различных предметов, импульсы рисовали звуковую картину на валике самописца в виде непрерывной диаграммы из тоненьких параллельных линий. Мастерство оператора сонара заключалось в том, чтобы по величине, частоте и чередованию этих линий определить, какие объекты встречают звуковые импульсы.
Во избежание неприятных случайностей Литл предпочел спустить сонар, пока «Наутилус» находился еще достаточно далеко от зоны поиска. Резким жестом он подал команду стоявшему на лебедке Гарри Максуини, который исполнял на «Наутилусе» обязанности боцмана.
— Глубина девять, — раздался в наушниках голос Даймонда, который с помощью эхолота определял глубину непосредственно под килем. Точное знание глубины теоретически позволяло оператору успеть поднять буксируемый за судном сонар, если встречалось препятствие. — Зона!
— Зона! — продублировал Литл, нажимая на красную кнопку. — Отметка! — на валике самописца появилась жирная черта с цифрой один.
Потянулись нудные часы поиска, когда «Наутилус», словно челнок, бороздил море параллельными галсами. Некоторое разнообразие могло внести лишь сообщение о том, что судно вошло в территориальные воды, где в любой момент можно нарваться на сторожевые катера арабов. В этом случае нужно было или попытаться удрать, если для этого оставалась хоть малейшая возможность, или отбиваться до последнего, а потом затопить судно. Задержание, хотя «Наутилус» и именовался научно-исследовательским океанографическим судном, неминуемо повлекло бы за собой международный скандал, как это уже было с «Луэбло»
(Американское шпионское судно «Пуэбло» было задержано 23 января 1968 года кораблями ВМС КНА в территориальных водах Корейской Народно-Демократической Республики. По признанию командира Бьючера, в рамках операции «Пинкрут» «Пуэбло» была поручена электронная разведка радарной сети и военных объектов на побережье КНДР, причем оно было замаскировано под океанографическое исследовательское судно.)
: аппаратура, которой был начинен «Наутилус», говорила сама за себя. Правда, пока все обходилось хорошо, но Литл не без злорадства представил себе положение «коммандера Джентри», если их действительно прижмут. «Впрочем, и нам придется несладко», — тут же подумал он.
В 12.00 в дверцу «собачьей конуры» просунулась голова Джентри.
— Что-нибудь обнаружили, Литл?
— Пока было четырнадцать контактов.
— Тише, тише, что вы кричите! — коммандер опасливо выглянул наружу.
— Послушайте, коммандер, бросьте эту глупую игру в прятки. Неужели вы всерьез думаете, что на судне хоть один человек еще не понял, что мы что-то ищем? — не выдержал Грегори.
— Хорошо, хорошо, — Джентри явно не хотел идти на обострение. — Вы уверены, что ни один из контактов не был... э... объектом?
— Уверен? Конечно, нет. Пока я их идентифицировал как естественные образования. Но если вы хотите перепроверить...
— К сожалению, я в этом ничего не понимаю, — смущенно признался представитель АМАН.
— Зато для меня это — специальность...
В 17.40, когда лейтенант-коммандер Грегори Литл зарегистрировал 37 контактов и выпил десяток чашек кофе, «Наутилус» находился примерно в миле от границы территориальных вод. Первые точки появились на пределе дальности сонарного луча по правому борту. Точки выглядели чертовски подходящими.
— Отметка! Какая глубина?
— Четыре восемь шесть. Есть что-нибудь? — голос капитана был совершенно спокоен.
— Кажется, мы дома.
Еще точки, и наконец четкий контакт, который не мог быть ничем иным, кроме самого фюзеляжа «миража».
Фюзеляж со всей секретной аппаратурой, конечно, сплющенный в гармошку, но целиком в одном месте! Литл устало сдернул наушники и выключил сонар. Все, их миссия выполнена. Завтра он увидит Джойс.
Грегори отправился в рубку. Капитан Даймонд и Джентри, оба красные и злые, словно два петуха, замерли друг против друга.
— Черт побери, это не наше дело вылавливать ваши консервные банки! — рычал Даймонд.
— Вы отказываетесь выполнять приказ? — шипел представитель АМАН. — Операцией командую я. Может быть, вы просто трусите?
Последний аргумент для кэптена Стива Даймонда был ударом в солнечное сплетение.
— Кто? Я? — не дожидаясь ответа, он выглянул из рубки. — Максуини!
— Да, сэр, — в дверях рубки выросла кряжистая фигура боцмана.
— Готовьте скафандр и баллоны,
Литл решил, что настало время вмешаться.
— Простите, сэр, но глубина на отметке четыреста восемьдесят шесть футов...
— Ничего, пойдет на смеси гелия с кислородом.
— Но у нас ее с собой нет, — упорствовал Грегори.
Капитан Даймонд в ярости повернулся к боцману, готовый наброситься на него с кулаками.
— Приказа брать дополнительное снаряжение не было, сэр, — поспешно выпалил тот, глядя на Джентри.
Коммандер Джентри со своей манией конспирации забыл о том, что «Наутилус» — вспомогательное судно электронной разведки, на котором обычно нет глубоководного водолазного снаряжения.
— Ладно, можете быть свободным, Гарри, — буркнув, отпустил боцмана Даймонд.
Литл в душе торжествовал: этому надутому индюку из АМАН не удалось разлучить его с Джойс еще суток на пять. Завтра они махнут в Афины и...
— Капитан Даймонд, — прервал радостные мысли Литла Джентри, — прошу вас срочно передать в оперативный отдел штаба флота эту шифровку. Я решил вызвать наш корабль с необходимым снаряжением. Рандеву проведем ночью в море.
Литл почувствовал, что во рту у него вдруг пересохло. Значит, их все-таки
втянут в авантюру. Добром она не кончится. Это было даже не предчувствие — просто Грегори никогда не забывал об Аллане...
Решение капитана Даймонда
Все годы, что Литл знал Аллана, — и на курсах в Форт-Холабэрде, и во время годичной стажировки в агентстве, где они постигали тайны применения электроники в криптоаналитических разработках, и позднее, в центре перехвата в Каравасе, — тот оставался неисправимым романтиком. Собственно, именно он уговорил Грегори поехать на Кипр, когда после стажировки им предложили на выбор — остаться в Форт-Миде или отправиться за границу, в Бадабер (1 Бадабер — крупная американская база электронной разведки, с 1959 по 1969 год располагавшаяся на пакистанской территории неподалеку от перевала Хайбер Пасс, в Пешаваре. Численность персонала этой шпионской базы составляла около тысячи человек.) или Каравас. Аллан тогда все уши прожужжал об этом «райском острове», «колыбели культуры, где когда-то родилась богиня любви Афродита».
Правда, жизнь в Каравасе, центре перехватов в 23 милях от Никозии, оказалась отнюдь не романтической. Изматывающие круглосуточные дежурства, осточертевшая секретность и обстановка общей подозрительности, тон которой задал сам начальник центра полковник Кларк, да унылые попойки в коттеджах, расположенных за забором из колючей проволоки, вдоль которого несла неусыпную охрану морская пехота, — все это мало походило на «непосредственное участие в волнующих событиях». Аллан скис на второй месяц. Через год по его инициативе они добились откомандирования из центра.
Эсминец «Хайфа» опоздал на рандеву на целых два часа. За это время Джентри пришлось выслушать от Даймонда немало ехидных реплик о порядках, существующих в израильском флоте. Из предосторожности «Наутилус» до полудня крейсировал неподалеку от побережья милях в сорока к северу от Латакии и лишь потом направился к тому месту, где был обнаружен «мираж». По расчетам Литла, им оставалось еще минут пятнадцать ходу, когда внизу раздался сигнал тревоги. Он тут же выскочил на палубу.
— Все-таки вчера мы наследили, — коротко заметил Даймонд, не отрываясь от бинокля. — Там торчит какое-то судно.
Когда «Наутилус» приблизился к квадрату поиска, Грегори разглядел изрядно обшарпанный траулер под арабским флагом. Сомнений быть не могло: его появление здесь, конечно же, было не случайным; очевидно, длительное крейсирование «Наутилуса» накануне не прошло незамеченным.
— Боцман, запросите их, не нужна ли помощь,— капитан Даймонд решил выступить в роли доброго самаритянина.
Ответ был весьма красноречив: «Не подходите близко. Работают водолазы».
— Черт побери, они же могут в любой момент нащупать «мираж», — на побледневшем лице коммандера Джентри легко читалась растерянность.
Литл усмехнулся. «Ну вот и докомандовался, — подумал он. — Остается один выход — убраться подобру-поздорову восвояси. Что теперь толку от снаряжения, доставленного «Хайфой»? Подводные сражения бывают только в фильмах о Джеймсе Бонде...»
— Как далеко они от «миража»? — с тревогой спросил Джентри.
Капитан Даймонд взял микрофон и нажал кнопку:
— Брикленд, координаты.
— Двадцать восемь сорок четыре.
«Значит, арабы всего футах в ста от фюзеляжа»,— сообразил Литл, глядя, как Даймонд ставит на карте точку почти рядом со вчерашней отметкой. «Наутилус» описывал широкую дугу вокруг траулера. Литл и без бинокля отчетливо видел два шланга, уходящих с палубы в воду: вдвоем водолазы могли быстрее осмотреть район.
— Я вызову авиацию, и если они заупрямятся...
— Вы забываете, что мы в международных водах, коммандер, — холодно прервал его Даймонд.
— Делайте что хотите, капитан, но поймите, что мы не можем им позволить захватить аппаратуру,— в словах представителя АМАН прозвучали просительные нотки. — В конце концов, за выполнение задания мы будем отвечать оба...
Даймонд сосредоточенно морщил лоб. Потом вызвал Максуини. У Литла упало сердце. Было бы абсурдом надеяться на то, что удастся подорвать лежавший на дне фюзеляж. И даже если бы каким-нибудь чудом затея удалась, оставались еще арабские водолазы, которым они не могли приказать покинуть опасную зону...
— Можно зашить заряд в прорезиненный брезент, сэр, — с готовностью предложил боцман.
— Вы забываете о давлении, Максуини, — быстро возразил Литл. — Ведь здесь же почти пятьсот футов глубины.
Боцман на секунду задумался.
— Тогда набьем его в воздушный шланг. Он выдержит и побольше.
— Взрыватель придется поставить и контактный и электрический.
— Так точно, сэр.
— Только побыстрее, Гарри. У нас мало времени. К счастью, дно ровное как блин. Ни камней, ни скал, случайный взрыв исключается, — Даймонд теперь обращался к Джентри.
— Ничего не выйдет, — не выдержал Литл.
— Я понимаю, что шансов немного, но попробовать стоит.
— Да нет, сэр, я имел в виду водолазов.
— При чем здесь водолазы?
— Если взрыв произойдет в ста футах, даже в скафандрах от них останется желе, начиненное перемолотыми костями.
Капитан Даймонд усмехнулся:
— Вы можете предложить другой вариант, Литл? Нет? Не забывайте, что их никто не звал сюда. Вот пусть и пеняют сами на себя.
— Сэр, — Литл был бледен, — нужно хотя бы предупредить арабов. Ведь иначе люди погибнут.
— Бесполезно. Они все равно не успеют пройти декомпрессию. А ждать мы не можем. Того и гляди появятся сторожевики. Чем это грозит, сами понимаете. Ведите «рыбку» футах в двух над дном. Если точно выдержим курс, она наверняка зацепит фюзеляж.
— Все готово, сэр, — вытянулся в дверях рубки Максуини...
— До цели тысяча футов, — раздался в наушниках голос Даймонда.
Литл попытался забыть о водолазах, которые где-то рядом искали на дне «мираж». Он включил сонар и начал осторожно травить буксирный трос, пока «рыбка» не оказалась в пятидесяти футах от дна. Ладони были мокрыми от пота.
— Пятьсот футов.
«Великая вещь разделение труда. Наверное, вот так же пилот дает данные бомбардиру на В-52», — подумал Литл. На валике появилась сыпь мелких обломков самолета.
— Контакт прямо по курсу, — доложил Грегори в рубку,
— Есть контакт... Двести футов.
Литл мягко опустил сонар на нужную глубину. Вот и проклятый фюзеляж. Неужели они промахнутся? Черточки на ленте с каждой секундой росли, словно живые. Теперь Литл вел «рыбку» футах в трех от дна. «Только бы не наткнуться на какой-нибудь камень», — Грегори поймал себя на том, что захвачен происходящим. Лицо залила краска стыда.
— Сто футов.
«Меньше футбольного поля. Поздно», — Литл обманывал сам себя и знал это. Достаточно легкого движения кисти, и сонар прошел бы выше цели.
— Отметка, — Грегори едва заставил себя прохрипеть это короткое слово в микрофон.
Литлу казалось, что в ушах у него грохочут два дизеля. Секунда, вторая. Взрыва не было. «Значит, все-таки промахнулись», — облегченно подумал он. В тот же миг за кормой «Наутилуса» взлетел серебристый гейзер. Послышался неожиданно тихий звук взрыва, похожий на автомобильный выхлоп. «Как я мог забыть про буксирный трос?» — Грегори овладела какая-то отрешенная пустота. Машинально он взглянул на валик самописца. Бумажная лента была чистой, как первый снег.
— Поздравляю вас, капитан Даймонд. Это была ювелирная работа, — коммандер Джентри порывисто протянул руку. Польщенный капитан пожал ее.
— Все в порядке, друзья. Поднимайтесь сюда, виски за мной, — объявил он по внутренней связи Литлу и Брикленду.
Прежде чем идти в рубку, лейтенант Брикленд успел заглянуть на камбуз и прихватить тарелку отменных пончиков, которые так мастерски делал унтер-офицер 3-го класса Мартин Чикка. В своей «собачьей конуре», уткнувшись в потные ладони, истерически рыдал за маленьким штурманским столиком лейтенант-коммандер Литл. Ведь это же он, Грегори Литл, мягкий и интеллигентный человек, безумно любящий свою Джойс и никому не желающий зла, только что своими руками убил двух человек. Видит бог, он не хотел этого...
Вздымая пенистые буруны, научно-исследовательское океанографическое судно «Наутилус» быстро уходило в открытое море.
С. Милин
(обратно)
Римские путешествия

Покидая Рим, великий поэт Гай Валерий Катулл писал:
Фурий ласковый и Аврелий верный,
Вы друзья Катуллу, хотя бы к Инду
Я ушел, где море бросает волны
На берег гулкий Иль в страну Гиркан и Арабов пышных,
К Сакам и Парфянам, стрелкам из лука,
Иль туда, где Нил семиустный мутью
Хляби пятнает...
Он уезжал ненадолго и недалеко, в Вифинию, нынешнюю северо-западную Турцию, и друзья, с которыми он прощался, были в действительности ревнивыми соперниками, а прекрасные строфы, перебирающие имена народов и стран, — всего лишь пародией на официальную оду. До начала нашей эры оставалось пятьдесят пять лет.
Это было время, когда в Месопотамии впервые столкнулись Рим и Парфия, открыв целую эпоху дипломатической и военной борьбы на Востоке, в которую были втянуты армянские, сирийские, даже индийские цари. Время, когда Юлий Цезарь впервые форсировал Рейн и год спустя высадился с двумя легионами на побережье Британии. Словом, такое было время, когда сочинять оды генералам и сенаторам было выгодно, а пародировать их опасно. Кто знает, может быть, вовсе не по воле богов служебная поездка в Вифинию не принесла Катуллу ни почестей, ни богатства.
Гай Валерий Катулл писал о границах, за которыми кончалась власть Рима, и областях, которые лежали за гранью реальности:
Перейду ль Альп ледяные кручи.
Где поставил знак знаменитый Цезарь,
Галльский Рейн увижу иль дальних Бриттов
Страшное море...
Море дальних бриттов было страшно могучими приливами и отливами, которые то уносили римские суда в безбрежье, то разбивали их на скалах и отмелях, внезапно поднимавшихся из пучины.
Римляне называли это море Океаном, который был страшен еще и потому, что не имел предела. Впрочем, на этот счет существовали различные мнения. Было известно (хотя и не каждым принималось на веру), что в пяти днях плавания от Британии лежит архипелаг Огигия, а если плыть дальше, то через пять тысяч стадий найдешь большой материк, протянувшийся с севера на юг. Там живут люди, которые знают о нашей земле, на восточной стороне Океана, и приезжают иногда посмотреть на этот, как они говорят, «Старый Свет».

В русских переводах с латинского и древнего греческого языков это географическое (или историческое?) понятие передается как «старый мир» или «прежняя обитаемая земля». Какой вариант точнее — решать филологам. Но разве не замечательно, что знание о двух населенных мирах по сторонам Атлантики существовало в античном Риме — пусть на правах гипотезы!
Странно все же, что эти римляне, зная или догадываясь о материке за океаном, не спешили его «открывать». Они знали, что Земля шарообразна, но довольствовались понятием «круга земель» с центром в Риме — и это понятие легло потом в основу средневекового представления о «плоской земле». В предисловии к своей монументальной «Географии» Страбон писал, что «читатель этой книги не должен быть настолько простоватым и недалеким, чтобы ранее не видеть глобуса...». Он имел в виду модель земного шара, построенную Кратесом — царским библиотекарем из города Пергама. Но римские купцы и мореходы вряд ли читали Страбона, они пересекали «земной круг», не сверяясь с глобусом Кратеса. Что же вело их в морскую даль? Какая великая цель воодушевляла этих странников, которым были не страшны знойные пески Африки и глухие леса Европы?
...Лет через сто после Катулла римские пограничные гарнизоны по-прежнему стояли на левом берегу Рейна. За рекой жили племена полудиких германцев, воевать с которыми было очень трудно и не очень нужно. Римляне удовлетворились, разместив несколько племен на своей территории, что давало им повод именовать левобережные земли Верхней и Нижней Германией. Не тронутая античной цивилизацией пустыня простиралась от правого берега Рейна до Балтики и называлась общо и условно — Германией Свободной.
Римские пограничники охраняли переправы у Кёльна (Колония Агриппина), у Майнца (Могонтиак), у Бонна (Кастра Боннензиа). Солдаты целыми днями топали на плацу под хриплые окрики центурионов или отрабатывали технику рукопашного боя. Старшие офицеры скучали, охотились в окрестных лесах и воздавали жертвы Бахусу чаще и обильнее, чем это приличествовало патрициям. Ни один из этих офицеров не оставил записок о своей службе в краях столь отдаленных и удивительных, ни одному из них не показалось соблазнительным выехать за пределы своего укрепленного района, если того не требовал долг службы, и попутешествовать с целью самообразования. «Да и кто, — писал историк и проконсул Азии Публий Корнелий Тацит, — ...стал бы устремляться в Германию с ее неприютной землей и суровым небом, безрадостную для обитания и для взора, кроме тех, кому она родина».
И все же в Германию «устремлялись». Плиний рассказывает, что в середине I века нашей эры римский гражданин из сословия всадников совершил поездку к побережью Балтийского моря (по-видимому, в район от современного Гданьска до Клайпеды).
Выехав из Рима, он добрался до северного рубежа провинции Норик, проходившего по Дунаю, и оттуда, из крепости Виндобона (Вена), а может быть из соседнего Карнунта, отправился далее на север по реке, которую римляне называли Марч или Марус, а мы теперь называем Моравой. Путь вел к верховьям Одера и на Вислу; Имперских легионов здесь не видели, это был путь торговли, и если вспомнить главный и самый дорогой товар, доставляемый отсюда в Италию, этот купеческий маршрут следовало бы именовать Янтарным путем. За янтарем пробирался на север и наш всадник.

Он ехал впереди каравана с проводниками, нанятыми еще в Норике. Дорогу обступал лес, густой и, очевидно, непроходимый. Лес то поднимался к небу темной шелестящей стеной — и это означало гору, — то опускался в низину так глубоко, что видны были верхи деревьев. Оттуда тянуло болотной сыростью. Иногда лес редел, давая место десятку бревенчатых хижин под крутыми камышовыми кровлями. Возле домов стояли люди. Всаднику они казались похожими друг на друга, как братья-близнецы или животные одной породы. Потом он научился по некоторым признакам отличать одно племя от другого. Квады и марсигны, например, подбирали свои немытые кудри кверху и стягивали их узлом на макушке. Бойи отращивали усы и бороды, а волосы заплетали в две косы. Одеты они были все одинаково, в посконные рубахи, в длинные узкие штаны, в кожаные лапти. У некоторых на плечах красовались меховые плащи или дубленые шкуры. Он видел их оружие — каменные молоты, прикрученные ремнями к деревянным рукояткам, неуклюжие рогатины. Но проводник сказал, что для битвы у них найдутся мечи, бронзовые и железные.
За Одером, который назывался тогда Виадуа, встретили племя гариев. У них были черные щиты, а лица раскрашены сплошным черным узором. По словам Тацита, гарии — племя, свирепое от природы. Однако римский коммерсант благополучно и не без прибыли (в виде куньих и лисьих мехов) прошел через их территорию к Балтийскому поморью, где обитали готоны и эстии — ловцы янтаря.
Он подсчитывал приход и расход и не имел времени вести путевой дневник. Мы даже не знаем, как его звали. Известно только, что он был торговым агентом римлянина по имени Юлиан и ездил на север по его заданию. Экспедиция стоила затрат — в Риме янтарь оплачивали золотом, тогда как жители Свободной Германии охотно принимали медные ассы и, конечно, серебряные денарии, из которых они делали мониста для своих жен.
Между Рейном и Эстонией, между Дунаем и островом Готланд археологи собрали несколько тысяч римских монет; одних только монетных кладов обнаружено более четырехсот. Тот, кто их спрятал — какой-нибудь свеб, херуск или кимвр, — не был партнером италийского купца. Он не торговал, а просто обменивал одну хорошую вещь на другую. Раба — на медное блюдо. Горсть янтаря — на стеклянный дутый браслет. Медвежью шкуру — на блестящий серебряный кружок с профилем вождя римлян. Сестерции и денарии, закопанные в землю, навсегда исчезали из римского денежного оборота.
Наш всадник был далеко не единственным предпринимателем, устремившимся на пустынные берега Эльбы или Немана. Деловые люди — отставные солдаты и разбогатевшие вольноотпущенники, мелкие и крупные комиссионеры, основатели лесных факторий были хорошо известны в городках и поселках Свободной Германии. Погребения Северной и Северо-Восточной Европы дали бесчисленное количество римских вещей, которые хранятся теперь в витринах германских, австрийских, датских, польских музеев и безмолвно свидетельствуют об оживленной торговле, процветавшей в дремучих лесах, стоявших некогда на месте нынешних европейских столиц и промышленных городов.
Авантюристы-«коробейники» создавали здесь моду на римские безделушки, но быт и хозяйство лесных племен были независимы от римского импорта. Свободный и поэтому крайне опасный мир подступал к северным рубежам империи.

Когда-то говорили об Амстердаме, что он построен на селедочных костях. Об африкано-римском портовом городе Лептис Великий было бы справедливо сказать, что он стоял на верблюжьих скелетах. Круглый год подходили сюда караваны с зерном и оливковым маслом, ибо весь этот край представлял собою обширные пашни и плантации. Значение их для Рима было таково, что даже во времена Африканской войны Юлий Цезарь, высаживая десант в районе Лептиса, долго задерживал на кораблях конницу именно с целью не потравить посевы. Поля пшеницы и ячменя, виноградники по склонам холмов, длинные ряды оливковых деревьев, рощи смоковниц и финиковых пальм, пересеченные в разных направлениях водоотводными каналами, тянулись на восток вдоль многолюдных городов Береника, Птолемаида, Кирена, до самых устьев Нила и на запад, минуя Карфаген и Цезарею, вплоть до атлантического берега. На юге простиралась Сахара — тысячи километров раскаленной песчаной пыли, конусовидных скал и пересохших каньонов.
Пустыня была вовсе не такой пустынной, как могло показаться с плодородных полей и холмов провинции. Там были колодцы, надежно укрытые от летучего песка и чужого глаза. Если идти от одного колодца к другому на юг от Лептиса Великого, дней через двадцать-тридцать придешь в населенную страну, которую римляне называли Фазанией, главный ее город — Гарамой, а народ — гарамантами. Древние имена живут и ныне в названиях плоскогорья Феццан и оазиса Джерма.
В 1934 году итальянские археологи обнаружили возле Джермы мавзолей, сложенный из кубов тесаного камня, украшенный пилястрами с туго скрученными капителями ионического ордера и трехступенчатыми базами. Так далеко на юге римских построек до rex пор не находили. Кто был похоронен здесь? Какой-нибудь агроном, ирригатор-советник, присланный из Лептиса или Карфагена к царю гарамантов? А может быть, тут, в чужой земле, остался неизвестный пограничный офицер, этакий римский Максим Максимыч? В раскопе оказались две-три глиняные римские лампы, стеклянный кубок и туземные ритуальные ножи, выточенные из обсидиана! Итак, не римлянин...
Но военный легат Септимий Флакк прошел еще дальше, из страны гарамантов в так называемую «область эфиопов». И Юлий шатерн, не то солдат, не то купец, из Лептиса Великого «после четырехмесячного пути, во время которого он продвигался только в южном направлении, прибыл в эфиопскую землю Агисимба, где собираются носороги».
Рим не имел военных и политических интересов по ту сторону Сахары, а слоновую кость, черное дерево и черных рабов гараманты доставляли на север сами, не прибегая к услугам римских комиссионеров. И вот наш современник, английский ученый Дж. О. Томсон, предполагает, что Юлий Матери и Септимий Флакк были, вероятно, дипломатическими агентами, может быть, военными атташе при каком-нибудь местном правителе и пересекли Сахару с севера на юг затем, «чтобы утолить необычное для римлян любопытство в отношении неизвестных районов». Но сам же Томсон недоумевает: почему в таком случае географ Птолемей, рассказавший об этих путешественниках, описал их подвиги в нескольких строках и не поведал ничего нового о землях, которые они посетили? Птолемей счел нужным отметить лишь, факт перехода через великую пустыню, словно бы речь шла просто о затянувшейся прогулке в страну, «которая простирается очень далеко и называется Агисимба». Но четырехмесячный путь по Сахаре, да еще в строго определенном» направлении, мало похож на простую прогулку. Для отдыха и развлечения ездили на Лесбос или Самофракию, в обветшалые, но все еще великолепные города Египта, который и в те времена считался древним, — в «стовратные» Фивы, былую столицу фараонов, где торчали забытые гулкие храмы, окруженные десятком глиняных деревень, в Александрию, основанную еще в 331 году до нашей эры Александром Македонским, где хвастали не пирамидами и гробницами, но величайшей в мире Александрийской библиотекой и высочайшим беломраморным Фаросским маяком. Или в Антиохию, которая считалась административным и хозяйственным центром римских владений на Востоке.
Этот город уступал величиною и многолюдством только Риму и, пожалуй, египетской Александрии и соперничал с ними прямизною симметричных улиц, украшенных двойными и четверными колоннадами, обилием водоемов, разноверием храмов, богатством книгохранилищ и греко-персидской роскошью дворцов. Любой иностранец, поселившийся в Антиохии, становился полноправным ее гражданином, и не было в мире другого города с таким фантастическим смешением рас и языков.
Главным языком был греческий. О делах римского императора Цезаря Августа писал по-гречески историк Николай Дамаскин, житель сирийского города Дамаска. Он писал о том, как в Антиохию прибыли индийские посланники и остановились в городском предместье Дафна. Посланники везли грамоту, в которой на хорошем греческом языке было написано, что индийский царь Пор сочтет для себя честью назваться другом императора Августа и не только разрешит ему во всякое время проходить через свою страну, но обещает участие в любых предприятиях, которые послужат ко благу обоих государств. Говоря проще, царь Пор хотел торгового союза.
Еще везли подарки — больших змей, очень большую речную черепаху, куропатку величиною с орла и гермеса, безрукого от рождения карлика, называемого так потому, что походил на герму — четырехгранный столп, увенчанный головой. С посольством ехал мудрец Зарманохег, который давно уже намеревался взойти на костер и покинуть таким образом свою телесную оболочку, но, уступив просьбе царя Пора, согласился проделать эту церемонию в любом из крупных городов Римской империи, дабы западные дикари могли воочию убедиться в благородстве древних обычаев Индостана. Он действительно сжег себя в Афинах и удостоился гробницы с надписью: «Здесь лежит Зарманохег, индийский софист из Баргосы...»

И вот это слово, это название некой местности на Востоке, возвращает нас в самое средоточие рассказа о путешествиях римлян или, по крайней мере, подданных Рима, тех, кто независимо от своей национальной принадлежности пользовался всеми или некоторыми привилегиями римского гражданства. Потому что Баргоса есть не что иное, как Баригазы — крупнейший порт северо-запада Индии. Именно здесь римские капитаны— египтяне, сирийцы, греки — грузили на свои корабли рис и тростниковый сахар, бревна тикового и красного дерева, хлопчатобумажные ткани (знаменитый виссон, в котором щеголяли тогда лишь самые богатые европейцы!) и тюки хлопка-сырца, и китайский шелк, доставляемый сюда прямо из Китая купцами Бактрии и, может быть, Согда.
А километрах в пятистах к северу, в устье Инда, там, где море, по выражению поэта Катулла, «бросает волны на берег гулкий», находился другой центр международной морской торговли — Барбарикон. Там, как в Баригазах, портовые склады ломились от римских товаров — готовой одежды, амфор с выдержанным вином и прочей западной продукции, которую археологи находят теперь в развалинах древних городов поблизости от Душанбе и Кабула, Пешавара, Дели в виде обломков стеклянной и серебряной посуды, мраморных и бронзовых статуй, гипсовых медальонов и резных драгоценных камней с изображениями эллинских богов и героев.
Вся эта роскошь требовалась в огромном количестве и всюду от Инда до Амударьи, то есть на обширных пространствах Кушанской империи, которая и была в Баригазах и Барбариконе главным торговым партнером Рима между I и IV веками нашей эры. Требовались не только произведения римского художества, но и сами художники, римские скульпторы и архитекторы. Не потому, что не было своих, а потому, что строили кушаны много и пышно, денег на мастеров не жалели и вербовали их по всему свету.
На раскопках кушанской Каписы (севернее Кабула) археологи собрали коллекцию резной слоновой кости. Были там фигурки танцовщиц, сделанные, судя по стилю, в другом кушанском городе, Матхуре, в Северной Индии. И точно такая матхурская танцовщица найдена в Помпеях, в Средней Италии. Чье-то воспоминание о путешествии на Восток или просто дорогая безделка, за которую какой-нибудь помпейский любитель редкостей дал цену трех образованных рабов.
Посылая Цезарю Августу престарелого йога и куропатку непомерной величины, царь Пор, видимо, надеялся, что формальный торговый договор даст ему монополию на римско-индийскую торговлю. Несколько ранее, в 20 году нашей эры, другое посольство из Индии, от царя Пандиона, прибыло в резиденцию Августа на остров Самос. Они везли слонов, черных евнухов и жемчуг. Император принял дары, но он был занят ближневосточной политикой, он был занят решением «армянского вопроса», потом «боспорского вопроса», а тем временем летние муссоны гнали сотни купеческих кораблей от восточных берегов Африки к западному побережью Индии, где ожидали их старые индийские гавани и новые греко-римские порты Сирастра, Дунга, Палепатма и Византии, Херсонес, Брамагара и Музирис. Их было много, этих торговых городов с восточно-западными именами, они вытягивались цепью с севера на юг, от устья Инда и вдоль берега, который римляне называли Лимирик, и до мыса Коморин. Реальность каждого звена этой цепи подтверждают монетные клады—золотые и серебряные денарии, медная мелочь, чеканенные в первые века нашей эры, когда купеческие рейсы отодвигали все дальше на восток пределы римского «земного круга».
В пятидесятых годах новой эры некий делец по имени Анний Плокам откупил у государства право на сбор пошлин по западным берегам Индийского океана. Будучи специалистом по финансовым операциям, он, конечно, никуда не плавал, а посылал в море верных людей. Верность можно было приобрести разными способами — например, отпустить своего раба на волю. И случилось так, что один его вольноотпущенник, объезжая приморские поселения Аравии, был застигнут сильнейшим северным штормом. Огромные вспененные валы подхватили судно, вынесли в океан, и ветер, крепчавший день ото дня, помчал корабль курсом на юго-восток, да так скоро, что на пятнадцатый день, как сообщает Плиний, приказчик Анния Плокама очутился на острове Цейлон, или Тапробана, как именовали его греческие географы, или же Палесимундум. Хотя некоторые считали, что это последнее название принадлежит не острову, а только его столице. Там нечаянный путешественник был принят повелителем Цейлона. И будто бы целых шесть месяцев бывший раб беседовал с заморским царем о делах Рима, о торговле, финансах, о Сенате и божественном императоре Клавдии. Будто бы царь одобрил все, что услышал, и особенно ему понравились серебряные деньги, отобранные у римского гостя. Ему понравилось, что все денарии имели одинаковый вес, хотя были выпущены разными императорами. Цейлонский государь удивился и нашел это очень справедливым. Вскоре с Тапробаны отбыли четверо царских поверенных. До Рима они добрались, когда Клавдий уже умер и место его заступил Нерон.
А пока на Палатине сменялись императоры, их подданные из восточных провинций, эти сомнительные граждане Рима, все эти полупочтенные торговцы, эти греки, копты, иудеи, сирийцы и как их там еще называют, проникали все глубже на Восток и вели торговые дела в Золотом Херсонесе и в устье реки Коттиарис, то есть на полуострове Малакка и на Красной реке, между нынешними Ханоем и Хайфоном.
Лет через сто после цейлонских приключений вольноотпущенника Анния Плокама в Поднебесной империи произошло чрезвычайное событие — император Хуаньди принял послов из страны Дацинь, как называли китайцы Рим. Согласно «Хоуханьшу», летописи младшей Ханьской династии, «...дацинский император Ан Тун отправил посольство, которое вступило в Китай с границы Аннама (Вьетнама). Оно принесло в качестве дани слоновую кость, носорожьи рога и панцирь черепахи. С этого времени установилась прямая связь. Но в списке даров нет драгоценностей, это дает основание предположить, что они их утаили».

Летопись указывает дату: октябрь 166 года. Это время императора Марка Аврелия Антонина — Ан Туна в китайской транскрипции. Известно, однако, что Марк Аврелий никого не посылал в Китай, а если бы послал, то, конечно, не поскупился бы на подарки. В их числе непременно оказались бы украшения из янтаря или цветное стекло, которое в Китае варить тогда не умели и почитали наравне с драгоценными камнями.
По-видимому, «император Ан Тун» и не подозревал об этой странной дипломатической миссии, которая наспех обзавелась посольскими дарами в Индии (слоновьи и носорожьи бивни), на рынках Бирмы или Вьетнама (черепаха) и явилась в Китай с юга по маршруту, проложенному сирийскими перекупщиками шелка именно в годы правления Марка Аврелия, когда война с Парфией и вспыхнувшая затем эпидемия чумы надолго закрыли Великий шелковый путь из Антиохии в Бактрию и в оазисы Восточного Туркестана.
Это был старый купеческий трюк — приехав в чужую страну, представиться для пущей важности послами в надежде на особое внимание властей и, может быть, ответные дары. Пользовались им всюду и во все времена. Правда, бывало, что иные негоцианты и в самом деле выполняли весьма тонкие поручения государственной важности, — достаточно вспомнить хотя бы Марко Поло. Но в 166 году нашей эры император Хуаньди принял все-таки не полномочное посольство страны Дацинь, а безвестных странствующих купцов из римской провинции Сирия.
Так скитались торговые люди вдоль и поперек «земного круга» — от устья Немана до низовьев Янцзыцзян — не из любопытства и не с целью совершать географические открытия, но ради купеческой корысти и для того, чтобы доставить в Рим грузы «тканей красных, тирийских и испанских... сардониксы индийцев, скифов яшму», многократно воспетые римским стихотворцем Марком Валерием Марциалом. Он описывал вещи со вкусом и так подробно, что четырнадцать книг его «Эпиграмм» походили бы на товарный справочник, не будь они образцом латинской поэзии. Он писал о римских дворцах и термах, где:
...Тайгета найдешь зеленый мрамор.
Камни спорят цветов разнообразьем —
Их фригиец иль афр из недр добыли.
Он писал о торговых рядах на Марсовом поле, «где Рим золотой выставил клады свои», где бродит пресыщенный патриций,
Вещь себе сверху велит кости блестящей достать.
И, черепаший диван измерив четырежды, с грустью
Скажет: «Лимонный мой стол будет побольше, вот жаль!»
Бронзу увидит, нюхнет: Коринфа ли запах у вазы;
И Поликлета вещей он не одобрить готов...

Нет, какие там странствия — жить стоило только в Риме! Изгнанника ожидали забвенье и скорая гибель, как это было с Овидием, угасшим «в глуши Молдавии печальной», как было с самим Марциалом, который укрылся на склоне лет в родной Испании и умер спустя четыре года, прожитые в неизбывной тоске по Риму.
Настоящие римляне не путешествовали, они ездили в служебные командировки и по коммерческим делам или на лечебные воды в Байи. Страбон чуть не
полжизни провел в неторопливых обстоятельных экскурсиях по окраинам империи, но этот римский географ был по рождению черноморским греком, а кто же в те времена не знал, что страсть к бродяжничеству у грека в крови, в этом смысле все они были потомками Одиссея.
Впрочем, и Страбон ездил не дальше Евфрата и нильских порогов, подолгу останавливаясь то в египетской Александрии, то в Антиохии.
Римлянам и в голову не приходило «открывать мир», они просто его осваивали, приспосабливали к своим нуждам.
За пределы цивилизованного мира, за самые дальние рубежи, очерченные с таким меланхолическим изяществом в послании Катулла, попадали разве что купцы да странствующие актеры, из которых иные добирались до торговых факторий в Индии и Бирме, да еще, пожалуй, солдаты.
При раскопках города Дура-Европос на Евфрате найден был римский щит, обычный пехотный scutum — полуцилиндр из воловьей кожи, набитой на деревянную основу. Необычной оказалась поверхность щита, на которой его владелец начертил пути своих походов, аккуратно разметив этапы и расстояния (в римских милях) от Византии к устью Дуная, далее к Ольвии и в Крым, оттуда морем в Трапезунд и многодневным маршем в армянскую Артаксату. Внизу щита он нарисовал синее море с кораблями и реки — синими извилистыми линиями. Получилось нечто вроде карты, где недоставало только последнего маршрута — из Армении на Евфрат.
И здесь, на развалинах Дура-Европос, выросшего некогда на оживленном караванном пути в трехстах римских милях по прямой от Антиохии, нам пора остановиться и спросить себя: кто есть путешественник? Как определить этот род деятельности или, может быть, категорию людей, которых, по-видимому, не существовало в древнем римском обществе и которыми так гордилась европейская цивилизация? Чехов сказал, что «один Пржевальский и один Стэнли стоят десятка учебных заведений и сотни хороших книг». Он говорил о духе исследования, что заставляет совершать подвиги во имя родины и науки, то есть о понятиях, если и не чуждых Древнему Риму, то употреблявшихся там в каком-то ином, не теперешнем значении.
Римские ученые с их манерой рассуждать не без иронии обо всем понемногу могли вычислить длину земной окружности и тут же ввернуть анекдот о людях с песьими головами или носом посреди живота. Их «Географии» и «Всеобщие истории» были составлены по правилам литературного красноречия, а материалом служило все, что занимательно. Страбон упрекал коллег в склонности смешивать «исторический» и «мифический» жанры и одобрял авторов, сознательно вплетающих мифы в свои трактаты. Эта покладистая наука вовсе не требовала, чтобы во имя ее совершались подвиги.
Но римлянам тоже была знакома власть этого духа. И тут должна возникнуть перед нами колоритнейшая фигура Кая Плиния Секунда Старшего. Он начал службу в римской кавалерии, воевал против германцев у берегов Северного моря, впоследствии занимал весьма высокий пост прокуратора в Испании и в Нарбоннской Галлии и все эти годы, а также последующие, проводил за чтением целые дни и большую часть ночей, читал в дороге, и за обедом, и на прогулке, и даже в бане, и, конечно, в постели. Если он не читал, так слушал чтение раба-секретаря или диктовал ему, а не то усаживался писать. Он был автором многих сочинений; до нашего времени сохранилась тридцатисемитомная «Естественная История». Затевая этот труд, он прочел две тысячи книг, сделал из них двадцать тысяч выписок и любил повторять, что нет такой скверной книги, из которой нельзя извлечь хоть крупицу пользы.

В 79 году нашей эры он командовал Мизенской эскадрой, стоявшей в Неаполитанском заливе. Когда 24 августа началось извержение Везувия, погубившее Помпеи, Геркуланум и десятки окрестных селений, Плиний отправил туда спасательные отряды, после чего отдал приказ капитану флагманского корабля следовать к месту катастрофы. Он полагал, что столь грандиозное явление природы следует рассмотреть и описать во всех подробностях. Рев Везувия был слышен за двадцать километров, у мыса Мизена. Над берегом и заливом колыхалась завеса вулканического пепла.
В полдень стало вдруг темно, как осенней ночью или, по словам очевидца, как в комнате без окон, где погашен свет. В эту кромешную тьму, пробиваемую длинными змеевидными молниями, ушел корабль с командиром эскадры на борту. И не вернулся...
Не правда ли, неожиданный поступок для администратора и важного военного чиновника? Но именно этот поступок закрепил за Плинием на девятнадцать веков вперед единственный в своем роде титул «первой жертвы научной любознательности».
Кай Плиний Секунд Старший предпочитал исследовать мир, не покидая своей библиотеки. И все же его стоило помянуть в этом рассказе о римских путешествиях, потому что поступок (или, может быть, подвиг?), увенчавший его жизнь, вносит существенную поправку в традиционные представления о характере римлян. Пусть немногим из них были доступны чистые радости исследований — этого достаточно, чтобы в несимпатичном обществе работорговцев, бюрократов и стяжателей открылся как бы некий просвет. И мы уже готовы допустить, что, вероятно, иного римского купца вела в океан не одна жажда прибыли. Что Юлий Матерн сопровождал в Сахару вождя гарамантов не только по долгу службы. Что безымянный римский всадник искал месторождения янтаря, но также и путь в неведомые земли. И допустив такую не подтверждаемую научными данными мысль, мы не слишком удивимся, узнав, что даже Марциал, этот римлянин с головы до пят, циничный остроумец, неисправимый горожанин, написал однажды несколько строк, словно обращенных ко всем путешественникам прошлого и будущего:
Вот и все! Посмотри: уже взволнован
Капитан и бранит отставших. Ветер
Добрый, гавань открыта... О, прощай же!
Дожидаться тебя корабль не будет.
Ю. Полев
(обратно)
Земляника на скалах
 Рассказ об одном острове
Рассказ об одном острове
Весна в том году в Карелии была сумасшедшей. Она явилась раньше всех сроков, тут же вызвала к себе грачей и скворцов, собралась было встречать жаворонков, но почему-то раздумала и уступила место еще живой и нестерпимо злой напоследок зиме.
В середине апреля начался крутой, пронзительный февраль — с поземками и метелями. И долго под ледяным, тяжелым от снега ветром жались в озябшие кучки опрометчивые грачи и скворцы...
Лед на озере лежал крепко, хотя и прошли давно все календарные сроки даже самых поздних разводьев. Давно снизу билась о лед весенняя щука, давно искала путь на вольную воду серебряная нерестовая плотва, но зима никак не желала отпускать озера, хорошо зная, что именно здесь, в глубокой воде, и таится: та великая сила, которая рождает и грозы, и ливни, и шквальные ветры, и снеговые тучи.
Но вода все-таки победила. Однажды лед тяжело вздохнул, приподнялся, да так и остался приподнятым, не успев сделать последний выдох. И тут же на вздувшийся лед упала не по-весеннему сухая жара.
Жара пекла и жгла все вокруг. По полям, по выкосам, под березами и елями на глазах горели последние островки снега — снег испарялся, дымился чадящим дымом, оставляя после себя чуть влажное пятно примятой за зиму прошлогодней травы, опавшего листа и бледно-зеленого, малокровного мха. Жара тут же кидалась на это влажное пятно, и от невиданной по весне жары: сворачивался в трубку прошлогодний лист, и порохом трещала сухая трава.
Вчера еще литой, белый от морозной сухости лед вдруг посинел, опустился глубоко в воду, набух, а через день по всему озеру нельзя было сыскать и пластиночки льда, намороженного за долгую суровую зиму.
Жара, как и все этой весной, жила недолго. Она смешала все птичьи календари, вызвала разом все пернатые стаи, а затем за полчаса обернулась снежным северо-востоком.
Ветер с северо-востока тащил гулкие и долгие шквалы, и каждый шквал с грохотом гнал по земле вместе с пылью и сухой травой стены тяжелого сплошного снега. Снег забивал окна на моем острове, запирал снаружи двери, стелил крыши плотными, как свинец, листами мокрых сугробов, мостил дороги и валил впереди себя заборы.
Я боязливо выглядывал за дверь, готовый каждую секунду шарахнуться от очередного заряда, и через белую несущуюся стену кое-как различал бесчисленные силуэты дроздов, зябликов, трясогузок... Чем-то это невероятное сборище птиц за стеной моего дома действительно напоминало легенду о всемирном потопе. Только мой «потоп» был исполнен в чисто северном варианте — он состоялся в середине мая.
В такие неровные весны я переживал не только за птиц — часто неожиданные холода напрочь сбивали с ягоды ранний цвет, и тогда урожая черники, брусники и земляники приходилось ждать до следующего года...
Не знаю «почему, но больше всех ягод мне нравится находить и собирать именно землянику. Проще и быстрей собирать клюкву. Интересно и весело обрывать гроздья брусники, что ярко и тепло светятся по открытым вырубкам. Но все-таки ни клюква; ни брусника, ни малина, ни какая другая ягода не вызывают у меня столько самых разных воспоминаний, как ягода земляника.
Может, эта привычка что-то вспоминать, когда видишь землянику, осталась у меня еще с детства, когда мы беспокойной и громкой толпой неслись вниз к Оке, к лодке, которая еле вмещала всех мальчишек и девчонок с нашего конца деревни, желавших попасть на ту сторону, в луга за ягодой.
Как поднялась эта земляника сюда, наверх, на скалы? Кто занес ее, кто оставил среди голого холодного камня?.. Но кустик прижился, пустил по скале корни, пустил побег-другой — и пошел все выше и выше.
Один поменьше, другой побольше, одни тверже и смелей, другие слабей и застенчивей — упрямые кустики земляники прочно и спокойно росли, цвели и приносили ягоды здесь, на голом граните скалы.
Открытые для всех ветров на свете, открытые морозам и ледяным дождям, порой не приносившие плодов год, второй, когда на эти годы выпадали никудышные вёсны, но все-таки очень живые и очень свои, не похожие ни на что на свете.
Вот почему я так часто поднимаюсь сюда на скалу, к низкорослым кряжистым соснам, выросшим из камня, к светло-серым сединам упругого мха.
Здесь,
на вершине скалы, есть небольшое углубление, будто нарочно выбитое чьим-то стальным и острым копытом. Стальное копыто ударило, видимо, только один раз, вырубило из скалы тяжелый кусок гранита и оставило после себя каменную ямку, куда после каждого дождя теперь собирается прозрачная дождевая вода.
После хороших дождей воды в каменном колодце собирается так много, что ее хватает вволю напиться всем обитателям скалы. Когда я прихожу пить эту свежую, почти без запаха воду, то всегда рядом вижу пятнышки помета, оброненное перо. Порой около каменного колодца встречаются и следы зверей. Следы остаются на скале продолговатыми коричневыми пятнами сорванного мха — это заяц или лиса поскользнулись.

Однажды около каменного колодца я встретил огромный след медведя — медведь тоже приходил напиться и содрал когтями большой пласт седого мха. Я долго смотрел в ту сторону, куда только что ушел хозяин тайги, и решил назвать этот водоем на скале Медвежьим колодцем.
Когда стоят жары и в Медвежьем колодце высыхает вода, я спускаюсь вниз по скале. Со стороны, противоположной озеру, скала густо поросла сосной, березой, осиной, а еще ниже — смородиной, малиной, рябиной и черемухой. Среди кустов и деревьев скала может потеряться совсем — под ворохом прелых веток, под толстым слоем перегноя. Идешь и не веришь, что совсем близко, под ногами лежит все та же скала, не веришь до тех пор, пока она не выбьется среди травы россыпью камня.
Россыпи камня — это тоже скала, но только побежденная лесом, кустами, травой, дождями и морозами.
Когда первый раз здесь, на древних карельских покосах, берешь в руки косу и с опаской выглядываешь, где же среди камней начать первый прокос, то, честное слово, не очень веришь, что камень, вот этот камень, который торчит из травы и о который то и дело с больным звоном бьется неумелая коса, очень щедр, и что именно его ты должен благодарить за густое, сочное сено. Но второй, третий прокос проходишь ты с карельской косой — и теперь уже точно знаешь, что самый густой клевер, самая добрая трава собираются именно около камня. А может, и та самая земляника, что прижилась на скале, чувствует себя среди камня не так уж сиротливо... За день камень успевает нагреться и верно хранит тепло в холодные северные ночи. А в жары, в сушь на камень ложится роса, и этой росой камень, пожалуй, делится и с клевером, и с земляникой.
Каменные плиты, большие и маленькие, можно так удачно подобрать друг к другу, что получится настоящая русская печь или даже настоящий каменный дом. Камень для печи — это богатое тепло, которое сохранится в доме не на один день после охапки березовых или сосновых дров — ведь ничто, кроме камня, так прочно и надолго не забирает огонь — кирпич не чета камню.
Ну а если дом на моем острове рубится из леса, то и здесь камень, что допекает новичка на покосе, снова является на помощь. Дома на нашем острове всю жизнь ставились без фундамента, ставились прямо на скалу: ведь наш остров — это тоже огромная спина-скала, поднявшаяся недалеко от берега. Скала-остров, скала-берега, скала — дно озера и даже огороды — и то скала, куда люди натаскали земли из леса.
В лесу земли, конечно, больше. Но даже здесь все равно груды камней обязательно поднимаются над землей. Такие груды среди пожней и выкосов обычно поросли березами. Эти березы поднялись не откуда-то снизу, а выросли на вершинах и склонах каменных холмов. Березам уже много лет. Останавливаешься около каменного холма, поросшего деревьями, раздвигаешь траву, снимаешь с камней мох и неожиданно открываешь для себя трудную тайну камней среди берез...
Эти камни не угластые и не плоские, как остатки разрушенной скалы, а гладкие валуны-одиночки, которыми, как дождливая туча дождем, поливал ледник карельскую землю.
Большие и маленькие валуны когда-то торчали гранитными шапками по всем полянам. Потом на поляну пришли люди и собрали весь камень, который разбросал по земле ледник. Они снесли валуны в кучи и стали пахать приподнявшуюся из-под камня, глубоко вздохнувшую щедрую лесную землю.
В стороне от моей скалы ревут и рычат бульдозеры и тракторы, расчищая места для новых покосов и пашен, не таких трудных, как лесные карельские полоски земли среди камней. На новых покосах и пашнях уже шумят травы, хрустят от утреннего холодка кочаны капусты, упрямо и неподатливо, как вода заросшего залива, покачивается на ветру море картофельной ботвы.
Когда-нибудь среди этих широких полей и лугов вырастет и земляника, но это будет другая ягода — скорей всего она будет напоминать ягоду рязанских лугов.
Из озера неподалеку от деревни поднимаются два камня. Один из них показывается из воды рано, еще в июне. Если этот камень поднимется из воды к августу больше чем на полвесла, то значит лето было сухим, и теперь только скорые и густые августовские дожди могут спасти урожай поля и леса.
Замерять высоту камня в августе — это скорее не прогноз, а уже летопись. Вот почему наблюдать за камнями, что поднимаются из озера, начинают еще в июне.
Пошел камень из воды быстро — намек, что трава по выкосам не поднимется хорошо, не будет хорошего раннего сена. Если камень идет из воды трудно — год будет рыбным, будет богатая трава. А удастся ли убрать сено при таких сырых погодах? Пошел камень побыстрей в июле — удалось хорошее сено. А к августу из воды показалась голова и второго, нежеланного, страшного камня.
Сам второй камень невелик — он куда меньше первого, и выходит из воды лишь в великую сушь, когда горит картофельная ботва, падает без времени с берез и осин скрученный в трубку пожухлый лист. Нет в такую сушь ни ягоды, ни гриба в лесу, ни рыбы на тонях. Страшен второй камень — и уж лучше наезжать на его подводный гребень, лучше срывать шпонки и терять винты подвесных лодочных моторов, чем видеть его голую, сухую плешину, покачивающуюся среди волн...
А может, в этом году страшный камень не покажется и совсем — ведь скоро к моему островку подберется сырая северная осень.
К началу сентября я не раз принимался вспоминать подробности мая, июня, июля, августа. Но из всей каши погод и непогод мне на память приходили только ветры, жуткие ветры, которым по всему полагалось быть лишь где-то там, очень далеко, на каких-то «ревущих» широтах...
Первым я почему-то всегда вспоминал Северо-Запад — сырой и тяжелый ветер, ветер беспутный, неверный, как гнилая, набухшая от холодной воды лодка. Такая лодка качалась, плыла и тонула одновременно. Северо-Запад, как отжившая век рыбацкая посудина, всегда оставлял после себя чувство обреченности, чувство, которое испытывает человек, потерявший вконец силы среди волн вдали от берега.
Северо-Запад был ветром теплого Гольфстрима и ледяных айсбергов одновременно. Он рождался где-то совсем неподалеку от нас, и, казалось бы, эта близость должна была сделать его добрым, желанным; но мне верится, что родным этот ветер никогда не был ни скалам, ни озеру, ни моему острову.
...Юго-Запад был ветром распаренных болот и сырого, горячего торфа, только что сложенного на краю торфяной канавы. Казалось, что среди лесов и болот Полесья, откуда приходил Юго-Запад, кто-то очень большой взял и истопил огромную деревенскую баню. В такой бане от жара трещали стены и гнулось в окне стекло. Жаром в бане каждую минуту вышибало дверь — и тогда к нам на озеро и приходил, как из душной парной, едкий сырой жар.
Правда, этот жар успевал по пути немного остыть, но все-таки добирался сюда, до острова, и всякий раз именно здесь опрокидывал ушаты парного дождя. Такой дождь напоминал воду неглубоких стоячих водоемов и подсыхающих болот. На улице было жарко и душно так, что в короткие перерывы между дождями потели окна домов, но не изнутри, как в стужу, а снаружи, будто в самом доме поставили очень мощный холодильник.
Юго-Запад не оставлял после себя ничего, кроме желания встать, последний раз вытереть со лба липкий пот, скинуть пропитанную дождем и потом, просолившуюся одежду, а потом через жар и духоту все-таки добежать до той самой бани и зло и навсегда захлопнуть ее дверь.
Правда, тепло и дожди любил лес — и наверное, именно поэтому юго-западный ветер всегда был ветром грибов, ягод и множества отчаянных комаров. Тепло вместе с дождем парило землю — вот в такой банный пар и шли настоящими колдовскими кольцами, кольцо за кольцом, чуть ли не находя друг на друга, и красноголовики, и маслята, и боровики.
...Мне очень верилось, что Юго-Восток приходил к нам именно из Астрахани. Временами он был таким же сухим и теплым, как ветры бахчи, и таким же ароматным и сочным, как зрелая мякоть сахарного арбуза.
Если бы ко мне на остров приходил именно такой ветер... Но по дороге из Астрахани Юго-Восток успевал потерять голоса сытых отар и гулкие удары громадных рыб, успевал забыть аромат среднего юга, и чаще только мое воображение да яркая память Волги от Волгограда до Каспия, память южного солнца и поющих под ногами песков еще как-то помогали пережить сухой, пронзительный зной с юго-востока, который у нас попросту называется сушью.
Когда я совсем уставал от только что перечисленных ветров и с надеждой всматривался в волны и облака, чтобы предугадать хоть малое изменение погоды в лучшую сторону, на остров обычно и сваливался еще один неугомонный поток — крутой неуемной волной дождя и ветра являлся к нам Северо-Восток.
Всегда, когда начинался Северо-Восток, я проводил по карте прямую линию от своего дома навстречу холодному ветру Арктики и долго шел вслед за этой воображаемой линией, повторяя знакомые имена: Онега, Двина, Мезень... Все это были близкие, соседние и очень родные моему дому и моему озеру места. Но вот моя воображаемая дорога перебиралась на правый берег Мезени, и через узкую полоску тундры я видел, как холодно посвечивает Карское море. Где-то там, откуда пришел Северо-Восток, была вечная зима, там по морю круглый год плавали льдины, а вместо щепок и обломков тростника волны выбрасывали на закоченевший берег осколки айсбергов.
Не знаю почему, но Северо-Восток казался мне страшнее всех других ветров... Может быть, потому, что еще с весны осталась у меня неприятная память о снежном шквале, о птицах, что дрогли у меня на огороде, об окнах, залепленных снегом, и дверях, прижатых снаружи сырыми, неподатливыми сугробами. Эти сугробы лежали на крыльце чуть ли не до конца мая, и принес их именно Северо-Восток.
Наверное, рыбы в нашем озере тоже как-то по-своему разбирались во всех ветрах. Они не пугались Запада, приветливо встречали Юг, но Востока и Севера упорно боялись. Здесь и оправдывалась старая рыбацкая поговорка-присказка: «С востока ветер — рыба из сети». Правда, в эту присказку вместо «востока» можно было вставить и другие слова: «с севера ветер», «с юга ветер», «с запада ветер»... — но только Восток действительно оставлял рыбака без улова.
На этот раз я еле усмотрел за волнами непогоды короткий поворот ветра. А ровно через пять часов тучи начали уставать, кружиться на месте, кружиться все медленней и медленней, как колесо тяжелой карусели, подбирая растрепавшиеся очесы и лохмотья дождя.
Наконец карусель остановилась, сжались от холода облака, улеглись волны, упала на воду мелкая неподвижная рябь, потом рябь потемнела. Закат опустился на воду тихим малиновым пятном, и тут же к этому пятну-закату потянулись седые полосы ночного тумана.
Что станет с туманом? Чем опустится он на землю? Холодной крупной росой, от которой будет жечь морозом ладонь и ломить пальцы? Или инеем?
...Туман затягивает, убирает совсем воду, прячет закат. Туман ползет, топит берега, кусты, добирается до моего забора. И вот я сам уже в тумане. Я протягиваю дальше в туман руку, и мне кажется, а скорее — хочется верить, что мою руку уже покалывают тоненькие ледяные иголочки инея.
А утром я долго не верю сам себе, не верю, что дорога через весну и лето так быстро окончилась, что теперь можно немного посидеть у окна, посмотреть на густой иней и вспомнить все, что было в этом году до сегодняшнего дня.
Анатолий Онегов
Карелия, село Намоево
(обратно)
Макбет — Мабата
 В наши дни на африканской сцене можно увидеть произведения искусства, между которыми века. — Мы рассказываем о двух из них — Оригинальном прочтении шекспировского «Макбета» и древнем магическом танце племени батеке.
В наши дни на африканской сцене можно увидеть произведения искусства, между которыми века. — Мы рассказываем о двух из них — Оригинальном прочтении шекспировского «Макбета» и древнем магическом танце племени батеке.
Наверное, это одна из самых необычных постановок «Макбета» за все без малого четыреста лет сценической жизни этой трагедии.
Стук африканских барабанов, зулусские одеяния, зулусские щиты и копья, зулусские имена... Вместо леди Макбет — Камандсела. Не Дункан, а Дангана, не Малькольм, а Макиване. И сам Макбет, которого играет режиссер-постановщик Велком Мсоми, носит зулусское имя Мабата.

Короче говоря, «Макбет», приспособленный к духу и традициям зулусского народа. Конечно, «Макбет» Шекспира — о борьбе за власть в Шотландии XI века. Но не только! Иначе иным, далеким народам он не был бы так близок и так необходим. Даже события, положенные Шекспиром в основу «Макбета», во многом сходны с событиями в стране зулусов, происходившими, правда, позднее, а потому остающимися еще более живыми в народной памяти. Это и борьба за верховную власть, которая велась столетие назад, это и судьба короля Чаки, убитого полтора века назад собственными братьями.
За двенадцать лет — с 1816 по 1828 год — король Чака объединил множество племен и народов, и подвластная ему территория выросла со 100 квадратных миль до 200 тысяч, а войско его — с 500 воинов до 50 тысяч. К тому дню 1828 года, когда Чака был убит братьями, власть и влияние зулусов распространялись на всю территорию современного Наталя, половину нынешнего Трансвааля и Оранжевого Свободного государства, обширные районы Мозамбика и Капской провинции. Зулусские отряды доходили к северу даже до района Великих африканских озер.
Не менее драматичны и ярки времена короля Кетчвайо. При нем в 1879 году зулусы уничтожили вторгшиеся на их земли английские войска — 1300 солдат и офицеров. В Англии это поражение стало одной из причин падения кабинета Дизраэли.
Во Франции оно нанесло сокрушительный удар поднявшейся было партии бонапартистов: дело в том, что в английском отряде погиб сын Наполеона Третьего, который отправился в Южную Африку на поиски ратной славы.
Свергнутый Дизраэли говорил о зулусах: «Что за могучий народ — он убивает наших генералов, обращает наших епископов в свою веру и пишет «конец» на истории французской династии!»

Все эти события волнуют зулусов до сих пор. Да и не только зулусов — всех африканцев: на другом конце континента, в Сенегале, крупнейший поэт Африки Леопольд Сенгор написал поэму «Чака». Иными словами, история зулусов — часть общечеловеческой истории.
В мозаике истории мира нет лишних камушков — точно так же как в истории мирового искусства нет «лишних» национальных искусств. Доказательств тому множество, но вот вам одно — от противного. Правительство Южно-Африканской Республики, под властью которого зулусы живут в наши дни, в области культурной жизни проводит одну уничижительную линию — разные расы не имеют друг с другом ничего общего, их жизнь и искусство обособлены. Жесткая линия, логично вытекающая из общей политической системы апартеида.
В общем-то, дело не только в истории зулусов. Мне кажется, что постановкой «Макбета» зулусские актеры подчеркивают свою сопричастность общечеловеческому началу — тому, что объединяет в одну семью земляков Шекспира и потомков суровых воинов Чаки и Кетчвайо.
А. Давидсон, доктор исторических наук
(обратно)
Танец
Город Форт-Руссе расположен почти в самом центре Народной Республики Конго, там, где соприкасаются два крупнейших племени севера — батеке и мбоши. В этих местах мне довелось пережить одно из самых сильных впечатлений за все время работы в Африке.
...Где-то в нескольких десятках километров отсюда эту песчаную равнину пересекает экватор. Над деревней зеркальным отражением этого плоского мира неподвижно висит ровная матовая пелена облаков; они почти придавили к земле низенькие глинобитные хижины, приглушили все звуки. Солнце тусклым, слепым зрачком за пленкой бельма стоит над головой. Воздух — вязкий и липкий; духота оглушает, от нее не спрячешься в тень, не отвернешься как от солнца, к ней нельзя притерпеться.
Мир кажется ирреальным в этом нелепом сочетании сухого песка, пожелтевшей, засохшей травы и постоянного ощущения сырости в неподвижном воздухе. Люди деревни вялы и вместе с тем как-то торжественно-медлительны; они как рыбы в аквариуме — ни одного резкого движения, жеста; кажется, что все прислушиваются к плавному, дремлющему ритму внутри самих себя. ...Я стою в первом ряду толпы, плотным кольцом охватившей небольшое пространство. Мое колено касается голой спины человека, устроившегося на земле прямо у ног зрителей. Танцоров человек двадцать — они уселись на траву тесной, слитной массой, вдавив плечо в плечо, бедро в бедро, прижимаясь грудью к спине сидящего впереди так, что между ними не просунешь ладони. Земли не видно — слившиеся тела, блестящие коричневые спины, черные курчавые головы; и рядом плотная толпа, продолжающая этот живой ковер из человеческих тел... Серое небо кажется еще ниже. Мир сузился до размеров этого кольца, и в нем только три цвета — коричневый, черный, серый. Горький, дымный запах пота и пыли стоит над толпой.
Сидящие на земле люди встряхивают сушеными тыквами с мелкими камешками внутри — что-то вроде маракасов. Раздается тихий, задумчивый шелест. Спины пришли в движение, медленно, плавно колыхнувшись влево, вправо — будто легкая волна пробежала по спящей воде. На низкой угрюмой ноте возникает монотонный речитатив, постепенно подчиняя своему ритму мелькание маракасов.
Мелодия поднимается снизу, как бы со дна колодца, стенки которого — толпа, но не выходит за ее пределы, подчеркивая замкнутость пространства, в котором мы находимся; в ней всего три-четыре ноты, которые повторяются с настойчивым однообразием.
Шелест маракасов нарастает, постепенно превращаясь в тихий рокот, ритм убыстряется. В такт ему послушно извиваются потные спины — их движения кажутся хаотичными, беспорядочными, последовательность невозможно уловить, глаз отмечает только слитное волнение черных тел и перечеркивающие его взмахи рук с маракасами. Спины вырастают из самой земли, и в их стремительном, согласованном волнении — стихийность, неистовство высоких трав, сминаемых ураганным ветром. Эта мощь физически давит на тесное кольцо толпы, пытаясь раздвинуть его, вырваться на свободу.
Я пытался расчленить это движение, уловить оттенки мелодии, запомнить жест, которым люди на земле поднимали свои маракасы, — тщетно: детали проскальзывают мимо сознания, их не задержишь, как не ухватишь воду пальцами. Бушующий у моих ног калейдоскопический хаос требовал, заставлял расслабиться, не стремиться к осмыслению, а просто воспринимать. Сопротивляться этой магической силе было невозможно...
Лица зрителей были замкнуты и отчужденны — они смотрели не на танцоров, а сквозь них, и странно было видеть эти взгляды, обращенные вниз и в бесконечность.
Мелодия не менялась, пение не становилось ни громче, ни тише, ритм не замедлялся и не убыстрялся, в нем была какая-то целенаправленная неопределенность, которая вызывала болезненное ощущение неудовлетворенности, томления. Это ощущение было абсолютно схоже с тем, которое я испытывал от всепроникающей, вездесущей и неизбежной духоты пять минут назад, час назад, как только попал в эту деревню; оно дурманило своей неумолимостью, расслабляло невозможностью бороться с ним. И постепенно монотонное пение, матовые взблески мокрых тел, то приникающих к земле, то гибко, пружинно распрямляющихся, бесстрастное рокотание маракасов стало пригибать нас книзу, тянуло отдаться чужой воле... Это было как наваждение, сбросить его было невероятно. Напряжение росло; мучительное томление передавалось толпе — с закрытыми глазами люди раскачивались в такт пению, но это не было обычной солидарностью зрителей и танцоров. Скорее это напоминало зачарованную покорность кролика под взглядом удава. Развязка наступила внезапно. Пронзительный вопль буквально ударил по нервам острой болью — в центре человеческого ковра встал мужчина; вытянув вперед руку, исступленно закричал-запел на одной ноте высоким, тонким голосом. Широко открытыми глазами он смотрел куда-то мимо меня, мимо толпы; уловить направление его взгляда было невозможно; казалось, он смотрел в глаза каждому из нас, смотрел, ничего не видя, но смысл этого вопля и взгляда был ясен: он звал. Звал присоединиться к нему, звал вниз, к этим монотонно колышущимся телам, звал войти в речитатив, сдаться, раствориться в ритме, влиться в него безвольной частицей. Хотелось отвернуться, вырваться из кольца людей, чтобы не слышать этого нечеловечески долгого крика... И неожиданно, споткнувшись, умолк четкий шелест маракасов, оборвалось пение, напряженные спины обмякли... Тишина... Кто-то слабо вскрикнул... Духота снова придавила толпу. Это был лато — «Танец опьяненных людей»...
Б. Туманов.Браззавиль
(обратно)
Школы всякие нужны...

«Школы не построены для котят, научить нас грамоте не хотят...» Эти строчки С. Маршака известны всем с детства. Увы, они полностью справедливы — школ для котят действительно не существует. И дело здесь не в том, что люди сговорились держать кошек во мраке невежества. Просто человеку нечему их учить. Ведь кошка в человеческом хозяйстве предназначена для ловли мышей и все свои навыки получает при рождении, здесь уж постаралась природа. Пару-другую приемов покажет кошка-мать, и новый борец с мышами готов. Чем тут может помочь человек?
Но иногда врожденного начального образования недостаточно, и тогда приходится открывать нечто вроде профессионально-технического училища — ПТУ.
Например, в тропических странах, особенно в тех, где техники еще не хватает, а слоны пока есть, существуют слоновьи ПТУ. Слоны поступают туда в пятилетнем возрасте, курс обучения же рассчитан на шесть лет. О том, как набирают учащихся в это ПТУ, мы уже писали («Последняя кхедда» в № 5 «Вокруг света» за 1969 год).
Как театр начинается с вешалки, так школа — с классного журнала, куда вносятся имена всех учеников. Слона обычно нарекают по названию горы или ручья, ближайшего к тому месту, где отловили будущего ученика.
Начало учебного года приходится на прохладный сезон. Прежде всего слушателей знакомят с их педагогами. К каждому прикреплен, один учитель — махоут, ибо методы обучения в слоновьем ПТУ сугубо индивидуальны. Первое время учитель и ученик привыкают друг к другу. За все шесть лет никто, кроме махоута, не имеет права кормить обучаемого. Махоут же каждое утро моет слона. Постепенно начинаются первые уроки языка: разучивание команд «шоунг» и «ков». Первая из них значит: «согни передние ноги в коленях, опустись и дай человеку сесть на тебя», а вторая — «стой». Вообще лингвистической подготовке уделяется очень много внимания, и ко второму-третьему году слушатели владеют (хотя и пассивно) солидным запасом слов: «вставай», «пошел», «поднимай», «заходи сбоку».
Затем начинается подготовка атлетическая: поднимание тяжестей, переноска их на далекие расстояния. Кроме того, изучаются такие предметы, как «вытаптывание кустарника» и «вырывание деревьев».
На втором году обучения учащихся — по их весу и силе — разделяют на классы. Одни получат профессию корчевщика, другие — подъемного крана. Одного-двух слонов — послабее, зато посообразительнее — готовят для совершенно особой деятельности: они будут работать в буддийских или индуистских храмах в качестве храмовых слонов. Работа их ждет Нетяжкая, но ответственная: ходить в процессиях, меняя шаг в зависимости от музыки, вовремя поднимать хобот и трубить в восторге, когда из храма выносят ярко изукрашенную статую божества... Поэтому уроков музыки у них гораздо больше, чем у их собратьев, хотя музыку преподают и тем. Ничто так не стимулирует работу слона, как приятная музыка. Горе тому погонщику: которому, фигурально выражаясь, «слон на ухо наступил», — стоит такому заиграть на дудке, как его слон тут же прекращает работать. Доведенный плохой музыкой до бешенства, слон норовит сбросить с себя человека, а там, глядишь, и вправду на ухо наступит... По этой причине в махоуты рекомендуется идти только музыкально одаренным людям.
Отметок в слоновьем ПТУ всего две — пятерка и двойка: пятерке соответствует большая охапка сахарного тростника; двоечник же тростника не получает вообще.
К концу обучения словарный запас слушателя обогащается такими выражениями, как «заходи справа», «поверни налево», «согни колени и захвати хоботом бревно».
Через шесть лет происходит выпуск: одиннадцатилетний хорошо обученный слон, можно сказать «мастер золотой хобот», готов приступить к работе на лесной плантации. Он послушен, вынослив, владеет (пассивно) языком, знает свою работу...
Педагогический же коллектив отправляется ловить новых слушателей...
С. Фан
(обратно)
Не кантовать: чемпион

Реджинальд Спирз, двадцатидвухлетний шатен, серые глаза, рост 183 сантиметра, стоял под моросящим дождем на набережной Виктории и глядел в мутные воды Темзы. Итак, все оказалось напрасным: и долгие годы упорной тренировки, и даже завоеванный титул чемпиона Австралии по метанию копья. И все из-за этой давней травмы руки, которая уже прошла. «Нет» старшего тренера и здесь, в Лондоне, где австралийские олимпийцы проводили контрольные прикидки, было категоричным. А ведь Реджинальд по уши влез в долги, собирая на дорогу; до последнего дня он надеялся, что его включат в австралийскую команду на Олимпиаду в Токио. Теперь предстояло ни с чем возвращаться домой. Только как это сделать, если карманы пусты?
Спирз с трудом заставил себя очнуться от этих невеселых размышлений. Хватит, хватит! От таких мыслей недолго броситься в здешнюю сточную канаву, громко именуемую рекой. Нет, он должен найти выход, нечего раньше времени опускать руки.
Выход, хотя на первый взгляд и фантастический, действительно нашелся. Правда, когда Спирз рассказал о нем Джону Максорлею, чемпиону Англии по метанию копья, который приютил Реджинальда в своей тесной квартирке на Туикенхэм-роуд, тот обозвал его сумасшедшим.
— Пойми же, у тебя не больше одного шанса из ста добраться живым, — кипятился Джон. — Любая из сотни случайностей может оказаться роковой...
— Я все взвесил и готов рискнуть, — не сдавался Спирз. — Для меня это единственный шанс.
В конце концов австралиец уговорил Максорлея, Две недели ушло на то, чтобы устроиться грузчиком компании «Эр Франс» в лондонском аэропорту и изучить тамошние порядки при отправке грузов в Австралию. Наконец Спирз приступил к осуществлению задуманного плана.
Промозглым осенним утром в транспортную контору компании БОАК явился некий мистер Мак-сорлей и заявил о своем желании отправить контейнер с пластмассовой эмульсией какой-то австралийской фирме в город Перт. Контейнер поставили на весы.
— С вас триста сорок четыре фунта, мистер Максорлей, — моментально подсчитал клерк.
— Груз пойдет наложенным платежом, — небрежно ответил Максорлей.
— Как вам будет угодно. Но это будет стоить на десять процентов дороже, — любезно предупредил клерк.
Через час контейнер с «пластмассовой эмульсией» оказался на багажной площадке. Когда затихли голоса грузчиков, Спирз рискнул отстегнуть многочисленные ремни, намертво крепившие его к днищу. Надо было хоть немного размяться в этом тесном полутораметровом гробу, раз уж предоставилась такая возможность. Теперь оставалось надеяться на то, что в самолете контейнер не похоронят под кучей грузов и не превратят в добровольную могилу для Спирза. За остальное он не боялся. За время работы в аэропорту Реджинальд точно выяснил, что грузовые отсеки на реактивных самолетах герметизируются. Так что
нехватка кислорода
во время полета ему не угрожала. Нескольких банок пива и консервов, по его расчетам, должно было хватить до самой Австралии, где он будет часов через тридцать, ну, максимум через сорок.
Однако час проходил за часом, ревели моторы взлетающих и садящихся реактивных лайнеров, но о контейнере словно забыли. Спирзом овладела тревога. Может быть, он чем-то выдал себя, и сейчас полицейские разыскивают отправителя контейнера с «пластмассовой эмульсией»?
Между тем причина непредвиденной задержки объяснялась просто. Австралиец допустил лишь одну ошибку: он не учел, что крупногабаритные грузы без пометки «Срочно. Скоропортящееся» отправляют не по мере их поступления, а только тогда, когда их набирается достаточно, чтобы загрузить транспортный самолет.
Прошла ночь, наступило утро... Сколько еще придется, скрючившись в три погибели, сидеть в этом ящике? Сутки? Двое? А что потом?..
От сильного толчка Спирз проснулся, попытался вскочить на ноги, но тут же со стоном рухнул обратно. Со сна он забыл, где находится, и так трахнулся о доски, что из глаз посыпались искры. Тем временем контейнер уже раскачивался в воздухе. Надо же было, чтобы две случайности произошли одновременно: автопогрузчик подхватил контейнер слишком небрежно, а тут еще Спирз рванулся со сна...
«Сейчас полечу, — с мрачным юмором успел подумать Реджинальд. — И наверняка вниз...» Резкий рывок бросил Спирза на стенку, и контейнер застыл на месте. Никакого чуда не было. Просто рабочий на автопогрузчике, перед которым встала не слишком приятная перспектива оплачивать стоимость разбитого груза, в считанные доли секунды нашел единственно возможное в этой ситуации решение — рванул машину в ту сторону, куда готов был рухнуть контейнер.
Прошло, пожалуй, не меньше часа, пока «боинг» с чемпионом Австралии по метанию копья, ставшим «пластмассовой эмульсией», поднялся в воздух. Мысленно Спирз был уже в Австралии. «Главное — это упорство», — именно так решил он ответить на будущие восторженные восклицания друзей, когда те узнают историю его рискованного приключения.
Увы, радость Спирза оказалась преждевременной. Вскоре он почувствовал, как со всех сторон потянулись струйки ледяного воздуха, превращая тесный ящик в настоящий холодильник с весьма высоким к.п.д. Грузовой отсек транспортного «боинга», хотя и был герметизирован, отапливался отнюдь не так хорошо, как пассажирские салоны. А на высоте 30 тысяч футов это могло оказаться роковым. Спасаясь от холода, Спирз закутался в одеяла. Эффект был таким же, как если бы он завернулся в бумажные салфетки. Тело начало цепенеть, мысли стали какими-то расплывчатыми, тягучими. На смену тревоге пришло безразличие. «Судьбу не обманешь... Жаль, не придется увидеть Кэтрин и Джоан...»
Позднее Спирз утверждал, что именно лица жены и дочери, возникшие в сознании, спасли его. «Это было как удар током», — рассказывал он. Сбросив бесполезные одеяла, Реджинальд принялся разминать, массировать, щипать неподатливые мускулы. «Пока есть хоть малейший шанс, ты должен бороться, — убеждал он себя. — Бороться, даже если его нет... Так, сначала руки, грудь, потом ноги. Главное — не останавливаться, не поддаваться...»
Реджинальда спасли две вещи: собственное упорство и то, что во время рейса транспортные «боинги» проводят, пожалуй, большую часть времени не в воздухе, а на земле. Посадки с длительными стоянками в ожидании выгрузки и погрузки следовали одна за другой. И хотя у Реджинальда кончились и консервы и пиво — в конце концов, без них как-нибудь можно перетерпеть, — он благодарил бога за эти задержки. Ведь они позволяли отогреться и хоть немного поспать. В воздухе он не мог себе этого позволить, стараясь частыми разминками поддерживать циркуляцию крови.
Едва после очередной посадки — это был Бомбей — затих рев реактивных двигателей, Спирз тут же уснул мертвым сном, привычно скрючившись в позе еще не родившегося младенца.

На сей раз Реджинальд проснулся от уже знакомого, но от этого не менее тревожного ощущения: он почувствовал, что его поднимают в воздух, хотя и не так резко, как это было в лондонском аэропорту. Помня печальный опыт, Спирз буквально окаменел, стараясь даже не дышать. Тем временем автопогрузчик уже шуршал шинами по бетону. После непродолжительной поездки он остановился, послышались голоса людей, разговаривавших на незнакомом языке, но вскоре и они стихли. Реджинальд остался один, вознесенный на несколько метров над землей, тщетно гадая, что бы все это могло значить. Может быть, таможня каким-то образом пронюхала о содержимом контейнера с «пластмассовой эмульсией»? Нет, это было маловероятно, ведь никто из членов экипажа не заходил в грузовой отсек во время полета, а на стоянках он всегда пристегивался ремнями, чтобы не выдать себя во сне неосторожным движением. В общем, нечего напрасно ломать голову, скоро и так все выяснится. С этой мыслью он заснул.
Пробуждение было мучительным. Совсем недавно Реджинальд страдал от холода, а сейчас горячее южное солнце превратило контейнер в духовку. Сколько прошло времени, он не знал. Во всяком случае, ему казалось, что целая вечность. Проклиная все на свете, Спирз готов был уже отказаться от всей этой безумной затеи, отвинтить крышку темницы, а там будь что будет, лишь бы приникнуть губами к холодной воде.
Счастливая случайность помогла и на этот раз: Реджинальд почувствовал мягкий толчок тронувшегося автопогрузчика. Еще несколько минут, и Спирз с облегчением услышал вой запущенных двигателей. Значит, он все-таки летит!
Спирз не помнил, как прошли последние часы полета. Возможно, временами он даже терял сознание, а по большей части находился в полузабытьи, механически продолжая щипать и растирать ничего уже не чувствующее тело.
К жизни его вернул густой бас, кричавший со столь знакомым австралийским акцентом где-то рядом над ухом: «Эй, парень! Тащи эту чушку на склад!» В третий и последний раз контейнер поплыл по воздуху, а затем довольно основательно трахнулся о цементный пол склада. Лязгнули двери склада, и воцарилась тишина. Немного подождав, Спирз отвинтил болты, крепившие боковую стенку, и, шатаясь от слабости, выбрался наружу. Стрелки на светящемся циферблате наручных часов показывали 3.20 утра. Следовательно, оставалось не так уж много времени до того, как на складе появятся рабочие. Нужно было спешить. Спирз проковылял на онемевших ногах к двери и осторожно нажал на створки. Раздавшийся пронзительный скрип, казалось, прозвучал на весь аэродром.
Прошла, однако, минута, вторая, десятая, а никто не бежал к дверям склада. Осмелев, Спирз выбрался из-за какого-то громоздкого ящика, куда он в панике забился, и приник к широкой щели между створками. Ура! Замка в петлях не было, только небрежно замотанный кусок проволоки. Теперь он спасен, с ней-то уж он как-нибудь справится.
...Когда час спустя шофер рейсового грузовика, сжалившись, взял в кабину молодого бродягу, голосовавшего на шоссе неподалеку от аэропорта, тот здорово удивил его. Первое, что он спросил, было: «Какое сегодня число?» Шофер весело присвистнул:
— Видно, изрядно перебрал вчера, малый? А может, позавчера? Сегодня-то двадцать седьмое...
Да, было 27 октября 1964 года, седьмой день после того, как Реджинальд Спирз завинтил за собой болты контейнера с «пластмассовой эмульсией» в далеком Лондоне.
...На этом, однако, история не закончилась. Дома Реджинальда ждал сюрприз. Лондонский друг Спирза, Максорлей, тот самый, который согласился скрепя сердце на безумную затею Реджинальда, в свое время взял с него слово немедленно по прилете в Австралию послать телеграмму. Дни шли за днями, а известий не было. Задохся? Замерз? Умер где-нибудь на складе, раздавленный тяжелым грузом? Максорлей не знал, что и думать. Наконец, на восьмой день после отправки злополучного ящика Максорлей обратился в контору БОАК. Еще двое суток ушло на выяснение судьбы отправленного груза. Вот так и случилось, что, когда Спирз добрался наконец до Аделаиды, дома его ждали встревоженная жена и... счет компаний БОАК и «Эр Индиа».
С. Барсов
(обратно)
Гарри Гаррисон. Неукротимая планета
 Продолжение. Начало в №№ 5—7.
Продолжение. Начало в №№ 5—7.
Будь у него менее опасный способ решить проблему, он предпочел бы его; роль героя-мученика Язону вовсе не улыбалась.
Волоча ноги, Язон добрел до высоких деревьев. Что-то шевельнулось среди ветвей и тут же пропало. Он поглядел на ближайшее дерево. Окружающие толстый ствол растения не производили впечатления ядовитых, и Язон вошел в лес. Вроде бы ничего угрожающего кругом. Странно... Он прислонился к шершавому стволу, собираясь с силами.
Что-то мягкое накрыло его голову, руки и ноги точно сковало железом, и чем сильнее он отбивался, тем крепче становилась хватка. Кровь стучала в висках, легкие готовы были взорваться.
Наконец он прекратил сопротивление, и сразу хватка несколько ослабла. Поняв, что на него напал не зверь, Язон слегка воспрянул духом. Он ничего не знал о корчевщиках, но рассчитывал на то, что человеческое в них возьмет верх.
Он был крепко связан, кобуру с пистолетом у него забрали. Без оружия Язон почувствовал себя словно голый. Все те же могучие руки снова схватили его и бросили ничком на что-то мягкое и теплое. Это «что-то» явно было каким-то крупным животным, и Язона опять обуял ужас, ведь все пиррянские животные — смертельные враги человека.
Когда животное тронулось с места, унося его на себе, на смену страху пришло огромное облегчение. Выходит, корчевщики сумели наладить своего рода сотрудничество по меньшей мере с одним представителем местной фауны. Если он выяснит, как это оказалось возможно и сумеет сообщить секрет жителям города, все его труды и мытарства окупятся. Пожалуй, даже смерть Велфа будет оправдана, если удастся умерить, а то и вовсе прекратить многовековую войну...
Наконец тряска прекратилась, Язона стащили со спины животного и бросили на землю. Чувствительность вернулась к развязанным рукам, он поднял их и сдернул с головы мешок, сшитый из какого-то густого меха.
Отдышавшись немного, Язон огляделся вокруг. Он лежал на полу из неструганых досок; через дверной проем прямо в лицо ему светило заходящее солнце. Весь склон холма до самого леса занимало вспаханное поле.
Что-то заслонило свет, на пороге выросла высокая фигура. В первую секунду Язону почудилось, что это зверь, потом он увидел лицо человека с длинными волосами и густой бородой. Человек был одет в шкуры, даже чулки были меховые. Поглаживая рукой подвешенный к поясу топор, он пристально смотрел на пленника.
— Кто ты? Чего тебе надо? — вдруг спросил бородач.
Язон помешкал с ответом — как бы этот дикарь не оказался таким же вспыльчивым, как горожане.
— Меня зовут Язон. Я пришел с миром. Я хочу быть вашим другом...
— Ложь!.. — Бородач взялся за топор. — Врешь, жестянщик! Я видел, как ты прятался. Хотел меня убить. Но раньше я тебя убью.
— Погодите! — отчаянно воскликнул Язон. — Вы не поняли.
Топор качнулся вниз...
— Я инопланетник и...
Топор вонзился возле уха Язона с такой силой, что даже пол вздрогнул. Бородач передумал в последнюю секунду. Схватив
Язона за грудь, он подтянул его к себе, так что их лица соприкоснулись.
— Правда? Инопланетник?
Не дожидаясь ответа, он разжал пальцы, и Язон упал на доски. Дикарь перескочил через него и шагнул куда-то в глубину хижины.
— Надо доложить Ресу, — сказал он, возясь с чем-то у стены.
Загорелся свет. Язон ошарашен-но вытаращил глаза. Одетый в шкуры косматый дикарь включил связное устройство. Грубые грязные пальцы быстро набрали номер.
Вздор какой-то... В уме Язона вид волосатого варвара никак не вязался с электронной аппаратурой. Кого он вызывает? Если есть связное устройство, должно быть по меньшей мере еще одно. Кто такой Рес?
Закрыв глаза, чтобы не мешали пробивающиеся сквозь макушки деревьев лучи солнца, Язон попробовал анализировать факты. Их можно было разделить на две группы: то, что он видел сам, и то, что узнал от жителей города. Вторая категория явно нуждалась в проверке и сопоставлении с наблюдаемым. Может статься, что многие, если не все, «факты» этого рода окажутся ложными.
— Вставай, — вторгся в его мысли голос бородача. — Поехали.
Затекшие ноги не держали Язона. Бородач презрительно фыркнул, поднял его и прислонил к наружной стене. Потом он куда-то исчез. За спиной Язона послышалось фырканье. Он резко обернулся и окаменел; рука сжимала несуществующий пистолет, палец дергал курок, которого не было.
Перед ним стоял какой-то зверь, неприметно вышедший из леса. Длиной около двух метров, шесть толстых ног с когтистыми лапами, тусклая черно-желтая шерсть, только череп и лопатки выстланы налегающими друг на друга роговыми пластинами. Зверь был так близко, что Язон хорошо все разглядел.
Он приготовился умереть.
Раскрылась жабья пасть, обнажая два ряда пильчатых зубов.
— Ко мне, Фидо, — позвал вышедший из сарая бородач и щелкнул пальцами.
Шестиногая тварь пробежала мимо огорошенного Язона и потерлась головой о ногу пиррянина.
— Хороший, хороший песик, — приговаривал тот, почесывая лопатку зверя около последней пластины.
Язон увидел, что бородач вывел двух оседланных и взнузданных верховых животных. Садясь на своего «коня», Язон обратил внимание на его гладкие, лоснящиеся бока и длинные ноги. Хозяин крепко привязал ступни Язона к стременам. И они тронулись в путь, сопровождаемые лысой тварью.
— Хорошая собачка! — сказал Язон, и вдруг на него напал беспричинный смех.
Путь был нетрудный, но долгий; плавная трусца животного и усталость сделали свое, и Язон задремал, просыпаясь каждый раз, когда сильно клевал носом. В конце концов он приспособился спать, сидя прямо. Так прошло несколько часов. Вдруг Язон, в сотый раз открыв глаза, увидел впереди освещенный квадрат. Путешествие окончилось.
Когда его освободили от стремян, он, морщась от боли, с великим трудом слез на землю. Онемевшие ноги подкосились, и он едва не упал. Открылась дверь, Язон
вошел в дом. Как только его глаза привыкли к свету, он разглядел кровать и лежащего на ней человека.
— Подойдите сюда и сядьте.
Голос был громкий, властный, привыкший повелевать, а тело, закрытое до пояса одеялом, принадлежало инвалиду. Болезненно-бледная кожа в красных узелках дряблыми складками облегала костяк. Вот уж поистине кожа да кости...
— Не очень красивое зрелище, — сказал человек на кровати, — но я уже привык. — Он продолжал совсем другим тоном: — Накса сообщил, что вы инопланетник. Это верно?
Язон кивнул. Живые мощи сразу взбодрились. Голова больного оторвалась от подушки, обрамленные красными веками глаза впились в Язона.
— Мое имя Рес, я... корчевщик. Вы мне поможете?
Язона озадачило волнение, с которым были произнесены эти, казалось бы, такие простые слова. Тем не менее он, не задумываясь, ответил:
— Конечно, я помогу вам чем смогу. Только бы это не было во вред другим. А что вы хотите?
Больной уже опустил голову обратно на подушку, но глаза его горели по-прежнему.
— Не беспокойтесь, я никому не желаю вреда, — заверил он. — Напротив. Как видите, у меня болезнь, против которой все наши средства бессильны. Мне осталось жить несколько дней. Но я видел... у горожан... какое-то приспособление... Они прикладывают его к ранам и укусам. У вас нет с собой такого аппарата?
— Вы, очевидно, говорите про аптечку. — Язон нажал кнопку на поясе, и аптечка оказалась у него в руке. — Вот. Это устройство определяет и излечивает большинство...
— Вы не могли бы испробовать его на мне? — нетерпеливо перебил его Рес.
— Извините, я должен был сразу сообразить…
Язон подошел к Ресу и прижал аппарат к воспаленному участку кожи на его груди. Вспыхнул контрольный огонек, вниз пошел тонкий штифт анализатора. Как только он возвратился на место, аппарат зажужжал, потом трижды щелкнул: три иглы поочередно вошли в тело. Наконец огонек погас.
— И все? — спросил Рес, глядя, как Язон пристегивает аптечку к поясу.
Язон кивнул и увидел влажные дорожки на щеках больного. Рес поймал его взгляд и сердито смахнул рукой слезы.
— Стоит заболеть, — проворчал он, — и твое тело, все твои органы чувств тебя предают. Я с детства не плакал, и сейчас мне не себя жаль, а тысячи людей, умерших только потому, что у нас нет этой маленькой штучки, с которой вы так запросто обращаетесь.
— Неужели у вас нет своих лекарств и врачей?
— Знахари и колдуны, — Рес сделал рукой выразительный жест, в который вложил все свое презрение к этим людям.
Разговор утомил Реса. Он вдруг умолк и закрыл глаза. Уколы уже начали действовать, и красные пятна на груди посветлели.
Язон осматривал комнату, надеясь найти какие-нибудь ключи к загадке этого народа.
Пол и стены — простые, грубые доски. Ни краски, ни резьбы, как и должно быть у дикарей. А впрочем, точно ли они грубые? Какая сочная фактура у этого дерева, кажется, что оно светится изнутри... Язон нагнулся и увидел, что доски натерли воском, чтобы выявить узор. Чьих рук это дело — дикарей или людей с тонким вкусом, которые стремились облагородить простейший материал? И выглядит куда красивее, чем комнаты горожан с их унылой краской и стальными заклепками. Недаром говорят, что простота венчает оба конца шкалы артистизма... Непосвященный абориген облекает простую идею в бесхитростную форму и творит красоту. А искушенный критик отвергает чрезмерную изощренность и красивость ради чистой подлинности незатейливого искусства. Какой конец шкалы сейчас перед ним?
Ему говорили, что эти люди дикари. Они носят одежду из шкур, и речь у них, во всяком случае у Наксы, грубая. Но как совместить это со связными устройствами? И с люминисцентным потолком, который заливает всю комнату мягким светом.
Рес открыл глаза и уставился на Язона так, будто видел его впервые.
— Кто вы? — спросил он. — И зачем вы пришли к нам?
Холодная угроза, прозвучавшая в его голосе, не удивила Язона. Городские пирряне ненавидели корчевщиков, и это чувство, несомненно, было обоюдным. Об этом ему сказал еще топор Наксы... Кстати, вот и Накса стоит, держа руку на том самом топоре. Язон прекрасно понимал, что, пока эти люди не услышали от него удовлетворительный ответ, жизнь его под угрозой.
Но и правды говорить нельзя. Стоит им заподозрить, что он шпионит в пользу горожан, и на этом все кончится. Как же выяснить, каким образом они ухитряются выживать в джунглях?
Решение пришло тут же, он повернулся к больному и ответил, стараясь говорить возможно спокойнее:
— Меня зовут Язон динАльт, я эколог, так что, сами понимаете, у меня были все основания выбрать эту планету. Я много слышал о ней и наконец решил сам с ней познакомиться. Поработал в городе, но понял, что этого мало. Люди там считают меня помешанным, но я все же добился того, что меня повезли в лес.
— Когда и как они должны вас забрать? — быстро спросил Рес.
— Мы об этом не договаривались. Они твердили, что меня сразу убьют, что я ни за что не вернусь. Никак не хотели отпускать одного, и мне пришлось убежать.
Судя по улыбке Реса, ответ Язона как будто удовлетворил его.
— Типично для этих жестянщиков. Они шагу не шагнут за свои стены без бронированной машины с амбар величиной. А что они вам рассказывали про нас?
Язон ответил не сразу, понимая, как важно сейчас не промахнуться.
— Что же, может быть, мне снесут голову этим топором, но лучше я скажу правду. Вам следует знать, что они о вас думают. Мне описывали вас как грязных, невежественных дикарей, говорили, что от вас смердит и что вы общаетесь с животными. Что они дают вам бусы и ножи в обмен на продовольствие...
Оба пиррянина громко расхохотались. Правда, Реса хватило ненадолго, но Накса буквально закатился смехом и справился с собой только после того, как плеснул на голову холодной воды из высушенной тыквы.
— Охотно верю, — сказал Рес. — Как раз в их духе глупость. Эти люди совсем не знают мира, в котором живут. Надеюсь, остальное, что вы говорили, тоже правда. Но все равно вы желанный гость. Я уже убедился, что вы инопланетник. Ни один из жестянщиков пальцем не пошевельнул бы, чтобы меня спасти. Вы первый инопланетник, с которым встречается мой народ, поэтому мы вам вдвойне рады. Мы готовы помочь вам всем, чем только можем. Моя рука — ваша рука.
Каждая клеточка его тела, придавленная двойным тяготением к твердому деревянному полу, ныла. Он с трудом сел и едва подавил стон.
— Добрый день, Язон, — приветствовал его с кровати Рес. — Не верь я так в лекарства, я бы сказал, что ваша машина исцелила меня за одну ночь волшебством.
Сразу было видно, что дело идет на поправку. Пятна на коже пропали, глаза освободились от горячечного блеска. Он сидел, опираясь на подушки, и смотрел, как под лучами солнца тает на поле ночной град.
— Там в шкафу вы найдете мясо, — продолжал Рес. — А для питья есть вода и виск, что больше нравится.
Виск оказался прозрачным напитком чрезвычайной крепости, от которого у Язона слегка зазвенело в ушах. А окорок нежнейшего копчения неизмеримо превосходил вкусом все, что он ел с тех пор, как покинул Дархан. Усталость прошла, ничто не угрожало его .жизни, и мысли Язона снова обратились к волнующей его проблеме. Информация — вот что ему надо. А для начала хотя бы отчасти развеять туман дезинформации.
— Рес, вы рассмеялись, когда я сказал, что в городе меня уверяли, будто дают вам безделушки за продовольствие. А что вы получаете от них на самом деле?
— Все до известных пределов. Разные фабричные изделия, в том числе электронику для наших связных устройств. Нержавеющие сплавы, которые мы сами не можем производить, атомно-электрические преобразователи, которые работают на любых радиоактивных элементах... В общем, что попросим, то и получаем, если только это изделие не числится в списке запрещенных товаров... Жестянщики остро нуждаются в продовольствии.
— А что входит в список?
— Оружие, конечно, и все, из чего можно изготовить мощное оружие. Они знают, что мы делаем порох, поэтому нам не дадут крупного литья или бесшовных труб, пригодных для изготовления стволов большого калибра. Еще они стремятся ограничить нас в знаниях, поэтому к нам доходят одни только технические инструкции без каких-либо теоретических основ. Наконец, это вы уже знаете, запретна медицина. Меня это особенно бесит, я ненавижу их все сильнее с каждым смертным случаем, который можно было бы предотвратить.
— Я знаю их соображения, — сказал Язон.
— Соображения?.. Я не вижу в этом никакого смысла.
— Борьба за существование, только и всего. Вам, очевидно, невдомек, что население города сокращается. Через несколько десятков лет там вообще никого не останется. А у вас численность населения, надо думать, стабильная, наверно, даже есть небольшой прирост, а то бы вам без механических средств защиты не уцелеть. Отсюда эта ненависть и зависть горожан. Если дать вам лекарства, вы сумеете выиграть битву, которую они уже проиграли. Думаю, они терпят вас как неизбежное зло, ради продовольствия, которым вы их снабжаете.
Иначе они поспешили бы отправить вас на тот свет.
— Похоже на правду, — пробурчал Рес и стукнул кулаком по кровати. — Именно такая извращенная логика и должна быть у этих жестянщиков. Они кормятся за наш счет, дают нам минимум взамен и отрезают нас от знаний. Но самое главное — они отрезают нас от звезд и от остального человечества.
Лицо его выражало такую ненависть, что Язон невольно попятился.
— Ну, а как вы, Язон? Тоже считаете нас дикарями? Но мы кое-что знаем о звездах. Вон в том сундуке, в железном, хранится около трех десятков книг — все, что у нас есть. По большей части художественная литература, но есть исторические труды и научно-популярные книжки. Из них мы черпаем наши представления о прошлом колонии на Пирре и об остальной вселенной. Мы видим, как в городе садятся корабли, и знаем, что есть другие миры, о которых мы можем только грезить. Что же удивительного в том, что мы ненавидим этих зверей, которые называют себя людьми? Они правильно делают, что не дают нам оружия, иначе мы перебили бы их всех до одного.
Суровый приговор, но справедливый. Язон не стал говорить сердитому хозяину дома, что городские пирряне считают свою линию единственно возможной и правильной.
— А с чего вообще начался этот разлад между вашими двумя группами? — спросил он.
— Не знаю, — ответил Рес. — Я об этом много думал, но у нас нет никаких документов той поры. Известно, что все мы происходим от колонистов, которые в какой-то момент разделились на две группы. Возможно, была война...
— Я допускаю, что не так уж важно, кто начал, — уступил Язон, хотя в душе этого не считал. — Но согласитесь, что горожане непрерывно воюют со всеми здешними организмами. А ваш народ, как я уже мог убедиться, сумел одомашнить, во всяком случае, два вида. Вам не известно, как именно удалось этого добиться?
— Спросите об этом Наксу, — ответил Рес, — он у нас лучший говорун.
— Говорун? У меня о нем прямо противоположное мнение. Он отнюдь не речист, а когда заговорит, то... простите, его не всегда поймешь.
— Он говорун не в том смысле, — объяснил Рес. — Говоруны занимаются животными. Обучают собак и доримов, а лучшие, вроде Наксы, стараются приручить и других животных. Одеты просто, но это по необходимости. Они говорят, что животные не любят никакой химии, металлов, крашеной кожи. Вот и носят чаще всего шкуры.
— Доримы? Это так называются верховые животные, на которых мы приехали сюда?
Рес кивнул.
— На них не только верхом ездят — они на многое годятся. Крупные самцы тянут плуги и другие механизмы, а молодые животные — это мясо. Хотите узнать побольше, расспросите Наксу, он сейчас на конюшне.
— Пожалуй, так и сделаю. — Язон встал. — Только я как-то неловко себя чувствую без пистолета...
— Возьмите его, милости прошу, он лежит в ящике около двери. Да только не стреляйте без разбора.
Накса стоял в глубине сарая и стачивал копыто дориму. Удивительная картина, полный контраст... С одной стороны, человек, одетый в шкуры, и диковинный зверь, с другой стороны — напильник из сплава бериллий-медь и электролюминесцентное освещение. При виде Язона дорим раздул ноздри и шарахнулся в сторону. Накса погладил животное по шее и ласково заговорил с ним; наконец дорим успокоился, только иногда по его шкуре пробегала дрожь.
Что-то шелохнулось в сознании Язона. Словно напряглась мышца, которой он давно не пользовался. Какое-то неуловимо знакомое чувство...
— Доброе утро, — поздоровался он.
Накса буркнул в ответ и продолжал работать напильником. Язон глядел на него и силился разобраться в своей собственной душе, осмыслить загадочное чувство, которое дразнило его и упорно не хотело поддаваться определению.
— Вам не трудно позвать собаку, Накса? Мне хочется посмотреть на нее поближе.
Не поднимая головы, Накса тихонько свистнул. Язон готов был поклясться, что этот свист не мог проникнуть через стену сарая. Тем не менее не прошло и минуты, как в конюшню тихо вошла пиррянская собака. Говорун поскреб ей загривок, бормоча что-то. а она пристально смотрела ему в глаза. Когда же Накса снова взялся за напильник, собака сразу заметалась по сараю, тревожно принюхиваясь, потом устремилась к двери. И тут Язон окликнул ее.
Точнее, он собирался ее окликнуть. В последнюю минуту Язон передумал и, подчиняясь внезапному побуждению, позвал собаку мысленно. Произнося про себя слова: «Иди сюда», — он сосредоточил всю свою энергию на том, чтобы передать команду собаке примерно так же, как делал это с игральными костями.
Собака остановилась и повернулась в его сторону.
Постояла, глядя на Наксу, потом подошла к Язону,
Вблизи это была кошмарная тварь. Голые защитные пластины, маленькие глазки с красным ободком и поблескивающие слюной клыки отнюдь не внушали доверия. И однако Язону не было страшно. Между человеком и зверем установился обоюдный контакт. Язон машинально протянул руку и почесал зверю спину.
— А я и не знал, что ты говорун, — сказал Накса; впервые в его голосе прозвучала дружеская нотка.
— И я не знал... до этой минуты, — ответил Язон.
Он заглянул в глаза зверю, еще раз почесал уродливую спину и подумал, что загадка вроде бы проясняется.
У говорунов хорошо развиты телепатические способности. Надо проникнуть в душу, понять ее, чтобы исключить ненависть и страх, потом можно наладить прямое общение. Видимо, говоруны первыми преодолели барьер ненависти на Пирре и научились ладить с пиррянскими тварями. Другие последовали их примеру — может быть, так и сложилась мало-помалу община корчевщиков.
Настроившись на нужный лад, Язон отчетливо воспринимал окружающие его мысленные флюиды. Телепатическое поле питалось биотоками не только дорима, с которым был занят Накса; не выходя из конюшни, Язон внутренним зрением видел других доримов, ходивших на лугу за сараем.
— Это все совсем ново для меня, — сказал он. — А вы никогда не задумывались, Накса, над этой своей способностью? Сами-то вы знаете, почему вас животные слушаются, а другим людям никак не удается ими управлять?
Накса явно не привык размышлять о таких предметах. Он расчесал пятерней свои густые волосы и насупился.
— Не знаю, я об этом не думал. Просто так получается. Ты только знай животных как следует и всегда угадаешь, как они себя поведут. И все тут.
Было очевидно, что Накса никогда не ломал себе голову над истоками своего умения управлять животными. И не только он. Похоже, эти люди воспринимают дар говорунов как нечто само собой разумеющееся.
В мозаике, которую он мысленно складывал, прибавилось еще несколько кусочков. В беседе с Керком Язон говорил, что все пиррянские организмы явно объединились в борьбе против человека, но он не знал почему. Он и сейчас не знает почему, зато, кажется, догадывается как...
— Сколько отсюда до города? — спросил Язон. — Долго ехать, если отправиться туда на дориме?
— Полдня туда, полдня обратно. А что? Хочешь уехать?
— Нет, в город я не хочу, пока не хочу. Но мне хотелось бы подобраться к нему поближе.
— Поглядим, что Рес скажет.
Рес сразу дал свое согласие, незадавая никаких вопросов. Они оседлали доримов и немедля отправились в путь, чтобы обернуться до темноты.
Не прошло и часа, как Язон почувствовал приближение города. С каждой минутой это ощущение становилось все сильнее. И Накса как-то беспокойно ежился в седле. Доримы проявляли растущую тревогу, их приходилось все время поглаживать и успокаивать.
— Хватит, — сказал наконец. Язон, и Накса с облегчением остановился.
Одну вещь Язон понял со всей очевидностью: пиррянские животные восприимчивы к телепатическому излучению; вероятно, это относится также и к растениям, и к низшим организмам. Не исключено, что и они общаются телепатически между собой. Причем здесь, в этом районе, напряженность телепатического поля превосходила все, с чем он когда-либо встречался. Хотя сам Язон лучше всего владел психокинезом, иначе говоря, усилием мысли приводил в движение неодушевленные предметы, он был восприимчив и к другим феноменам этого ряда. Сколько раз во время спортивных состязаний он улавливал мощный аккорд порыва, который одновременно овладевал душами массы зрителей. Вот и сейчас он испытывал что-то в этом роде.
С одной зловещей разницей... Толпа на стадионе ликовала, когда спортсмен добивался успеха, стонала, когда его постигала неудача. Там по ходу игры менялись и сила, и полярность телепатического поля. А здесь излучение было мощным и постоянным, и оно навевало тревогу. И не сразу подберешь для него определение... Тут и ненависть, и страх, а больше всего — страсть к разрушению. В двух словах — что-то вроде команды: «Убей Врага!».
Да нет, и это определение всего не исчерпывает... Его сознание будто омывала мощная река исступления и смерти.
— Поехали назад, — сказал Язон, почувствовав внезапное изнеможение от внутренней борьбы с этим потоком...

Когда они вернулись, Рес спал, и пришлось разговор с ним отложить на утро. Несмотря на усталость, Язон долго не мог уснуть, все думал о сделанных в этот день открытиях. Стоит ли делиться этим с Ресом? Вряд ли. Ведь тогда придется не только разъяснить всю важность выводов, к которым он пришел, но и говорить, что он собирается дальше делать. А от Реса не приходится ожидать, чтобы он приветствовал какие-либо шаги, способные хоть немного облегчить жизнь горожан. Нет, лучше уж не говорить, пока дело не будет сделано.
После завтрака Язон сказал Ресу, что решил вернуться в город.
— Значит, насмотрелись нашего варварского мира, и вас потянуло обратно к вашим друзьям? Уж не за тем ли, чтобы помочь им разделаться с нами?
Рес весело произнес эти слова, однако за ними угадывалась леденящая злоба.
— Надеюсь, вы не думаете так на самом деле, — ответил Язон. — Ведь дело-то обстоит как раз наоборот. Я мечтаю, чтобы эта междоусобная война прекратилась и ваш народ мог воспользоваться всеми благами науки и медицины, которых он был лишен. И я собираюсь сделать для этого все, что в моих силах.
— Все равно их не переделать, — мрачно произнес Рес. — Не тратьте зря времени. Обещайте только для вашего и для нашего блага одну вещь. Не говорите им, даже не намекайте, что вы разговаривали с корчевщиками!
— Почему?
— Почему?! Гром и молния. Вы взаправду такой простак?! Они же на все готовы, только бы не дать нам подняться на ноги, предпочтут, чтобы все мы подохли! Стоит им заподозрить, что вы с нами встречались, и они вас сразу прикончат. Или вы в этом сомневаетесь? Не знаю, может быть, вам это невдомек, но они отлично понимают, что в вашей власти изменить соотношение сил на планете. Рядовые жестянщики, возможно, и верят, что мы недалеко ушли от животных, но руководители так не думают. Им хорошо известно, в чем мы нуждаемся и к чему стремимся. И они сразу сообразят, с какой просьбой я мог обратиться к вам. Да-да, Язон динАльт, у меня есть к вам просьба. Помогите нам. Вернитесь к этим двуногим бестиям и солгите. Скажите, что вы не имели с нами никаких дел, что вы скрывались в лесу, и мы напали на вас, и вам пришлось отстреливаться. А мы для большей верности подбросим несколько свежих трупов. Постарайтесь, чтобы вам поверили. Потом скажите им, что вы закончили свои исследования и возвращаетесь домой. Постарайтесь улететь с Пирра на другую планету, и я вам обещаю любые блага. Все, чего вы только пожелаете. Деньги, могущество — что угодно: Пирр — очень богатая планета. Жестянщики добывают и продают металл, но мы могли бы справиться с этим делом куда лучше. Возвращайтесь сюда на другом корабле и приземляйтесь в нашем краю где угодно. У нас нет городов, но фермы разбросаны повсюду, и наши люди отыщут вас. И мы поведем с вами торговлю. Это наша мечта. А вся заслуга будет принадлежать вам. И вы получите от нас все, чего пожелаете. Я вам это обещаю, а мы свое слово держим.
Волнение, с каким говорил Рес, и перспектива, которую он нарисовал, подействовали на Язона. Он знал, что Рес говорит правду, что все ресурсы планеты будут в его распоряжении, если он сделает то, о чем его просят. И он даже чуть не поддался искушению, представив себе на секунду, как это все будет выглядеть. Но тут же понял, что это будет половинчатое решение, к тому же далеко не лучшее. Как только эти люди обретут желаемую силу, они первым делом попробуют разделаться с горожанами. Начнется кровавая междоусобная война, которая скорее всего кончится плохо для обеих сторон.
— Я не сделаю ничего, что могло бы повредить вашему народу, Рес, и всячески постараюсь помочь ему, — сказал он.
Ответ Язона удовлетворил Реса, который не уловил заложенного в нем двойного смысла. И пиррянин подсел к связному устройству, чтобы условиться о доставке продовольствия с ферм на место обмена.
— Ну так, продовольствие доставлено, и мы передали в город положенный сигнал, — сообщил Рес через несколько часов. — Транспортер придет завтра утром, к этому времени вы будете там. Все подготовлено, как я говорил. Отправляйтесь в путь вместе с Наксой. Вам надо поспеть туда раньше транспортера.
— Машина сейчас придет. Ты все помнишь, что надо делать? — спросил Накса..
На этот раз бронетранспортер тащил на прицепе три грузовые платформы. Автопоезд взобрался на скалу и остановился. Краннон вылез из кабины, внимательно посмотрел по сторонам, затем приступил к погрузке. Ему помогал спецробот.
— Пошел! — прошипел Накса.
Язон выскочил из леса и побежал к транспортеру, громко крича имя Краннона. За его спиной раздался треск ломающихся ветвей, это двое сопровождающих бросили следом мертвое тело. Язон повернулся и несколько раз выстрелил на ходу по летящей в воздухе мишени.
Краннон немедленно поддержал его огнем из своего пистолета, и дважды покойник упал на землю, весь обугленный. Тем временем Краннон, плюхнувшись на камень, перенес огонь на деревья за спиной Язона.
В ту самую секунду, когда Язон добежал до транспортера, что-то со свистом пролетело по воздуху, ожгло ему спину и бросило на скалу. Краннон живо втащил его в кабину. Язон оглянулся и увидел торчащий из лопатки черенок металлической стрелы.
— Везучий ты, — сказал пиррянин. — На дюйм пониже, и попало бы прямо в сердце. Говорил я тебе — берегись этих корчевщиков. Еще легко отделался.
Перевязав Язона, Краннон осторожно выбрался из кабины и быстро завершил погрузку, после чего повел автопоезд обратно в город. Получив обезболивающий укол, Язон почти сразу же забылся.
Очевидно, Краннон передал о случившемся по радио, пока он дремал, потому что среди встречающих был Керк. Как только машина вошла внутрь периметра, он распахнул дверцу и вытащил Язона. Повязка слетела, и рана вскрылась. Язон скрипнул зубами. Нет, Керк не дождется его стона.
— Кому было сказано ждать отправления корабля в изоляторе?! Почему ты ушел? Почему покинул город? Ты разговаривал с корчевщиками? Ну?
С каждым вопросом он грубо встряхивал Язона.
— Я... ни с кем... не разговаривал, — через силу вымолвил Язон. — Они охотились за мной, я убил двоих... И прятался, пока не пришла машина.
— Потом пришил еще одного, — вступился Краннон. — Я сам видел. Чистая работа. Да и я вроде не промазал. Отпусти его, Керк, они его ранили, когда он бежал к машине.
«Больше оправдываться не надо, — сказал себе Язон. — Незачем пережимать. Сейчас лучше переменить тему. Есть одна вещь, которая сразу отвлечет его мысли от корчевщиков».
— Пока вы отсиживались тут в безопасности за периметром, я за вас воевал, Керк. — Он прислонился к транспортеру, пользуясь тем, что хватка Керка немного ослабла. — Мне удалось разобраться в причинах ваших неладов с планетой. И я понял, как победить в этой битве. Дай-ка я сяду, и уж тогда расскажу.
Вокруг них собралась толпа пиррян. Они стояли, словно оцепенев, и неотступно глядели на Язона. Керк тоже был явно огорошен. Наконец он медленно произнес:
— Что ты хочешь этим сказать?
— То самое, что сказал Планета Пирр воюет с вами, воюет упорно и сознательно. Стоит удалиться от города, и сразу чувствуешь направленные на него волны ненависти. Вы-то их не почувствуете, ведь вы здесь выросли. А вот я чувствую. И любой человек с телепатическими способностями почувствует. На город постоянно направлено излуг чение, своего рода команда, которая настраивает здешние организмы, восприимчивые к телепатии, на войну. Все эти атаки, видоизменения, мутации — все подчинено одной цели: истребить вас. И так будет продолжаться, пока вы не погибнете все до одного. Если, конечно, вам не удастся положить конец этой войне.
— Как? — выпалил Керк; этот же вопрос был написан на лицах всех окружающих.
— Надо установить, кто или что излучает эту команду. Организмы, которые вас атакуют, сами не наделены разумом. Они только выполняют команду. И мне кажется, я знаю, как обнаружить источник, откуда она поступает. А потом останется решить, как передать предложение о перемирии и таким образом покончить с войной.
Пирряне примолкли, осмысливая услышанное. Наконец Керк жестом велел всем расходиться.
— Возвращайтесь к работе. Это по моей части, я займусь этим делом. Как только выясню, что тут правда, а что ложь, получите мой полный отчет.
Люди молча разошлись, то и дело оглядываясь на Язона.
— Так, теперь давай все сначала, — сказал Керк. — И ничего не пропускай.
— Да, пожалуй, мне нечего добавить... Я наблюдал животных, разобрался в команде, которая их направляет. Даже сам провел несколько опытов, и животные подчинялись моим мысленным приказам. Теперь я должен обнаружить источник, откуда идет команда на войну. Сейчас я скажу тебе то, чего еще никому не говорил. Мне не просто везет в игре. Я обладаю телепатическим свойством, оно позволяет мне в какой-то мере влиять на вероятный исход игры. Правда, свойство непостоянное, и я, естественно, старался его развивать. За последние десять лет сумел ознакомиться со всем, что делают в этой области разные научные центры. Просто удивительно, как мало известно о телепатии, если сравнить с другими отраслями знания. Как бы то ни было, врожденные способности можно развить упражнением. Созданы даже аппараты, которые усиливают телепатическое излучение. Один из этих аппаратов вполне может работать как пеленгатор.
— Ты хочешь собрать такой аппарат? — спросил Керк.
— Вот именно. Собрать и вылететь с ним на корабле за город. Если сигнал достаточно мощный, чтобы из столетия в столетие стимулировать войну, значит можно его засечь. Я пойду по пеленгу, свяжусь с существами, которые передают команды, и попытаюсь выяснить, зачем они это делают. Надо думать, ты поддержишь разумный план, чтобы прекратить войну?
— Разумный — да, — холодно ответил Керк. — Сколько времени тебе надо, чтобы собрать аппарат?
— Несколько дней, если найдутся все нужные части.
— Приступай. Я отменяю очередной рейс и держу корабль наготове. Когда соберешь аппарат, лети и засеки сигнал, а потом доложи мне.
— Договорились. — Язон встал. — Как только мне залатают дыру в лопатке, составлю список того, что мне нужно.
В помощники и телохранители Язону назначили сурового, неулыбчивого типа по имени Скоп. Он ревностно отнесся к своему поручению, и Язон быстро убедился, что о полной свободе ему мечтать не приходится. Хотя Керк не оспаривал его версию, это еще не означало, что он в нее поверил. Скажет слово, и телохранитель превратится в палача...
Составляя список деталей для пеленгатора, Язон продолжал упорно искать выход, которого не было. Его мысли вращались по заколдованному кругу. Задний ход давать поздно, Керк его не выпустит. Либо он найдет способ покончить с войной и решит проблему корчевщиков, либо его ждет пожизненное заточение на Пирре. И надолго оно не затянется...
Подготовив список, он связался с Управлением снабжения, и ему обещали немедленно выполнить заказ. Скоп сидел и клевал носом. Подперев рукой тяжелую голову, Язон принялся составлять монтажную схему.
Внезапно его внимание привлекла тишина. Тишина?.. Он слышал, как работает аппаратура в здании, слышал голоса в соседнем помещении. Так в чем же дело?
Ах вот оно что — внутренний слух. После возвращения в город у Язона было столько забот, что он только теперь обратил внимание на полное отсутствие телепатических импульсов. Постоянный фон, образованный реакциями животных, исчез, исчез и его собственный телепатический настрой. И ведь в городе — он только сейчас это сообразил — всегда было так.
Какая-то часть мозга, действуя как предохранитель, выключала телепатическое восприятие и спасала рассудок. Но и того, что все-таки просачивалось, хватало, чтобы он ощущал напор извне.
От мозгового предохранителя была еще и та польза, что без давления извне Язону легче было сосредоточиться, и, как он ни устал, работа над схемой продвигалась быстро.
Ближе к вечеру появилась Мета с заказанными им деталями. Она бросила на верстак длинный ящик и явно хотела что-то сказать, но потом раздумала. Язон поднял взгляд на нее и улыбнулся.
— Ты чем-то озадачена? — спросил он.
— О чем это ты? Вовсе я не озадачена. Просто мне досадно. Очередной рейс отменен, график поставок нарушен. Вместо того чтобы идти в рейс или дежурить на периметре, я должна слоняться без дела и ждать тебя. Потом зачем-то лететь куда-то, куда ты скажешь. Разве это не причина для досады?
Язон тщательно разместил детали на шасси, потом продолжил разговор.
— Если я говорю «озадачена», в этом нет ничего обидного для тебя. Конечно, Пирр — это как бы остров с множеством сложных проблем, решать которые вы мастера. Но остров — он остров и есть. Перед лицом внепланетной проблемы ты теряешься. И еще сильнее теряешься, когда ваши островные проблемы оказываются частью более широкого контекста. Представь себе, что ты ведешь игру, в которой правила непрерывно меняются.
— Какой вздор ты говоришь, — оборвала она его. — Пирр вовсе не остров, и борьба за существование — отнюдь не игра.
— Извини, — улыбнулся он. — Я ведь это в переносном смысле, да, видно, сравнение не совсем удачно выбрал. Ладно, давай более конкретно. Разберем пример. Допустим, я скажу тебе, что вон там, на двери, сидит шипокрыл...
Прежде чем он договорил, пистолет Меты нацелился на дверь. С грохотом опрокинулся стул — Скоп очнулся, вскочил на ноги и тоже прицелился.
— Это я так, для примера, — объяснил Язон. — Там же нет ничего.
Охранник убрал пистолет, наградил Язона презрительным взглядом, поднял стул и снова сел.
— Сейчас вы оба подтвердили свою способность решать пиррянские проблемы, — продолжал Язон. — Ну а если я скажу, что над дверью сидит тварь, которая только с виду похожа на шипокрыла? А на самом деле это огромное насекомое, и оно прядет тонкую шелковую нить, пригодную для изготовления ткани?
Скоп метнул из-под густых бровей взгляд на дверь, и пистолет его выскочил было из кобуры, но тотчас вернулся на место. Буркнув что-то нелестное для Язона, пиррянин сердито вышел и хлопнул дверью. Мета наморщила лоб, размышляя.
— Это мог быть только шипокрыл, — сказала она наконец. — Никаких других тварей, похожих на шипокрыла, нет. И шелковая нить тут ни при чем. А если бы ты подошел к нему поближе, он бы тебя укусил. Так что тебе поневоле пришлось бы убить его.
Судя по улыбке Меты, она была довольна логикой своего ответа.
— Опять промах, — возразил Язон. — Я описал мимикрирующего паука, который водится на планете Стовера. Этот паук умеет маскироваться под самых опасных животных, да так ловко, что ему не нужна никакая другая защита. Так вот, этого паука можно спокойно посадить себе, на руку, он будет сидеть и прясть. Представь себе, что я завез бы сюда, на Пирр, несколько тонн таких пауков, как вы бы знали, когда стрелять, а когда нет?
— Но их здесь нет, — стояла на своем Мета.
— Сейчас нет, а вдруг появятся? Придется менять все правила вашей игры. Ну как, поняла? В Галактике действуют определенные законы и нормы, но они отличаются от ваших. Для вас нормой стала нескончаемая война с местными организмами. Я хочу нарушить этот порядок и покончить с войной. Разве ты против? Разве не хочешь, чтобы твоя жизнь перестала быть сплошной борьбой за существование? Чтобы в ней было место. для счастья, любви, музыки, искусства — всего того, на что у вас теперь просто нет времени?
Слушая Язона и стараясь осмыслить все эти непривычные понятия, Мета преобразилась, пиррянская суровость сошла с ее лица. Он как-то машинально взял ее за руку — рука была теплая и отзывалась на его прикосновение частым биением пульса.
Вдруг Мета опомнилась, отдернула руку и бросилась к двери. Вдогонку ей неслись слова Язона:
— Скоп бежал, потому что боялся за свою драгоценную черно-белую логику. Это все, что у него есть. Но ведь ты-то видела другие части Галактики, ты знаешь, что жизнь не сводится к тому, чтобы убивать или быть убитым. Ты чувствуешь, что я прав, только не хочешь этого признать.
Она выскочила за дверь.
Проводив ее взглядом, Язон задумчиво потер пальцами щетинистый подбородок: «Кажется, женщина берет верх над пиррянином, — сказал он себе. — По-моему, я видел слезы на ее глазах... Может быть, даже первые слезы за всю кровавую историю этого истерзанного войной города...»
Язон последним поднялся на борт и задраил за собой люк.
— Где ты его поставишь? — спросила Мета.
— Где ты посоветуешь, — ответил Язон. — Мне нужно для антенны такое место, чтобы ее не экранировал металл. Тонкий пластик — не страшно. В крайнем случае установлю антенну снаружи и налажу дистанционное управление.
— Может, так и придется сделать. Корпус сплошной, для обзора у нас служат приборы и телевидение. Так что... Хотя погоди, кажется, есть подходящее место.
Мета проводила его к отсеку, где помещалась одна из спасательных капсул. Вход в этот отсек всегда был открыт. Они вошли; за ними вошел и Скоп со своей ношей.
— Капсулы утоплены в корпус только наполовину, — объяснила Мета. — У них прозрачные носовые иллюминаторы.
— Превосходно, — заключил Язон. — Здесь и устроюсь. А как мы с тобой будем переговариваться?
— Вот... Видишь — связное устройство и блок с фиксированной настройкой? Только больше ничего не трогай, особенно вот этот контакт.
Мета показала на рукоятку посредине панели управления.
— Если включить его, через две секунды капсула отстреливается. А своего запаса горючего у нее нет.
— Есть не трогать, — сказал Язон. — Теперь вели этому крепышу подключить меня к сети питания, и я соберу пеленгатор.
Закончив сборку и установку, Язон кивнул изображению Меты на экране визифона.
— Пошли, да потише, пожалуйста. Обойдемся без твоих любимых девятикратных перегрузок. Когда взлетим, пойдешь медленно над периметром, пока не дам новую команду.
Корабль медленно поднялся в воздух, набрал высоту и лег на круговой курс. После пятого круга Язон покачал головой:
— С аппаратом, по-моему, все в порядке, но слишком много помех от местной активности. Отойди-ка километров на тридцать от города, там опять пойдем по кругу.
На этот раз дело пошло лучше. Со стороны города поступал мощный импульс; пеленгатор давал его направление с точностью до одного градуса. Держа антенну под прямым углом к курсу, Язон получал достаточно постоянный сигнал. Мета повернула корабль вокруг продольной оси так, что капсула Язона оказалась точно внизу.
— Теперь полный порядок, — сказал он. — Держи так и старайся, чтобы нос не отклонялся.
Сделав засечку на лимбе, Язон повернул антенну на 180 градусов. Корабль продолжал идти по кругу, а Язон внимательно следил, нет ли импульсов, направленных к городу. Когда половина окружности была пройдена, он снова услышал сигнал.
Полоса была узкая, но мощная. Для полной уверенности Язон прошел еще два круга и оба раза точно засек гирокомпасом направление. Показания совпали. После этого он вызвал Мету.
— Приготовься делать поворот вправо, или как это там у вас называется. Кажется, есть пеленг. Внимание... давай!
Поворот был сделан так плавно, что Язон ни на секунду не потерял сигнала. Два-три раза стрелка прибора качалась, но Язон тотчас возвращал ее на место. Как только корабль лег на заданный курс, Мета увеличила тягу.
Они шли прямо на область лесных пиррян.
Час хода почти на предельной атмосферной скорости не принес никаких изменений. Мета ворчала, но от курса не отклонялась. Направление сигнала не менялось, а мощность понемногу росла. Они прошли над цепью вулканов по краю материка, а когда берег остался позади и внизу простерлось море, Скоп тоже начал ворчать. Он все крутил свою турель, однако вдали от суши не по чему было стрелять.
Но вот из-за горизонта появились острова, и сразу направление сигнала переменилось.
— Сбавляй ход! — скомандовал Язон. — Похоже, наш источник на этих островах!
Торчащие из океана клочки суши стали убежищем последних обитателей погибшего континента, победителей долгой и жестокой борьбы за существование. Здесь уцелели древнейшие виды пиррянской фауны.
— Пониже, — распорядился Язон. — Курс на большую гору. Кажется, сигнал идет оттуда.
Они прошли над самой горой, но увидели только деревья да опаленные солнцем камни.
Дикая боль пронизала голову Язона. Словно страшный заряд ненависти проник из приемника ему в череп. Он сорвал наушники и стиснул голову руками. Сквозь слезы он увидел, как внизу с деревьев сорвались черные тучи крылатых тварей. Склон промелькнул и исчез, в ту же секунду Мета резко прибавила ход, и корабль пошел вверх.
— Нашли! — прозвучал ликующий голос Меты, однако она сразу переменила тон, увидев на экране лицо Язона. — Что с тобой? Что случилось?
— Я совсем разбит... В жизни не ощущал такой мощной телепатической атаки! Перед самой атакой я заметил какую-то дыру, что-то вроде входа в пещеру. Похоже, излучение идет оттуда.
— Ложись и отдыхай, — сказала Мета. — Я тебя живо доставлю домой. Сейчас свяжусь с Керком. Он должен знать, что произошло.
В здании космопорта стояла кучка ожидающих. Они выбежали на поле, как только ракетные двигатели смолкли. Керк первым ворвался внутрь корабля и отыскал взглядом Язона, распростертого на перегрузочном ложе.
— Это правда? — рявкнул он.— Ты выследил извергов, которые начали войну?
— Спокойно, брат, не горячись, — отозвался Язон. — Я засек источник телепатической команды, которой направляется война. Но я не установил, кто начал войну, и у меня нет никаких оснований называть их извергами...
— Мне надоела твоя игра словами, — перебил его Керк. — Ты нашел этих тварей, их логово засечено!
— Совершенно точно, — подхватила Мета. — Найду с завязанными глазами.
— Отлично, отлично, — Керк потер руки. — Даже не верится, что наконец-то мы можем покончить с этой многовековой войной. Можем! Вместо того чтобы без конца косить эти проклятые самовозрождающиеся легионы, мы доберемся до вожаков. Разыщем их — пусть на себе узнают, что такое война, — и сотрем с лица планеты!
— Ни в коем случае! — возразил Язон, заставив себя сесть.— Ни за что на свете! С первого дня, как я прибыл на эту планету, мной все время помыкают, сколько раз моя жизнь висела на волоске! Думаешь, я сделал это только затем, чтобы ты мог потешить свою кровожадную душу? Я добиваюсь мира, а не истребления. Ты обещал связаться с этими существами, попробовать повести с ними переговоры. Честный человек держит свое слово!
— В другое время я убил бы тебя на месте за оскорбление, — сказал Керк. — Ну да ладно... Ты сделал большое дело для нашего народа, и мы не стыдимся признать, что обязаны тебе. И вообще — не надо обвинять меня в нарушении обещаний, которых я не давал. Я отлично помню свои слова. Я обещал поддержать любой разумный план, чтобы покончить с войной. Это самое я и собираюсь теперь сделать. Твой план вести мирные переговоры нерационален. Поэтому мы уничтожим врага.
Керк повернулся, чтобы уходить.
— Подумай как следует! — крикнул Язон ему в спину. — Что плохого в том, чтобы попытаться устроить переговоры и объявить перемирие? А уж если не получится, испытаешь свой способ.
В отсек успело набиться довольно много народа. Керк остановился на пороге.
— Я скажу тебе, почему перемирие не годится. Это выход для трусов, понял? Ты инопланетник, с тебя нечего спрашивать. Мы не боимся схватки и умеем постоять за себя. Мы знаем, что и без войны сможем наладить здесь совсем другую жизнь. Но если нам придется выбирать между войной и трусливым миром — мы за войну! И кончится она только тогда, когда враг будет поголовно истреблен.
Его поддержали другие, и Язону пришлось сильно напрячь голос, чтобы перекричать всех:
— Блестяще. Уверен, ты даже считаешь свои речения оригинальными. Но ты прислушайся — слышишь овации на хорах? Это тебя приветствуют духи всех подонков, которые когда-либо бряцали оружием и кричали о пользе войн. Они узнают свои старые лозунги. Мы-де представляем светлые силы, а противник воплощает силы тьмы. Правда, враг говорит то же самое, но это ничего не значит. Знай себе тверди старые фразы, которые губят людей, сколько существует человеческий род. «Трусливый мир» — это надо же! Мир означает отсутствие войны, прекращение военных действий. При чем тут трусость? Что ты пытаешься замазать этим путаным определением? Свои истинные побуждения? Ты их стыдишься? И правильно делаешь, я бы тоже стыдился. Скажи лучше напрямик, что ты раздуваешь войну, потому что тебе нравится убивать! У тебя и твоих убийц душа радуется, когда кто-то умирает, вот вы и стараетесь!
Наступила напряженная тишина. Все ждали, что скажет Керк. Он побелел от ярости, по держал себя в руках.
— Ты прав, Язон. Нам нравится убивать. И мы будем убивать. Все, что противилось нам на этой планете, будет уничтожено. И мы сделаем это с величайшим удовольствием.
Керк повернулся и вышел, не дожидаясь, когда развеется
впечатление от его слов. Остальные последовали за ним, возбужденно переговариваясь. Язон откинулся на ложе, совершенно разбитый.
Когда он снова поднял взгляд, все уже ушли. Все, кроме Меты. На ее лице тоже был написан кровожадный экстаз, однако, посмотрев на Язона, она словно протрезвела.
— Ну что, Мета? — резко спросил он. — Никаких сомнений, никаких колебаний? Ты тоже считаешь, что другого пути покончить с войной нет?
— Не знаю, — ответила она. — Я не уверена. Впервые в жизни я чувствую, что может быть несколько ответов.
— Поздравляю, — сказал Язон. — Ты становишься взрослой.
Стоя в сторонке, Язон смотрел, как в трюм корабля укладывают смертоносный груз. Пирряне весело таскали пулеметы, гранаты, газовые бомбы. Когда дошла очередь до ранца с атомной бомбой, кто-то запел лихой марш, и все подхватили. Они явно радовались, а Язон с тяжелым сердцем думал о предстоящем побоище. Он чувствовал себя предателем. Может быть, найденные им организмы следовало уничтожить. А может быть, и нет. Все равно, сперва надо было сделать хоть что-то для примирения, а так это будет просто-напросто убийство.
Из здания оперативного центра вышел Керк; из недр корабля донесся вой пусковых насосов. Через несколько минут — старт. Язон затрусил к кораблю и перехватил Керка на полпути.
— Я полечу с вами, Керк, ты не смеешь мне отказать. Как-никак ведь это я их нашел.
Теперь, когда цель была известна, полет занял гораздо меньше времени. Мета подняла корабль в стратосферу по высокой баллистической кривой, которая заканчивалась на острове. Керк занял кресло второго пилота, Язон устроился позади них так, что видел экраны. Десантники — двадцать пять добровольцев — поместились в грузовом трюме, где лежало оружие. Все экраны были подключены к носовой видеокамере. Вот показался зеленый остров; он быстро надвигался, потом его заслонило пламя тормозных ракет. Мета сбросила ход и плавно посадила корабль на ровной площадке рядом с устьем пещеры.
На этот раз лучи ненависти не застигли Язона врасплох — и все-таки заставили его сморщиться от боли. Стрелки, злорадно смеясь, открыли ураганный огонь по живности, которая окружила корабль плотным кольцом. Они косили тысячами представителей островной фауны, а те все шли и шли.
Лишь через полчаса огонь немного ослаб. Животные продолжали атаковать, но массовый штурм кончился. Керк распорядился:
— Десантному отряду — выходить! И глядеть в оба! Отнесите бомбу в пещеру и проверьте, насколько тянется ход. Не выключайте визифоны. Положите бомбу и, как только я скомандую, возвращайтесь. Ну, пошли!
Десантники скатились по трапам на землю и образовали штурмовой порядок. Они подверглись атаке, но косили противника, не подпуская его близко. И вот командир отряда уже вошел в пещеру. Его видеодатчик был обращен вперед, и на экранах было хорошо видно, как продвигается отряд.
— Вошли в пещеру, никаких признаков жизни, — докладывал командир отряда. — У входа были обглоданные кости, помет летучих мышей. На искусственное сооружение не похоже, обыкновенная пещера.
Десантники продолжали двигаться дальше, постепенно замедляя шаг. При всей нечувствительности жестянщиков к телепатии даже они ощущали лучи концентрированной ненависти, от которых у Язона все сильнее раскалывалась голова.
— Берегись! — вдруг закричал Керк, с ужасом глядя на экран.
Всю пещеру заполнили какие-то белесые безглазые твари. Боковые ходы, из которых сыпалась эта мерзость, были настолько малы, что животные казались порождением самой горы. Пламя огнеметов пожирало передовые шеренги, но сзади напирали другие. Изображение пещеры опрокинулось: командир упал. Линзу видеодатчика накрыли белые тела.
— Сомкнуть ряды! Огнеметы и газ! — рявкнул Керк в микрофон.
После первой атаки осталось меньше половины отряда. Прикрываясь огнеметами, уцелевшие бросили газовые гранаты. Десантники были надежно защищены от газа боевыми скафандрами. Кто-то нырнул в кучу тел и вытащил видеодатчик.
— Вижу впереди что-то еще... другого вида, — произнес прерывающийся голос.
Узкий ход, постепенно расширяясь, сменился огромным залом — ни потолка, ни дальней стены не видно.
— Что это там? — спросил Керк. — Прожектор — направо!
— Никогда не видел... ничего подобного, — продолжал голос. — Что-то вроде больших растений, высота метров десять... Только они шевелятся. Не то ветви, не то щупальца... прямо в нас целятся... голова разламывается...
— Подстрели одно, посмотрим, что получится, — сказал Керк.
Грянул выстрел, и в ту же минуту мощная волна ненависти повергла десантников на землю. Они корчились от боли, теряя сознание, неспособные дать отпор безглазому зверью, которое снова пошло в атаку.
Сидя в корабле, Язон ощутил сильнейший шок и спросил себя: каково же людям там, в подземелье? Керка и Мету тоже поразило излучение. Керк ударил кулаком по раме визифона и закричал:
— Назад, назад сейчас же!
Но было поздно. Пиррянские твари захлестнули бьющихся в судорогах десантников. Наконец кому-то удалось встать. Отбиваясь руками от зверья, он с трудом сделал несколько шагов, нагнулся над копошащейся массой, напрягся и поднял своего мертвого товарища, у которого на спине был укреплен ранец. Мелькнули окровавленные пальцы, в следующую секунду все накрыла волна смерти.
— Это была бомба! — крикнул Керк Мете. — Если он не переключил механизм, у нас в запасе десять секунд. Уводи корабль!
Язон едва успел плюхнуться на перегрузочное ложе. Взревели ракетные двигатели, и на него навалилась огромная тяжесть. В глазах потемнело, но сознания он не потерял. Вой рассекаемого воздуха резал уши, потом наступила тишина — они вышли из атмосферы.
В тот самый миг, когда Мета сбросила ход, экраны озарила белая вспышка. И тотчас они потемнели — наружные видеодатчики не выдержали. Мета нажала одну кнопку — установка фильтров, потом другую — замена датчиков.
Далеко внизу, посреди клокочущего моря, на месте острова вспухало раскаленное грибовидное облако. Они молча смотрели на него. Керк опомнился первым.
— Курс домой, Мета. Свяжись с оперативным центром. Мы потеряли двадцать пять человек, но они выполнили задание. Добили эту мерзость. И покончили с войной. Достойная смерть для мужчин.
Мета рассчитала орбиту, потом вызвала центр.
— Нет связи, — доложила она. — Наводящий луч принимаю, а на вызов никто не отвечает.
В эту минуту на экране появилось изображение жестянщика. Встревоженное лицо блестело от пота.
— Керк, ты? Сейчас же возвращайся с кораблем! Без его пушек не справимся! Минуту назад тут началось что-то невообразимое, со всех сторон атакуют, такого еще никогда не было!
— Как это так? — недоверчиво вымолвил Керк. — Война окончена. Мы взорвали их, уничтожили штаб.
— Они лютуют, как никогда прежде! — прозвучал сердитый ответ. — Не знаю, что вы там сделали, но только тут сейчас настоящая чертова мельница. Ладно, хватит болтать, гони сюда корабль!

Керк медленно повернул к Язону лицо, искаженное животной яростью.
— Ты! Это ты виноват! Надо было убить тебя в первый же день. Как мне хотелось это сделать, теперь вижу, что зря удержался. Ты словно чума — как прибыл сюда, кругом смерть сеешь. Ведь я знал, что ты не прав, да поддался твоему лживому языку. Л что вышло? Сперва ты убил Велфа. Потом наших людей, которые пошли в пещеру. Теперь идет бой по всему периметру. Каждый, кто там погибнет, будет на твоей совести!
Взбешенный Керк шаг за шагом наступал на Язона, а тот медленно пятился. Вдруг рука Керка метнулась вперед. Это был не кулачный удар, а простая оплеуха. Язон дернулся в сторону, но ладонь Керка настигла его и сбросила на пол. Он упал на спину, и пальцы его коснулись контейнеров с матрицами ОХР.
Язон схватил обеими руками контейнер, выдернул его из гнезда и со всего размаха ударил им Керка. Металлическая трубка рассекла пиррянину лоб и скулу, но рана ничуть его не обескуражила. Он нагнулся и с улыбкой, не сулящей ничего доброго, поднял Язона на ноги.
— Сопротивляйся, — сказал он. — Тем приятнее мне будет прикончить тебя.
И он занес над Язоном гранитный кулак, который был способен снести противнику голову с плеч.
— Давай. — Язон прекратил борьбу. — Убивай. Тебе это ничего не стоит. Только не называй это правосудием. Да, Велф умер, чтобы спасти меня. Но десантники на острове погибли из-за твоей глупости. Я добивался мира, ты добивался войны. Ты получил ее. Убей меня, заглуши голос своей совести, ведь ты боишься смотреть правде в глаза.
Керк взревел от ярости, и его кулак, подобный копру для забивки свай, пошел вниз.
Мета обеими руками схватила руку Керка и повисла на ней, отвращая удар. Все трое повалились на пол; у Язона хрустнули кости.
— Не смей! — кричала Мета. — Язон был против высадки этих людей. Это была твоя затея. Ты не имеешь права убивать его за это!
Рассвирепевший Керк ничего не слышал. Сейчас он сражался с Метой. Конечно, женские мышцы не шли ни в какое сравнение с его могучими мускулами. Но она была пиррянка и сделала то, с чем не справился бы ни один инопланетник. Ей удалось на момент удержать Керка, и, хотя ему понадобилось лишь несколько секунд, этих секунд Язону оказалось достаточно, чтобы добраться до перехода, быстро захлопнуть люк и задвинуть засов. Мгновением позже Керк обрушился всей тяжестью на люк с другой стороны. Сталь заскрежетала и подалась. Одна петля лопнула, другая держалась только чудом. Еще толчок, и она полетит.
Этот космический корабль у пиррян единственный. Мета как-то говорила ему, что они давно хотели приобрести второй, да так и не собрались. Каждый раз деньги уходили на вооружение. И к тому же они вполне обходились одним кораблем, только надо было всегда держать его в готовности, чтобы город мог жить. Без поставок горожане просуществовали бы от силы два-три месяца. Поэтому, что бы ни случилось с кораблем, команде никогда не пришло бы в голову покинуть его в полете. Ведь гибель корабля означала гибель их мира.
Это освобождало их от необходимости заправлять горючим спасательные капсулы. Во всяком случае, всю шестерку. Но хоть одна-то должна быть заправлена для коротких рейсов, в которые нет смысла гонять большой корабль! Язон чувствовал, что тут в его рассуждениях намечается слабина. Чересчур много «если»... Если они вообще пользуются капсулами, то какую-то из них поддерживают в рабочем состоянии. Если так, то в ее баках должно быть горючее. Если горючее есть, то в которой из шести? Проверять некогда. Он должен угадать с первого раза.
Правда, на этот счет у него была догадка. Еще одна. Если капсула заправлена, то скорее всего та, которая расположена ближе всех к пилотской кабине. Та самая, к которой сейчас метнулся Язон, думая о том, что его жизнь висит на тонкой цепочке догадок.
Крышка люка за его спиной с грохотом упала. Яростно рыча, Керк прыгнул вниз. Тогда Язон нырнул в люк спасательной капсулы, схватил обеими руками стартовый рычаг и рванул его.
Зазвенел аварийный сигнал, и люк капсулы закрылся перед самым носом Керка.
Пусковая установка отстрелила капсулу. Кратковременное ускорение бросило Язона на пол, потом началось свободное падение, и оп поплыл по воздуху. Двигатель молчал.
Вот когда Язон постиг смысл выражения «верная смерть». Без горючего капсула камнем рухнет на землю и разлетится вдребезги. Теперь его ничто не спасет.
И вдруг сработало зажигание, взревели ракеты, Язон врезался в переборку и расквасил себе нос. Сел, вытер кровь и осклабился. Все в порядке, горючее есть. А зажигание так и должно запаздывать, чтобы капсула успела отойти от корабля.
Язон увидел через иллюминатор, как корабль закладывает крутой вираж. Он мог только гадать, в чем смысл этого маневра. Как бы то ни было, лучше не рисковать. Он резко подал штурвал вперед и выругался, потому что капсула, вместо того чтобы спикировать, плавно пошла вниз. Корабль не был так ограничен в своих маневрах. Он резко изменил курс и ринулся на перехват. Носовая турель открыла огонь, и капсулу тряхнул взрыв. От сильного толчка что-то случилось с автопилотом, плавный спуск сменился крутым пикированием, все поле зрения занял стремительно надвигающийся лес.
Язон рванул штурвал на себя и едва успел закрыть руками лицо.
Рев ракет... треск ломаемых деревьев... громкий всплеск... Затем тишина.
Ветер унес дым. Высоко в небе кружил космический корабль. Вот он пошел вниз, словно собираясь сесть. Но тут же снова набрал высоту. Город звал на помощь, и корабль, извергая пламя, помчался домой.
Ветви спружинили, тормозные ракеты сработали вовремя, трясина тоже смягчила падение. И все-таки это была не посадка, а крушение. Разбитый цилиндр медленно погружался в болотную жижу. Нос капсулы целиком ушел под воду, прежде чем Язону удалось ударом ноги открыть аварийный люк. Весь в синяках и ссадинах, он еле нашел в себе силы выкарабкаться наружу. Спотыкаясь и падая, он добрел до относительно сухого места и тяжело сел.
Над болотом проносились насекомые, безмолвие леса нарушалось только мерзким воем какого-то зверя. Потом и этот звук замер, воцарилась полная тишина. Окончание следует
Перевел с английского Л. Жданов
(обратно)
«Бен Франклин» погружается в бездну
Два главных действующих лица этого эксперимента-приключения определенно знакомы читателю. На всякий случай, однако, мы напомним то, что указано в их визитных карточках.
Океанография для швейцарца Жака Пикара — занятие настолько же наследственное, как для других людей бывает плотничанье, кладка печей или, скажем, писание романов. Его отец, профессор Огюст Пикар, построил свой первый батискаф в далеком 1948 году. В 1953 году с итальянских верфей был спущен второй — «Триест». Одним из главных направлений работы, которая проводилась на борту «Триеста», стала акустика. Изучение звуковых волн в среде, где свет и радиоволны едва проникают, имеет огромное значение как для связи, так и просто для судоходства. Ведь именно с помощью акустики определяют глубины, обнаруживают косяки рыб и различные препятствия, наконец, ведут переговоры с теми, кто находится на поверхности или в другой подводной лодке.
Известно, что звук даже от самого небольшого взрыва можно зарегистрировать, находясь на расстоянии тысяч километров. Тут есть только одно «но»: звук от взрыва должен попасть в «акустический канал», который не позволит ему убежать к поверхности моря или устремиться на дно. Таким образом, важность работ по изучению этих «каналов», которые «Триест» проводил в 1957 году вблизи Неаполя, а в 1960 году в Марианской впадине, очевидна.
В Марианскую впадину на «Триесте», построенном Огюстом Пикаром, опускался его сын. Батискаф достиг рекордной глубины 10 916 метров, что на две с лишним тысячи метров превышает высоту Джомолунгмы.
После этих успешных опытов отец и сын Пикары взялись за решение двух главных, по их мнению, задач. Первая — создание аппарата, который позволил бы познакомиться с подводной жизнью не только ученым, но и тысячам желающих. В 1964 году на воду Женевского озера был спущен мезоскаф «Огюст Пикар», располагающий 40 посадочными местами и соответствующим количеством иллюминаторов.
Постройка «Огюста Пикара» позволила приблизиться к решению второй задачи — созданию такого научного аппарата, который позволил бы находиться в погруженном состоянии длительное время. Дополнительным и немаловажным преимуществом этого аппарата должна была стать автономность; иными словами, в отличие от обычных батискафов он не должен быть связан кабелем с надводным судном-базой. Такой аппарат был создан Жаком Пикаром уже после смерти отца и получил имя РХ-15, или «Бен Франклин». Само имя нового корабля дает возможность представить нашего второго героя — Гольфстрим.
О Гольфстриме наслышаны все, а миллионы, людей, живущих; в странах Северной Америки, Западной Африки, Средиземноморья или, скажем, в Ирландии, Праге, Мурманске, ощущают его благотворное влияние ежедневно.
Считается, что первым существование Гольфстрима открыл испанец Понс де Леон в 1513 году, хотя не исключено, что о нем знал и Христофор Колумб. Моряки давно уже научились использовать Гольфстрим. Приплюсовывая его скорость к скорости ветра, они экономили неделю, а то и больше на маршруте Америка — Европа.
Изучением же Гольфстрима впервые занялся Бенджамин Франклин. Составленная им карта течения весьма похожа на ту, которой пользуются в наши дни.
Как известно, Гольфстрим зарождается в котле Мексиканского залива и мощным потоком проносится мимо берегов Флориды. Миллиарды калорий тепла, те самые, благодаря которым в английском городе Брайтон растут пальмы, движутся со скоростью четырех-пяти узлов. В Атлантике Гольфстрим распадается на два потока — один устремляется на север, вокруг Англии, навстречу холодному Лабрадорскому течению; второй, оттолкнувшись от берегов Франции, поворачивает на юг, к экватору, вновь, но уже в обратном направлении, пересекает Атлантику и, вернувшись на круги своя, начинает новый цикл.
Такова эта «река в океане» (1 Подробнее о Гольфстриме можно прочесть в очерке Ганса Лейна «Река в океане» («Вокруг света» № 9 за 1969 год).), играющая важнейшую роль в климате доброй половины земного шара.
Со времен Франклина в ее теплые воды ученые погружали сотни различных зондов, термометров и дрейфующих буев. Работы по изучению характера «реки» никогда не прекращались, но изучение это всегда велось с поверхности. Здесь невольно напрашивается каламбур — изучение было и в самом деле поверхностным. «Бен Франклин» впервые должен был заглянуть в Гольфстрим изнутри.
...Представьте себе дрейфующую на глубине нескольких сот метров лабораторию. Целый месяц ее ученые могут без помех 24 часа в сутки заниматься той средой, в которой они находятся и которая составляет цель их исследований.
ИЗ ДНЕВНИКА ЖАКА ПИКАРА
14 июля 1971 года — 20.34. Мезоскаф в 30 милях от Палм Бич.
Прежде чем нажать на кнопку погружения, я хочу представить команду «Вена Франклина». Начнем с капитана: Дон Казимир, 35 лет, самый молодой член экипажа и ветеран подводной службы, как на обычных, так и на атомных лодках; на мезоскафе выходит впервые. Начальство его ценит за солдатское сердце и готовность выполнить, не обсуждая, приказ, мы же — за чувство ответственности в любом исполняемом им деле.
Эрвин Эберсолъд — штурман, адъютант Дона Казимира и мой главный помощник. Известный в Америке как Эрвин и как моншер Эберсолъд в Лозанне, он по заслугам считается мастером слепого пилотажа. Работает со мной с 1962 года.
С нами также два океанографа. Фрэнк Басби, энергичный служащий Вашингтонского океанографического управления, и англичанин Кен Хэй, специалист-акустик, — наши верные «уши» и одновременно представитель Британской империи на борту.
Чет Мэй, инженер из НАСА, ответствен за «жизнеобеспечение». Во время плавания он обещает не спускать с нас глаз и, по возможности не надоедая нам, следить за нашим «биологическим состоянием», время от времени развлекая разными играми для определения наших рефлексов.
Итак, вместе со мной, говоря строго официально, вместе с главой экспедиции, нас всего шестеро — шестеро человек и лодка.
14 июля — 21.27. Мы на глубине 457 метров. Эхолот показывает, что дно в каких-то 60 метрах, так что пора притормаживать. Через каждые десять секунд мы сбрасываем четыре партии железных ядер, всего на сто восемьдесят килограммов веса. В 21,48 гайдроп — кабель, висящий под мезоскафом, — касается дна и автоматически приводит его в состояние равновесия. Мы закончили спуск, как и положено, в 10 метрах от дна. Гайдроп прикреплен к корме мезоскафа с тем, чтобы ориентировать его по течению, если таковое, конечно, имеется. Похоже, здесь Гольфстрим не особо силен, но все же по прошествии какого-то времени мы замечаем, что движемся со скоростью одной десятой узла...
Здесь необходимо разъяснить одно немаловажное обстоятельство. Основное техническое отличие мезоскафа «Бен Франклин» от обычных подводных лодок и батискафов состоит в том, что «Бен» способен дрейфовать, то есть длительное время поддерживать под водой равновесие. Непременное свойство обычных подлодок — тяжелеть, опускаясь, и становиться легче, поднимаясь. А так как корпус этих лодок подвержен весьма значительному сжатию и расширению, то найти и удержать равновесие становится делом крайне сложным; практически оно достигается только с помощью сложных операций: включением двигателей, стабилизацией с помощью рулей глубины или постоянным изменением веса лодки. Все эти операции требуют большого количества энергии, не говоря уж о том, что они сопровождаются значительным шумом, мешающим акустическим экспериментам.
Корпус же мезоскафа Пикара практически не подвержен сжатию. Его конструкция обеспечивает дрейф с выключенными двигателями; энергосистема питает лишь аппараты «жизнеобеспечения» и две тонны научного оборудования, установленного на «Бене Франклине» для изучения не потревоженной человеком подводной среды.
15 июля. Я проснулся в шесть утра. Каз и Фрэнк в это время были на дежурстве. Еще на земле нам расписали точнейший график нашей жизни — по часам и минутам там были размечены личный отдых, умывание, еда, работа, перерывы, развлечения. Должен сообщить, что с общего молчаливого согласия мы дружно забыли о нем. Мы решили приноравливаться к обстоятельствам, сделав исключение лишь для одного незыблемого правила: в интересах безопасности двое на борту всегда должны бодрствовать.
18 июля. Это произошло, когда я спал, вернее пытался спать, что из-за холода, шума и, должно быть, усталости мне удавалось довольно плохо. Так вот, атака была совершена на глубине двухсот пятидесяти метров. В ту минуту никого у иллюминаторов не оказалось. Фрэнк Басби, работавший в лаборатории, так мы называли кормовой отсек, лишь боковым зрением заметил, как что-то блеснуло за стеклом. Он бросился к окну и в свете прожектора, работавшего всю ночь, увидел великолепнейший, что-нибудь около метра восьмидесяти, экземпляр рыбы-меч. Похоже, что наш плексигласовый глаз заинтриговал красавицу, и она парадом прохаживалась взад-вперед. Неожиданно, без всякого предупреждения она кинулась в атаку, метясь, должно быть, в иллюминатор. Но промахнулась, острие ее длинного клюва попало в стальную обшивку корабля.
Мы припомнили тогда, что не так давно подобной атаке подверглась миниатюрная исследовательская подводная лодка «Элвин». Там, правда, все кончилось по-другому: меч угодил в соединение пластика и фиброгласовой окантовки и застрял. Командир, не зная толком, что случилось с лодкой, отдал приказ о всплытии. На поверхности рыбу с трудом оторвали и, сделав в лаборатории необходимые замеры, отправили на камбуз.
19 июля. На такой глубине день гаснет раньше обычного. Но спать от этого не проще. Мешает шум, мешает свет, ведь он для нас в лодке всегда одинаков — днем ли, ночью. Те, кому достался дневной сон, давно потеряли ощущение времени суток — им явно не хватает тренировки...
Мы захватили на борт магнитофон и кассеты по вкусу каждого: Моцарт, Россини, «Желтая субмарина», «биттлзов»... Мы надеялись, что музыки хватит на любое настроение, но уже на пятый день она нам приелась...
Шесть человек, оторванные от мира, замкнутые на целый месяц в тесную оболочку подводного аппарата. Если добавить к этому, что в эксперименте активное участие принимало набитое электроникой судно сопровождения «Приватер», то ситуация окажется аналогичной той, с которой сталкиваются исследователи, работающие в космических лабораториях, — ведь и там люди находятся в чуждой среде, живут в замкнутом пространстве, непрерывно ведут исследования, и с миром их связывает лишь нить двусторонней информации. По этой причине НАСА, планирующее запуск в космос подобной лаборатории, проявило к эксперименту «Бена Франклина» значительный интерес. Психологические и физиологические наблюдения стали составной частью его программы. Вот примерный список вопросов, на которые команд да «Франклина» должна была дать ответы. По каким принципам нужно подбирать экипаж? Насколько легко приспосабливаются люди к жизни «заключенных»? Как они должны питаться? Каков оптимальный состав смеси для дыхания? Чем должен заниматься экипаж в часы отдыха? Сколько часов должен продолжаться рабочий день? Какова опасность эпидемических заболеваний и обычных болезней? Как бороться с микробами? Каким образом поддерживать на корабле чистоту, сохранять пищу и питьевую воду?
Вернемся к проблемам, связанным со сном, о которых пишет Пикар. Один из членов экипажа раз в три дня отправлялся спать в шлеме, оснащенном датчиками. Результаты эксперимента следующие: продолжительность сна объекта увеличивалась до двадцать первого дня, после чего стала постепенно уменьшаться. Отмечалось также, что пятеро членов экипажа на двадцать второй день заснули с огромным трудом. Шестой же член команды не мог никак заснуть первые пятнадцать дней...
20 июля. Обычная работа, обычная жизнь. На поверхности накручивает узлы наш бдительный «Приватер». Много выше над ним, на расстоянии нескольких сотен тысяч километров, продолжает свой полет «Аполлон-11»...
21 июля. Мы снова идем на погружение. Если мы нашарим течение, то останемся у дна на 24 часа. В 3.52 пополудни Кен Хэй объявил, что видит дно на расстоянии меньше десяти метров. Мы усами чувствуем приближение глубины, от бортов дышит холодом. Дно кажется плотным, гранулированным.
В 8.00 Чет не без беспокойства, смешанного с удовлетворением, объявил, что все запасы холодной воды (горячая, слава богу, о"кэй) теперь заражены. То есть пить ее можно, но на вкус она довольно вонюча. Так обещал нам Чет.
В четыре утра ровно мы прощаемся с дном с тем, чтобы никогда на протяжении остального плавания его не видеть.
23 июля. Проснувшись, я обнаружил, что мезоекаф попал в подводный шторм. Судя по последним записям, наше судно уже несколько часов швыряет вверх и вниз по воле подводных волн. Без малейшего нашего вмешательства «Бен Франклин» за 12 минут поднялся на тридцать метров, чтобы потом за семь-восемь минут спуститься на сорок пять метров. Бен Хэй вспомнил, что как-то на подводной лодке он попал в подводную качку — две минуты их раскачивали сорокапятиметровые волны... Течение пока что несет на северо-восток, параллельно берегу, так что общее направление нас устраивает. Как, впрочем, и скорость: с прошлой ночи она составляет два узла.
25 июля. Меня вызывает поверхность. Обнаружилось, что мы находимся почти на 30 километров западнее течения. На двенадцатый день плавания Гольфстрим вышвырнул нас из своего ложа.
К вечеру ситуация прояснилась: оказывается, мезоскаф был затянут в гигантский водоворот, которые нередки по краю течения, и отбуксирован в сторону.
28 июля. На борту объявлена всеобщая и безжалостная война бактериям. Мы посыпаем и поливаем дезинфекцией все и вся: полы, стенки душа, раковины. Мы не обольщаемся результатами наших действий, мы лишь надеемся продержаться остающиеся пятнадцать дней...
30 июля. Вечером обогнули мыс Гаттерас, пройдя в 70 километрах от берега. Гольфстрим, похоже, смирился с нашим пребыванием и уже не выталкивает нас в океан.
1 августа. Проблема окиси углерода становится весьма острой. На 24 июля окись углерода составляла лишь десять частей на миллион (то есть один грамм на всю нашу атмосферу). Ко вчерашнему вечеру количество его увеличилось вдвое, и, если дело пойдет так и дальше, мы рискуем превысить утвержденный для нас минимум...
К вечеру океан приберег для нас щедрый подарок: концерт дельфинов. Беда только в том, что мы не видели самих исполнителей. Мне показалось также, что я услышал лай китов, что, в общем-то, похоже на правду, так как с поверхности мне сообщили, что, по крайней мере, одного они в это время тоже заметили. «Приватер» сообщил об этом и на станцию берегового контроля. Береговой контроль не понял. «Приватер» повторяет, но слово «уэйл» — «кит» — никак не может пробиться сквозь эфир — на берегу его понимают, как «уэйв» — «волна».
— Нет, нет, «уэйл»! Знаете, такая большая черная рыба!
Теперь понятно. Наутро в газеты было передано, что на мезоскафе, в глубине Гольфстрима замечена большая черная рыба. Нам пришлось опровергать это утверждение не меньше сотни раз.
4 августа. Наша скорость и точность следования по маршруту Гольфстрима изумляет буквально всех. Мы делаем 32 узла и направляемся точно к Новой Шотландии.
Сегодня нас оповестили о приближении урагана, первого в сезоне. Ему уже дали имя — «Анна». Пока что «Анна» в 150 километрах на юго-запад. Теперь все зависит от того, что у «Анны» на уме. Теоретически она должна проследовать точно по нашему, маршруту, поскольку именно теплый Гольфстрим придает ей силы. Если она достанет нас, то «Приватеру» придется худо, ему надо будет искать укрытие.
8 августа. «Анна» осталась в стороне. Мы настолько забрали на восток, что того и гляди вылезем за край имеющихся у меня карт. Дня через три они станут для нас бесполезной бумажкой) Мы отклонились от того, что называют средней траекторией Гольфстрима, спустившись к юго-востоку.
14 августа. В 1.15 ночи Эрвин Эберсольд начал десятисекундную продувку цистерн. «Бен Франклин» осторожно начинает подниматься. В 7.45 мы уже явственно видим поверхность воды. Барашков не заметно, но волны есть, и уже в 20 метрах от поверхности мы ощутили качку.
В 7.59 Эрвин открывает клапан главной балластной цистерны, и «Бен Франклин» смело выскакивает на поверхность. Мы открываем люк и подставляем лица ветру и соленым брызгам.
Подводя итоги, можно следующим образом резюмировать результаты наиболее интересных исследований. Замеры скорости течения показали, что она равна 7,2 километра в час, то есть вдвое выше предполагавшейся. Были обнаружены вертикальные воронки (одна такая 260-метровая воронка отбросила мезоскаф на 50 километров в сторону от русла). Выяснилось, что существуют подводные волны, связанные с рельефом дна и еще не отмеченные на картах. Заинтересуют исследователей и проведенные на мезоскафе замеры проникновения света, земной гравитации, акустические измерения, изучение планктона...
Сейчас Жак Пикар работает над проектами двух новых ультраавтономных лодок и третьей, меньшей, «для экологических работ». «Море может погибнуть, — грустно замечает Пикар. — На таких лодках должна быть проделана большая работа, которая поможет выполнить главную цель — спасти океан от загрязения». И еще: «Я могу построить новые лодки месяцев за восемнадцать, если, конечно, найду средства...»
И. Горелов
(обратно)
Агата Кристи. Майор Уилбрехем ищет опасностей
Уилбрехем задержался перед дверью бюро мистера Пайна и вновь — в который уже раз! — вынул из кармана утреннюю газету.
Объявление было немногословным: «Каждому. Вы счастливы? Если нет, зайдите к мистеру Паркеру Пайну, Ричмонд-стрит, 17».
Майор глубоко вздохнул и, уже не колеблясь, прошел через вращающуюся дверь в приемную.
— Здравствуйте, — сказал мистер Пайн. — Садитесь. И расскажите, что я могу для вас сделать.
— Моя фамилия Уилбрехем. Майор Уилбрехем...
— Так. Недавно из колоний? Из Индии? Восточной Африки?
— Из Восточной Африки.
— Прекрасные места, если я не ошибаюсь. Ну а теперь вы снова дома, и вам здесь не нравится. Не так ли?
— Вы совершенно правы. Но как вы догадались?
Пайн махнул рукой.
— Это моя профессия — все знать. Тридцать пять лет я был занят тем, что составлял статистические таблицы в одном правительственном учреждении. Теперь я ушел на пенсию и решил использовать свой опыт в совершенно другом деле. Все очень просто. Если человек несчастлив, его состояние можно отнести к одной из пяти рубрик, их не больше, уверяю вас. Как только мы классифицировали его недуг, можно приступить к лечению.
Кое в чем я похож на врача. Врач ставит диагноз больному и рекомендует соответствующее лечение. Когда нельзя помочь, я сразу говорю об этом пациенту. Но если я уж взялся, то гарантирую выздоровление. Могу вас заверить, майор, что девяносто шесть процентов ушедших в отставку строителей империи, как я их называю, несчастливы. Они сменили бурную жизнь, полную ответственности и опасностей, и на что? На скромную пенсию, отвратительный климат и постоянно преследующее их ощущение, будто они рыбы, выброшенные на сушу.
— Все, что вы говорите, правильно, — согласился майор. — Меня особенно мучает скука. Скука и бесконечная болтовня о ничтожных деревенских новостях. Но что мне делать? У меня есть кое-какие средства, помимо пенсии, и уютный домик неподалеку от Кобхема. Но там не порыбачишь и не поохотишься. Я не женат. Мои соседи прекрасные люди, но их фантазия не выходит за пределы нашего острова.
— Значит, все дело в том, что ваша жизнь пресна? — подытожил Пайн.
— Чертовски пресна!
— И вы предпочли бы волнения и, может быть, даже опасности?
Старый служака пожал плечами:
— У нас этого не найдешь.
— Нет, сэр, здесь вы ошибаетесь. Лондон, если хотите знать, кишит опасностями. Вы видели лишь одну сторону жизни в Лондоне, спокойную и скучную. Но есть и другая, и я могу показать вам ее.
Уилбрехем задумчиво посмотрел на Пайна. Что-то внушающее доверие было в этом человеке. Он был полноват, чтобы не сказать толст. Высокий лоб с залысинами, на носу очки с толстыми стеклами.
— Но я должен предупредить вас, — продолжал Пайн, — это связано с определенным риском.
Глаза майора заблестели.
— Тогда все в порядке. И дорого это стоит?
— Пятьдесят фунтов. Плата вперед. Если через месяц вы будете скучать по-прежнему, я отдаю деньги обратно.
Уилбрехем раздумывал недолго.
— Это честное предложение. Я согласен. Вот чек.
Пайн нажал кнопку на письменном столе.
— Сейчас двенадцать. Я хочу попросить вас пообедать с одной дамой. Обычно это моя привилегия, но сегодня я очень занят.
В комнату вошла брюнетка с осиной талией, длинными ногами и чувственным ртом.
— Мадлен Десара, — представил ее Пайн.
Майор растерянно начал поправлять галстук.
— Счастлива познакомиться с вами, — пропела Мадлен.
— Оставьте мне свой адрес. Вы получите необходимые инструкции, — закончил беседу Пайн, и Мадлен подхватила майора под руку.
...Она вернулась в три.
— Ну как? — встретил ее Пайн.
Мадлен покачала головой.
— Он меня боится. Я кажусь ему вампиром.
— Я так и думал. Вы придерживались моих инструкций?
— Мы болтали о людях, сидевших за соседними столиками. Ему нравятся блондинки с голубыми глазами, сдержанные и не слишком высокие.
— Это несложно. Принесите мне картотеку Б, посмотрим, что у нас там есть в запасе.
Он просмотрел список.
— Фреда Клегг. Да, полагаю, Фреда Клегг — это то, что нужно. Но сначала поговорим с мисс Оливер.
На следующий день Уилбрехем получил письмо:
«Поезжайте к двадцати часам в Иглмонт, Фрайерс-Лейн, Хемпстед. Спросите миссис Джонс. Скажите, что вы представитель пароходной компании «Гуава».
Без четверти восемь душный вагон метро выбросил Уилбрехема в Хемпстеде. Фрайерс-Лейн оказался длинным темным переулком. В глубине дворов за кронами деревьев прятались большие особняки, некогда знавшие лучшие времена, а теперь постепенно приходившие в упадок.
Уилбрехем медленно шел по улице и всматривался в едва различимые номера домов на садовых калитках. Внезапно он услышал приглушенный крик.
Майор остановился и прислушался. Крик повторился снова, и на этот раз можно было явственно различить: «На помощь!..» Не задумываясь ни на минуту, Уилбрехем толкнул полуразвалившуюся калитку и увидел, как в кустах какая-то девушка отчаянно отбивалась от двух огромных негров. Один из них зажал девушке рот. Никто не заметил подбежавшего Уилбрехема. Мощный удар в подбородок свалил одного бандита на землю, а другой выпустил жертву и обернулся. Уилбрехем словно ждал этого — резким хуком он повалил и второго. Бандит откатился в сторону, вскочил и побежал к калитке. За ним последовал его сообщник. Уилбрехем вернулся к девушке. Она тяжело дышала, прислонившись к шершавому стволу вяза.
— Как я вам благодарна! — сказала она. Голос ее дрожал. — Если бы не вы...
Только теперь Уилбрехем увидел, кому он так своевременно пришел на помощь. Это была блондинка двадцати одного — двадцати двух лет, с голубыми глазами, пожалуй, немного бесцветная, но миловидная.
— Успокойтесь, — мягко сказал Уилбрехем. — Теперь все в порядке. Я полагаю, что нам лучше уйти отсюда. Как бы они не вернулись!
На губах девушки показалась легкая улыбка.
— Не думаю. После того, что вы с ними сделали... Ах, это было потрясающе!
В лучах ее восхищенного взгляда майор покраснел.
— Я не люблю, когда к дамам пристают с ухаживаниями. Скажите, вы сможете идти, если я возьму вас под руку?
Когда они выходили из калитки, девушка оглянулась на дом.
— Непонятно, — прошептала она. — Дом совершенно пуст.
— Конечно, пуст, — подтвердил майор, разглядывая закрытые ставни и запущенные садовые дорожки.
— Написано: «Уайтфрайерс». — Она показала на едва заметную табличку на калитке. — Но так назывался дом, куда я должна была прийти.
— Не думайте теперь об этом, — сказал майор. В такси он продолжал успокаивать свою спутницу. Она доверчиво улыбнулась:
— Кстати, мое имя... Фреда Клегг.
Через десять минут Фреда уже попивала маленькими глотками горячий кофе и благодарно смотрела на своего спасителя.
— Все это кажется мне сном, ужасным сном. А ведь еще недавно мне хотелось, чтобы что-нибудь произошло. Но нет, это не для меня.
— Расскажите же, что с вами случилось.
— Боюсь, для этого придется сначала рассказать кое-что о себе.
Уилбрехем склонил голову поощряюще, но чуть-чуть поспешно:
— Прекрасная тема.
— Я сирота. Мой отец был капитаном и умер, когда мне было восемь лет. Спустя три года умерла и мать. Я работаю в Лондоне, в компании «Вакьюэм Гэз». Однажды вечером на прошлой неделе я встретила на пороге дома незнакомого джентльмена. Это был мистер Рейд, адвокат из Мельбурна. Оказывается, он знал отца и некогда даже вел его дела.
«Мисс Клегг, — сказал он, — у меня есть основания предполагать, что вы можете оказаться обладательницей некоторого состояния благодаря одной финансовой операции, которую затеял ваш отец незадолго до смерти». — «Не может быть!» — вырвалось у меня. «Вы вряд ли слышали об этом. Сам Джон Клегг никогда не принимал этого дела всерьез. А между тем, деньги оно сулит немалые, если, конечно, у вас остались нужные документы. Их ведь могли и уничтожить после смерти отца. Вы сохранили бумаги?» — «Мать хранила его вещи в старом морском рундуке. Я как-то заглядывала в него, но там ничего интересного». — «Я бы удивился, если бы вы распознали ценность этих документов», — улыбнулся мистер Рейд, и тогда я принесла ему все бумаги, что сохранились после смерти отца. Он бегло просмотрел их и решил взять с собой, чтобы внимательно рассмотреть на досуге. Рейд пообещал непременно поставить меня в известность, если обнаружится что-либо ценное.
А во вторник пришло письмо, где он просил приехать по адресу: Уайтфрайерс, Фрайерс-Лейн-Хемпстед. Я должна была быть здесь в половине восьмого и обсудить с ним дело чрезвычайной важности.
Я немного задержалась, разыскивая улицу, а когда, наконец, нашла вход, на меня напали эти ужасные дикари. Боже, как хорошо, что вы проходили мимо!..
Её глаза были куда красноречивее ее слов.
— И я рад, мисс, что оказался рядом. Попадись мне еще эти бандиты! Вы их видите в первый раз, не так ли?
— Конечно. А почему вы спрашиваете?
— Знаете ли, мисс Клегг. Мне совершенно ясно, что кто-то хочет непременно завладеть бумагами вашего отца. Этот мистер Рейд наплел вам небылиц, лишь бы взглянуть на них. Но, очевидно, он не нашел самого главного.
— И верно! Когда я во вторник вернулась домой, мне показалось, что кто-то рылся в моих вещах. По правде сказать, я решила, что это моя любопытная домохозяйка. Но теперь...
— Вот видите! Кто-то проник в вашу комнату и, не найдя бумаг, решил, что вы носите их с собой. Тогда он и организует покушение на вас. План несложный — или у вас забирают бумаги, или же держат взаперти, пока не признаетесь, куда спрятаны документы.
— Да я и сама ничего не знаю! — в отчаянии воскликнула Фреда.
— А я и того меньше... Но, видимо, бумаги очень ценные. Я-то знаю, с какими неожиданностями встречаются моряки в дальних странах. Но что же теперь делать? В полицию, насколько я понимаю, вы обращаться не хотите?
— О нет!
— Я тоже мало верю Скотланд-Ярду. Давайте поищем бумаги вместе, если моя помощь не покажется вам обременительной.
— Что вы, мистер Уилбрехем! Но о чем могла идти речь в этих бумагах? Может быть, о спрятанных сокровищах?
— Вполне возможно! — воскликнул майор, и в нем проснулся романтик-мальчишка. — Вперед!
Фреда жила близ Ноттингем-Хилл-Гейта. Она провела майора на второй этаж, где разместилась крохотная спальня и такая же крохотная гостиная.
— Я говорила с хозяйкой, — сообщила она. — В субботу приходил человек делать новую проводку. Он утверждал, что у меня в комнате было короткое замыкание. И он пробыл здесь некоторое время.
— Покажите мне рундук вашего отца. — Майору не терпелось приступить к поискам.
Фреда открыла крышку обитого латунью ящика.
— Он пуст!
Майор задумчиво кивнул.
— А больше вы нигде не хранили бумаги?
— Нет.
Уилбрехем внимательно осмотрел внутренность огромного рундука.
— Здесь в обивке тайник! — Он не смог сдержать волнения. — Там что-то есть!
В следующий момент он вытащил сложенный вчетверо клочок грязной бумаги.
— Но это всего лишь какие-то нелепые рисунки, — разочарованно вздохнула Фреда, приникая к плечу мистера Уилбрехема, чтобы лучше разглядеть находку.
— Это написано на суахили, одном из африканских языков, — торопливо пояснил майор. Он подошел к лампе.
— Ну что там?
Уилбрехем прочел бумагу еще раз и, тихо смеясь, повернулся к девушке.
— Ну вот оно, ваше сокровище.
— Мое сокровище? Не надо шутить. Вы имеете в виду испанское золото на затонувшем галионе или еще что-нибудь подобное?
— Может быть, не так романтично, но нечто в этом роде. На бумаге указан тайник, в котором спрятана слоновая кость. Есть закон, который предписывает, сколько можно отстрелять слонов. Какому-то охотнику удалось обойти запрет. За ним была уже погоня, когда он спрятал эту записку.
Здесь довольно точно указано, как искать тайник.
— Вы полагаете, что это большой клад?
— Целое состояние!
— Но
как эта бумага попала к моему отцу?
Уилбрехем пожал плечами:
— Может быть, матрос признался на смертном одре. Ваш отец не знал суахили и не придал документу большого значения.
Фреда вздохнула:
— Как все это захватывающе интересно!
— Остается только решить, что делать с этим ценным документом. Оставлять его здесь мне бы не хотелось. Эти люди могут вернуться за ним. Вы рискнете доверить его мне?
— Но ведь это опасно!
— За меня вы можете не беспокоиться. Со мной справиться не легко. — Он сложил листок и спрятал его в бумажник. — Я смогу увидеть вас завтра вечером?
— Я прихожу домой в половине седьмого.
Уилбрехем был точен, как гринвичский меридиан. В половине седьмого он позвонил у двери дома Фреды.
— Вы не майор Уилбрехем? — спросила служанка. — Для вас записка.
Майор торопливо вскрыл конверт:
«Дорогой майор! Случилось нечто странное. Больше я ничего не могу вам написать, но не смогли бы мы встретиться в доме Уайтфрайерс? Приезжайте как только сможете. Преданная вам Фреда Клегг».
Пока Уилбрехем читал письмо, его брови медленно ползли вверх. Записка Фреды очень обеспокоила его. Что могло произойти, чтобы девушка, и к тому же одна, отправилась туда, где вчера произошел этот ужасный случай?
Он покачал головой. Ничего глупее нельзя было придумать. Может быть, снова появился этот Рейд? Что заставило ее поехать в Хемпстед? Его смущало письмо, уверенный тон которого как-то не соответствовал характеру Фреды Клегг.
Было без десяти восемь, когда он подошел к Фрайерс-Лейн. Темнело. Он осмотрелся вокруг: ни души. Дряхлая калитка отворилась без шума. Дом был погружен в темноту. Внезапно через ставни пробился луч света. В доме кто-то есть!
Уилбрехем прыгнул в кусты и подошел к дому с тыльной стороны. Одно из окон на первом этаже было не прикрыто. Он влез внутрь, тихо открыл дверь. Ни малейшего звука. Он посветил фонариком. От кухни вели ступеньки, а за ними дверь в переднюю часть дома. Он толкнул дверь и прислушался. Никого. Теперь он находился в гостиной. Направо и налево вели двери. Сначала — в комнату направо. Он медленно нажал на ручку. Дверь подалась. Тонкий луч фонаря ощупал сантиметр за сантиметром. Комната была пуста и безжизненна.
В тот же миг он услышал позади шум, обернулся, но слишком поздно. Страшный удар обрушился на голову Уилбрехема.
Он не мог сказать, сколько времени прошло, пока он пришел в себя. Возвращение к жизни было болезненным, голова раскалывалась. Он попытался пошевелить рукой, но почувствовал резкую боль в запястье — он весь был опутан веревками!
Высоко сверху пробивалась слабая полоска света — значит, он в подвале. Майор перевел глаза в сторону — сердце рванулось из груди: рядом с ним лежала Фреда со спутанными руками и ногами. Глаза ее были закрыты, но тут она вздохнула, и ее испуганный взгляд упал на майора.
— И вы тоже?! — воскликнула она. — Как это случилось?
— Я вас подвел, — сказал Уилбрехем. — Как дурак, попал в западню. Скажите, вы прислали мне письмо, в котором предлагали встретиться здесь?
Девушка широко раскрыла глаза:
— Я? Но ведь это вы прислали мне письмо?
— Мы попались на один и тот же крючок, — пробормотал майор.
Внезапно оба вздрогнули. Прозвучал голос, который, казалось, доносился из преисподней. То был голос маньяка и убийцы, от одного звука которого волосы вставали дыбом.
— Мистер Рейд, — прошептала Фреда.
— Рейд — лишь одно из моих имен, моя дорогая, — ответил голос. — Одно из многих. К сожалению, я должен признать, что вы оба нарушили мои планы. Вы обнаружили этот дом, и хотя еще ничего не сообщили полиции, но такая возможность не исключена. Я не могу этого допустить. Это дом, из которого нет возврата. Мне очень жаль, но вы должны погибнуть.
Он помолчал несколько секунд, потом продолжил:
— Без кровопролития. Я этого не люблю. Мой метод намного проще и, насколько мне известно, не так болезнен. Прощайте, вы оба.
— Послушайте! — воскликнул Уилбрехем. — Делайте что хотите со мной, но эта молодая женщина не сделала ничего, ровным счетом ничего. Отпустите ее!
Голос Уилбрехема заглушил бурный поток воды, каскадом лившийся вниз по ступенькам.
— Нас хотят утопить! — Фреда билась в истерике. — Это моя вина. Я впутала вас в это дело.
— Не думайте так, моя милая, меня беспокоит только ваша судьба. Сам я в жизни попадал в разные переделки и всякий раз выбирался из них. Главное — не терять мужества.
— Вы великолепный человек, я еще никогда не встречала таких людей, разве только в романах!
С большим усилием Уилбрехему удалось ослабить веревки. Он поднес кисти к зубам и распутал узлы. Через минуту он освободил и девушку. Вода уже доходила до щиколоток.
— А теперь — наружу!
Путь из подвала преградила дверь. Майор внимательно осмотрел ее.
— Доски довольно ветхие.
Он всей тяжестью налег на дверь. Дерево затрещало, и дверь вывалилась из петель. В следующую минуту они уже были на улице. В ноздри бил тяжелый липкий аромат цветущих лип. Нестерпимо ярко сверкали звезды.
— Ох, — воскликнула Фреда, — как это было страшно!
— Мое дорогое дитя, ты очень смелая, ангел мой, ты не могла бы, я хочу сказать... Я люблю тебя, Фреда.
На несколько минут время остановилось. Потом Уилбрехем сказал:
— А самое главное — тайна сокровища принадлежит нам!
— Но ведь они отобрали у тебя бумагу?
— Я отправил ее по дороге на адрес моего портного. Разбойникам достался фальшивый документ. Знаешь, Фреда, в наш медовый месяц мы поедем в Восточную Африку и поищем тайник.
Мистер Паркер Пайн покинул свое бюро и поднялся на верхний этаж. Здесь, в мансарде, сидела мисс Оливер, автор сенсационных романов, а теперь начальник штаба мистера Пайна. Перед ней стояла пишущая машинка, рядом валялись записные книжки, рукописи и большой кулек с яблоками.
— Очень хорошая история, мисс Оливер, — весело сказал Пайн.
— Все в порядке? Меня это радует.
— Только вот эта штука, вода в подвале, — робко начал Пайн. — Не думаете ли вы, что на будущее надо придумать что-нибудь пооригинальнее?
Мисс Оливер покачала головой и достала из кулька яблоко:
— Не думаю, мистер Пайн. Люди привыкли читать о подобных вещах. Вода, которая течет в подвал, ядовитый газ и тому подобное. Они читали об этом, и им доставляет особое удовольствие пережить это в жизни. Публика консервативна, мистер Пайн. Она питает пристрастие к старым, банальным трюкам.
— Конечно, вам лучше знать, — согласился Пайн. И он подумал при этом о сорока шести нашумевших романах мисс, которые стали бестселлерами в Англии и Америке и были переведены на все языки мира. — А каковы издержки?
Оливер протянула ему записку.
— Все очень скромно. Перси и Джерри, оба «бандита», получат немного. Лорримору, актеру, который играл Рейда, причитается пять гиней, ну а голос в подвале мы, конечно, записали на пленку.
— Уайтфрайерс оказался для меня очень выгодными, — сказал мистер Пайн. — Я купил его за гроши, а между тем он стал местом действия одиннадцати захватывающих драм.
— Да, совсем забыла, — добавила мисс Оливер, — гонорар. Джонни. Пять шиллингов.
— Кто такой Джонни?
— Мальчик, который подливал в подвал воду из бидона.
— Да, кстати, мисс Оливер, вы знаете еще и суахили?
— Нет, это
бюро переводов
.
— Ну и причудливы пути современного бизнеса! — пробормотал мистер Пайн.
— Жаль только, — вздохнула мисс Оливер, — что Уилбрехем не найдет слоновой кости, ну да всего не предусмотришь.
Мистер Уилбрехем сидел в шезлонге и задумчиво смотрел на календарь. «Срок прошел. Пожалуй, надо зайти и забрать деньги, — подумал он. Но, будучи справедливым человеком, он увидел и другую сторону вопроса. — Я ведь не выполнил договора. Кто знает, что бы случилось со мной, если бы я пришел к этой Джонс. Я ведь познакомился с Фредой именно по дороге к ней».
Миссис Уилбрехем тоже думала о своем. «Ну и дура же я была! Всерьез поверила этим людям и выложила три фунта. А все произошло само собой. Сначала мистер Рейд, а потом эта странная история, и Чарли вошел в мою жизнь. Подумать только, что мы встретились чисто случайно!»
Она повернулась в кресле и посмотрела на мужа долгим восхищенным взглядом.
Перевел с английского Г. Гаев
(обратно)
Оглавление
По реке
На все руки микромастера
Лошади из Лилипутии
Экспедиция «Вокруг света» продолжается
Золотое колымское лето
Странные боги Меланезии
Карьера Грегори Литла, океанографа с «Наутилуса»
Римские путешествия
Земляника на скалах
Макбет — Мабата
Танец
Школы всякие нужны...
Не кантовать: чемпион
Гарри Гаррисон. Неукротимая планета
«Бен Франклин» погружается в бездну
Агата Кристи. Майор Уилбрехем ищет опасностей
Последние комментарии
5 часов 12 минут назад
5 часов 25 минут назад
5 часов 58 минут назад
6 часов 31 минут назад
22 часов 58 секунд назад
22 часов 10 минут назад