Игорь Князький
КАЛИГУЛА

Глава I
«В ЛАГЕРЕ БЫЛ ОН РОЖДЕН,
ПОД ОТЦОВСКИМ ОРУЖИЕМ ВЫРОС»
Накануне сентябрьских календ (календами римляне называли первый день месяца) в большой семье императора Августа, уже сорок второй год правившего Римской державой, произошло прибавление: у властителя родился правнук, получивший при рождении имя Гай. Таким образом, престарелый владыка Рима — ему вот-вот должно было исполниться семьдесят четыре года — стал прадедом младенца, чье полное имя звучало точно так же, как и имя величайшего из римлян, божественного Юлия, сокрушившего безнадежно одряхлевший республиканский способ правления, — Гай Юлий Цезарь.
Когда великий Юлий погиб от кинжалов убийц, его внучатый племянник и наследник Октавий, вступив в завещанные ему права, стал именоваться уже Гай Юлий Цезарь Октавиан, а став единоличным правителем Рима, предпочел именоваться Августом, под каковым именем он более всего и известен в истории. Теперь, на старости лет, он дождался еще одного Гая Юлия Цезаря… Что ж, и само имя, и августейшее в буквальном смысле слова происхождение вполне однозначно предрекали новорожденному неминуемое и заслуженное обретение в грядущем высшей власти в Риме. Так оно и случится. Однако это исторически справедливое достижение правнуком Августа владычества в Риме не принесет счастья ни римлянам, ни самому Гаю. Но кто в Риме мог в то время предполагать подобное развитие событий и трагическую судьбу новорожденного Цезаря?
Родители мальчика были совершенно счастливы рождением сына. Не так давно они пережили большое горе: их предыдущий ребенок, также носивший имя Гай, скончался в раннем возрасте. Умерший мальчик отличался просто изумительной миловидностью. Восхищенная красотой правнука, его прабабка Ливия, супруга Августа, посвятила в храм Венеры Капитолийской его изображение в виде Купидона, а сам Август поместил портрет его в своей спальне и, входя в нее, каждый раз целовал изображение этого прекраснейшего из младенцев. Новый Гай явился как бы на смену безвременно ушедшему из жизни Гаю-Купидону, и потому его рождению были особенно рады, и потому вызвало оно столь великий интерес.
Особое внимание к малышу конечно же было связано и с именами его родителей. Сын наидостойнейших римлян — такие слова вовсе не были традиционным цветистым комплиментом. Мать Гая — Агриппина, или, как принято называть ее в истории, Агриппина Старшая — была дочерью славного полководца Агриппы, воинским трудам которого Август был обязан множеством побед, включая главную — над самым грозным соперником своим Марком Антонием, давшую ему единовластие в Риме, и дочери самого Августа Юлии. Агриппину отличали замечательные качества: она была известна сильным и непреклонным нравом, ей была чужда ложь, она презирала всякое притворство. И пусть мать ее Юлия, увы, отнюдь не славилась добродетелью, а, напротив, имела заслуженную славу неисправимой распутницы, дочь, по счастью, сих дурных качеств не унаследовала, а отличалась целомудрием и была верной, искренне любящей своего мужа супругой.
Отец Гая Германик был сыном знаменитого полководца Друза, особо прославившегося походами за Рейн в пределы Германии. Легионы, которые он возглавлял вместе со своим старшим братом Тиберием, добились наибольших успехов в борьбе с германцами, самыми упорными и непримиримыми врагами Рима, отодвинув рубежи Империи вплоть до берегов Альбиса (современная река Эльба в Германии). По этому славному поводу в честь Друза и Тиберия по повелению Августа была отчеканена монета с изображением победоносных братьев. К несчастью для Друза, это был его последний славный подвиг во имя величия Рима: случайная травма вызвала у него гангрену, от которой он вскоре и скончался.
Матерью Германика была Антония Младшая — дочь Марка Антония и сестры Августа (тогда еще Гая Юлия Цезаря Октавиана) Октавии. Брак сей был задуман для примирения Антония и Октавиана, дабы соперничество их не ввергло вновь Рим в ужасы гражданской войны. Примирения не вышло. Антоний бросил Октавию, не имея ни сил, ни желания бороться со своей безумной страстью к царице Египта Клеопатре, и в конце концов бесславно погиб, предоставив победоносному Октавиану право владеть и Римом, и Египтом. Но от брака с Октавией осталось потомство. И вот дочь злейшего врага Августа — его же родная племянница, ибо дочь Октавии вышла замуж за сына (от первого брака) Ливии, супруги властителя Рима. Сын Друза и Антонии получил при рождении наследственное прозвание Германик. Собственно, славное имя это заслужил сам Друз за свои победы в Германии, но будущее показало, что сын его прозвание такое с великой доблестью оправдал, одержав множество блестящих побед в тех же местах, где победоносно сражался и его отец.
«Всеми телесными и душевными достоинствами, как известно, Германик был наделен, как никто другой: редкая красота и храбрость, замечательные способности к наукам и красноречию на обоих языках (латинском и греческом. —
К К.), беспримерная доброта, горячее желание и удивительное умение снискать расположение народа и заслужить его любовь. Красоту его немного портили тонкие ноги, но он исправил этот недостаток, постоянно занимаясь верховой ездой после еды. Врага он не раз одолевал врукопашную. Выступать с речами в суде он не перестал даже после триумфа. Среди свидетельств его учености остались даже греческие комедии. В поездках он вел себя как простой гражданин, в свободные и союзные города входил без ликторов. Встречая гробницы знаменитых людей, приносил жертвы Манам (Маны — воплощения душ умерших предков, обитавшие в подземном мире. —
И. К.)… Даже и к хулителям своим, кто бы и из-за чего бы с ним ни враждовал, относился он мягко и незлобиво»
{1}.
Оценка Светонием добродетелей Германика не должна подвергаться сомнениям. Автор «Жизни двенадцати цезарей», самого, пожалуй, популярного и поныне читаемого сочинения по римской истории первого века Империи, будучи профессиональным архивистом, прекрасно владел историческим материалом. Отметим, что Германик, пожалуй, единственный персонаж на страницах Светониева труда, которому дается достаточно пространная и, главное, абсолютно положительная характеристика.
Достоинства Германика сумел оценить и сам Август, как известно, отличавшийся замечательным умением разбираться в людях, что во многом помогло ему достичь высшей власти. В год рождения Гая Цезаря он вместе с Гаем Фонтеем Капитоном исполнял обязанности консула. Конечно, в имперскую пору уже в правление Августа звание консула значило много меньше, нежели в эпоху республиканскую, когда консулы олицетворяли высшую исполнительную власть в Риме, но все же это было весьма почетное звание, за обладателем коего безусловно признавались немалые заслуги и высокие добродетели.
Таким образом, новорожденный Гай с минуты своего появления на свет уже почитался как сын достойнейших родителей, что само по себе должно было сулить ему великое будущее.
Родился Гай в маленьком приморском городке, расположенном в нескольких десятках миль к югу от Рима. Назывался городок Анций. Спустя четверть века городку этому суждено было стать родиной еще одного знаменитого римского императора — Нерона, приходившегося Гаю Цезарю родным племянником. Известно, что совсем немного времени сын Германика и Агриппины провел в родном городе, но он навсегда остался для него глубоко почитаемым местом. Когда Гай обрел высшую власть, то для своих увеселений более всего любил выбирать Анций, что даже породило слухи о том, будто, наскучив Римом, Гай Цезарь собирается перенести в родной город саму столицу Римской империи. Впрочем, первые годы жизни Гая прошли далеко от Анция и Рима. Вскоре его отправили к отцу, который в это время возглавлял римские легионы, стоявшие на самой опасной границе Империи — на Рейне. Об обстоятельствах отправки Гая Цезаря к Германику мы узнаём из письма Августа к своей внучке Агриппине, матери Гая, приводимого Светонием в биографии Калигулы:
«Вчера я договорился с Таларием и Азиллием, чтобы они взяли с собой маленького Гая в пятнадцатый день до июньских календ, коли богам будет угодно. Посылаю вместе с ним и врача из моих рабов; Германику я написал, чтобы задержал его, если захочет. Прощай, милая Агриппина, и постарайся прибыть к твоему Германику в добром здравии»
{2}.
Так правнук Августа, носивший славное имя Гай Юлий Цезарь, оказался в военном лагере, где и суждено ему было провести первые детские годы. Позднее многие будут считать, что он и родился в лагере. Появятся даже безымянные стишки о рождении Гая в военной среде, что будет истолковываться как дополнительное, помимо августейшего происхождения, обоснование его прав на высшую власть:
В лагере был он рожден, под отцовским оружием вырос:
Это ль не знак, что ему высшая власть суждена?
{3}
Правда, когда эти вирши были сочинены, до сих пор неясно, ибо распространение они получили уже тогда, когда Гай облачился в императорский пурпур.
То, что сын Германика рос рядом с отцом в военном лагере, снискало ему привязанность и любовь в римском войске. Мальчика стали облачать в одежду рядового легионера — зрелище, безусловно, трогательное и умилительное. Тогда-то и удостоился маленький Гай от воинов шутливого прозвища Калигула, что означало «Сапожок» (калиги — солдатские сапоги, обычная обувь римских легионеров). Под этим прозвищем Гаю и суждено было войти в историю, под этим именем он в ней и остался.
Письмо Агриппине, из которого нам известно об отправке маленького Гая к отцу в далекую от Рима Галлию, на рейнскую границу, Август написал за несколько месяцев до своей смерти.
Сорок четвертый год его единовластного правления в Риме стал последним годом великой эпохи Августа, когда в Вечном городе и его необъятных владениях, простиравшихся от Атлантики до Кавказа и от Рейна до Нила, утвердилась новая форма правления. Римская республика окончательно превратилась в
Imperium Romanum — Римскую империю. Август не был первым римлянином, обретшим в результате гражданской войны высшую власть. Более чем за полвека до него, в 82 году до Рождества Христова, единовластным повелителем Рима стал Луций Корнелий Сулла, победивший в жесткой междоусобной войне сторонников Гая Мария. Сулла, однако, не пытался установить в Риме монархических порядков, он лишь сохранил за собой полномочия диктатора. Диктатор в эпоху Римской республики соединял в своем лице высшую военную и гражданскую власть. Диктатор назначался по инициативе сената одним из консулов в случае чрезвычайных обстоятельств в государстве. Должность была временная, через полгода диктатор слагал с себя полномочия. Сулла, по сути, стал пожизненным диктатором, ибо присвоил себе право быть на этом посту столько, сколько ему заблагорассудится «во благо Рима». Два года спустя Сулла добровольно отказался от личной власти, вернув республиканское правление, и вскоре, год спустя, умер. Великий Гай Юлий Цезарь в отличие от Суллы вполне целенаправленно сокрушал республику в Риме, ни в коем случае не собираясь отказываться от единоличной власти. Однако блистательный интеллектуал, полководец, писатель, поражавший всех многообразием своих замечательных талантов, так и не смог определиться в главном: какую новую форму правления он предложит римлянам взамен уходящей в прошлое республики? Похоже, великий Юлий хотел все-таки стать царем, но римляне, у которых на протяжении уже почти пяти столетий — с 510 года до Рождества Христова, когда был свергнут последний римский царь Тарквиний Гордый, была стойкая аллергия на царский титул первого лица государства, этих устремлений победоносного диктатора оценить не сумели. Более того, именно обвинение в стремлении к царской власти стало решающим для заговорщиков и обрекло великого Цезаря на гибель. Август не обладал яркими талантами своего предшественника, но его практичный ум оказался куда более изобретательным в плане государственного строительства. Он предложил римлянам монархию. Но монархию, облаченную в республиканские одежды и потому как бы совершенно не противоречащую добрым заветам славных предков. Ни о каком царском титуле не было и речи. Первым лицом в государстве становился принцепс — так с древнейших времен именовался председательствующий в сенате. Правда, ранее он никакой властью не обладал, лишь вел заседания, на которых сенаторы принимали судьбоносные для Рима решения. Ныне же принцепс, «первый среди равных», как любил подчеркивать Август, был, по сути, и верховным главнокомандующим, что подчеркивалось включением старинного звания «император» в его полный титул. В эпоху Республики воины провозглашали императором наиболее удачливого полководца за самые громкие победы. Со временем это звание стало главным титулом правителя Римской державы. Принцепс отныне получал исключительное право чеканить золотую и серебряную монету, его суд был верховной инстанцией для всех римских граждан, а в качестве великого понтифика он возглавлял римскую религию. Принцепс также располагал пожизненной властью проконсула — так назывались наместники в римских провинциях — и потому контролировал управление всей территорией Римской империи. Наконец, звание «Отца отечества» делало первое лицо в государстве священным. Само имя «Август», означавшее «умножающий», также подчеркивало сакральный характер власти императора. Но при этом Август постоянно подчеркивал, что он не установил единовластия, но восстановил республику. Формально сохранялись все республиканские учреждения и их функции, но все понимали, что прежняя эпоха ушла навсегда. Республика сменилась Империей, где истинным владыкой был принцепс, потому и принято называть Римскую империю первых трех веков ее существования принципатом.
Надо сказать, что об утраченной республике в Риме скорбели очень немногие. В свои последние десятилетия республика была крайне малосостоятельна и уходила со сцены под непрекращающийся звон мечей гражданских войн. Империя покончила с кровавыми междоусобицами, дав всему необъятному пространству своих владений мир.
Imperium Romanum — Римская империя дала своим народам
Pax Romana — Римский мир. И это касалось не только римских граждан. Народам завоеванных римлянами стран, которые в результате вхождения в состав Римской державы в первую очередь лишились права разорять друг друга бесконечными войнами, империя дала благоденствие, которого до сих пор они никогда не знали. Потому в большинстве своем подданные империи «предпочитали безопасное настоящее исполненному опасностей прошлому»
{4}. Но вот настали дни, когда над спокойствием в Римской империи вновь нависла опасность.
Последние годы жизни Августа, увы, не были для Рима годами желанного и наконец-то по-настоящему обретенного мира и спокойствия. В 9 году от Рождества Христова римляне потерпели жесточайшее поражение в Германии, где даровитый германский предводитель Арминий со своим варварским воинством сумел уничтожить в Тевтобургском лесу три римских легиона, коими, увы, командовал малоталантливый военачальник Квинтилий Вар. Стареющий Август, уже вступивший в восьмой десяток, буквально бился в истерике, твердя одно и то же бесполезное заклинание: «Квинтилий Вар! Верни легионы!» Пасынок принцепса Тиберий Клавдий Нерон, родной дядя отца маленького Калигулы Германика, с превеликим трудом сумел остановить натиск победоносных варваров на Рейне, но с берегов Альбиса пришлось уйти.
Еще ранее, в 6 году от Рождества Христова, на обширном пространстве от Дуная до Адриатики также вспыхнули мятежи, длившиеся три года подряд. Должно быть, народам Паннонии (придунайская провинция Рима, современная Венгрия), Иллирии и Далмации (современные территории Хорватии и Боснии и Герцеговины) благоденствие под владычеством Рима вовсе не казалось благом. В истории очень часто народы мирному проживанию в составе империй предпочитают резню и голод под своим флагом
{5}. Число повстанцев на пике мятежа достигало двухсот тысяч человек, и потрясенный Август объявил в сенате во всеуслышание, что через десять дней они могут быть у стен Рима. Положение спас все тот же неутомимый Тиберий, заслуживший победами над мятежниками в Подунавье и на Балканах очередной триумф. Триумф этот славный полководец отпраздновал уже после всех своих успешных сражений на берегах Дуная, а затем и Рейна в 12 году от Рождества Христова. Как раз в год рождения Гая Цезаря.
В империи воцарился покой. Но теперь все взоры были устремлены на дряхлеющего принцепса, ибо «настоящее не порождало опасений, покуда Август во цвете лет деятельно заботился о поддержании своей власти, целостности своей семьи и гражданского мира. Когда же в преклонном возрасте его начали томить недуги и телесные немощи и стал приближаться его конец, пробудились надежды на перемены и некоторые принялись толковать впустую о благах свободы, весьма многие опасались гражданской войны, иные — желали ее. Большинство, однако, разбирало, кто мог стать их властелином»
{6}.
Перед римлянами впервые разыгрывалась сцена передачи власти от уходящего из жизни единовластного правителя державы к его преемнику. И исторический опыт здесь, понятное дело, отсутствовал. В древнейшие времена, когда Римом правили цари, преемника ушедшему в царство мертвых монарху избирало народное собрание; таким образом, новый царь обретал власть по воле римского народа. Единственным царем, захватившим, согласно легенде, трон силой, был Луций Тарквиний, получивший прозвание Гордый. Но он-то и стал последним римским царем. После его свержения Рим стал республикой. Сулла, впервые ставший единовластным правителем Римской державы, добровольно сложил с себя диктаторские полномочия, восстановив традиционное республиканское правление. Великий Гай Юлий Цезарь, в отличие от Суллы категорически не желавший слагать с себя полномочия диктатора Рима, о возможном преемнике не задумывался, полагая, что у него впереди еще немало лет счастливого правления. Когда кинжалы убийц поразили гениального Юлия, то вновь произошло возвращение к республике. Ведь Октавиан был всего лишь наследником имущества Гая Юлия Цезаря, но никак не его преемником. За это право ему пришлось бороться целых тринадцать лет. И вот теперь, когда силы оставляли Августа, римляне не могли не задуматься о том, кому будет суждено стать единовластным правителем необъятной империи. Следует признать, что никто уже не помышлял о восстановлении прежней республики. Римляне успели оценить те немалые достоинства единовластия, которые продемонстрировало правление Августа, и ломали голову лишь над вопросом, кому же быть преемником умирающего принцепса. Сам Август, надо сказать, задачу эту римлянам не облегчил. Никакого закона о переходе высшей власти от одного принцепса к другому за все сорок с лишним лет его правления в Риме так и не появилось. Спустя восемнадцать с половиной столетий знаменитый французский историк Эрнест Ренан сурово упрекнул за это основателя Принципата: «Август не исполнил долга истинного политика, оставив будущее на произвол судьбы. Без твердо установленного права престолонаследия, без точных законов об усыновлении, без всякого закона об избрании императора, без всяких конституционных ограничений цезаризм оказался слишком тяжелым грузом на этом корабле без балласта. Самые ужасные взрывы были неизбежны»
{7}.
Думается, Август и не считал необходимым издавать закон о престолонаследии. Ведь это противоречило бы самой идее «восстановления республики», каковую он торжественно провозгласил. Потому в отсутствие закона о передаче власти, но при неоспоримом уже единовластии смена правителя неизбежно становилась «семейным делом» самого принцепса и его ближайших родственников. Вот римляне и стали горячо обсуждать достоинства и недостатки тех, кто в первую очередь мог стать наследником Августа. Таковых было не много: внук Августа — Агриппа Постум, сын славного полководца Марка Випсания Агриппы и дочери принцепса Юлии; пасынок Августа — Тиберий Клавдий Нерон, сын его супруги и верной спутницы последних десятилетий жизни Ливии; а также сама Ливия, властная, волевая, даром что и сама была лет весьма преклонных. Сопоставляя кандидатов на наследие Августа, римляне особо не обольщались: «Агриппа — жесток, раздражен нанесенным ему бесчестием и ни по летам, ни по малой опытности в делах не пригоден к тому, чтобы выдержать такое бремя; Тиберий Нерон — зрел годами, испытан в военном деле, но одержим присущей роду Клавдиев надменностью, и часто у него прорываются, хотя и подавляемые, проявления жестокости. С раннего детства он был воспитан при дворе принцепса; еще в юности консульствами и триумфами; и даже в годы, проведенные им на Родосе под предлогом уединения, а в действительности изгнанником, он не помышлял ни о чем ином, как только о мести, притворстве и удовлетворении тайных страстей. Ко всему этому еще его мать с ее женской безудержностью; придется рабски повиноваться женщине и, сверх того, двоим молодым людям, которые какое-то время будут утеснять государство, а когда-нибудь и расчленять его»
{8}.
Что и говорить, рассуждения весьма далекие от какого-либо оптимистического начала. Один — юнец, преисполненный дурных намерений, лишенный достоинств, соответствующих правителю державы. Другой — пусть и немолод, а значит, опытен, испытан в войнах и с делами государственными знаком не понаслышке, но человек недобрый, мстительный и жестокий. А тут еще и его матушка с необузданным честолюбием и жаждой власти. Да не забыть еще и о молодых — о сыне Тиберия Друзе и племяннике Германике, от коих тоже много чего можно ожидать, и не обязательно хорошего…
Наличие августейшей родни, как видим, заставляло иных римлян предполагать возможность в грядущем даже расчленения государства. Неопределенность ситуации, как всегда бывает в подобных случаях, всенепременно порождает многочисленные слухи и сплетни, подлинность каковых, как правило, крайне сомнительна, что отнюдь не мешает их повсеместному распространению. Так, ухудшение здоровья Августа иные связывали со злым умыслом Ливии, и стали поговаривать, что Август вновь подобрел к своему внуку Агриппе Постуму, коего ранее за ужасное поведение и отвратительные наклонности сам повелел сослать на остров Планазию. Наконец, появился слух, что Август даже тайно посетил ссыльного внука на Планазии, и там при встрече ими были пролиты обильные слезы, и якобы вот-вот юный Агриппа вернется в Рим… А уж если вернет себе и любовь Августа, то кому еще быть его преемником, как не вновь обретенному любимому внуку?
Что до другого кандидата в преемники, то здесь конечно же все выглядело много солиднее. Сын Ливии от первого брака, пасынок Августа, был уже далеко не молод и достиг середины шестого десятка, будучи на двадцать лет моложе самого императора. Жизненный путь Тиберия давал самые серьезные основания полагать, что этот человек наделен выдающимися способностями, каковые и позволили ему совершить немало замечательных деяний во славу Римской империи. В возрасте шестнадцати лет он начал военную службу и в качестве трибуна участвовал в походе на Кантабрию — единственную оставшуюся непокорной римлянам часть Испании на северо-западе Иберийского полуострова (территория современных испанских провинций Астурии и Басконии). Шесть лет спустя, в 20 году, Тиберий впервые сам возглавляет поход римской армии на Восток против Парфии. Успех этого похода можно признать выдающимся: парфяне были вынуждены уступить Риму Армению, и на трон Армянского царства сел союзник римлян Тигран. Тиберий в своем военном лагере перед трибуной военачальника лично возложил на Тиграна царскую диадему. Более того, парфяне согласились вернуть римские знамена, некогда захваченные у Марка Красса и Марка Антония. Тиберий и принял эти знамена. Для римлян такое событие было чрезвычайно знаменательным. Поражение Марка Красса в битве с парфянами у города Карры в Месопотамии в 59 году было величайшим унижением римского оружия. Да и могли ли в Риме забыть, как во время пира у парфянского царя Орода, который отмечал помолвку своего сына Пакора с армянской царевной, было разыграно целое представление в насмешку над побежденным римским военачальником! После пиршества для царя и его гостей был устроен спектакль: постановка «Вакханок» Еврипида. И вот в самый разгар представления в зале появился гонец, который бросил на сцену отрубленную голову Марка Лициния Красса, а один из актеров, схватив страшный трофей, ко всеобщему ликованию, продекламировал стихи, которые и должен был прочесть по ходу действия и которые замечательно подошли к случаю:
Мы несем с горы в свой дом недавно срезанный плющ,
Добычу славной охоты!
Хор, как и было положено по тексту трагедии, вопросил:
Ныне возврат знамен как бы означал, что римляне сумели загладить позор разгрома Марка Красса и последствия не самого удачного похода Марка Антония против парфян в 36 году до Р. X., когда римляне потеряли более трети своего войска. И честь возврата римских знамен, и утверждение римского влияния в Армении, и готовность парфян выдать римлянам заложников в знак гарантии мирных отношений — все было связано с именем Тиберия.
После успешных кампаний в горах Испании и Армении Тиберию пришлось сражаться и в Альпах, где он подчинил Риму племена ретов. Но главные свои военные деяния он совершил на равнинных землях в Паннонии и Германии. В войне с германцами, когда римские легионы впервые достигли берегов Альбиса (Эльбы), Тиберий захватил сорок тысяч пленных, которых приказал расселить на ранее присоединенных к Риму землях по левому берегу Рейна. За победы эти Тиберий удостоился новой, ранее никому не предоставлявшейся награды — триумфальных украшений. Он дважды торжественно вступал в Рим во главе своих победоносных войск: первый раз это была «овация» — так называемый малый триумф, когда полководец-победитель вступал в столицу пешком; второй же раз Тиберий въехал в Вечный город на колеснице, и это был уже полный триумф. Третий раз вступать в Рим в качестве победоносного военачальника Тиберию пришлось уже на исходе правления Августа. Это было после подавления им грандиозного восстания в Иллирии и Паннонии и восстановления римской границы по Рейну после гибели легионов Квинтилия Вара, о чем уже упоминалось. Сколь значимой для римлян была война в Иллирии, засвидетельствовал Гай Светоний Транквилл: «А когда пришла весть об отпадении Иллирика, ему (Тиберию. —
И. К.) была доверена и эта война — самая тяжелая из всех войн римлян с внешними врагами после Пунических: с пятнадцатью легионами и равным количеством вспомогательных войск ему пришлось воевать три года при величайших трудностях великого рода и крайнем недостатке продовольствия. Его не раз отзывали, но он упорно продолжал войну, опасаясь, что сильный и близкий враг, встретив добровольную уступку, перейдет в наступление. И за упорство он был щедро вознагражден: весь Иллирик, что простирается от Италии и Норика до Фракии и Македонии и от реки Данубия до Адриатического моря, он подчинил и привел к покорности»
{9}.
Тиберий, безусловно, обладал большим полководческим талантом. Более того, будучи уже немолодым человеком, он не переставал совершенствовать свои воинские знания и привычки. Знаменитый объединитель Германии князь Отто фон
Бисмарк любил повторять фразу: «Только дураки учатся на собственном опыте. Я предпочитаю учиться на опыте других». Тиберий мог бы сказать это почти за девятнадцать столетий до великого канцлера Германской империи. Печальный опыт Квинтилия Вара, погубившего в Тевтобургском лесу три легиона, был им немедленно учтен. Как писал Светоний, Тиберий «знал, что виной поражению Вара была опрометчивость и беззаботность полководца. Поэтому с тех пор он ничего не предпринимал без одобрения совета: человек самостоятельных суждений, всегда полагавшийся только на себя, теперь он вопреки обыкновению делился своими военными замыслами со многими приближенными. Поэтому же и бдительность он проявлял необычайную: готовясь к переходу через Рейн, он в точности определил, что надо брать с собою из припасов, и сам, стоя у берега перед переправой, осматривал каждую повозку, нет ли в ней чего сверх положенного и необходимого. А за Рейном вел он такую жизнь, что ел, сидя на голой траве, спал часто без палатки, все распоряжения на следующий день и все чрезвычайные поручения давал письменно, с напоминанием, чтобы со всеми неясностями обращались только к нему лично и в любое время, хотя бы и ночью.
Порядок в войске он поддерживал с величайшей страстью, восстановив старинные способы порицаний и наказаний: он даже покарал бесчестием одного начальника легиона за то, что тот послал нескольких солдат сопровождать своего вольноотпущенника на охоту за рекой. В сражениях он никогда не полагался на удачу и случай»
{10}.
Перед нами портрет выдающегося воина, умелого военачальника, человека, которому Рим обязан завоеванием обширных земель, сопоставимых со славными завоеваниями Помпея и Цезаря. Более того, этим великим полководцам не довелось сражаться с врагом, могущество которого угрожало бы благополучию Римской державы. Тиберий же подавил страшный мятеж в Иллирике, угрожавший самому Риму. Едва ли Август просто запугивал сограждан, предупреждая, что через десяток дней враг может появиться у стен столицы, и потому не случайно Светоний сопоставил войну Тиберия с повстанцами Иллирии и Паннонии с Пуническими войнами! И в борьбе с Карфагеном, когда армию пунов, как римляне именовали карфагенян, возглавлял грозный Ганнибал, судьба Рима порой тоже висела на волоске. Значит, справедливо будет поставить имя Тиберия как великого полководца в один ряд с такими прославленными римлянами, как победитель Ганнибала Сципион Африканский и покоритель Македонии Эмилий Павел, как Сципион Эмилиан, взявший Карфаген, и Гай
Марий, сокрушивший страшные орды кимвров и тевтонов, как Сулла и, наконец, Помпей Великий и Юлий Цезарь.
Победы над германцами и паннонцами, обеспечившие конечное благополучие последних лет правления Августа, резко подняли значение Тиберия в делах Империи. Вскоре после того, как в 12 году Тиберий отпраздновал свой очередной, третий уже, триумф, появился закон, гласивший, что отныне он будет совместно с Августом управлять провинциями и производить перепись. Это означало, что Тиберий, по сути, становится официальным соправителем дряхлеющего принцепса, что не должно было оставлять какие-либо сомнения относительно имени преемника Августа. Но даже величие военных заслуг Тиберия не могло заставить римлян забыть о его дурных качествах, кои могли стать весьма опасными при обретении им высшей власти. Конечно, упомянутые ранее разговоры о его тайной жестокости не были случайны. Знал об этом и сам Август, не раз открыто осуждавший жестокий нрав Тиберия
{11}. Молва даже приписывала Августу слова, якобы сказанные принцепсом после некой тайной беседы с Тиберием: «Бедный римский народ, в какие он попадет медленные челюсти!» Отсюда появлялись и предположения, что Август из тщеславия специально сделал Тиберия своим преемником, дабы римляне еще более жалели об ушедшем правителе.
Последнее, разумеется, не более чем ядовитая сплетня. Не мог Август желать Римской державе зла и передать власть человеку, способному лишь оттенить великие достоинства своего предшественника. Здесь, думается, нельзя не согласиться со Светонием, резко возражавшим против подобного истолкования решения Августа о выборе преемника: «И все-таки я не могу поверить, чтобы такой осторожнейший и предусмотрительный правитель в таком ответственном деле поступил столь безрассудно. Нет, я полагаю, что он взвесил все достоинства и недостатки Тиберия и нашел, что его достоинства перевешивают, — тем более что и перед народом он давал клятву усыновить Тиберия для блага государства и в письмах не раз отзывался о нем как о самом опытном полководце и единственном оплоте римского народа»
{12}.
Соправителем Августа Тиберию довелось быть недолго. Здоровье престарелого принцепса стремительно ухудшалось. Но до последних дней император не оставлял государственных дел. Летом 14 года он решил вновь отправить Тиберия в еще недавно мятежный Илларик. Тиберий должен был пересечь Италию и из приморского города Брундизия на Адриатике отправиться к берегам Иллирии. Август собирался провожать пасынка до города Беневента — середины пути из Рима в Брундизий, но его задержали в Риме многочисленные судебные дела. Дела эти и назойливость бесчисленных жалобщиков вскоре так утомили старика, что он в сердцах воскликнул: «Пусть даже все будет против меня, но в Риме я не останусь!» Покинув столицу, Август отправился на морскую прогулку и посетил остров Капрею (Капри), где провел четыре дня. Морское путешествие не пошло ему на пользу, он заболел, и вскоре выяснилось, что болезнь эта последняя. С Капри больной Август переехал в Неаполь, а затем в городок Нолу, коему и суждено было стать его последним пристанищем.
В Ноле болезнь Августа обострилась настолько, что он ощутил близость конца и спешно отправил гонца в Иллирик к Тиберию. По другим сведениям, гонца этого отправила Ливия
{13}, не дожидаясь решения умирающего мужа и обеспокоенная тем, чтобы никто и ничто не помешали ее сыну обрести законную власть после смерти Августа.
Люди не могут не думать порой о смерти. С годами мысли о ней приходят все чаще. Великий Гай Юлий Цезарь желал себе смерти неожиданной. Такая и настигла его. Правда, легкой и безболезненной она не была из-за кинжалов убийц-заговорщиков. Август всегда молился богам о «доброй смерти» для себя и своих близких, имея в виду смерть быструю и без мучений. Таковая смерть ему и выпала. Правда, она не была неожиданной. Чувствуя ее приближение, он спросил у окружавших его друзей, насколько хорошо он сыграл комедию жизни. Затем произнес стихи, которыми актеры обычно завершали выступление:
Коль хорошо сыграли мы, похлопайте
И проводите добрым нас напутствием.
Скажем прямо, комедию жизни Август сыграл блистательно и аплодисменты римлян, безусловно, заслужил.
Скончался он на руках у Ливии. К ней же и были обращены его последние слова: «Ливия, помни, как мы жили вместе! Живи и прощай!»
Присутствовал ли Тиберий в Ноле в день смерти Августа, — не ясно. Светоний писал, что Августа Тиберий «застал уже без сил, но еще живого и целый день оставался с ним наедине»
{14}. Тацит полагал, что не вполне выяснено, застал ли срочно возвратившийся из Иллирии Тиберий Августа еще живым или уже бездыханным
{15}.
Собственно, не столь уж важно, застал ли Тиберий в живых Августа или узрел его уже хладеющий труп. Но в первые дни по смерти он с овдовевшей Ливией хлопотал о переходе высшей власти к нему, как единственному законному преемнику
Августа. Здесь Ливия действовала, пожалуй, даже решительнее сына. Именно она приняла меры к сокрытию до поры до времени от народа известия о смерти правящего императора. Вокруг дома Августа в Ноле и на дорогах к нему появилась стража, а тем временем в народе распускались слухи о добром самочувствии принцепса. Затем внезапно было объявлено, что Август скончался, а Тиберий Клавдий Нерон стал единственным правителем государства. В чем причина такой странной задержки сообщения о смерти Августа и о его преемнике? Ведь уход из жизни правителя империи был ожидаем, а права Тиберия никем не оспаривались. По сути, он уже и был объявленным преемником, выступив в роли соправителя. Даже без оглашения завещания Августа мало кто мог усомниться в естественности и законности перехода власти к Тиберию. В чем же дело? А дело было в молодом Агриппе Постуме, который хотя и был сослан дедом за «вырождение» и наисквернейшее поведение, родственных-то уз не утратил, а симпатии части римлян к нему вполне могли быть известны Ливии и ее сыну. Не случайно ведь ходили слухи о тайном свидании Августа с внуком и о намечавшемся прощении беспутного потомка. Вроде бы Августа в поездке на Планазию сопровождал Фабий Максим, он же, не в силах скрыть доверенную ему превеликую тайну, не удержался и рассказал обо всем жене своей Марции, и та уже проболталась Ливии. От матери, само собой, известие это стало ведомо Тиберию.
Скорее всего, слухи о перемене отношения Августа к внуку были пустой болтовней. Но то, что само существование кровного внука принцепса заставляет часть народа воспринимать именно его в качестве вполне законного воспреемника высшей власти, было для Ливии и Тиберия совершенно очевидно. Как действовать — на то был пример самого Августа. Ведь, овладев Египтом, он без колебаний велел убить Цезариона — сына, как считалось, египетской царицы и Гая Юлия Цезаря. Родной сын Цезаря мог со временем стать опасной фигурой в большой политической игре. Предполагая возможность такого нежелательного для себя развития событий, Август и пресек потомство божественного Юлия, появившееся на египетской почве, дабы самому навсегда остаться единственным потомком и наследником великого Цезаря. Ливия и Тиберий следовали этому примеру без колебаний.
«Первым деянием нового принципата было убийство Агриппы Постума, с которым, застигнутым врасплох и безоружным, не без тяжелой борьбы справился действовавший со всею решительностью центурион. Об этом деле Тиберий не сказал в сенате ни слова: он создал видимость, будто так распорядился его отец (Август), предписавший трибуну, приставленному для наблюдения за Агриппой, чтобы тот не замедлил предать его смерти, как только принцепс испустит последнее дыхание. Август, конечно, много и горестно жаловался на нравы этого юноши и добился, чтобы его изгнание было подтверждено сенатским постановлением; однако никогда он не ожесточался до такой степени, чтобы умертвить кого-либо из членов своей семьи (Цезарион, конечно, был ему родственником, но никак не членом семьи. —
К К.), и маловероятно, чтобы он пошел на убийство внука ради безопасности пасынка. Скорее всего, Тиберий и Ливия — он из страха, она из свойственной мачехам враждебности — поторопились убрать внушавшего подозрения и ненавистного юношу. Центуриону, доложившему согласно воинскому уставу об исполнении отданного ему приказания, Тиберий ответил, что ничего не приказывал и что отчет о содеянном надлежит представить сенату. Узнав об этом, Саллюстий Крисп, который был посвящен в эту тайну (он сам отослал трибуну письменное распоряжение), боясь оказаться виновным — ведь ему было равно опасно и открыть правду, и поддерживать ложь, — убедил Ливию, что не следует распространяться ни о дворцовых тайнах, ни о дружеских совещаниях, ни об услугах воинов и что Тиберий не должен умалять силу принципата, обо всем оповещая сенат: такова природа власти, что отчет может иметь смысл только тогда, когда он отдается лишь одному»
{16}.
Так изложил эти события Тацит. Почти так же писал и Светоний: «Кончину Августа он держал в тайне до тех пор, пока не был умерщвлен молодой Агриппа. Его убил приставленный к нему для охраны войсковой трибун, получив об этом письменный приказ. Неизвестно было, оставил ли этот приказ умирающий Август, чтобы после его смерти не было повода для смуты, или его от имени Августа продиктовала Ливия, с ведома или без ведома Тиберия. Сам Тиберий, когда трибун доложил ему, что приказ исполнен, заявил, что такого приказа он не давал и что тот должен держать ответ перед сенатом. Конечно, он просто хотел избежать на первое время общей ненависти, а вскоре дело было замято и забыто»
{17}.
Теперь, когда реальная власть практически была в его руках и единственный возможный легитимный соперник был устранен, Тиберий занялся законным оформлением того, что уже случилось. Для этого требовалось созвать сенат и огласить завещание Августа. Но все вокруг вели себя так, будто Тиберий уже является принцепсом. Первыми ринулись раболепствовать консулы, затем сенаторы, наконец, всадники. «Чем кто был знатнее, тем больше он лицемерил и подыскивал подобающее выражение лица, чтобы не могло показаться, что он или обрадован кончиною принцепса, или, напротив, опечален началом нового принципата: так они перемешивали слезы и радость, скорбные сетования и лесть»
{18}. Это искусное соединение скорби об ушедшем и радости по поводу грядущего правления знатными римлянами при воцарении Тиберия можно считать первым в европейской истории применением узаконенной затем в Средневековье чеканной формулы: «Король умер. Да здравствует король!» Четыре с половиной десятилетия правления Августа были для римской знати хорошей школой в обретении умения угождать правителю Империи. Потому едва ли необходимость определить границы положенной скорби и счастья обретения нового владыки была для знатных римлян делом затруднительным.
Тем не менее само утверждение сенатом Тиберия в должности принцепса было обставлено так, будто и в самом деле решало судьбу высшей власти в Риме. Тиберий созвал сенат не как преемник Августа, но лишь как человек, облеченный властью народного трибуна и потому имеющий право объявить о созыве заседания сената. На всякий случай, правда, он окружил себя многочисленной охраной, всюду его сопровождавшей. Возможно, и чрезмерная предосторожность, но память о судьбе божественного Юлия была достаточно остра. И на самом заседании сената Тиберий немедленно установил строгие рамки: обсуждается только то, что имеет отношение к последней воле Августа и обряду его похорон. Завещание Августа было доставлено в сенат весталками — жрицами богини Весты, храму которой вверялись на хранение важнейшие документы. Первые же слова оглашенного завещания прямо указывали на преемника умершего
императора: «Так как жестокая судьба лишила меня моих сыновей Гая и Луция, пусть моим наследником в размере двух третей будет Тиберий Цезарь». Одна треть отходила Ливии, которая по воле Августа удочерялась им и потому обретала новое значение для Юлии Августы и включалась в род Юлиев. В случае смерти Тиберия и Ливии следующими наследниками должны были стать внуки и правнуки Августа. Двухлетний Гай, сын Германика и Агриппины, кровный правнук Августа, таким образом, впервые упоминался как возможный его наследник. Речь в завещании, правда, формально шла об имуществе покойного принцепса, но все понимали: речь идет о передаче власти. Переход власти к Тиберию должен был утвердить сенат, и здесь наследник Августа решил разыграть целый спектакль, дабы создать у окружающих впечатление, будто действительно избирается принцепсом по воле народа, а не потому, что благодаря стараниям своей матери был своевременно усыновлен приемным отцом. Здесь, однако, он даже перестарался. Он заставил сенаторов так долго умолять себя принять власть, так упорно от нее отказывался, именуя власть «чудовищем», что некоторые из сенаторов, потеряв терпение, стали проявлять очевидное раздражение от этой явно малоталантливой комедии. Самые смелые решились даже на очевидную дерзость. Один из сенаторов воскликнул: «Пусть он правит, или пусть он уходит!», другой съязвил: «Если иные медлят делать то, что обещали, то он медлит обещать то, что уже делает». Последнее было, что называется, не в бровь, а в глаз.
Тиберий, разумеется, «уступил» и согласие принять верховную власть дал, но при этом продолжал ломать комедию до конца, стеная и горько жалуясь на тягостное рабство, которое он возлагает на себя, принимая власть. Более того, он прямо заявил, что согласился быть у власти лишь «до тех пор, пока вам не покажется, что пришло время дать отдых и моей старости»
{19}. Сенату как бы предоставлялось право отправить на покой одряхлевшего принцепса, заменив его более молодым и крепким. Разумеется, всерьез эти слова принимать было нельзя. Более того, «позднее обнаружилось, что он притворялся колеблющимся ради того, чтобы глубже проникнуть в мысли и намерения знати; ибо, наблюдая и превратно истолковывая слова и выражения лиц, он приберегал все это для обвинения»
{20}.
Думается, едва ли Тиберий, еще не овладев уверенно властью, уже помышлял о каре тех, кто не выражал восторга по поводу его наследования Августу. Другое дело, что, будучи человеком злопамятным, он вполне мог впоследствии кое-кому и припомнить былую нелояльность. А пока что на всех действиях преемника основателя принципата лежала печать неуверенности, временами переходившей в откровенную растерянность. Так, «на одну из бесчисленных униженных просьб, с которыми сенат простирался перед Тиберием, тот заявил, что, считая себя непригодным к единодержавию, он тем не менее не откажется от руководства любой частью государственных дел, какую бы ему ни поручили»
{21}. Но, когда сенатор Азиний Галл в ответ на эти туманные слова Тиберия напрямую, что называется в лоб, спросил: «Прошу тебя, Цезарь, указать, какую именно часть государственных дел ты предпочел бы получить в свое ведение?»
{22} — то Тиберий откровенно растерялся и, не сразу придя в себя, осторожно ответил, что «его скромности не пристало выбирать или отклонять что-либо из того, от чего в целом ему было бы предпочтительнее отказаться»
{23}. Сенатор, задавший этот вопрос, по выражению лица Тиберия догадался о его растерянности и досаде и тут же успокоил его, сказав, что всего лишь ждал подтверждения, что государство по-прежнему едино и должно управляться только по воле одного человека, а человек этот, разумеется, сам Тиберий. Растерянности и раздражения Тиберия он, однако, не успокоил.
Нельзя ведь забывать о том, что впервые в римской истории власть от одного единовластного правителя передавалась другому. Традиция только зарождалась, и могло возникнуть немало проблем и даже препятствий. Многим в верхах римского общества было ведомо мнение знаменитых людей времени правления Августа о возможности восстановления, казалось бы, забытой и навсегда ушедшей в прошлое республики. Ведь когда-то о необходимости отказа от единовластия и преимуществах республиканского правления, если верить Диону Кассию, говорил Октавиану, только что восторжествовавшему над Марком Антонием в гражданской войне, его главный в то время полководец, собственно, и добывший ему победу над грозным соратником Юлия Цезаря Марк Випсаний Агриппа:
«Не удивляйся, Цезарь, что я буду советовать тебе отказаться от единовластия, хотя лично я извлек из него множество благ, пока ты им владел.
Я считаю, что надо заранее подумать не о моем личном благе, о котором я вообще не забочусь, а о твоем и общем благе. Рассмотрим спокойно все, что связано с единовластием, и пойдем тем путем, какой укажет нам разум. Ведь никто не скажет, что нам надо любым способом захватить власть даже в том случае, если она не выгодна. Если же мы поступим иначе, то есть будем держаться за власть во что бы то ни стало, то будет казаться, что мы или не смогли вынести счастливой судьбы и рехнулись от успехов, или что мы, давно пользуясь властью, прикрываемся именем народа и сената не для того, чтобы избавить их от злоумышленников, а чтобы обратить их в своих рабов.
И то и другое достойно порицания.
Кто не вознегодовал бы, видя, что мы говорим одно, а думаем другое?!
Разве не стали бы нас ненавидеть еще больше, если бы мы сразу обнаружили свое истинное намерение и прямо устремились бы к единовластию?
Раз это так, то нас будут обвинять ничуть не менее, даже если вначале у нас и мыслей подобных не было, а только потом мы стали стремиться к власти. Быть рабом обстоятельств, не уметь владеть собой, не уметь использовать на благо дары счастья — все это гораздо хуже, чем причинить кому-либо несправедливость по причине несчастия. Ведь одни люди часто под влиянием обстоятельств бывают вынуждены совершать несправедливости ради своей выгоды, но вопреки своей воле, а другие люди, не владеющие собой, жаждут совершить зло, и в результате оказывается, что они поступают вопреки своей выгоде.
Если мы не обладаем трезвым рассудком, если мы не можем обуздать себя в счастье, выпавшем на нашу долю, то кто поверит, что мы будем хорошо управлять другими или сумеем достойно перенести несчастья?
Так как мы не принадлежим ни к тому, ни к другому сорту людей и так как мы не хотим ничего совершать безрассудно, а хотим делать только то, что сочтем наилучшим в результате обдумывания, поэтому давайте примем определенное решение по этому вопросу.
Я буду говорить откровенно. Ведь сам я не могу говорить иначе и знаю, что тебе не будет приятно слушать ложь и лесть.
Равноправие хорошо звучит на словах и является в высшей степени справедливым на деле. Разве не справедливо, чтобы решительно все было общим у тех людей, которые имеют общую натуру, общее происхождение, выросли в одних и тех же нравах, воспитаны в одних и тех же законах и отдали на благо родине все силы души и тела?! Быть почитаемым ни за что иное, кроме как за превосходные личные качества — разве это не самое лучшее?!
Если люди управляются таким образом, то они, считая, что и блага и беды для всех одинаковы, не желают, чтобы с кем-либо из граждан приключилось несчастье, и сообща молятся о том, чтобы всем им выпало на долю самое лучшее. Если человек обладает каким-либо выдающимся качеством, то он легко проявляет его, активно развивает и с очень большой радостью демонстрирует перед всеми. А если он замечает хорошее качество в другом, то он охотно его поощряет, усердно поддерживает и в высшей степени высоко чтит. Но если кто-нибудь поступает плохо, то всякий его ненавидит, а если случится несчастье, то всякий сочувствует, считая, что проистекающие от этого урон и бесславие являются общим для всего государства.
Так обстоит дело при республиканском строе.
При единовластии все обстоит иначе. Сущность заключается в том, что никто не хочет ни видеть, ни иметь никаких достойных качеств (ибо имеющий высшую власть является врагом для всех остальных). Большинство людей думают только о себе, и все ненавидят друг друга, считая, что в благоденствии одного заключается ущерб для другого и в несчастье одного — выгода для другого.
Поскольку все это обстоит так, то я не вижу, что могло бы склонить тебя к жажде единовластия. Кроме того, ведь такой государственный строй для народов тягостен, а для тебя самого он был бы еще более неприятен. Или ты не видишь, что наш город и государственные дела еще и теперь находятся в состоянии хаоса? Трудно сокрушить нашу народную массу, столь много лет прожившую при свободе, трудно снова обратить в рабство наших союзников, наших данников, одни из которых издавна жили при демократическом строе, а других освободили мы. Трудно это сделать, в то время как мы со всех сторон окружены врагами»
{24}.
Эта пламенная речь в защиту свободы и республиканского правления, дошедшая до нас благодаря Диону Кассию, позволяет увидеть в Марке Випсании Агриппе не только великого полководца, одержавшего множество славных побед на суше и на море, но и мудрого политика, глубоко чувствующего все тонкости той или иной формы правления. В свое время, командуя флотом, действовавшим против утвердившегося на Сицилии младшего сына Помпея Великого Секста Помпея, врага Октавиана, Агриппа изобрел важное усовершенствование в военно-морском деле: он ввел так называемый гарпакс — обитое железом бревно, снабженное с обоих концов кольцами. К одному концу крепился железный крюк, к другому же канаты. С помощью катапульты гарпакс забрасывали на вражеский корабль, крюк цеплял его, а канатами вражеский корабль подтягивался к римскому, и римские воины получали возможность перейти на корабль противника для рукопашного боя.
Наверное, речь Агриппы по его замыслу должна была стать своего рода словесным гарпаксом и, что называется, зацепить Октавиана за душу Однако хладнокровный и расчетливый наследник божественного Юлия не пошел на поводу у внешне убедительных, но, увы, оторванных от жестких реалий тогдашней римской жизни высоконравственных советов испытанного воина. Но поскольку свою единовластную монархию Октавиан умело нарядил в республиканские одежды, то доблестный Агриппа не стал сопротивляться нововведениям, более того, он охотно помогал ему в его единовластном правлении. Наличие собственного мнения не помешало Агриппе помогать Октавиану во всем так, будто он сам был инициатором этих дел
{25}.
Речи Агриппы Октавиан предпочел речь Мецената, с которой тот обратился к правителю Римской державы и которую сохранил для потомков тот же Дион Кассий. Этот интеллектуал, знаменитейший покровитель искусств, чье имя стало в истории человечества нарицательным, изложил Октавиану преимущества единовластия, основывая свои доводы не на идеальных конструкциях, но на суровых истинах действительной жизни: если люди разумны, свобода говорить и делать что угодно ведет к всеобщему благу, если не разумны — к гибели; свобода — преимущество лучших, пусть каждый исполняет свой долг, в этом и есть свобода; чернь же надо держать в руках, ибо свобода черни — рабство лучших.
Реальность последних десятилетий республики лила воду на мельницу Мецената, а не Агриппы… Август не мог этого не видеть. Но ведь оставались и те, кто думал иначе…
Агриппы давно уже не было в живых, но Тиберий вправе был предполагать, что в Риме, и прежде всего в среде сенаторов, ностальгия по республиканским временам не умерла. Более того, перед ним был пример совсем недавний. Его младший брат Децим Клавдий Нерон, именовавшийся также Нерон Клавдий Друз и вошедший в историю под именем Друза Старшего, был убежденным республиканцем. Это тот самый Друз, с которым Тиберий совершал поход в глубь Германии, когда римляне впервые достигли берегов Альбиса. Тот самый Друз, который «был первым римским полководцем, который совершил плавание по Северному океану и прорыл за Рейном каналы для кораблей»
{26}. Друз нелепо погиб после неудачного падения с лошади, сломав бедро. Тело его отправили в Рим, где оно было погребено на Марсовом поле, и сам Тиберий в глубокой скорби шел за колесницей с телом любимого брата и боевого товарища. Не мог не знать Тиберий политических пристрастий Друза, которые, кстати, вообще в Риме получили столь широкую известность, что «считалось, что если бы он завладел властью, то восстановил бы народоправство»
{27}. Примерно о том же свидетельствовал и Светоний: «Говорят, он равно любил и воинскую славу, и гражданскую свободу: не раз в победах над врагом он добывал знатнейшую добычу, с великой опасностью гоняясь за германскими вождями сквозь гущу боя, и всегда открыто говорил о своем намерении при первой возможности восстановить прежний государственный строй»
{28}.
Более того, уверяли, что Друз написал Тиберию письмо, в котором прямо предлагал добиться от Августа восстановления республики, что, кстати, очень Тиберию не понравилось и он даже выдал это письмо Августу
{29}. Для Друза, правда, это последствий не имело.
С вероятностью сохранения подобных настроений в верхах римского общества и даже в собственной семье Тиберий не мог не считаться. Отсюда, по всей видимости, и столь не свойственные ему нерешительность и растерянность в момент обретения высшей власти в Империи. Великий полководец — а Тиберий, несомненно, был таковым, о чем свидетельствуют его многочисленные победы, и порой над целыми полчищами врагов, — не может по определению быть человеком нерешительным, способным растеряться в ответственнейший момент. Значит, сама ситуация, в какой он оказался, была слишком непростой, и главное — непривычной. В истории, кстати, не раз бывали случаи, когда прославленный военачальник, не дрогнувший в решающий момент самых жестоких битв, как мальчишка терялся в делах политики гражданской и в среде этой чувствовал себя крайне неуютно и порой выглядел просто жалко. Такое, кстати, случалось и с Наполеоном. Потому не стоит упрекать Тиберия за его не слишком уверенное поведение в первые дни после смерти Августа. Важен результат: Тиберий получил верховную власть. Теперь вопрос был в другом: как он сумеет наследием Августа распорядиться. Будет ли он столь же успешным принцепсом, сколь был победоносным полководцем? Сферы деятельности эти сильно разнятся, и потому ответ на этот вопрос могло дать только время.
Обретение власти Тиберием прошло достаточно спокойно, без серьезных попыток оспорить ее в столице Империи. Однако вскоре в Рим приходят известия о грозных мятежах в провинциях, и главное, о мятеже в легионах, пожелавших увидеть во главе Римской державы совсем иного человека… Невольным свидетелем этих грозных событий стал и наш герой — двухлетний малыш Гай Юлий Цезарь, уже получивший в военном лагере прозвище Калигула.
Опасность новому принцепсу действительно грозила с разных сторон. И опасность эта была немалой. Не случайно Тиберий не раз говаривал: «Я держу волка за уши»
{30}. И действительно, ему было чего опасаться. Раб убитого Агриппы Постума Клемент, винивший, возможно и не без оснований, Тиберия в гибели своего хозяина, собрал немалый отряд, желая отомстить за него. Один из жрецов-понтификов, представитель знатного рода Скрибониев, Луций Скрибоний Либон, недовольный переходом власти в руки Тиберия, тайно готовил переворот. Правда, кого именно он хотел видеть во главе Римской державы — неясно.
С этими опасностями Тиберию удалось справиться без особого труда. Клемента захватили в плен хитростью, заговор Либона довольно быстро разоблачили, и только по причине высокой знатности его рода и родственной связи с Августом — первая жена Октавиана была из рода Скрибониев — Тиберий проявил великодушие. Кроме того, он не хотел начинать правление слишком сурово, и потому Либон был привлечен к ответу перед сенатом только год спустя. Любопытно, что, оставив Либона на свободе, Тиберий все же принимал необходимые меры предосторожности, дабы тот не вздумал снискать себе лавры Брута: когда в присутствии Тиберия Либон в числе прочих жрецов-понтификов приносил положенные жертвы богам, то принцепс велел выдать ему для совершения обряда не традиционный жреческий нож, а нож свинцовый, каковым зарезать человека сложно. А когда Либон однажды напросился к Тиберию на тайный разговор, тот согласился разговаривать с ним только в присутствии своего сына Друза Младшего. Более того, прогуливаясь с Либоном, Тиберий, опираясь на его правую руку, постоянно ее сжимал, полагая, что лишает недруга возможности нанести удар. По счастью, Либон не был левшой…
Много более грозными были, разумеется, мятежи легионов. Здесь надо вспомнить положение римской армии во времена Августа. В первые годы после окончания гражданской войны Август был очень щедр к воинам. Богатейшая добыча, захваченная в Египте после победы над Антонием и Клеопатрой, позволила вознаградить легионеров победоносной армии. Однако вскоре начались новые войны, а они стоили больших денег. И выплаты жалованья легионерам стали задерживать. Даже успешные завоевания новых земель стоят немалых затрат и потерь.
Солдат стали и задерживать на службе сверх установленного двадцатилетнего срока. Желанная отставка и получение обещанного после окончания службы земельного надела отодвигались на неопределенное время, порой на долгие годы. Растущее недовольство легионеров военачальники пытались усмирить усилением и без того суровой в римской армии дисциплины. Участились телесные наказания. В одном из легионов, стоявших в Паннонии, центуриона Луцилия «солдатское острословие отметило прозвищем «Давай другую», ибо, сломав лозу о спину избиваемого им воина, он зычным голосом требовал, чтобы ему дали другую, и еще раз другую»
{31}.
Таким образом, поводов для недовольства в армии было предостаточно и мятежные настроения постепенно усиливались. Непосредственным же толчком к мятежу стала перемена власти в Риме. Событие в римской жизни новое, непривычное и потому могущее вызвать самую неожиданную реакцию. Особенно там, где было множество недовольных. В армии недовольных было множество, и потому именно там «смена принцепса открывала путь к своеволию, беспорядкам и порождала надежду на добычу в междоусобной войне»
{32}.
Первый мятеж вспыхнул в паннонских легионах, в летнем лагере, где размещались три легиона под командованием Юния Блеза. Блез почему-то решил, что наилучший траур по Августу — освобождение легионеров от тягот повседневной службы. Освобождение от обычных обязанностей, внезапная и непривычная праздность повлияли на войско наихудшим образом. Недовольство своим положением не только не ослабело, но не сдерживаемое суровой воинской дисциплиной выплеснулось наружу.
Когда массой людей, тем более людей вооруженных, овладевают мятежные настроения, непременно объявится и предводитель. Так случилось и в паннонском летнем лагере трех легионов — лидером стал легионер Перценний. Некогда он был предводителем театральных клакеров, а потому, быстрый на язык, умел распалять людей. А уж если это люди, имеющие самые серьезные основания для недовольства, то ему, что называется, и карты в руки. Надо сказать, что Перценний совершенно справедливо делал упор на сложившиеся обстоятельства: когда же еще требовать облегчения службы, если не «безотлагательно, добиваясь своего просьбами или оружием от нового и еще не вставшего на ноги принцепса»?
{33}
Мятежники под предводительством Перценния довольно быстро составили краткий и четкий перечень своих требований, которые нельзя не признать справедливыми и, что особенно важно, достаточно умеренными и в основном выполнимыми. Главным было требование ограничить срок службы шестнадцатью годами и после окончания обязательной шестнадцатилетней службы не оставлять солдат на положении вексиллариев — воинов, призываемых в строй только в случае военных действий. Отслужившим же воинам выплачивать достойное вознаграждение наличными деньгами, поскольку земельные участки солдат-ветеранов уже мало привлекали. Тем, кто продолжал нести службу, жалованье должно быть установлено в 16 ассов (один денарий) в день. При этом мятежники справедливо указывали на то, что воины преторианских когорт получают два денария в день и их служба действительно ограничивается шестнадцатью годами. А разве можно сравнивать службу преторианцев, в мирной Италии охраняющих Рим и особу принцепса, со службой легионеров в пограничных армиях, где они, «пребывая среди диких племен, видят врагов тут же, за порогами палаток»?
{34}
Растерявшийся Юний Блез пытался урезонить мятежников, но его упреки мало действовали на разгоряченных солдат. Тогда он согласился отправить уполномоченным от недовольных своего сына, который должен был добиться главного: ограничения срока службы шестнадцатью годами. После этого наступило некоторое затишье, но дерзость мятежных воинов только возросла, поскольку они убедились, «что, отправив сына легата ходатаем за общее дело, они угрозами и насилием добились того, чего не добились бы смиренными просьбами»
{35}.
Тем временем ослабление дисциплины в легионах обернулось грабежами окрестностей, и Блез попытался восстановить порядок, прибегнув к суровым наказаниям, прежде всего тех, кто был захвачен с добычей. В ход пошли наказания плетьми, заключение в темницу. Но запоздалая суровость только подогрела ярость мятежников, среди которых помимо Перценния выдвинулся еще один дерзкий предводитель, некто Вибулен, также рядовой легионер. Он перед возбужденной толпой обвинил Блеза в убийстве своего брата, которого у него отродясь не было. Свою скорбь по безвременно погибшему от злодейских рук рабов Блеза никогда не существовавшему брату Вибулен изображал так убедительно, что мятеж стремительно принимал крайние формы. И пусть вскоре выяснилось, что легат совершенно не виноват в том, в чем Вибулен его обвинил (это, правда, спасло Блезу жизнь), мятежники разграбили имущество бежавших в страхе трибунов и центурионов, а печально знаменитый центурион Луцилий по-прозвищу «Подай другую!» был убит. Дело едва не дошло до прямого сражения между легионами: 8-й и 15-й легионы готовы были поднять друг на друга оружие, но решительность воинов 9-го легиона предотвратила братоубийственное столкновение.
Тиберий, узнав о случившемся в паннонских легионах, немедленно направил в мятежный лагерь своего юного сына Друза Младшего, дав ему в помощь несколько высших сановников государства, среди которых был и командующий гвардией принцепса префект преторианских когорт Элий Сеян, человек, пользовавшийся величайшим доверием Тиберия.
Встречен сын принцепса мятежными легионами был настороженно и непочтительно. Легионеры не приветствовали Друза должным образом, выглядели крайне неряшливо и не очень-то скрывали своевольные настроения. Ошибку допустил и сам Друз, за что скорее ответственны его многоопытные советники. Оглашая послание Тиберия, Друз зачитал слова императора о том, что он посылает к легионам сына, дабы тот безотлагательно удовлетворил их во всем, в чем можно немедленно пойти им навстречу. Решение же всего прочего надлежало оставить сенату, ибо его нельзя лишать права карать или миловать. Требования мятежных легионов были немедленно изложены. Они остались прежними: срок службы — шестнадцать лет, отслужившим — денежное вознаграждение ветеранов не переводить в вексилларии, жалованье легионеров один денарий в день. Друз немедленно возразил, что эти вопросы может решить только сенат и сам Тиберий. Слова эти немедленно вызвали совершенно справедливое негодование: ведь сам Цезарь в письме сказал, что сыну дозволено безотлагательно решить то, в чем можно пойти недовольным навстречу. И понятное дело, свои требования они как раз к таковым и относили, полагая, что потом сенат сам решит, кого сурово наказать, а кого и помиловать. Зачем, собственно, Друз прибыл, если лишен полномочий повысить жалованье и улучшить жизнь воинов? Получается, что плети и казни применять можно, а вот облегчить действительно немалые тяготы службы нельзя. Немедленно вспомнили, что не так давно сам Тиберий, отклоняя пожелания воинов об улучшении своего положения, прикрывался именем Августа. Что же нового теперь? Молодой Друз прикрывается именем ставшего принцепсом Тиберия! Если и появилось что новое, то это отсылки императора к сенату. Без воли сената, видите ли, он не может сделать хоть что-то доброе для воинов! Прозвучали язвительные слова с предложением запрашивать отныне сенат всякий раз, когда надо дать сражение или совершить казнь.
Обстановка накалилась до предела. Кровавую развязку предотвратили ночь и… исключительно своевременное лунное затмение.
Римляне всегда были суеверны. И вот теперь, видя, как луна стала меркнуть, воины заволновались. Начавшееся затмение, естественно, было истолковано как знамение. Воины решили, что если луна вновь обретет свое сияние, то значит богиня Луны Диана, дочь Латоны, покровительствует им в их начинаниях и все благополучно разрешится в их пользу. Когда же луна померкла, то воины предались скорби, решив, что боги порицают их, поскольку богиня отвратила от них свой лик. «Ведь единожды потрясенные души легко склоняются к суевериям»
{36}.
Смятение духа и растерянность легионеров не остались незамеченными. Друз немедленно решил воспользоваться этим выгодным для себя обстоятельством. Центурионам, сохранившим уважение солдат, было велено провести среди них, что называется, разъяснительную работу. Аргументация была выбрана доходчивая и убедительная: «До каких пор мы будем держать в осаде сына нашего императора? Где конец раздорам? Или мы присягнем Перценнию и Вибулену? Перценний и Вибулен будут выплачивать воинам жалованье, а отслужившим срок раздавать землю? Или вместо Неронов и Друзов возьмут на себя управление римским народом? Не лучше ль нам, примкнувшим последними к мятежу, первыми заявить о своем раскаянии? Не скоро можно добиться того, чего добиваются сообща, но тем, кто действительно сам за себя, благоволение приобретается сразу, как только ты его заслужил»
{37}.
Действительно, представить себе такую кошмарную картину, как вручение высшей власти в Риме Перценнию и Вибулену, было просто невозможно. И опять-таки надеяться на повышение жалованья и удовлетворение своих требований можно только в том случае, если будет на то воля Тиберия. На прямой же мятеж против пусть и новой, но законной высшей власти мало кто мог решиться. Да и под чьим предводительством? Тех же Перценния и Вибулена? Ловкие демагоги могли подбить солдат на мятежные действия, могли натравить часть солдат на легата, командующего легионами, но всерьез поднять войско против императора… это уже чересчур.
Отдадим должное молодому Друзу: он в нужный момент сумел проявить необходимую решительность. Сын императора вызвал к себе Перценния и Вибулена и, когда они явились, не подозревая, очевидно, об опасности, велел немедленно их казнить. По одной версии, трупы казненных мятежных предводителей зарыли в палатке Друза, что маловероятно, по другой — выбросили за вал лагеря в назидание всем остальным, что больше похоже на правду.
С прочими недовольными справились без особого труда, и вскоре мятеж был подавлен. Успокоенные легионы получили большие обещания, обернувшиеся малыми уступками, а вскоре по приказу командующего оставили оскверненный мятежом лагерь, перейдя в зимние лагеря — у каждого легиона он был свой.
Так прекратился мятеж трех паннонских легионов. Здесь власти Тиберия не было явной угрозы. Требования мятежников не выходили за обычные рамки, предводители были люди ничтожные, не способные бросить прямой вызов власти, да и не помышлявшие об этом. Но вот другой мятеж, в иных легионах империи, оказался куда более опасным для власти Тиберия. И потому, что легионов этих было поболее, нежели в Паннонии, и потому, что мятежники решительно выдвинули своего претендента на высшую власть в империи. Вот тогда-то двухлетний Гай Цезарь Калигула и оказался в гуще событий, которые могли изменить и его жизнь, и судьбу его родителей, и положение дел во всей Римской империи.
Почти в те же самые дни, что и в Паннонии, мятеж вспыхнул в легионах, стоявших на берегах Рейна, — на самой опасной в те времена границе римских владений с непокорными и воинственными германскими племенами. Потому и стояли здесь две римские армии, в каждой было по четыре легиона. В прирейнской области, именуемой Верхняя Германия, стояли 2, 13, 14 и 16-й легионы под командованием легата Гая Силия, на Нижнем Рейне, в Германии Нижней, — 1, 5, 20 и 21-й легионы, подчиненные Авлу Цецине. Оба легата подчинялись Германику — сыну покойного Друза Старшего, племяннику Тиберия и отцу маленького Гая Цезаря. Германик, управлявший обширными землями Галлии и Бельгики, некогда завоеванными для Рима великим Гаем Юлием Цезарем, узнал о смерти Августа, будучи занят сбором налогов в Галлии. Присягать или не присягать Тиберию — для Германика такого вопроса не существовало. Он не задумываясь присягнул новому принцепсу. Как-ни-как он был не только его родным племянником, но и уже десять лет являлся приемным сыном (Тиберий усыновил его по воле Августа). Хотя Германик знал, что его дядя и приемный отец Тиберий, а также бабка Ливия, мать Тиберия и Друза Старшего, не очень-то жалуют его. Скрытая неприязнь нового принцепса и Ливии Августы конечно же тревожила Германика, тем более что в новых условиях она могла иметь самые далеко идущие последствия. Тем не менее Германик повел себя образцово по отношению к новой власти. Он сам присягнул Тиберию и привел ему на верность многочисленные племена секванов, обитавших по обоим берегам многоводной реки Секваны (современная Сена), и соседствовавшие с ними племена белгов.
Однако плавный ход присяги новому правителю Империи в Галлии был нарушен внезапным мятежом легионов, стоявших на берегах Рейна. Начало мятежа напоминало события, происходившие в Паннонии: то же недовольство своим положением и возмущение жестокостью центурионов. Здесь, правда, мятеж с самого начала принял кровавый характер: «Внезапно бунтовщики, обнажив мечи, бросаются на центурионов: они издавна ненавистны воинам, и на них прежде всего обрушивается их ярость. Поверженных наземь восставшие избивают плетьми, по шестидесяти на каждого, чтобы сравняться числом с центурионами в легионе (в римском легионе того времени насчитывалось шестьдесят центурий. —
И. К.); затем, подхватив изувеченных, а частью и бездыханных, они кидают их перед валом или в реку Рейн»
{38}.
Один из центурионов попытался найти спасение у легата нижнегерманских легионов Авла Цецины, но мятежники добились его выдачи и предали несчастного смерти. Молодой, отважный и воинственный центурион по имени Кассий Херея спасся исключительно благодаря своей решительности и умелому владению оружием: он мечом проложил себе дорогу сквозь толпу мятежников. Это имя не в последний раз появляется на страницах нашей книги: Кассию Херее суждено будет сыграть роковую роль в судьбе Гая Цезаря Калигулы…
Мятеж на берегах Рейна был много более грозным, нежели в Паннонии: «Для способных глубже проникнуть в солдатскую душу важнейшим признаком размаха и неукротимости мятежа было то, что не каждый сам по себе и не по наущению немногих, а все вместе они и распалялись, и вместе хранили молчание, с таким единодушием, с такой твердостью, что казалось, будто ими руководит единая воля»
{39}.
Самым же главным в этом мятеже было то, что воины четко осознали значение армии в исторических судьбах Рима: «здесь мятеж располагал множеством уст и голосов, постоянно твердивших, что в их руках судьба Рима, что государство расширяет свои пределы благодаря их победам и что их именем нарекаются полководцы»
{40}. Армия впервые ощутила себя главной силой Римской державы и потому возжелала сама определить, кому править в Риме. Мятежные рейнские легионы не стали бороться за сокращение срока службы и за жалкую прибавку к жалованью, они выдвинули своего кандидата в правители Империи — любимого полководца Германика.
Легионам не впервой было решать исторические судьбы Рима. То, что полководец, располагающий верным ему войском, может овладеть единоличной властью в Риме, в свое время доказал еще славный Луций Корнелий Сулла. После Суллы римляне в душе уже были готовы к повторению его деяний тем или иным удачливым полководцем. Вот почему, в 62 году до н. э., когда Гней Помпей Великий, вернувшись в Италию после грандиозного победоносного похода на Восток, подарившего Риму новые обширные и богатые владения, не говоря уже о несметной добыче, согласно закону послушно распустил свои легионы, очень многие в столице изумились столь примерному поведению, предполагая, очевидно, что доблестный полководец имел все основания и, главное, возможность вознаградить себя обретением единовластия. Гай Юлий Цезарь в отличие от Помпея не страдал чрезмерным почтением ни к законам, ни к самому республиканскому строю. Потому-то после недолгих колебаний он, произнеся бессмертное «Жребий брошен!»
(«Аlеа jacta est!»), двинул войска через реку Рубикон на Рим, заодно сделав эту ничем не примечательную речушку одной из самых прославленных рек в мировой истории.
Военный успех позволил и Октавиану обрести единоличную власть в Риме, так что армия вправе была полагать себя той самой единственной силой, которая подарила римлянам и единоличное правление, и самого правителя. Но то, что случилось после смерти Августа на берегах Рейна, было совершенно новым явлением, ибо если ранее участие легионов в борьбе за высшую власть в Риме зависело от воли тех, кто эти легионы возглавлял, то теперь армия сама решила сказать свое веское слово, решая судьбу наследия Августа. Поразительно: законопослушнейшему Германику предлагалось стать мятежным претендентом на власть принцепса, каковая уже вполне законным образом перешла к родному дядюшке его Тиберию.
Окажись на месте Германика более тщеславный или просто менее верный своему долгу человек, то Риму вновь пришлось бы испытать все ужасы гражданской войны и вообще неизвестно, кто в этом случае в конце концов утвердился бы на Палатине. «Но чем доступнее была для Германика возможность захвата верховной власти, тем ревностнее он действовал в пользу Тиберия»
{41}.
Искренность и безусловная честность Германика не могут быть подвергнуты сомнению. Он знал о своей популярности в войске, и легко представить себе, как, услышав хотя бы намек на согласие, его провозгласили бы верховным правителем Рима не только мятежные легионы Нижней Германии, но и пока еще колеблющиеся верхнегерманские легионы, которые едва ли удержал бы в повиновении Гай Силий. А ведь восьми легионам закаленных, испытанных в боях воинов Тиберию в тот момент, пусть он и сам блистательный полководец, в Италии противопоставить было нечего, кроме нескольких когорт преторианцев. Призвать в Италию легионы с других рубежей Империи принцепс мог попросту не успеть. А поскольку сам Германик полководческим даром отнюдь не был обделен, то предугадать результат его возможного похода на Рим несложно… Тем большее уважение вызывает решимость полководца усмирить мятежников и обеспечить мирный переход власти к Тиберию, не допустив гражданской войны.
Узнав о мятеже, Германик немедленно отправился к легионам. Мятежные воины встретили его внешне покорно, но стоило полководцу оказаться внутри лагеря, как его засыпали жалобами. Германик начал разговор с воинами с требования, чтобы они не стояли постыдным для римских легионеров скопищем, а стали по своим подразделениям — манипулам, а также выставили перед строем знамена, дабы обозначить когорты. Опытный военачальник, несмотря на свои еще достаточно молодые годы, Германик правильно рассчитал, что начало восстановления строя уже является началом восстановления воинской дисциплины, что не может не способствовать и восстановлению общего порядка. Солдаты нехотя, но повиновались — уже хороший знак. Речь свою Германик начал с прославления покойного императора, затем и Тиберия, императора здравствующего, сделав упор на славные победы и триумфы великого полководца, справедливо напомнив воинам, что одержаны эти победы были Тиберием в Германии как раз вместе с этими самыми легионами. Затем в доказательство своей правоты и неразумности действий мятежных легионеров он поведал воинам о единодушном принятии Италией Тиберия как верховного правителя, подчеркнул верность законному принцепсу Галлии, основные области которой он сам только что привел к присяге на верность новому императору. Однако эти патетические слова, пусть и соответствующие истине, были встречены со стороны легионеров молчанием, что было явно дурным предзнаменованием. И вот, когда Германик стал укорять мятежников, спрашивая, как могли они забыть свой воинский долг, поднялся ропот, а едва Германик опрометчиво поинтересовался, где их трибуны и центурионы — неужто он не знал, что несчастные давно пребывают на дне Рейна? — возмущение достигло апогея.
Безусловно, Германик допустил серьезную ошибку. Патетический тон, взятый им, мог быть воспринят воинами, доведенными тяготами службы и разного рода несправедливостями до исступления, только самым скверным образом. Германик восхвалял покойного Августа… а при ком, спрашивается, все эти несправедливости стали обыкновенным делом в армии? Да, Тиберий во главе именно этих легионов заслужил на полях Германий свой триумф, но почему он не сделал ничего, чтобы улучшить положение тех, кому он во многом обязан своими победами? Потому-то в ответ на речь Германика «воины обнажают тела, укоризненно показывая ему рубцы от ран, следы плетей; потом они наперебой начинают жаловаться на взятки, которыми им приходится покупать увольнение в отпуск, на скудость жалованья, на изнурительность работ, упоминают вал и рвы, заготовку сена, строительного леса и дров, все то, что вызывается действительной необходимостью или изыскивается для того, чтобы не допускать в лагере праздности. Громче всего шумели в рядах ветеранов, кричавших, что они служат по тридцать лет и больше, и моливших облегчить их, изнемогающих от усталости, и не дать им умереть среди тех же лишений, но, обеспечив средствами к существованию, отпустить на покой после столь трудной службы»
{42}.
Если бы воины ограничились только перечислением своих бед, Германик мог бы ограничиться искренним сочувствием и обещанием по возможности исправить положение, обратившись к новому принцепсу. Но вслед за перечнем обид и несправедливостей прозвучали пожелание Германику верховной власти в Риме и готовность всемерно поддержать его в этом великом начинании.
Германик, этот испытанный воин и достойнейший человек, на сей раз откровенно растерялся. Ответить немедленным и решительным отказом — значит разозлить мятежных легионеров и, возможно, обратить их гнев против себя. Оставаться как ни в чем не бывало на трибуне перед воинами — тогда его молчание могут счесть за согласие и он окажется невольным соучастником мятежа. Более того, его главным действующим лицом, знаменем. Потому-то Германик стремительно сошел с трибуны, намереваясь поскорее покинуть мятежное сборище, дабы не быть запятнанным соучастием в преступнейшем деянии — прямом выступлении против законного правителя Рима. Однако возмущенные воины не дали ему далеко уйти и, обступив и угрожая оружием, потребовали возвратиться на трибуну лагеря. Германик, уже явно в отчаянии, выхватил меч и воскликнул, что скорее умрет, чем нарушит долг верности. Занеся меч, он уже действительно был готов поразить себя, но, по счастью, легионеры, окружавшие его, удержали руку полководца. Другие воины, правда, тут же стали издевательски поощрять Германика совершить задуманное самоубийство. Некий легионер по имени Клаудизий даже протянул ему свой меч со словами: «Возьми мой, он острее!»
Такая откровенная издевка над военачальником, которого в войске чтили как никакого другого полководца империи, включая, как мы видим, и самого Тиберия, многим пришлась не по вкусу, и свите Германика удалось увести его из расположения мятежников. В шатре Германика тут же началось совещание, как справиться с мятежниками. Последствия мятежа могли оказаться воистину ужасными. Ведь восставшие уже собирались послать своих людей к Верхним легионам, где положение солдат едва ли было лучше, и почва для мятежа была благоприятная. Более того, было очевидно, что мятежники готовы устремиться в глубь Галлии и начать погромы и грабежи. Для начала они готовились захватить и разграбить главный город племени убиев, ближайший к лагерю. Если бы все это случилось, то вся граница по Рейну осталась бы без прикрытия, чем не преминули бы воспользоваться опаснейшие враги — зарейнские варвары, каких-то пять лет назад истребившие три римских легиона в Тевтобургском лесу. Противодействие же мятежным легионам силами вспомогательных и союзных войск означало бы гражданскую войну…
Германику и его советникам было ясно: и безоговорочная уступка воинам-мятежникам, и непреклонное неприятие их требований, сопровождаемое угрозой суровых кар, равно опасны. И опасны не только здесь, но и для Римского государства. Следовательно, надо пойти на частичные уступки по наиболее справедливым требованиям, но при этом добиваться прекращения мятежных действий. Результатом совещания стало составление письма от имени Тиберия. Главные обещания были следующие: легионеры, отслужившие двадцать и более лет, подлежат увольнению из армии; те, кто отслужил шестнадцать лет, переводятся в разряд вексиллариев; денежные вознаграждения, завещанные Августом и требуемые легионерами, выплачиваются в двойном размере.
Мятежные воины вполне доброжелательно восприняли
обещания командования, но, понимая, что начальники не прочь таким образом потянуть время, потребовали немедленного исполнения всех пунктов «письма принцепса». Командованию пришлось пойти на неизбежные в сложившемся положении уступки. Подлежащих увольнению уволили, денежные выплаты попытались отложить до возвращения легионов в зимние лагеря, но поскольку воины двух легионов отказывались выступить в поход, пока не получат денег, то выдать обещанное пришлось немедленно. На это пошли деньги, бывшие в распоряжении Германика. После этого мятеж в нижнегерманских легионах, казалось, можно было считать усмиренным. Правда, «усмиренные» легионы чувствовали себя скорее победителями. Во всяком случае, 1-й и 20-й легионы, отведенные легатом Цециной в город племени убиев, во время марша везли среди легионных значков и орлов — знамен легионов — те самые денежные ящики с вознаграждением, вытребованным у командования. Тацит прямо назвал эти денежные ящики «похищенными у полководца», то есть у Германика, а сам такой необычный походный порядок — «постыдным на вид»
{43}.
В легионах, стоявших на Верхнем Рейне, присяга Тиберию произошла достаточно спокойно. Германик, не встречая никакого противодействия, немедленно по прибытии привел к присяге на верность новому принцепсу три легиона из четырех — 2,13 и 16-й. В 14-м же легионе были заметны некоторые колебания. Наученный печальным опытом, Германик немедленно распорядился выдать легионам денежное вознаграждение и уволить всех, кто подлежал увольнению. Воины 14-го легиона, собственно, не бунтовали и никаких требований вообще не выдвигали. Однако щедрость полководца восприняли как должное, мало задумываясь над тем, что обязаны внезапным великодушием не столько Германику, сколько своим мятежным товарищам из легионов Нижнего войска.
Тем временем мятежные настроения проникли и в среду вексиллариев ранее бунтовавших легионов. Префект лагеря, где располагались мятежники, Маний Энний счел необходимым не идти на какие-либо уступки и не ждать помощи от главнокомандующего, но на свой собственный страх и риск воздействовать на разгоряченные головы бунтующих холодным душем устрашающего примера: двое легионеров были немедленно казнены в назидание всем, кем овладели мятежные настроения. Строго говоря, права казнить, что называется, на месте доблестный Энний не имел, но он решил действовать по обстановке, не без оснований полагая, что ничто лучше устрашающего примера бунтовщиков не усмирит. Мятеж действительно немедленно прекратился, но вскоре, однако, вспыхнул с новой силой. Растерявшиеся было мятежники быстро осознали, что Маний Энний находится в гордом одиночестве и ни на какую силу, кроме своих властных полномочий, и то вопиюще превышенных, не опирается. Энний, видя, что на сей раз воздействовать силовыми методами на бунтующих невозможно, счел за благо бежать и укрыться в надежном убежище. Такового, увы, не нашлось. Мятежники обнаружили своего беглого префекта, и теперь жизнь Мания Энния висела на волоске. Скороспелая расправа над двумя мятежниками грозила ему лютой смертью от рук товарищей казненных. Отчаянное положение диктовало и отчаянную отвагу, единственное, что могло спасти жизнь префекта. Маний, не теряя присутствия духа, грозно воскликнул, что бунтующие наносят оскорбление не ему, префекту, но своему полководцу Германику и императору Тиберию. Обступившие префекта мятежные воины растерялись, ибо не полагали себя бунтовщиками против высшей власти. Пользуясь их растерянностью, Маний Энний схватил штандарт легиона и двинулся с ним к Рейну, крича, что всякий, кто покинет ряды и не пойдет за ним, будет объявлен дезертиром. Разозленные, но не смеющие более бунтовать ветераны-вексилларии послушно последовали за своим военачальником в зимний лагерь, куда явились вполне усмиренными. Вот так решимость и отвага одного человека, вовремя нашедшего нужные слова и не только не выказавшего страха перед мятежной толпой, но и сумевшего ей пригрозить, предотвратили очередной кровавый мятеж.
Но мятежные настроения в рейнских легионах никак не хотели утихать…
Новым толчком к очередным беспорядкам стал приезд в ставку Германика уполномоченных сената из Рима. Здесь рядом с зимними лагерями 1-го и 20-го легионов располагались новые вексилларии — только что переведенные в этот разряд ветераны, обязанные своим переводом как раз случившемуся мятежу и вырванным благодаря ему уступкам. Узнав о прибытии сенаторов, они не могли не забеспокоиться, поскольку решили, что задача посланцев сената как раз и заключается в том, чтобы отобрать у них все то, что они сумели отстоять. Убежденные в том, что сенатская комиссия прибыла исключительно для того, чтобы их покарать, вексилларии пришли в ярость, и бунт разгорелся с новой силой. Среди ночи мятежники врываются в дом Германика, чтобы добыть свой штандарт, там хранящийся. К главнокомандующему они не испытывают уже ни малейшего почтения, более того, открыто угрожают ему смертью и вынуждают отдать штандарт. Затем мятежники рассыпаются по всему лагерю, встреченных посланцев сената осыпают оскорблениями, главе делегации, консуляру (бывшему консулу) Мунацию Планку, грозят расправой. Злосчастный посланец сената вынужден искать спасения под защитой святынь, укрывшись в лагере 1-го легиона и обняв священные символы — значки легиона и орла. Но даже здесь его едва не настигла ярость мятежников. Спасителем консуляра стал орлоносец — носитель изображения орла — Кальпурний, с трудом предотвративший кровавое святотатство: ведь человек, обнимающий священные символы легиона, считался неприкосновенным.
Наутро Германику удалось несколько успокоить легион, объяснив воинам истинную цель прибытия посольства сената: сенаторы должны разобраться в происшедшем, но не имеют полномочий карать кого-либо. Очередной укор в позорном поведении скорее привел легионеров в некоторое замешательство, нежели способствовал их усмирению. Главным достижением Германика стала отправка сенатской комиссии из лагеря под надежной охраной отряда конницы. Но до полного успокоения было еще далеко…
Сознавая это, окружение Германика стало открыто порицать своего командующего, находя его поведение неуверенным и снисходительным к мятежникам. Германика упрекают в том, что он не отправляется к надежному верхнегерманскому войску, с помощью которого можно решительно подавить бунт мятежных легионов на Нижнем Рейне. Все действия полководца, направленные на усмирение бунтовщиков, объявляются чрезмерной уступчивостью. Ведь очевидно, что ни увольнение ветеранов, ни денежные выплаты не привели к восстановлению порядка в мятежных легионах. Германику напоминают, что при нем находятся беременная жена и малолетний сын. Если уж он не дорожит собственной жизнью, пусть сохранит для государства хотя бы их жизни. Малолетний сын — это и есть наш герой, Гай Юлий Цезарь, уже получивший от воинов, среди которых он вместе с отцом и матерью находится, то самое прозвище, с каковым он и войдет в историю, — Калигула. Так двухлетний Гай впервые оказывается в гуще исторических событий, которые окажут самое непосредственное влияние на его будущую жизнь и судьбу.
Германик, убежденный своими приближенными в необходимости удалить семью из мятежного лагеря, наталкивается, однако, на сопротивление своей супруги. Гордая внучка божественного Августа и достойная дочь славного Агриппы была упорна до упрямства, никогда не забывала о своем высоком происхождении, открыто гордилась им и всегда стремилась поступать соответственно ему. «Никогда не мирившаяся со скромным уделом, жадно рвавшаяся к власти и поглощенная мужскими помыслами, она была свободна от женских слабостей»
{44} и потому чувствовала себя в военном лагере как в родной стихии. Страха перед воинами дочь великого полководца никогда не испытывала, и убедить ее в перемене ситуации было весьма нелегко. На все уговоры Агриппина гордо заявляла, что внучка божественного Августа не отступает перед опасностями. И лишь только когда Германик, обнимая маленького Гая, со слезами обратился к ней, она уступила. Зрелище покидающей лагерь жены полководца, беременной, несущей на руках двухлетнего сына, не могло не произвести сильного впечатления на легионеров.
«Вид Цезаря (Германика.
— И. К.) не в блеске могущества и как бы не в своем лагере, а в захваченном врагом городе, плач и стенания привлекли слух и взоры восставших воинов: они (Агриппина и ее окружение. —
И. К.) покидают палатки, выходят наружу. Что за горестные голоса? Что за печальное зрелище? Знатные женщины, но нет при них ни центуриона, ни воинов для охраны, ничего подобающего жене полководца, никаких приближенных; и направляются они к треверам (одно из галльских племен, проживавших неподалеку от расположения римского войска. —
И. К.), полагаясь на преданность чужестранцев. При виде этого в воинах просыпаются стыд и жалость: вспоминают об Агриппе, ее отце, о ее деде Августе; ее свекор — Друз, сама она, мать многих детей, славится целомудрием, и сын у нее родился в лагере, вскормлен в палатках легионов, получил воинское прозвище Калигула, потому что, стремясь привязать к нему простых воинов, его часто обували в солдатские сапожки»
{45}.
Вот так впервые маленький Калигула непосредственно участвует в историческом событии и при этом даже играет немаловажную роль: он любимец солдат, взращенный в воинском лагере, потому его уход вместе с матерью воспринимается как жестокая обида легионерам, причем обида ими заслуженная за свои мятежные деяния. Неужели их маленькому любимцу будет лучше и безопаснее среди покорившихся римлянам варваров — треверов, чем среди римских воинов, вскормивших сына Германика и Агриппины в своих палатках? Так двухлетний Гай на руках у своей матери, носившей в те дни в своем чреве его будущую любимую сестру Друзиллу, оказал отцу своему превеликую услугу в деле окончательного подавления мятежных настроений во вверенных ему рейнских легионах.
Часть воинов, растроганных зрелищем ухода Агриппины с Калигулой из лагеря и крайне этим расстроенных, устремилась за супругой Германика, но большинство окружили своего полководца, который, верно угадав перемену в настроении воинов, наконец-то нашел верный тон в обращении к ним:
«Жена и сын мне не дороже отца и государства, но его защитит собственное величие, а Римскую державу — другие войска. Супругу мою и детей, которых я бы с готовностью принес в жертву, если б это было необходимо для вашей славы, я отсылаю теперь подальше от вас, впавших в безумие, дабы эта преступная ярость была утолена одной моею кровью и убийство правнука Августа, убийство невестки Тиберия не отяготили вашей вины. Было ли в эти дни хоть что-нибудь, на что вы не дерзнули бы посягнуть? Как мне назвать это сборище? Назову ли я воинами людей, которые силой оружия не выпускают за лагерный вал сына своего императора? Или гражданами — не ставящих ни во что власть сената? Вы попрали права, в которых отказывают даже врагам, вы нарушили неприкосновенность послов и все то, что священно в отношениях между народами. Божественный Юлий усмирил мятежное войско одним-единственным словом, назвав квиритами тех, кто пренебрегал данной ему присягой; божественный Август своим появлением и взглядом привел в трепет легионы, бившиеся при Акции; я не равняю себя с ними, но все же происхожу от них, и если бы испанские или сирийские воины ослушались меня, это было бы и невероятно, и возмутительно. Но ты, первый легион, получивший значки от Тиберия, и ты, двадцатый, его товарищ в стольких сражениях, возвеличенный столькими отличиями, ужели вы воздадите своему полководцу столь отменною благодарностью? Ужели, когда изо всех провинций поступают лишь приятные вести, я буду вынужден донести отцу, что его молодые воины, его ветераны не довольствуются ни увольнением, ни деньгами, что только здесь убивают центурионов, изгоняют трибунов, держат под стражею легатов, что лагерь и реки обагрены кровью и я сам лишь из милости влачу существование среди враждебной толпы?
Зачем в первый день этих сборищ вы, непредусмотренные друзья, вырвали из моих рук железо, которым я готовился пронзить себе грудь?! Добрее и благожелательнее был тот, кто предлагал мне свой меч. Я пал бы, не ведая о стольких злодеяниях моего войска; вы избрали бы себе полководца, который хоть и оставил бы мою смерть безнаказанной, но зато отомстил бы за гибель Вара и трех легионов. Да не допустил бы, чтобы белгам, хоть они и готовы на это, досталась слава и честь спасителей блеска римского имени и покорителей народов Германии. Пусть душа твоя, божественный Август, взятая на небо, пусть твой образ, отец Друз, и память, оставленная тобою по себе, ведя за собой этих самых воинов, которых уже охватывают стыд и стремление к славе, смоют это пятно и обратят гражданское ожесточение на погибель врагам. И вы также, у которых, как я вижу, уже меняются и выражения лиц, и настроения, если вы и вправду хотите вернуть делегатов сенату, императору — повиновение, а мне — супругу и сына, удалитесь от заразы и разъедините мятежников: это будет залогом раскаяния, это будет доказательством верности»
{46}.
Речь Германика, полностью приведенная Тацитом, весьма любопытна. Сначала он недвусмысленно приписал мятежником готовность убить Агриппину и маленького Калигулу, затем привел наиболее знаменитые примеры прежних мятежей: известнейший случай, когда 10-й легион отказался было следовать за Гаем Юлием Цезарем в Африку добивать войска сторонников Помпея, и мятеж легионов в Брундизии на Адриатическом побережье Италии уже при Октавиане. В первом случае Цезарь действительно усмирил недовольных одним-единственным словом, назвав их «квиритами», то есть подлинными римлянами, потомками Ромула-Квирина
{47}.
Октавиану же в Брундизии пришлось сложнее. Германик сильно польстил ему, сказав, что тот одним лишь появлением своим и грозным взглядом усмирил мятежные легионы. На самом деле успокаивать взбунтовавшихся воинов пришлось самыми серьезными уступками: солдатам выплатили все требуемые ими деньги. Для этого пришлось раскошелиться самому наследнику божественного Юлия и даже его ближайшим друзьям и соратникам, которым пришлось обещать возмещение из грядущей египетской добычи. Также легионерам-победителям были щедро предоставлены участки земли
{48}.
Наконец, 1-му легиону справедливо было указано на то, что он в особом долгу перед Тиберием. Это был возрожденный легион, его предшественник был истреблен германскими варварами в Тевтобургском лесу. Тиберий восстановил погибший легион, лично вручил ему новые знамена и повел на берега Рейна, где римлянам удалось успешно остановить натиск варваров.
Самого Тиберия, родного дядю, Германик в своей речи настойчиво именовал отцом — за десять лет до этого Август повелел Тиберию усыновить Германика. Теперь же, когда Тиберий стал правителем Римской империи, статус Германика приобрел особое значение, несмотря на то что у Тиберия был еще и родной сын — Друз Младший, тот самый, что успешно усмирил беспорядки в Паннонских легионах. Теперь сын приемный переходил к решительным действиям для усмирения мятежных рейнских легионов. И так получилось, что перелом наступил лишь тогда, когда бунтующие легионеры узрели покидающих военный лагерь Агриппину и маленького Калигулу. А не окажись рядом с Германиком его славной супруги, не отправь в свое время Август малыша Гая к родителям на германскую границу, так ли повернулись бы события в 1-м и 20-м легионах? Так что первое появление Гая Цезаря Калигулы на исторической сцене стало безусловно благодетельным для Римской державы. Правда, едва ли сам двухлетний мальчик осознавал и серьезность происходящего, и свою неожиданную роль в нем.
Перемена в настроении легионеров была разительной. Теперь они сами уговаривают Германика покарать виновных в мятеже и простить заблуждавшихся, к коим, разумеется, недавние мятежники себя в подавляющем большинстве и причисляли. Настойчиво звучала просьба о возвращении в лагерь Агриппины и любимца воинов маленького Калигулы, которого они называли «своим питомцем». Германик на это здраво ответил, что сына вернет, но жена возвратиться не может, поскольку у нее приближаются роды, да и зима с ее холодами не за горами. Но главное… с виновниками происшедшего воины могут поступать по своему усмотрению… Командующий 1-м легионом Гай Цетроний своим присутствием придавал происходящему видимость законности, сам же Германик держался в стороне, как бы вообще не участвуя в суде и расправе.
Связанных зачинщиков по одному выводили на помост, и воинский трибун указывал на него выстроившимся с мечами наголо легионерам. Если из строя доносился общий крик, что данный человек виновен, то его, столкнув с помоста, тут же и приканчивали. Если же строй молчал, то, надо полагать, несчастного миловали. Правда, таких случаев было совсем немного. Безжалостно истребляя и подлинных зачинщиков мятежа, и тех, кто просто попал под горячую руку, недавние «бунтовщики по недомыслию», каковыми они сами себя объявили, как бы очищались от совершенных преступлений. Германика такой поворот дела устраивал, ибо вся вина за пролитую кровь ложилась на самих легионеров, а он добился главного: мятеж прекращен, корни его вырваны, поскольку зачинщики наипримернейшим образом наказаны.
В этом Германик за полтора века предвосхитил великого римского императора Марка Аврелия, о котором его биограф писал, что он никогда не приказывал убивать своих врагов, но никогда не мешал тому, чтобы их убивали. Так, он допустил, чтобы убили его злейшего врага мятежного Авидия Кассия, но никакого приказа об этом не отдавал…
{49}
1-й и 20-й легионы были усмирены, но оставались еще 5-й и 21-й легионы. Те самые легионы, которые и начали мятеж и в которых пролили более всего крови. Стало известно, что весть о наказании мятежников в верхнегерманском войске не произвела на них первого должного впечатления. Потому Германику пришлось готовить свои легионы, а также силы флота и союзные войска к походу на Нижний Рейн, дабы решительными боевыми действиями покончить с нежелающими смириться. Оценив, однако, все «за» и «против» такого развития событий, Германик решил все же избежать крайних мер. Прямое боевое столкновение двух римских армий — такого уже не было сорок пять лет — со времени последнего противостояния Октавиана и Антония… Это гражданская война, а не подавление бунта. Кроме того, во что может такое столкновение двух римских войск вообще обойтись Римской державе? Ведь Рейн — ее опаснейшая граница, и стоит только римской власти ослабнуть на его берегах — а битва Верхнего и Нижнего войск непременно к этому приведет, — как из Германии в римскую Галлию устремятся полчища воинственных варваров. Не следует, кстати, и переоценивать лояльность покоренных галльских племен… Поэтому Германик, изготовив свои войска к походу и готовый обрушить возмездие на головы не желающих смириться бунтовщиков, предпочел все же использовать уже испытанный способ подавления мятежа руками самих недавних мятежников: пусть «заблудшие» сами истребят непримиримых «зачинщиков». Но на сей раз он действовал не уговорами, не обращением к историческим примерам, а совершенно недвусмысленными угрозами. Легату Авлу Цецине он отправил письмо, извещавшее, что он выступает на Нижний Рейн с большим войском и если до его прибытия расправа с главарями мятежа не состоится, то он будет казнить мятежников поголовно. Цецина опирался на достаточное число благонамеренных воинов и сумел это обстоятельство успешно использовать, поскольку письмо Германика времени для размышления не оставляло.
Собрав ночью в своей палатке наиболее благонадежных воинов, носивших значки легионов и изображения орлов, Цецина досконально выяснил настроения в легионах и убедился, что большинство все же готово подчиниться воинскому долгу. Было назначено время нападения на самых непримиримых мятежников. Цецина действительно сумел собрать надежных людей — никто мятежников о грозящей им опасности не предупредил. По условленному знаку люди легата ворвались в палатки бунтовщиков и на месте прикончили их. Ужасно было то, что никому в лагере не объясняли, почему, собственно, началась эта резня, быстро охватившая весь лагерь.
«Тут не было ничего похожего на какое бы то ни было междоусобное столкновение изо всех случавшихся когда-либо прежде. Не на поле боя, не из враждебных лагерей, но в тех же палатках, где днем они вместе ели, а по ночам вместе спали, разделяются воины на два стана, обращают друг против друга оружие! Крики, раны, кровь повсюду, но причина происходящего остается скрытой: всем вершил случай. Были убиты и некоторые благонамеренные, так как мятежники, уразумев, наконец, над кем творится расправа, также взялись за оружие. И не явились сюда ни легат, ни трибун, чтобы унять сражавшихся: толпе было дозволено предаваться мщению, пока она не пресытится. Вскоре в лагерь прибыл Германик; обливаясь слезами, он сказал, что происшедшее — не целительное средство, а бедствие, и повелел сжечь трупы убитых»
{50}.
Авл Цецина верно рассчитал, что если обезглавить мятеж, уничтожив в первую очередь его явных предводителей, то в неизбежной резне, пусть и с немалыми потерями, успех будет на стороне благонамеренных. Германику же, вновь стоявшему в стороне от кровопролития, каковое он приказом своим не развязывал, оставалось только пролить приличествующие моменту слезы и поскорбеть о случившемся. Главное же было достигнуто — мятеж в рейнских легионах прекратился. И прекратил его сам Германик, не запрашивая помощи из Рима, где новоявленный принцепс пребывал в тяжком раздумье, получая невеселые известия сначала из Паннонии, а затем и с берегов Рейна.
В Риме известия о мятежах вызвали немалую тревогу и римляне недоумевали, почему медлит Тиберий, почему он остается в Риме при таких страшных известиях. Кому же, как не ему, ныне уже во всем блеске императорского величия самолично подавить возмущение? Справятся ли с этим нелегким делом его сыновья, как родной, так и приемный?
Тиберий, однако, не спешил покидать столицу, и на это у него были свои резоны. Ведь мятежи, к несчастью, вспыхнули в двух областях почти единовременно. Да и области эти лежат в разных направлениях от Италии. Потому, отправившись усмирять бунт в Паннонии, принцепс мог невольно способствовать усилению мятежа на германской границе, и наоборот… Далее: если неудачу потерпит Друз или Германик, то еще не все потеряно, тогда он сам бросит решительный вызов взбунтовавшимся злодеям. Но неудача самого императора — это уже беда, грозящая благополучию самой Римской державы, судьбе ее высшей власти. Наконец, надо помнить, что в Италии стоят только преторианские когорты, императорская гвардия, опираясь на которую, мятеж боевых легионов не подавишь, а времени на набор нового войска просто нет. Думается, оставаясь в Риме, Тиберий поступил совершенно правильно и упрека за это ни в коей мере не заслуживал. Он умел выжидать, умел просчитывать грядущий ход событий, и его ожидания оправдались. Да, чтобы успокоить излишне разволновавшихся обитателей столицы, он сообщил, что уже избрал себе спутников для похода, были оснащены корабли, даже подготовлены обозы… но сигнал к походу так и не прозвучал. То государственные дела вынуждают принцепса оставаться в Риме, то приближение зимы совершенно не способствует выступлению… Наконец, правильность действий Тиберия (или бездействия) подтвердилась известиями о прекращении сначала паннонского, а затем и рейнского мятежа.
По получении вестей о подавлении бунтов в легионах Тиберий сделал специальное сообщение сенату, восхвалив обоих своих сыновей. Приемному сыну, Германику, как подавившему более опасный мятеж — на Рейне, напомним, находились восемь легионов, в Паннонии только три, — досталось много больше похвал. Тиберий даже перестарался: его похвала Германику прозвучала столь напыщенно, в таких витиеватых выражениях, что иные сенаторы немедленно усомнились в искренности императора. Хвала же Друзу была высказана словами четкими и ясными, без излишнего многословия, что вызвало доверие. Понимая, что сделанные Германиком уступки легионерам были необходимыми, Тиберий подтвердил их, а дабы Друза никто не упрекнул в несоблюдении данных им обещаний, распространил уступки рейнским легионам и на паннонские.
Возможно, что Тиберий действительно не слишком удачно построил свою речь в похвалу Германику, для эффекта употребив слишком напыщенные слова, но едва ли он заслуживает упрека в неискренности. Дело в том, что если Друз только усмирил мятеж, то Германик сделал явно больше. Предводительствуемые им недавно мятежные легионы во искупление своей вины совершили победоносный поход за Рейн, безжалостно обрушившись на германцев. Германик понимал, что лучший способ восстановить единство в легионах — военный поход, причем поход победоносный. Главное же, что эта мысль соответствовала настроению самого войска: «Все еще не остывшие сердца воинов загорелись жгучим желанием идти на врага, чтобы искупить этим свое безумие: души павших товарищей можно умилостивить не иначе как только получив честные раны в нечестивую грудь»
{51}.
Дабы энтузиазм войска проявился в бою, Германик немедленно приказал навести мост через Рейн, и на восточный его берег стремительно переправились двенадцать тысяч легионеров, двадцать шесть когорт союзных войск (численность одной когорты в то время — 600 человек), а также восемь ал (в одной але было 500 всадников) конницы. (Конница, кстати, во время мятежа вела себя безупречно.) Миновав пограничные укрепления, построенные Тиберием во время его походов на германцев в 10–11 годах, армия Германика пересекла лес, именовавшийся Цезийским, и воины в соответствии с римской боевой традицией разбили и сильно укрепили военный лагерь. С фронта и тыла его защищали земляные валы, с флангов — засеки. Время для нападения на германцев было выбрано чрезвычайно удачно. Племя марсов, обитавшее в междуречье впадавших в Рейн рек Лупия и Рура (современные Липпе и Рур), не ожидало никаких неприятностей от римлян, после недавних кровавых войн укрывшихся за укрепленной рейнской границей. Более того, римлянам удалось приблизиться к местам проживания марсов по ранее не используемой и потому не охраняемой германцами дороге. Опытные римские военачальники во главе с Германиком верно рассчитали, что марш по трудной, неизведанной, но не охраняемой неприятелем дороге куда быстрее приведет их к победе, нежели поход по короткой на первый взгляд удобной дороге, но находящейся под наблюдением германцев. Когда римляне были уже у цели, их обрадовала еще одна новость: ночью марсы собираются справлять свой праздник с пирами и игрищами, а это означает их совершенную неготовность к бою! Для полного счастья ночь оказалась ясной и лунной.
Успех римлян был полным. Германик огнем и мечом опустошил местность в радиусе полсотни миль (римская миля — полтора километра). Все поселения марсов были уничтожены, римляне не щадили никого, ни стариков, ни женщин, ни детей. Сровняли с землей и главную святыню племени — святилище богини Танфаны.
Со стороны римлян, поскольку германцы были застигнуты врасплох и по случаю праздника бражничали (кто устал бражничать — те спали крепким сном), практически не было потерь. Впрочем, войску Германика противостоял почти безоружный противник, и потому доблести в такой победе было не много. Если вообще была…
Жестокий разгром беззащитных марсов, поругание святилища Танфаны не могли не привести в ярость соседние германские племена. Воины из племен бруктеров, тубантов и узипетов выступили в поход и подготовили засаду в лесистом ущелье, по которому должен был пролегать обратный путь войска Германика. Но римская разведка своевременно предупредила своего полководца, и он принял необходимые меры. Боевой порядок римлян при отходе был таков: вперед Германик пустил конницу, за ней шли когорты вспомогательных войск, далее следовал 1-й легион, затем — обоз, прикрытый слева 21-м легионом, а справа — 5-м. Тыл обеспечивал 20-й легион, за которым в арьергарде шли уже наименее боеспособные части союзников. Хотя римляне и были готовы к нападению неприятеля и засада вовсе не стала для них неожиданностью, бой оказался очень упорным, и в какой-то момент в их рядах все же возникло замешательство. И вот тогда Германик бросил вперед 20-й легион. Подскакав к воинам, он воскликнул, что настало время искупить свою вину боевыми заслугами. Обращение оказалось своевременным, и кровью германцев воины 20-го легиона смыли с себя свои прегрешения, обеспечив всему остальному войску беспрепятственное возвращение в лагерь. Что ж, Марс благоприятствовал Германику в его походе на марсов.
Тиберий достойно вознаградил племянника и приемного сына за успешный поход за Рейн. Германику был назначен триумф. Надо сказать, награда в данном случае явно несоразмерная. Сам Тиберий трижды удостаивался триумфальных отличий, но что то были за победы! Завоевание обширнейших и многонаселенных земель Иллирии и Паннонии, подавление там же страшного мятежа, грозившего самому Риму, разгром полчищ германцев… Тиберий, конечно, не мог не знать цену скромному и, строго говоря, скорее вредному, нежели полезному для положения римлян на рейнских берегах успеху Германика, — ведь поход на марсов уже вызвал большую войну с германцами, в которой для Рима никакой политической необходимости в то время не было. Скорее всего, Тиберий руководствовался мыслью, что какая-никакая победа, да еще и сразу после подавления опаснейших армейских мятежей, это не худший знак начала успешного правления. Как-никак его предшественники, божественный Юлий и божественный Август, обретали власть после братоубийственных гражданских войн, он же, Тиберий, и власть получил законным образом, и волнения в легионах оказались недолгими, а тут еще и победа над германцами, опаснейшим врагом. Потому-то и награда Германику оказалась столь высокой. Пусть и не по заслугам, но своевременно. Помимо этого, назначенный триумф должен был служить Германику поощрением впрок. Понимая, что разгром марсов недостаточное основание для столь великой награды, Германик обязан был стремиться в начавшейся войне к подлинно великим победам, дабы вступить триумфально в Рим, уже будучи покрытым достойной этого события славой.
В это же время Германик удостаивается и высокой жреческой должности. Тиберий учредил жреческую коллегию августиалов, служителей культа обожествленного Августа. Так некогда основатель Рима Ромул учредил жреческую коллегию тациев для священнодействий в честь Тита Тация, сабинского царя, ставшего соправителем Ромула. В коллегию, состоявшую из двадцати одного августиала, вошли сам Тиберий, сын его Друз, Германик и его брат Клавдий. Остальные были избраны по жребию.
Тем временем война, начало которой было положено походом Германика на марсов, шла полным ходом. Германик продолжил действовать с опережением. Планируя сначала развернуть большое наступление за Рейн к лету, он уже в феврале предпринял большой и вновь внезапный для врага поход за Рейн против племени хаттов, обитавших в области по верхнему течению реки Визургий (современный Везер). Здесь особую надежду на успех римлянам сулила вражда между двумя германскими вождями — Арминием и Сегестом. Арминий, истребитель легионов Квинтилия Вара в Тевтобургском лесу, был, естественно, лютым и убежденным врагом Рима, Сегест же всегда был склонен с римлянами дружить. Арминия римляне не случайно считали воплощением коварства. Ведь он, казалось бы добровольно, согласился служить римлянам, когда усилиями Друза Старшего и Тиберия рубежи Римской державы оказались передвинутыми с берегов Рейна до самого Альбиса. Август удостоил Арминия римского гражданства и даже возвел его во всадническое сословие! Арминию была обеспечена на будущее успешная карьера в рядах римского войска… Да не тут-то было. Хитроумный варвар тщательно подготовил грандиозное восстание, которое смело три римских легиона и всю римскую власть на пространстве между Рейном и Альбисом. Сегест же как раз предупреждал римлян о коварстве Арминия и советовал римскому военачальнику принять меры предосторожности, надев оковы на Арминия и его единомышленников. Дабы отвести от себя подозрения, Сегест предлагал заключить в оковы и самого себя. Но скудоумный Вар пренебрег советом верного германца и себе, и тысячам римлян на погибель. Сегесту же, увлеченному общим движением, ничего не оставалось, кроме как принять участие в восстании наряду с остальными соплеменниками, дабы скрыть свою связь с Римом.
Весенняя кампания Германика привела к открытому переходу Сегеста на сторону римлян. Сын Друза Старшего, первым из рисских полководцев достигшего берегов Альбиса и совершившего плавание по Северному морю, стремился доказать, что является достойным преемником военной славы отца. Германик быстро и скрытно продвигался к земле хаттов с четырьмя легионами и вспомогательными войсками. Другие четыре легиона его армии под началом надежного и многоопытного Авла Цецины обеспечивали ему прикрытие на случай, если племена херусков, обитавших по среднему течению Везера, и марсов, жаждавших отмщения за недавний разгром, решат прийти хаттам на помощь. Хатты оказались не в состоянии выдержать внезапное нападение столь грозной римской армии. Венцом похода Германика стало сожжение города Маттия — главного поселения хаттов. Затем Германик беспрепятственно вернулся за Рейн, поскольку легионы Авла Цецины не позволили херускам и марсам помочь хаттам.
Весенний поход Германика и Цецины принес еще один замечательный результат: Сегест открыто перешел на сторону римлян. Переход этот, однако, соплеменники германского вождя встретили с возмущением, и Сегест оказался осажденным в своей крепости. Сумев благодаря ловкости своего сына Сегимунда известить римлян о своем положении, Сегест своевременно призвал на помощь римские войска, которые под командованием самого Германика быстро освободили союзника от осады. Сегест прибыл к римлянам в сопровождении большой свиты родных и близких, среди которых особо выделялась его дочь, жена ненавистника римлян Арминия, носившая в это время в своем чреве его дитя. Вынужденная покориться, она тем не менее не скрывала, что взгляды мужа ей много ближе отцовских. Среди даров, преподнесенных римлянам, были трофеи из Тевтобургского леса — доспехи погибших воинов злосчастного Вара.
Переход Сегеста был большим успехом, и Германик, отведя войска за Рейн, вскоре узнал, что по внесенному Тиберием предложению он получил звание императора. Этот титул традиционно на протяжении многовековой римской истории присваивался наиболее выдающимся полководцам за наиболее блестящие победы. Практического значения он не имел и был званием сугубо почетным. Тиберий, как мы видим, сначала тоже полагал титул императора традиционным и не собирался быть единственным его носителем, о чем и свидетельствует награждение им Германика по инициативе самого принцепса. Вскоре, однако, он изменил свой взгляд на императорский титул. Провозглашение Германика императором стало предпоследним событием такого рода. В последний же раз полководец-император появился в римской армии в 21 году, когда Квинт Юний Блез сумел нанести в провинции Африка (территория современного Туниса) ряд поражений мятежному предводителю Такфаринату. Как сообщает Тацит: «Тиберий милостиво позволил воинам полководца Блеза провозгласить того императором за победу в Африке: это была старинная почесть, которую охваченное радостным порывом войско оказывало своему полководцу; одновременно бывало несколько императоров, и они не пользовались никакими преимущественными правами. И Август разрешал некоторым носить этот титул, и Тиберий разрешил Блезу, но в последний раз»
{52}. После этого титул императора мог принадлежать только принцепсу и вскоре стал восприниматься как звание правителя Римской державы. Так владыки Рима стали римскими императорами.
Но вернемся к Германику. Здесь важно, что ему императорский титул был присвоен по предложению самого Тиберия
{53}. Значит, высоко ценил принцепс деяния пасынка и щедро вознаграждал его за победы. Возможно, столь явная симпатия к Германику во многом основывалась и на том, что он решительнейшим образом отверг предложения мятежных воинов бороться за власть в Риме. Искренность Германика сомнений не вызывала, и Тиберий должным образом это оценил. Триумф и титул императора за далеко не самые выдающиеся победы прямое и недвусмысленное тому свидетельство.
Императорский титул вдохновил Германика на новые подвиги, тем более что ныне ему противостоял сам Арминий, к коему у римлян был особый счет. Возглавивший херусков и примкнувшие к ним соседние племена славный победитель Квинтилия Вара был уверен в своем очередном успехе и вдохновлял своих воинов напоминанием об их великих победах. Не удержался он и от прямых оскорблений римского полководца и его армии, говоря, что если и Август, и Тиберий ушли из Германии ни с чем, то неужто германцам следует бояться неопытного юнца и его склонных к мятежу легионов? Германик просто обязан был доказать возгордившемуся варвару, что он отнюдь не неопытный юнец и легионы его совсем не легионы Вара.
В новом походе войско Германика достигло тех мест, где за шесть лет до этого погибли легионы Вара. Перед римлянами открылась мрачная картина: «…посреди поля белели скелеты, где одинокие, где наваленные грудами, смотря по тому, бежали ли воины или оказывали сопротивление. Были здесь и обломки оружия, и конские кости, и человеческие черепа, пригвожденные к древесным стволам. В ближних лесах обнаружились жертвенники, у которых принесли в жертву трибунов и центурионов первых центурий (трибуны — старшие офицеры легиона, их было шесть, в республиканское время командовали по очереди легионом, во время империи стали помощниками легата — командира легиона; центурионы первых центурий — «примипилы», самые заслуженные младшие офицеры легиона. —
И. К.). И пережившие этот разгром, уцелев в бою или избежав плена, рассказывали, что тут погибли легаты, а там попали в руки врагов орлы; где именно Вару была нанесена первая рана, а где он нашел смерть от своей злосчастной руки и обрушенного ею удара; с какого возвышения произнес речь Арминий, сколько виселиц для расправы с пленными и сколько ям было для них приготовлено, и как, в своем высокомерии, издевался он над значками и орлами римского войска»
{54}.
Германик повелел достойно похоронить останки погибших. В основание насыпанного могильного холма он первым уложил кусок дерна. Тиберий, получив известие об этом, поступок Германика не одобрил, ибо тот уже обладал жреческим саном, а по римским представлениям жрец не имел права прикасаться к мертвым. Но, думается, едва ли Германик этот упрек заслужил. Римское войско обязано было отдать долг уважения погибшим соратникам. Нарушая обычай, Германик соблюдал закон нравственный.
Арминий недооценил Германика. Это был далеко не Квинтилий Вар, и он не дал заманить свои легионы в засаду, хотя конница римлян была приведена в замешательство внезапной атакой германцев, а посланные ей на помощь вспомогательные отряды оказались смятыми, что только усугубило общее смятение. Благо Германик с главными силами успел вовремя, и германцы отступили. Сражение не дало перевеса ни одной из сторон, но римскому полководцу стало очевидно, что продолжение похода удачи не сулит. Потери были большими, а новое столкновение с Арминием обещало еще большие. Успешная атака германцев на римскую конницу лишний раз доказывала, что победитель Вара не утратил дара преподносить римлянам пренеприятнейшие неожиданности и сил у него для этого предостаточно. Отведя легионы к реке Амизии, Германик на кораблях отправил их на римскую территорию — тот же путь, по которому они и двигались в глубь Германии. Коннице же было велено следовать по побережью Океана (Северного моря) к устью Рейна. В намного худшем положении оказались легионы Цецины, которым предстояло возвращаться по узкой тропе, некогда проложенной для римской армии военачальником Луцием Домицием. Путь римлянам хорошо известный, но не менее знакомый и воинам Арминия. Более того, сама дорога выглядела ловушкой: длинные гати, проложенные по топкой почве, нуждались в починке, по обе стороны дороги — леса на пологих склонах. Потому-то армии Авла Цецины надо было одновременно и чинить гати, и отражать атаки неприятеля, который, стремительно передвигаясь, без труда настиг римлян. Легкие, подвижные, прекрасно знавшие свои родные леса херуски были намного быстрее римских легионов, отягощенных обозами и тяжелым вооружением.
Первый бой был явно неудачен для римлян, от полного разгрома их спасла только наступившая темнота. Ночью в обеих армиях царило совершенно разное настроение. Германцы ликовали, предвкушая грядущий разгром римлян — новый Тевтобургский лес! Тем более что здесь даже не три, а четыре легиона, а Авл Цецина куда более прославленный военачальник, нежели Квинтилий Вар! У римлян настроение было подавленным. В великой тревоге пребывал и сам Авл Цецина, испытаннейший воин, уже сороковой год несший военную службу. Степень тревоги полководца отразилась и в его снах, в которых ему привиделся Квинтилий Вар, поднявшийся из болотной трясины, залитый кровью и как бы призывающий Цецину следовать за собой. Но мужественный Авл и во сне оттолкнул руку Вара, а пробудившись, действовал так, что мечты Арминия о повторении тевтобургского успеха не сбылись.
Германский вождь уже предвкушал вторую великую победу над римлянами. Бросая свое отборное войско на римские порядки, он воскликнул: «Вот он, Вар, и легионы, которые ждет та же судьба!» И поначалу ход битвы, казалось, целиком оправдывал надежды Арминия. Римляне несли огромные потери, сам Цецина, сброшенный на землю раненой лошадью, чудом избежал гибели. К счастью, германцы, воины яростные и доблестные, но незнакомые с настоящим воинским порядком и дисциплиной, увлеклись разграблением захваченной части римского обоза, что и спасло легионы от полного разгрома. Пока германцы грабили,
римляне все же сумели пробиться из болотистой местности на открытую равнину, где, к счастью, была твердая почва.
Но настроение в римском войске было уже не просто подавленным, а близким к панике. Дошло до того, что когда сорвавшаяся с привязи лошадь сбила с ног нескольких воинов, то по лагерю мгновенно распространился слух, будто в расположение войска ворвались германцы. Цецине пришлось даже буквально лечь в проходе ворот, чтобы остановить бегство перепуганных легионеров. Когда с помощью не потерявших присутствия духа трибунов и центурионов войско удалось построить, доблестный Авл объяснил воинам, что бегство гибельно, бегущих ожидают еще более густые леса, еще более глубокие топи, где на них обрушится свирепый и беспощадный враг. Выход — обдуманное применение оружия: надо дождаться, когда враг решится на штурм римского лагеря, и тогда обрушиться на него всеми силами и мечами проложить себе дорогу к Рейну. Помогли римлянам и разногласия в стане германских вождей. Арминий делил военную власть с другим вождем — Ингвиомером, и тот, будучи, очевидно, менее опытным полководцем и много более горячим по натуре человеком, предлагал немедленно пойти на приступ римского лагеря, что позволило бы захватить больше пленников и все имущество римлян. Арминий, советовавший не препятствовать римскому войску покинуть лагерь, а затем напасть на него на марше, вновь загнать в леса и топи, где и уничтожить, не сумел убедить соратников в правильности своего решения. Те жаждали быстрой победы и дележа уже захваченной добычи. А ведь поступи германцы так, как предлагал Арминий, дела легионов были бы плохи: долго оставаться в лагере они все равно не могли, и им поневоле пришлось бы идти на прорыв, а здесь все преимущества были на стороне германцев. Но в итоге все обернулось так, как решил Ингвиомер и предполагал Цецина. Германское войско сгрудилось у вала, защищающего римский лагерь, а римляне тем временем сумели обойти варваров с флангов и даже зайти им в тыл — бой-то происходил на ровном месте, а не среди лесов и болот, где всегда хозяевами положения были германцы. На открытой равнине превосходство римского военного строя было очередной раз блистательно доказано: легионы одержали победу. Виновник поражения германцев, ибо он настоял на столь гибельном, как оказалось, способе действий, Ингвиомер был тяжело ранен, осторожный Арминий остался цел и невредим. Легионы были спасены, и Цецина вскоре достиг спасительных берегов Рейна.
Тем временем римских владений достигли ужасные слухи об окружении легионов Цецины, об их неминуемом разгроме и о несметных полчищах германских варваров, идущих к Рейну и готовых вторгнуться в Галлию. Паника, вызванная этими слухами, была столь сильной, что в римском стане возникла отчаянная мысль разрушить мост через Рейн: ведь легионы все равно погибли и теперь главное не позволить германцам вторгнуться на римскую территорию. И мост действительно разобрали бы, когда б не вмешалась жена Германика Агриппина. В отсутствие Германика «эта сильная духом женщина взяла на себя в те дни обязанности военачальника и, если кто из воинов нуждался в одежде или в перевязке для раны, оказывала необходимую помощь»
{55}. Когда же наконец легионы Цецины достигли спасительного берега Рейна, у моста их встречала, осыпая воинов похвалами и благодарностями, внучка божественного Августа, дочь славного Марка Випсания Агриппы, жена главнокомандующего. А рядом с Агриппиной, о чем нетрудно догадаться, стоял трехлетний мальчик в воинском облачении и маленьких, по военному образцу сделанных сапожках — любимейший из сыновей ее Гай Цезарь, уже удостоенный от воинов почетного звания солдатского «питомца» и трогательно-забавного прозвища «Сапожок». Так вновь маленький Калигула стал участником важного исторического события. Понятно, что вернувшиеся из тяжелейшего похода воины восторженно приветствовали и Агриппину, и ее сына Калигулу. Мальчик в солдатской одежде — безусловный любимец рейнских легионов. И можно ли найти в римской истории другой пример, когда кто-либо заслужил бы такую любовь суровых римских воинов с первых лет своей жизни?
Известие о торжественной встрече вернувшихся из Германии легионов на рейнском мосту стало, разумеется, предметом для самых серьезных размышлений Тиберия. Принцепс был и удивлен, и раздосадован. Как писал Тацит: «Все это глубоко уязвляло Тиберия: неспроста эти ее заботы, не о внешнем враге она помышляет, домогаясь преданности воинов. Нечего полководцам делать там, где женщина устраивает смотры манипулам, посещает подразделения, заискивает раздачами, как будто ей недостаточно для снискания благодарности возить с собою повсюду сына главнокомандующего в простой солдатской одежде и выражать желание, чтобы его называли Цезарем Калигулой. Агриппина среди войска могущественнее, чем легаты, чем полководцы: эта женщина подавила мятеж, против которого было бессильно имя самого принцепса»
{56}.
Вспыхнувшую у Тиберия острую неприязнь к Агриппине усугубляли два обстоятельства: во-первых, жена Германика явно шла по стопам матери самого Тиберия Августы Ливии. Ведь как раз в это самое время «Тиберию стала в тягость его мать Ливия: казалось, она притязает на равную с ним власть. Он начал избегать частых свиданий с нею и долгих бесед наедине, чтобы не подумали, будто он руководствуется ее советами: а он в них нуждался и нередко ими пользовался. Когда сенат предложил ему именоваться не только «сыном Августа», но и «сыном Ливии», он этим был глубоко оскорблен. Поэтому он не допустил, чтобы ее величали «матерью отечества», напротив, он не раз говорил ей, чтобы она не вмешивалась в важные дела, которые женщин не касаются, в особенности когда он узнал, что во время пожара около храма Весты она, как бывало при муже, сама явилась на место происшествия и призывала народ и воинов действовать энергичнее. Вскоре вражда их стала открытой»
{57}. Во-вторых, Луций Элий Сеян, возглавивший при Тиберии в качестве префекта преторианские когорты воинов, расположенные в Риме, всемерно разжигал подозрения принцепса в отношении невестки: «…он заранее сеял в нем семена ненависти, чтобы тот таил ее про себя, пока она вырастет и созреет»
{58}.
У римлян не было принято, чтобы женщины участвовали в политической и тем более в военной деятельности. Однако, как известно, из всякого правила бывают исключения. История Рима знала выдающихся женщин, активно вмешивавшихся в политическую жизнь державы. И вмешательство это носило очень неоднозначный характер. Печально знаменита была дочь предпоследнего римского царя Сервия Туллия, вдохновившая Луция Тарквиния на государственный переворот, в результате которого лишился власти ее родной отец. Одна из улиц Рима тогда навсегда получила название «злодейской»: когда на ней лежал труп низвергнутого и убитого царя, исполненная злорадного торжества Туллия на колеснице переехала тело мертвого отца, совершив неслыханное святотатство.
Неукротимым характером обладала Фульвия, жена Марка Антония. Поскольку супруг ее никогда не блистал особым умом, то именно она во многом направляла его деятельность. Уверяли, что Фульвия была величайшей ненавистницей Марка Туллия Цицерона, и во многом по ее требованию Антоний так настаивал на предании великого оратора смерти во время проскрипций. Когда же голову несчастного Цицерона доставили в Рим, то говорили, будто Фульвия ставила ее перед собою на стол и, глумясь над покойным, прокалывала язык, не так давно произносивший речи против ее мужа. Фульвия даже развязала войну против Октавиана в поддержку дела Марка Антония, несмотря на то, что муж ее уже успел сойтись со знаменитой Клеопатрой.
Выдающуюся роль в правление Августа играла его жена Ливия. Сам Август восхищался ее умом и ценил ее советы. Любопытно, что при этом он явно опасался интеллекта супруги и потому «даже те важные дела, о которых он собирался говорить с нею, записывал заранее и при разговоре держался этой записи, чтобы случайно не сказать ей слишком мало или слишком много»
{59}. Раздражение Тиберия против Ливии в самом начале его правления объясняется еще и тем, что он прекрасно сознавал: именно настойчивости матери он обязан решению Августа усыновить его. Без ее содействия он мог бы и не достичь верховной власти, потому теперь опасался, что она возжелает управлять совместно с ним, если вообще не направлять его правление…
А тут еще известие о властных амбициях Агриппины… Женщина, принимающая военные решения, явление в римской истории совсем уж редкостное. А уж встреча возвращающихся легионов, по сути, в качестве главнокомандующего — это открытая демонстрация столь непомерных амбиций, что этим нельзя не обеспокоиться. И если до этого события мы не видим со стороны Тиберия проявления какой-либо неприязни или недоверия к Германику и Агриппине, — то теперь на взаимоотношения дяди и его племянника и пасынка пала тень.
Германик тем временем вернулся из похода, итоги которого трудно признать победными. Римляне понесли огромные потери, и эта печальная весть получила столь широкое распространение, что «Галлия, Испания и Италия, соревнуясь друг с другом в усердии, предлагали в возмещение понесенных войском потерь оружие, лошадей, золото — что кому было сподручнее»
{60}. Из щедро предложенных даров от двух крупнейших провинций Империи Германик с благодарностью принял оружие и лошадей, золота же не взял, хотя и похвалил дарителей за проявленное рвение в деле восстановления боеспособности своих потрепанных легионов. Воинов он вознаградил деньгами из собственных средств, что лишний раз свидетельствует о высоких нравственных качествах сына славного Друза Старшего и отца обожаемого рейнскими легионами маленького Калигулы.
Германик всеми силами стремился восстановить боевой дух легионов. Он тщательнейшим образом изучил причины своих неудач, дабы в дальнейшем, а новая война с германцами представлялась ему неизбежной, не повторить прежних ошибок. Что ж, в этом племянник старался быть достойным своего дяди, ведь Тиберий в сражениях никогда не полагался на удачу и случай
{61}.
Подводя итоги походов, Германик не мог не заметить, что главными преимуществами германцев являются леса и болота их полудикой родины, а также рано наступающие холода. Но если приходится сражаться на открытой и сухой местности, да еще в хорошую погоду — военный строй римлян обеспечивает потомкам Ромула безусловную победу. Впрочем, учитывая известную хитрость германских вождей и прежде всего талантливейшего и коварнейшего из них Арминия, принудить германцев сражаться в таких условиях было сложно, хотя порой и удавалось. Когда варвары оказывались слишком уж самонадеянны…
Дабы лишить германцев преимуществ, дарованных им природой, Германик решил не повторять вторжения в Германию по суше, но проникнуть в сердце германской земли по воде: сначала из устья Рейна перевезти войска морем к рекам, пересекающим страну, и по ним решительно продвинуться в глубь вражеской территории. Необходимость сменить привычные дороги на морские и речные волны диктовалась также и нехваткой важнейшего транспортного средства человека вплоть до середины XIX столетия — лошадей. Галлия честно постаралась восполнить потери легионов Германика, но благородных животных, увы, не оказалось в должном количестве. И Германику предстояло подтвердить семейную традицию: отец его Друз первым из римлян успешно плавал по Океану (а из-за неудачного падения со смирной на вид лошадки погиб), сын же его, вторгнувшись в Германию с моря, должен был восстановить славу римского оружия на землях между Рейном и Альбисом.
Для успеха этой тщательно спланированной экспедиции «было сочтено достаточным соорудить тысячу судов, и вскоре они были готовы — одни короткие, с тупым носом и такой же кормой, но широкие посередине, чтобы лучше переносить волнение на море, другие — плоскодонные, чтобы могли без повреждения садиться на мели; у большинства кормила были прилажены и сзади, и спереди, чтобы, гребя то вперед, то назад, можно было причалить, где понадобится; многие суда с настланными палубами для перевозки метательных машин были вместе с тем пригодны и для того, чтобы перевозить на них лошадей или продовольствие; приспособленные для плавания под парусами и быстроходные на веслах, эти суда, несшие на себе умелых и опытных воинов, могли устрашить уже одним своим видом»
{62}.
Так выглядел римский флот, созданный по приказу отца Калигулы для вторжения в сердце Германии. Нельзя не отметить продуманность его строительства, кажется, были предусмотрены все возможные случаи, повороты событий. Очередное доказательство того, что в военном деле Рим достиг совершенства для своего времени. Но не стоит забывать, что на стороне его противников были и природные условия, и многочисленность варварских племен, и их яростное нежелание покориться римскому владычеству, каковое они почитали для себя постыднейшим рабством.
Римский флот, сосредоточившись сначала у острова Батавия близ устья Рейна, двинулся затем по Северному морю — Океану, как его именовали римляне, — к германским берегам, Германии. Германик тем временем предпринял два нападения на варваров с берегов Рейна. Сначала легат Силий совершил стремительный набег на племя хаттов, не принесший, правда, заметного успеха: было захвачено совсем немного добычи и пленных, среди которых — и это была главная удача — оказались жена и дочь хаттского вождя. Затем сам Германик с шестью легионами принудил неприятеля снять осаду с римского укрепления на реке Луппии (современная Липпе). Но большого ущерба германцам нанести не удалось. В первом случае легат Силий винил в этом внезапно разразившийся ливень, во втором германцы, узнав о приближении большого римского войска, сами прекратили осаду и отступили. В отместку варвары разметали могильный холм, насыпанный недавно римлянами над останками воинов Квинтилия Вара, и разрушили жертвенник, сооруженный в честь отца Германика Друза. Германик все же восстановил жертвенник и провел мимо него свои легионы торжественным маршем, воздавая почести славной памяти родителя. Главным же достижением похода стало сооружение новых пограничных валов и укреплений.
Когда флот достиг своей цели, римляне и германцы сошлись на берегах реки Визургий. Германику противостоял сам славный Арминий. Перед началом боевых действий вождь германцев пожелал встретиться со своим братом Флавом, служившим римлянам. Флав поступил на римскую службу в легион Тиберия, сражался под его знаменами и в одном из сражений потерял глаз. С разрешения римского полководца Флав встретился с братом. Арминий с притворным сочувствием поинтересовался, при каких обстоятельствах брат лишился глаза и как был за свое увечье вознагражден. Не уловив истинного смысла вопроса, Флав начал добросовестно перечислять полученные им от римлян воинские награды, и вот тогда Арминий резко оборвал его, издевательски заметив, что это низкая плата за рабство.
Именно нежелание покориться римлянам было основой высочайшего боевого духа германцев, возглавляемых Арминием. Если Германик перед битвой вдохновлял своих воинов напоминанием о славе римского оружия и победах на этой земле Друза и Тиберия, то Арминий был куда менее многословен. Он прежде всего напомнил соплеменникам, что перед ними те же самые римляне, что были и в легионах Вара, но главными в его речи были слова: «Вспомним о римской алчности, жестокости и надменности; есть ли у нас другой выход, как только отстоять свою независимость или погибнуть, не давшись в рабство!» Так, во всяком случае, передает его речь Тацит.
Битва состоялась на равнине, носившей название Идиставизо и расположенной между Изургием и высокими лесистыми холмами. У читателя, знакомого с романом Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», это название, конечно, вызовет в памяти беседу Понтия Пилата и Иешуа:
«— А вот, например, кентурион Марк, его прозвали Крысобоем, — он — добрый?
— Да, — ответил арестант, — он, правда, несчастливый человек. С тех пор как добрые люди изуродовали его, он стал жесток и черств. Интересно бы знать, кто его искалечил?
— Охотно могу сообщить это, — отозвался Пилат, — ибо я был свидетелем этого. Добрые люди бросались на него как собака на медведя. Германцы вцепились ему в шею, в руки, в ноги. Пехотный манипул попал в мешок, и если бы не врубилась с фланга кавалерийская турма (десятая часть алы — пятьдесят человек. —
И. К.), а командовал ею я, — тебе, философ, не пришлось бы разговаривать с Крысобоем. Это было в бою при Идиставизо, в Долине Дев».
Именно там, в Идиставизо, Долине Дев, кричал Пилат своим всадникам: «Руби их! Руби их! Великан Крысобой попался!»
Тяжелейшее многодневное сражение завершилось для римлян победно. Арминий, раненный в бою, утратил свою знаменитую стремительность. Об ожесточенности схватки свидетельствует и поведение самого Германика: он снял шлем с головы, чтобы легионеры легче узнавали его в своих рядах, и призывал воинов не щадить неприятеля, не прекращать битву до полного истребления вражеского племени — только это положит конец войне!
Истребить всех врагов римлянам не удалось, но успех достигнут был. Счастливый Германик, воздав славу победителям на воинской сходке после сражения, повелел сложить в груду захваченное вражеское оружие и установить памятную надпись: «Одолев народы между Рейном и Альбисом, войско Тиберия Цезаря посвятило этот памятник Марсу, Юпитеру и Августу»
{63}.
Торжество победы в Долине Дев вскоре было омрачено. За Германию вновь вступилась сама природа. Римский флот на обратном пути был застигнут свирепой бурей, из-за которой легионы понесли потери большие, чем в битве с неприятелем. Стихотворное описание разбушевавшейся стихии оставил один из участников этого похода — начальник конницы Альбинован Педон. Педон был не только доблестным воином, но и талантливым поэтом, входил в число друзей великого Овидия. На основании двадцати двух стихов его поэмы Публий Корнелий Тацит дал прозаическое, но тоже очень яркое описание этой грозной бури: «Сначала спокойствие морской глади нарушалось только движением тысячи кораблей, шедших на веслах или под парусами; но вскоре из клубящихся черных туч посыпался град; от налетевших со всех сторон вихрей поднялось беспорядочное волнение: пропала всякая видимость, и стало трудно управлять кораблями; перепуганные, не изведавшие превратностей моря воины или мешали морякам в их работе, или, помогая им несвоевременно и неумело, делали бесплодными усилия самых опытных кормчих. Затем и небом, и морем безраздельно завладел южный ветер, который, набравшись силы от влажных земель Германии, ее полноводных рек и проносящегося над нею нескончаемого потока туч и став еще свирепее от стужи близкого севера, подхватил корабли и раскидал их по открытому Океану или повлек к островам, опасным своими отвесными скалами или невидимыми мелями. Лишь с большим трудом удалось немного от них отойти, но, когда прилив сменился отливом, который понес корабли в ту же сторону, куда их относил ветер, стало невозможно держаться на якоре и вычерпывать беспрерывно врывавшуюся воду; тогда, чтобы облегчить корабли, протекавшие по бокам и захлестываемые волнами, стали выбрасывать в море лошадей, вьючный скот, снаряжение воинов и даже оружие»
{64}.
Погибло множество кораблей, остальные же были отброшены к островам (очевидно, Фризские острова Северного моря), где воины, лишенные припасов, погибли от голода. Корабль самого Германика благополучно причалил к берегу. Это была земля племени хавков, по счастью, не ожидавших такого подарка судьбы, а то бы ко всем прочим бедствиям римлян добавилось бы еще и пленение главнокомандующего. Сам полководец был в совершенном отчаянии, винил себя в случившемся и готов был броситься в морскую пучину, дабы погибнуть со своей армией, и приближенные с трудом смогли удержать его от рокового поступка.
После бури часть воинов удалось спасти, но все же потери были ужасны. Германцы возликовали, узнав о гибели римской армии в морской пучине. Поэтому, дабы нечаянная радость не привела к восстановлению воинственного пыла полчищ Арминия, Германик немедленно двинул за Рейн войска, в предыдущем походе не участвовавшие. Те, что уцелели в злосчастной морской экспедиции. Гай Силий с тридцатитрехтысячным войском напал на племя хаттов, сам же Германик в очередной раз обрушился на марсов.
Германцы, не успевшие восстановить свои силы, благоразумно предпочли в новый бой с римскими войсками не вступать. Римляне опустошили земли хаттов и марсов, перебили или пленили тех немногих, что не успели уйти в леса. Главным же успехом этого похода римлян за Рейн стало возвращение изображения орла, принадлежавшего некогда одному из погибших легионов Квинтилия Вара — еще одно искупление тевтобургского позора.
Поход этот трудно признать блистательным, но легионы были довольны, поскольку катастрофу на море они как бы уравновесили удачным вторжением в земли хаттов и марсов, а Германик в очередной раз проявил щедрость, раздав воинам большие денежные вознаграждения. Теперь войско стояло в зимних лагерях, наслаждаясь отдыхом после тяжких ратных трудов трех последних лет.
Тиберий, внимательно из Рима следивший за ходом событий на столь хорошо знакомом ему театре военных действий, оценив обстановку, решил военные действия на германской границе прекратить, а Германика вернуть в Рим. Здесь его ждал дарованный ему сенатом и любящим дядюшкой триумф. Германик попытался добиться от Тиберия разрешения на еще один год военных действий, но мудрый и многоопытный император от своего не отступил. Дабы утешить Германика, он второй раз пообещал ему консульскую должность, напомнив, что исполнять таковую должно в столице. Желая, очевидно, слегка уколоть строптивого пасынка за несвоевременное упрямство, Тиберий сообщил Германику, что если он считает продолжение войны неизбежным, то пусть предоставит возможность и Друзу покрыть себя славой, так как только в Германии тот может надеяться заслужить императорский титул и лавровый венок триумфатора.
Предложение Тиберия звучало весьма язвительно. Он намекал Германику, что из-за его воинственности у Рима в настоящее время есть опасная граница, где не прекращаются войны, тогда как во всех других пределах необъятной Империи царит мир… Указывая на возможность Друза заслужить те же высочайшие награды полководца, что недавно обрел сам Германик, Тиберий напомнил племяннику, что и триумф, и титул императора дарованы ему им, принцепсом, и вовсе не обязательно соответствуют действительным заслугам. Друз Младший, кстати, до этой поры славой полководца себя не покрыл, поэтому, говоря о возможности получения им высших регалий, Тиберий явно подвергал сомнению военные достижения Германика.
Окружение Германика, да и он сам, скорее всего, решение Тиберия объясняли завистью дядюшки к успехам племянника и пасынка. Дескать, Тиберий просто желает лишить победоносного полководца уже добытой им славы и тем более славы грядущей.
Думается, все это было не так. Тиберий не мог завидовать славе Германика. Чему, собственно, он должен был завидовать? Он, первым из римских полководцев награжденный триумфальными украшениями, наградой новой, не предоставлявшейся дотоле никому, присоединивший к Римской державе обширнейшие земли от Верхнего Рейна до Нижнего Дуная, от гор Адриатики до степей Паннонии, что сопоставимо разве что с завоеваниями Помпея и Цезаря, с братом своим Друзом, а затем и самостоятельно доводивший римские рубежи в Германии до берегов Альбиса (Эльбы), не говоря уже о подавленном им грандиозном иллиро-паннонском мятеже и восстановлении рейнской границы после гибели Вара, уже имел такую славу, такие военные заслуги, о которых Германику и мечтать не приходилось. Да и чего достиг Германик в трехлетней войне? Она ведь, строго говоря, вовсе не была фатальной. Конечно, мятежные и с величайшим трудом успокоенные рейнские легионы должно было вновь сплотить маленькой победоносной войной. Война же оказалась продолжительной, и ее конечная победоносность отнюдь не была лишена изъянов. Чудесное возвращение легионов Цецины из-за нерасторопности германских вождей и самонадеянности германских воинов, гибель целого войска в морской пучине — никак не запишешь в победный кадастр, пусть во втором случае и виновата стихия. Но в случае первом Германик проявил себя как скверный главнокомандующий, благополучно уведший свои личные войска, но подставивший под мечи и копья неприятеля сопутствовавшую ему в этом походе армию Цецины. Конечно, часть рейнской границы удалось еще более укрепить, острастку германцам он дал, но вернуть под римское владычество утраченные при Августе земли между Рейном и Эльбой не удалось. Реально граница осталась на прежнем месте, и продолжение войны ни малейшего смысла не имело, поскольку не сулило ни больших побед, ни особых приобретений. Тиберий, как никто другой в Римской империи, знал этот театр военных действий, потому едва ли справедливо подвергать сомнению правильность его решения отозвать Германика в Рим, а войну на Рейне и в германском пограничье прекратить. «Так как месть Рима свершилась, германские племена пусть теперь сами разбираются со своими собственными раздорами»
{65}, — гласил указ Тиберия.
История очень быстро доказала полную правоту Тиберия. Три года спустя злейший враг Рима, погубитель легионов Вара Арминий погиб в междоусобной войне. Рейнская граница стала прочной и вполне безопасной.
Теперь путь Германика и его семьи лежал в Рим. Вместе с родителями туда возвращался и пятилетний Гай. Возвращение славной семьи было в буквальном смысле слова триумфальным. 26 мая 17 года Юлий Цезарь Германик торжественно отметил триумф над «херусками, хаттами, ангривариями и другими народами, какие только обитают до реки Альбис»
{66}. Согласно традиции триумфальных шествий везли захваченную у германцев добычу, вели пленных, среди которых была жена злейшего врага Рима Арминия, державшая на руках своего маленького сына, родившегося уже в римском плену, несли специальные доски с надписями, перечислявшими победы Германика, картины, изображавшие сражения, леса, горы и реки Германии. Но все внимание восторженных римлян, десятки тысяч которых приветствовали триумфатора и его воинов, конечно же было приковано к колеснице, на которой находился сам Германик и пятеро его детей, среди них — и наш герой, пятилетний Калигула, рядом с ним — старшие братья Нерон Цезарь и Друз Цезарь, младшие сестры — Друзилла и Агриппина. Этот день представляется самым счастливым днем этой большой и достойной семьи. Позади тяжелые испытания, и вот она, величайшая награда, какую только может заслужить римский воин. Кто может предположить в такой славный миг, что впереди у семьи Германика и Агриппины одни только беды? Совсем немного лет впереди у Германика, побольше у Агриппины, но конец ее будет ужасен… Из пятерых детей одна дочь умрет от жестокой болезни во цвете лет, остальных же ждет смерть насильственная, не исключая и того, кому суждено будет достичь высшей власти в Риме и сменить на Палатинском холме ныне правящего императора Тиберия. Но пока все ликуют. Зрителей восхищает прекрасная внешность полководца-триумфатора: рослый, отменно сложенный, с красивым открытым лицом и располагающей улыбкой, да и о его высоких нравственных качествах всем тоже хорошо известно. Особый восторг конечно же вызывает вид пятерых очаровательных детей. Ну можно ли в такой миг быть более счастливым отцом? Счастливы и дети. Гай третий раз в жизни участвует в историческом событии. Но если в первых двух случаях он не осознавал их значимости, то сейчас, рядом с отцом, в окружении братьев и сестер, мальчик понимает величие происходящего и сохранит о нем память навсегда.
Торжественное возвращение Германика в Рим было увековечено на специальном барельефе, маленькая копия которого сохранилась в виде украшения ножен меча, обнаруженных много веков спустя близ современного года Майнца на берегу Рейна. На барельефе был изображен сидящий с обнаженным торсом Тиберий, которому стоящий рядом Германик передает лавры победителя; на заднем плане — бородатый бог войны Марс в шлеме, с копьем и щитом в руках и крылатый герой, также держащий щит и копье
{67}.
День триумфа — счастливый день, и никто не мог предположить, что совсем скоро подтвердится роковая истина: «Недолговечны и несчастливы любимцы римского народа»
{68}.
Глава II
«НЕДОЛГОВЕЧНЫ И НЕСЧАСТЛИВЫ
ЛЮБИМЦЫ РИМСКОГО НАРОДА»
Когда Тиберий, призывая Германика в Рим, извещал его, что на всех остальных рубежах Римской империи царят мир и спокойствие, он явно приукрашивал действительное положение. Провинция Африка в то самое время, когда римляне торжествовали победу над германцами, стала подвергаться жестоким грабительским набегам мятежного предводителя Такфарината. Этот нумидиец, подобно германцу Арминию, служил в римской армии, однако при первом удобном случае покинул ненавистную ему службу. В свободных от римского владычества нумидийских кочевьях к югу от провинции Африка, Такфаринат, используя приобретенный за время службы в римском войске немалый военный опыт, быстро собрал боеспособное войско и начал тревожить римские владения неожиданными и стремительными нападениями. Римляне, никак не ожидавшие такого поворота, не сумели быстро организовать отпор лихим конным отрядам нумидийского предводителя. Более того, успехи Такфарината вдохновили еще и вождя мавров (Мавретания занимала земли современных Западного Алжира и Северного Марокко) Мазуппу на набеги на римские владения. Тогда римляне отнеслись к происходящему всерьез и наместник Африки Марк Фурий Камилл, опираясь на силы подчиненного ему легиона и вспомогательных войск, быстро одержал победу над нумидийцами и маврами. В Риме доблесть Марка Фурия Камилла оценили высоко: он получил знаки отличия триумфатора.
На другом конце Империи, на Балканах, беспокойство римлян вызывали события в царстве Фракия (территория современной Болгарии), зависимом от Рима. Там после смерти покорного римлянам царя Реметалака, скончавшегося в том же году, что и божественный Август, правили два преемника: Котис, его сын, управлял землями к югу от Балканского хребта, примыкавшими к римским владениям в Македонии; Рескупорис, его брат, правил землями к северу от Балканских гор, которые граничили с римской провинцией Нижняя Мезия в Нижнем Подунавье. Рескупорис вскоре решил, что племяннику достались лучшие земли, и стал нападать на его владения. Вскоре дело дошло до открытой войны, в которой Рескупорис взял верх. Котис бесславно погиб, будучи врасплох застигнутым во время пира. Римлянам пришлось силой оружия наводить порядок во Фракии, и военные действия длились несколько лет.
Самой же сложной, пусть пока и не грозившей войной, была ситуация на Востоке. Здесь Рим имел опасного и непредсказуемого соседа — Парфию. Эта могущественная держава охватывала обширнейшие земли междуречья Тигра и Евфрата (современный Ирак), весь Иран, территорию современной Туркмении до Амударьи, южную часть Закавказья. При Августе Риму удалось заставить Парфию считаться с римским могуществом, но там никогда не забывали о славе тех, «кто умертвил Красса, изгнал Антония»
{69}. Камнем преткновения между двумя великими державами античного мира была Армения, иметь в которой преимущественное влияние жаждали и Рим, и Парфия.
Римляне впервые оказались на рубежах Армении в 66 году до н. э., когда известный полководец Лукулл, более знаменитый впоследствии своими изысканными пирами, нежели ратными подвигами, преследовал разбитые им войска царя Понта Митридата, чьим союзником был армянский царь Тигран Великий. Но Лукулл не сумел завоевать должного доверия у собственных легионов, которые, возможно и не без оснований, полагали, что их полководец присваивает себе львиную долю добычи, обделяя рядовых воинов. Солдатский бунт привел к тому, что в Риме народный трибун Манилий предложил передать командование восточными легионами Гнею Помпею Великому. Помпей добил Митридата и победил Тиграна Великого. С этого времени воздействие Рима на дела в Армении становится постоянным и временами очень настойчивым.
При Августе именно Тиберий возвел на армянский престол римского ставленника царя Тиграна, но тот не продержался долго. Затем Август дал армянам нового царя Артавазда, но и тот у власти задержался ненадолго. Еще один римский ставленник Ариобарзан оказался на армянском престоле, но и в этом случае фортуна не желала благоволить римлянам: он вскоре погиб от несчастного случая. Некоторое время Арменией правила царица Эрато, но и ее вскоре низложили. Наконец, на армянском престоле оказывается бывший парфянский царь Вонон, лишенный отеческого наследия своим более удачливым соперником Артабаном. Вынужденный бежать из Парфии, Вонон прибывает в тоскующую без царя Армению… Далее все просто: вот и достойный царь из великого рода Аршакидов, уже третье столетие царствующего в Парфии, а значит, и Армении подойдет. Более того, Вонон всегда был дружествен Риму… Последнее обстоятельство не понравилось, как это ни покажется странным на первый взгляд, римлянам.
Дело было в том, что Артабан, изгнавший соперника из парфянских пределов, менее всего желал видеть его на каком-либо ином царском троне, да еще и в качестве римского союзника. Если Вонон армянский царь, то Рим обязан защищать дружественного правителя в случае его войны с Артабаном. А Рим никакой войны с Парфией не желал. Потому римский наместник провинции Сирия, граничащей с Арменией на севере и с Парфией на востоке, отозвал Вонона к себе, лишив его царства, но оставив в утешение царский титул и возможность жить в роскоши, и на всякий случай окружил его надежной стражей. Вонон, таким образом, превратился из особы царствующей в особу царственную, в почетном плену содержащуюся. Ход, надо сказать, со стороны римского наместника блистательный. Парфия лишилась повода для вражды с Римом, а Армения вновь осталась без царя, что уже стало для нее делом привычным.
Тем временем настала череда перемен в мелких царствах Каппадокия и Коммагена, расположенных на востоке Малой Азии и по соседству с Месопотамией. Ушли из жизни правившие там цари Архелай Каппадокийский и Антиох Коммагенский. Умер и киликийский царь Филопатор. Если большая часть Киликии давно уже была под римским управлением, то Каппадокия и Коммагена считались самостоятельными царствами, пусть и покорными во всем Риму. Каппадокия немедленно была переведена в разряд римских провинций, и Тиберий, дабы римский народ немедленно оценил благо расширения пределов Империи, заявил, что доходы от новой провинции позволяют вдвое снизить налог с торгового оборота. В Коммагене же происходили волнения, связанные с тем, что часть населения не желала обращения ее в простую римскую провинцию, мечтая сохранить свое царство. Большинство, кстати, предпочитало римлян, не видя в этом особой беды, поскольку соседние народы жили под римским владычеством даже лучше подданных мелких царьков.
В это же время провинции Сирия и Иудея, рассудив, что с включением в состав римских владений новых земель доходы имперской казны возрастут, обратились к высшей власти с ходатайством о снижении поборов.
Столь непростая обстановка требовала от римлян особого внимания. Поэтому Тиберий и решает направить на Восток Германика, после своего триумфа второго человека в Империи. Такое положение Тиберий, можно сказать, подчеркнул, став коллегой Германика по консульству. Конечно, консул эпохи Империи — это очень почетно, но не более того, поскольку реальной власти он не имеет. При Республике консулы возглавили исполнительную власть в Риме. Но когда сам принцепс становится сотоварищем по консульству, это явно особое расположение. Так что отец Калигулы после своего триумфа достиг наивысшего положения в Империи, какое только было для него возможно. Не забудем и про императорский титул, также по инициативе Тиберия Германику дарованный. Так что на Восток отправлялся человек, бывший главной опорой правящего в Риме принцепса.
Направление Германика на Восток Тиберий обставил предельно торжественно и многозначительно. Описав в сенате все сложности, с которыми римская власть столкнулась в восточных провинциях, принцепс заявил, что только мудрость Германика может справиться со смутой на Востоке. При этом Тиберий сослался на свои преклонные лета, а о сыне своем Друзе сказал, что тот зрелых лет еще не достиг. Сенат вынес постановление, согласно которому Германик становился правителем всех заморских провинций Империи, при этом власть, какой он располагал, была большей, нежели та, которой обычно наделялись наместники провинций, назначенные по жребию сенатом или повелением императора. Таким образом, Германик, по сути, получил от Тиберия и сената неограниченные полномочия. И вот тут-то происходит самое интересное: поскольку Германику предстояло прежде всего сотрудничать с наместником главной провинции римского Востока — Сирии, то Тиберий неожиданно назначил нового человека, которому поручил управление этим важнейшим владением Рима в Восточном Средиземноморье. Кретик Силан, успешно правивший Сирией и столь блистательным ходом лишивший Парфию повода к обиде на Рим, когда выманил из Армении новопровозглашенного царя Вонона, был лишен своей должности. Новым римским наместником в Сирии стал Гней Пизон, до сих пор в искусстве управления совершенно себя не проявивший, зато имевший самую дурную славу человека неукротимого нрава, необузданного и неспособного к повиновению
{70}. Такой, по меньшей мере, странный выбор был безусловно многозначителен. Пусть Тиберий и не имел оснований сомневаться в честности и верности Германика, но он не мог забыть о том, как мятежные рейнские легионы пытались провозгласить его правителем Империи. Да, Германик доказал свою непоколебимую верность Тиберию, но где уверенность, что он устоит перед очередным соблазном?
Но не только возможная перемена настроений Германика могла тревожить Тиберия. Ведь рядом с Германиком была Агриппина, в отличие от мужа своего честолюбием и жаждой власти отнюдь не обделенная… О том, на что способна обуянная властными амбициями женщина, он знал вовсе не понаслышке: таковой была его собственная мать Ливия. Многие в Риме были убеждены, что именно ей Тиберий обязан сначала усыновлением, а затем и наследством Августа. Более того, Ливию и при принципате Тиберия продолжали считать особой могущественной и властной. Многие полагали, что, сумев передать власть в Империи своему старшему сыну, Ливия продолжала держать в своих руках власть фактическую
{71}. Для Агриппины, женщины никак не менее честолюбивой и властной, пример конечно же вдохновляющий. Тиберий поэтому не мог не опасаться, что горячо любимая супруга рано или поздно и в Германике пробудит властные амбиции. И когда легионы уже не на берегах Рейна, а на берегах Евфрата вдруг возжелают возвести любимого полководца в принцепсы Римской державы, он, поощряемый Агриппиной, может и не устоять. Потому Тиберий решил создать на Востоке для направляемого туда с огромными полномочиями Германика достаточно сильный противовес в лице Гнея Кальпурния Пизона и супруги его Планцины.
Дело в том, что Планцина испытывала самые недобрые чувства к Агриппине. Ни у кого не было сомнений в том, «что Августа, преследуя Агриппину женским соперничеством, восстановила против нее Планцину»
{72}. Правда, едва ли Публий Корнелий Тацит точен, сводя неприязнь между Ливией и Агриппиной к «женскому соперничеству». Женское начало здесь было ни при чем — старуха на середине восьмого десятка и тридцатилетняя женщина на этой почве друг другу не соперницы. Просто одна выдающаяся женщина мечтала сохранить высшую власть в Риме в руках сына и своих собственных и не желала, чтобы другая попыталась захватить ее для себя и своего мужа. Что до Планцины, то и она, похоже, была женщиной амбициозной и потому могла невзлюбить Агриппину, поскольку две семейные пары, волею Тиберия и, скажем прямо, Ливии Августы направленные на Восток, неизбежно оказывались в состоянии соперничества.
Соперничество Германика и Пизона подогревалось не только необычностью их положения на Востоке (Пизон — официальный наместник Сирии, командующий размещенными в ней легионами, Германик — «правитель всех заморских провинций», располагающий властью большей, нежели все наместники, чего ранее в практике управления в Империи не случалось), но и их политическими воззрениями.
Германик — законопослушный военачальник, новая форма правления не вызывает у него никакого осуждения, и он совершенно чужд каких-либо республиканских иллюзий. Гней Кальпурний Пизон был сыном убежденного республиканца, врага еще Гая Юлия Цезаря. Пизон Старший был известен тем, что «во время гражданской войны своею кипучей деятельностью немало помог в борьбе против Цезаря враждовавшей с ним партии, когда она снова поднялась в Африке»
{73}. Поэтому его следует считать соратником достойнейшего из республиканцев Марка Порция Катона Младшего, возглавившего в Северной Африке сопротивление сторонников Помпея Цезарю и покончившего с собой после того, как Цезарь разгромил в 46 году до н. э. помпеянцев в битве при Тапсе. Пизон не разделил судьбы Катона и в дальнейшем примкнул к Бруту и Кассию в их борьбе против Октавиана и Антония. Потому-то сыну Пизона Германик, как потомок этих двух заклятых врагов республики, мог быть вдвойне неприятен. Впоследствии, правда, Пизон Старший примирился с Августом, был им прощен, но упорно не желал принимать от него каких-либо государственных должностей и лишь после долгих уговоров снизошел до предложенной ему Августом должности консула. Борца за Республику одарили-таки должностью, высшей в республиканское время, но сугубо декоративной в эпоху
имперскую.
Пизон Младший, хотя и вел себя лояльно в отношении и Августа, и Тиберия, взгляды отца чтил и как погубителей Республики, так и тех, кто ныне правил Империей, в душе не жаловал. Он был одним из знатнейших сенаторов, жена его, Планцина, также была из весьма знатного рода. Дед ее Муна-ций Планк был знаменит тем, что основал в покоренной Галлии на берегу реки Родан (современная Рона) город Лугдун (современный Лион). Супруги были очень богаты, что вкупе со знатностью и республиканскими взглядами создавало почву для достаточно оппозиционных настроений. Пизон едва подчинялся Тиберию, а к сыну его Друзу вообще относился с пренебрежением. Тем более он готов был ставить себя выше племянника и пасынка Тиберия Германика, к сотрудничеству с которым теперь волею принцепса был принужден.
Тиберий и Ливия, конечно, все это знали, но у них были свои цели. Пизон и Германик не могли объединиться против правящего принцепса, а Планцина должна была противодействовать гордым замыслам Агриппины. Более того, зная об отношении к нему и его семье Пизона, Тиберий избавлялся в Риме от еще одного из пренеприятнейших для себя людей. Отбытие же Германика на Восток решало одну немаловажную для принцепса задачу: на Палатинском холме стали складываться две партии, делавшие ставки на будущее: одни видели вторым человеком Империи удачливого приемного сына Тиберия, другие возлагали надежды на родного сына императора. К чести и Германика и Друза, они жили в примерном согласии и появление неприятного для них соперничества в придворных кругах подчеркнуто не замечали. Друза, кстати, вскоре тоже отправили из Рима в провинции. Он был назначен в Иллирию, где недавно участвовал в умиротворении солдатского мятежа. Сыну Тиберия теперь надлежало освоиться с воинской службой и снискать расположение вверенных ему легионов.
На исходе осени 17 года Германик с семьей отправился в долгое путешествие на римский Восток. Для маленького Гая это было уже третье большое путешествие. Теперь пятилетний Калигула сопровождал отца в поездке, окончание которой стало роковым для Германика и его семьи. Но поначалу — никаких дурных предчувствий, предзнаменований. Корабль Германика из гавани Брундизия на Адриатическом море плывет на северо-восток к берегам Далмации. Юлий Цезарь Германик хотел повидать Друза Юлия Цезаря. Встреча братьев — родного и приемного сыновей Тиберия — прошла как всегда радостно. Никакие интриги Палатина не могли омрачить их подлинно братских отношений. Все казалось прекрасным в дни воистину братской встречи Германика и Друза. Только оказалась эта встреча последней. Больше им не суждено было встретиться.
Отбыв из Далмации к берегам Эллады, корабли Германика попали в жестокую морскую бурю и вынуждены были остановиться для починки в гавани городка, носившего победное название Никополь — город Ники, Победы. Так несколько десятилетий назад Август отметил главную победу в своей жизни — торжество над армией и флотом Антония и Клеопатры у мыса Акций. Основанный близ этих мест городок — римская колония с греческим названием — самим именем своим должен был напоминать потомкам о славных событиях прошлого.
Для Германика и его семьи посещение этих исторических мест было делом и очень важным, и делом очень непростым. Чувства, которые они там испытывали, были крайне противоречивы: «Там перед ними постоянно витали великие образы радости и скорби»
{74}. Действительно, если Августу Германик приходился лишь внучатым племянником, то Марку Антонию родным внуком. Для Агриппины Акций был местом торжества и ее деда Августа, и родного отца Агриппы. Германик постарался подробно рассказать сыну, в каких прославленных местах он находится и как минувшие грозные события предопределили судьбу и его предков, и его семьи, и, наконец, его самого. Гай жадно слушал рассказы отца. А рассказать было о чем… Вот перед глазами отца и сына вид на залив Амбракия, где соединились армия и флот Октавиана в надежде внезапно напасть на флот Антония.
А вот, говорил Германик, показывая маленькому Гаю на бронзовое изображение погонщика и его осла, место, где стоял шатер Октавиана. Именно здесь в канун битвы при Акции он, выйдя из шатра, встретил погонщика осла. Оказалось, что погонщик носит имя Евтих, что по-гречески значит Удачливый, а у осла кличка Никон — Победитель
{75}. Такую встречу и сам полководец, и его войско сочли счастливым предзнаменованием. Гай узнаёт, что главным помощником Октавиана в этой битве и настоящим творцом конечной победы стал его родной дед Марк Випсаний Агриппа. Германик показывает сыну и место лагеря его прадеда — злосчастного Марка Антония. Маленький Калигула не может не испытывать двойственных чувств. Ведь два его родных прадеда противостояли здесь друг другу. И поскольку дети далеко не всегда немедленно разделяют оценки родителей, а Германику явно все же ближе Август, то, возможно, Гай и проникается сочувствием к побежденному, движимый естественным чувством жалости. Впечатления раннего детства обычно очень сильны, и не они ли спустя два десятилетия скажутся на изумившем многих римлян решении принцепса Гая Юлия Цезаря Калигулы запретить праздновать победу при Акции и победу Октавиана на Сицилии над Секстом Помпеем? Обе эти победы, обеспечившие Октавиану единовластие, Калигула прямо назовет гибельными для римского народа
{76}. Значит, счастливым для Рима и его граждан Гай полагал бы успех Антония… Не отсюда ли и последующая нелюбовь Калигулы к памяти деда своего Агриппы? Может быть, не столько из-за его «безродности», как пишет Гай Светоний Транквилл
{77}, но прежде всего за решающую роль в торжестве Октавиана над Марком Антонием при Акции? Ведь все в Риме знали, что сам «второй Цезарь» никакими воинскими талантами не блистал, а успехами своими обязан полководческим дарованиям Агриппы, Друза Старшего, Тиберия. Агриппу Калигула даже не пожелает числить своим родным дедом. Он очень любит свою мать, но разве может она быть дочерью такого плохого отца? Взрослый Гай Цезарь сочинит легенду о том, что истинным отцом его матери был вовсе не обидчик Марка Антония безродный Агриппа, но сам Август… Принцепса Калигулу совсем не смутит кошмарный инцест отца и дочери, Августа и Юлии… Пусть так, зато он, Гай, настоящий Юлий без примеси каких-то там Випсаниев…
Но все это будет потом, спустя десятилетия. А сейчас отец и сын стоят рядом и всматриваются в простирающуюся перед ними гладь Актийской бухты. Германик показывает Гаю, где стояли друг против друга легионы его прадедов, как располагались флоты, подробно описывает ход знаменитого сражения, которое определило и нынешнее почетнейшее положение Германика, и будущее его пятилетнего сына. Божественный Август завещает высшую власть своим потомкам, но не всем обладание ею принесет счастье.
В Никополе, близ Акция Германика нагоняет приятная весть: он второй раз подряд становится консулом, а его коллега снова сам Тиберий, уже третий раз подряд сохраняющий за собой консульские регалии. Тем самым правящий император вновь подчеркнул свое особое расположение к пасынку
Из Никополя путь Германика и его семьи лежал в древние Афины. Человек высокообразованный, он, как и положено было знатному римлянину, свободно владел греческим языком и был поклонником великой эллинской культуры. Поэтому посещение великого города имело для него особое значение. Дабы высказать истинное почтение не только к славному прошлому, но и к нынешнему положению Афин как города союзного и дружественного Риму, Германик вступил в его пределы в сопровождении только одного ликтора. Это не только подчеркивало его скромность, но и означало величайшее доверие к обитателям великого города. Афиняне, как и следовало ожидать, приняли Германика и его семью восторженно, с изысканнейшими почестями. При этом для придания большей цены расточаемой ими лести греки непрерывно превозносили своих славных предков, их великие дела и знаменитые высказывания. Таким образом, они как бы включали и Германика в этот великий ряд. В порыве безудержных восхвалений гостя афиняне ухитрились даже сравнить его с Александром Великим, как бы забыв, что именно отец Александра царь Филипп лишил Афины и всю Элладу независимости, причем решающий удар по греческому войску в битве с македонянами при Херонее в 338 году до н. э. нанесла как раз конница, руководимая Александром. Впрочем, сравнение с Александром до невозможных высот поднимало значимость задач Германика на Востоке, что было уже чересчур и едва ли могло понравиться Тиберию, узнай он о таком славословии в адрес племянника. Был и еще один крайне неудачный момент в сопоставлении Германика с Александром Македонским. Отец Гая как раз вступал в тот возраст, который стал роковым для великого царя. Но Германик, как и подобает человеку умному и доброжелательному, снисходительно отнесся к эллинской льстивости. Пребывание в Афинах подвигло его не на стремление уподобиться великому покорителю Азии, а на занятия высоким литературным творчеством. Известно, что Германик пробовал себя в роли сочинителя комедий на греческом языке, а находясь в Афинах, он завершил стихотворный перевод поэмы «Феномены» Арата. Этим произведением он ставил себя в один ряд с такими великими мастерами слова, как Цицерон и Овидий, также авторов переводов в стихах «Феноменов».
Литературные труды Германика на двух языках не были необычным делом для представителя правящего в Империи рода. Известно, что и Тиберий пробовал себя в поэзии на греческом языке
{78}.
Из Афин Германик с семьей отплыл на остров Эвбею, расположенный к северу от берегов Аттики. И здесь маленький Гай мог услышать от отца увлекательнейший рассказ о великих событиях прошлого, в местах этих происходивших. Ведь именно от берегов Эвбеи из гавани Авлиды великое войско ахеян во главе с царем Микен Агамемноном на 1186 кораблях отплыло под Трою.
Следуя по пути флота Агамемнона, Германик на своих кораблях двинулся через Эгейское море. Но до того, как он прибыл к берегам древней Троады, ему пришлось сделать остановку на острове Лесбос. Здесь, на родине великой поэтессы Сапфо, он вновь стал отцом: Агриппина родила ему дочь Юлию, третью сестру маленького Гая. Юлия стала последним ребенком Германика и Агриппины. Далее путешествие Германика продолжилось в Мраморном море. Посетив Византий, он достиг выхода в Понт Эвксинский. При этом Германик не только наслаждался знакомством с древними и прославленными местами греческой истории, но проявил себя как человек истинно государственный. В посещаемых им провинциях он старался успокоить внутренние раздоры и защитить население от произвола должностных лиц.
Интересовали Германика и знаменитые священнодействия — мистерии, каковыми был знаменит остров Самофракия на севере Эгейского моря. Там сохранялся и поддерживался культ древнейших божеств Греции Кабиров, по свидетельству Геродота, восходивший к древнейшим обитателям этих мест пеласгам
{79}. Но ознакомиться со священными сказаниями пеласгов Германику не довелось, поскольку корабли его не смогли преодолеть сильнейшего северного ветра и подойти к заветному острову.
Зато удачной оказалась поездка в Илион — место, где стояла древняя Троя и где происходили самые знаменитые события Троянской войны. События эти каждому просвещенному римлянину были прекрасно известны, и детей своих с ними они знакомили с раннего детства. Потому нам нетрудно представить, как в то время, когда корабли Германика входили в залив, на берегу которого некогда высились стены Трои, он рассказывал маленькому Гаю, что вот так же некогда корабли Агамемнона приближались к троянскому берегу. Здесь их уже во всеоружии ожидало войско троянцев во главе с могучим Гектором, сыном царя Приама. Ахеяне знали, что, согласно предсказанию, первый, кто ступит на троянскую землю, непременно погибнет. Потому хитроумный Одиссей сначала бросил на берег свой щит и ловко прыгнул на него с корабля. Ахейский герой Протесилай не увидел щита Одиссея и потому не понял, что тот ступил не на землю троянцев, а на свой щит. Протесилай, решив, что он уже не будет первым воином, ступившим на троянский берег, отважно бросился с корабля на троянцев и был поражен тяжелым копьем могучего Гектора. Так пролилась первая кровь Троянской войны.
Германик с Гаем конечно же прошлись вдоль берега моря от гор Сикейона до гор Ройтейона, где был разбит лагерь ахейцев. Отец мог показать сыну, где разбили свои шатры непобедимый Ахилл и доблестный Аякс Теламонид, где стоял шатер самого Агамемнона, близ которого была площадь для собраний воинов. Симпатии римлян, разумеется, не могли быть на стороне ахеян, ведь предками их почитались троянцы. Великий Вергилий в своей поэме «Энеида» увековечил предание о том, как в роковую ночь гибели Трои троянцу Энею, сыну богини Венеры, во сне явилась тень погибшего в бою с Ахиллом Гектора. Тень героя повелела Энею вывести из Трои своего престарелого отца Анхиза и маленького сына Аскания Юла. Эней, повинуясь словам тени Гектора, набросил на себя львиную шкуру, посадил на плечи отца, который уже не мог идти сам, и взял за руку маленького Аскания Юла. Так начинались долгие странствия Энея, которые в конце концов завершились на земле Италии, предназначенной богом Аполлоном троянцам для основания нового города. Маленький Асканий Юл, сын Энея, внук богини Венеры, стал прародителем великого римского рода Юлиев, а значит, и предком Юлия Цезаря Германика и Гая Юлия Цезаря Калигулы. Так отец и сын почтили место, откуда начиналась история Рима и их славного рода. Они осмотрели все, что было достойно внимания как знак переменчивости судьбы и как памятник происхождения римлян
{80}.
Пребывание в этих прославленных местах вдохновило Германика на стихи, посвященные событиям далекой Троянской войны и написанные им и на латыни, и по-гречески. «Гектор, сын Марса, если позволят, чтобы речи мои достигли тебя, утешься в этой земле, твои потомки за тебя отомстили, твоя родина Илион снова ожила и стала известной, хотя и не столь храброй, но такой же дорогой Марсу; скажи Ахиллу, что все его мирмидоняне убиты и что Фессалия была порабощена славными потомками Энея»
{81}.
Эта надпись должна была быть выбита на могильном камне великого троянского героя. Сами строки Германика исключительно интересны с точки зрения восприятия римлянами событий седой древности в связи с делами дней настоящих: покорив Грецию, римляне отомстили за гибель Гектора; унижение покоренной Фессалии, откуда были родом воины народа мирмидонян, чьим повелителем был Ахилл, есть историческое отмщение погубителю сына Приама. И отмщение это коснулось всех мирмидонян — все они убиты, и земля их порабощена потомками Энея — римлянами.
Маленький Гай слушал и запоминал рассказы отца, цепкая детская память навсегда сохранила картину этих прославленных мест. И вновь нельзя не коснуться впечатлений детства Калигулы. Симпатии его как юного римлянина естественным образом должны были быть исключительно на стороне троянцев. Кто знает, может, он и оплакал судьбу героя Гектора, к могиле которого привел его отец, рассказавший ему о роковой схватке Гектора с Ахиллом, о том, как Приам вымаливал у Ахилла тело погибшего сына, о похоронах героя. Наверняка пояснил ему отец и смысл своих стихов, посвященных римскому отмщению за Гектора. Когда же он вскоре познакомился с текстом поэм Гомера, то явная симпатия великого аэда (сказителя) к врагам троянцев ахеянам не могла не огорчить его. Не потому ли впоследствии Калигуле приписывали помыслы уничтожить поэмы Гомера? Конечно, правитель Римской империи не мог опираться только на свои детские впечатления. Гай обрел себе в антигомеровских взглядах опору в творениях великого философа Платона, который не нашел Гомеру места в измышленном им идеальном государстве. Вот и приговаривал Калигула: почему Платон мог изгнать Гомера из устроенного им государства, а я не могу?
{82}
Из городка Илион, основанного римлянами близ развалин Трои в память о великих предках, Германик направился к святилищу бога Аполлона в Кларосе, где находился один из наиболее знаменитых оракулов. Путешествие заканчивалось. Далее путь Германика и его семьи лежал на Восток, где должно было решать те сложные дела, которые накопились в этих провинциях Империи. Римлянин не мог приступить к сколь-либо важному делу, не получив прорицания от богов. Прорицание было получено. Как и всякое подобное предсказание, оно излагалось иносказательно, дабы каждый нашел в нем что-либо понятное, а лучше всего — устраивающее. Бывали, конечно, и предсказания мрачные, вынуждавшие порой обратившихся к оракулу отказываться от намеченных дел. Разумеется, неизвестно, что гласило предсказание оракула Кларосского, но говорили, что Германику была возвещена преждевременная кончина
{83}. Если это прорицание не было придумано впоследствии, когда ранняя смерть настигла Германика, то дела свои на Востоке начинал он с тяжелым сердцем.
Тем временем на Восток ехал и Пизон со своей женой. Путь его во многом повторял путешествие Германика. Так, супруги посетили Афины, где незадолго до этого местное население восторженно чествовало Германика и его семью. Узнав о добром отношении афинян к племяннику Тиберия, Пизон проникся к ним откровенной неприязнью и не смог скрыть своего раздражения. Он обозвал жителей славной Аттики «сбродом племен и народов», заявив, что подлинные афиняне давным-давно истреблены многочисленными бедствиями. Припомнил он афинянам и злые деяния их предков: изгнание достойнейших людей, насилие над ними. Здесь речь могла идти об осуждении Мильтиада, победившего персов при Марафоне, об изгнании победителя при Саламине Фемистокла, о казни мудрого Сократа… Не забыл Пизон и неудачное противостояние Афин Македонии, переход на сторону царя Понта Митридата VI во время его войны с Римом, поддержку афинянами Антония против Августа. Впрочем, Публий Корнелий Тацит уточняет, что столь сильная нелюбовь Гнея Кальпурния Пизона к великому городу объяснялась еще и тем, что афинский суд, пренебрегая его заступничеством, не пожелал простить некоего Теофила, осужденного за подлог
{84}. Заступничество же за подобного человека Пизона отнюдь не красит и лишний раз свидетельствует о его невысоких нравственных качествах. Лишен был Пизон и чувства благодарности. Когда его корабль у берегов острова Родос приближался к кораблям Германика, то внезапно разразившаяся буря понесла его на скалы. Своевременно заметив бедствие, Германик выслал на помощь быстроходные триремы (корабли с тремя рядами весел), и корабль Пизона был спасен от гибели. Великодушие Германика, однако, Пизона не смягчило, а лишь усугубило его враждебность.
Пизон, удостоив Германика должной благодарности, быстро покинул его и вскоре достиг берегов Сирии, опередив корабли своего недруга. Встав во главе одной из важнейших и богатейших римских провинций, Пизон менее всего заботился о делах государственных и посвятил все свое время исключительно завоеванию популярности в размещенных в Сирии легионах. Это была одна из наиболее мощных группировок римской армии, состоявшая из четырех легионов, что, собственно, неудивительно, ибо за Евфратом лежали парфянские владения. Заботой римского наместника на Востоке должно было быть поддержание боеспособности сирийских легионов, поскольку здесь в любой момент могла разразиться большая война. Пизон сразу же показал, что вовсе не поддержание римского могущества на Востоке волнует его более всего. То, чем он занялся, нельзя назвать иначе как целенаправленным разрушением одной из наиболее боеспособных армий Римской империи: «Прибыв в Сирию и встав во главе легионов, щедрыми раздачами, заискиванием, потворством самым последним из рядовых воинов, смещая вместе с тем старых центурионов и требовательных трибунов и назначая на их места своих ставленников или тех, кто отличался наиболее дурным поведением, а также терпя праздность в лагере, распущенность в городах, бродяжничество и своеволие воинов в сельских местностях, он довел войско до такого всеобщего разложения, что получил от толпы прозвище «Отца легионов»»
{85}.
Прозвище скорее насмешливое, нежели почтительное. Но Пизону важнее всего было завоевать популярность любыми средствами, дабы противостоять Германику. Таким образом, совершенно очевидно, что намерение Тиберия, посылавшего на Восток двух антиподов — Германика и Пизона, не допустить чрезмерного усиления влияния своего пасынка совсем не пошло на пользу римской власти в этих важнейших владениях Рима. Система «сдерживания и противовесов» годится лишь тогда, когда первое лицо может непосредственно регулировать ее, постоянно контролируя все перипетии сложных взаимоотношений соперничающих приближенных. А поскольку Рим был весьма далек от Антиохии, главного города Сирии, то неприязнь двух соперников быстро стала приобретать характер, угрожающий не только для будущего их самих, но и для успешности римской восточной политики и, как мы видим, обороноспособности провинции Сирия.
В противостоянии с Германиком Пизону активное содействие оказывала и его жена, решившая доказать всем, что обладает не менее неукротимым нравом, нежели ненавистная ей Агриппина. Зная, насколько супруга Германика любима в войсках, Планцина, не соблюдая границ, отведенных римским общественным мнением для женщин, стала постоянно присутствовать на воинских учениях, беседовать с солдатами и их командирами. Она не жалела слов, понося Германика и Агриппину, расписывая их дурные стороны и, думается, превознося при этом достоинства своего супруга и свои собственные. В войсках стали ходить слухи, что поношение Германика и Агриппины угодно самому Тиберию, а не является только плодом личной вражды двух почтенных семейств. Понятное дело, людям сложно было представить, чтобы официальное лицо — наместник, получивший свое назначение от сената римского народа и с согласия правящего принцепса, мог так своевольничать и позволять столь возмутительные речи супруге просто из личной неприязни. Тем более что полномочия наместника были четко обозначены и абсолютно законны, а миссия Германика и его полномочия носили характер неопределенный, одному лишь Тиберию понятный. Отсюда и брожение умов в римском войске, охватившее даже тех, кого почитали как воинов добропорядочных. Иные из них, полагая, что таким образом угодят и самому императору в Риме, изъявляли готовность поучаствовать в кознях Планцины и ее так безгранично великодушного к легионам мужа. По сути, доблестный Гней и его неукротимая жена Планцина главным делом своим в Сирии сделали плетение заговора против Германика, упрямо не считаясь с его утвержденным римским сенатом статусом правителя всех заморских провинций Рима с властью большей, чем власть обычных наместников. Пусть даже статус этот был необычен и потому не всем понятен. Отсюда неизбежен вопрос: мог ли в действительности Тиберий подтолкнуть Пизона на открытое противодействие Германику? Оно ведь не ограничилось лишь словесным поношением и попытками настроить против пасынка принцепса некоторых военачальников. Пизон не выполнил приказа Германика перебросить часть легионов из Сирии в Армению. В Армении Германик улаживал важное государственное дело: на тамошнем царском престоле должно было утвердить сторонника Рима и потому дополнительные войска пришлись бы ко времени и к месту. Такое пренебрежение было вызовом не только Германику… Невозможно себе представить, чтобы Тиберий одобрил столь наглое неповиновение, могущее причинить вред державным интересам Рима на Востоке. Вся деятельность Тиберия говорит о том, что интересами империи он никогда не пренебрегал…
К чести Германика, с данным ему поручением уладить армянские дела к пользе Рима он успешно справился. Царем Армении вместо ненадежного Вонона был провозглашен Зенон, сын понтийского царя Полемена. Царство Понт, точнее небольшая часть былой державы Митридата VI Евпатора, трижды воевавшего с Римом, было совершенно покорно Риму и после того, как в 47 году до н. э. великий Гай Юлий Цезарь стремительным ударом разгромил тогдашнего понтийского царя Фарнака — об этом он и послал в Рим бессмертное сообщение:
«Veni, vidi, vici» («Пришел, увидел, победил»), — никогда больше не пыталось сопротивляться римлянам. Потому на верность Зенона римским интересам можно было вполне рассчитывать. В городе Артаксате, столице царства Армения, Германик при полном одобрении армянской знати в присутствии огромной толпы возложил на Зенона царскую диадему. Новый царь был наречен Артаксием — в честь города, где на него были возложены знаки царского достоинства.
Если в Армении возложение на Зенона — Артаксия царской диадемы означало укрепление в этом царстве римского влияния, то в бывшем царстве Каппадокия — центральная область восточной части Малой Азии, граничащая на северо-востоке с Арменией, на юге примыкающая к Киликии, а на востоке к Сирии, — Германик установил прямое римское провинциальное правление: новую провинцию возглавил легат Квинт Вераний. Над населением области Коммагена был поставлен правителем претор Квинт Сервий. Все эти деяния Германика, безусловно, укрепляли позиции Рима на Востоке, и как правитель Империи Тиберий должен был быть этим доволен. Деятельность же Пизона императорской похвалы совсем не заслуживала. Мало того, что он нагло не выполнил приказа Германика о переброске части войск в Армению, его покровительства удостоился тот самый Вонон, бежавший из Парфии и предшественником Пизона убранный из Армении, поскольку его вновь обретенные царские регалии крайне раздражали царя Парфии Артабана, ранее лишившего Вонона престола парфянского. Нового наместника Сирии Вонон расположил к себе многочисленными подарками его супруге Планцине. В Парфии покровительство Пизона и Планцины Вонону было воспринято как покровительство со стороны римской власти. А это грозило политическими осложнениями. Беда была в том, что потерявший два царства подряд Вонон совершенно не желал успокоиться и не оставлял надежд вновь обрести царскую власть. Потому он из своего убежища в римских владениях неустанно посылал людей в близлежащие области Парфянского царства, чтобы те подстрекали местных вождей к смуте против царя Артабана. Понятно, что покровительство римского наместника такому человеку выглядело одобрением его происков против правящего в Парфии царя. Царь Артабан, раздраженный неутомимостью амбициозного Вонона, проявил себя как незаурядный дипломат, отлично разобравшийся в ситуации, сложившейся в римских владениях на Востоке после прибытия туда Германика и Пизона. Свое посольство он направил как раз к Германику, и это был самый удачный ход. Парфянские послы напомнили о дружбе между Римом и Парфией согласно заключенному между двумя державами договору. Артабан предлагал в развитие дружеских отношений личную встречу с Германиком на берегу Евфрата, обещая воздать ему высокие почести. Единственно Артабан просил удалить Вонона из Сирии, дабы тот более не вел своей подстрекательской деятельности. Германик с достоинством принял посольство парфянского царя, добрыми словами отозвался о римско-парфянской дружбе, любезно и скромно отнесся к сообщению послов о возможной встрече с царем на пограничной реке Евфрат и обещании почестей при этом свидании. На главную просьбу Артабана Германик отреагировал с пониманием, и вскоре Вонон был удален из пограничной с парфянскими владениями Сирии в более отдаленную Киликию, в городок на Средиземном море, носивший имя Помпейополь, — название, данное ему в честь Помпея Великого, некогда и присоединившего к Риму эту малоазиатскую область. Что ж, помимо военного таланта Германик обладал и талантом дипломатическим и таковым тоже сумел послужить Риму.
Вонон, впрочем, и в Киликии не угомонился. Вскоре он бежал оттуда, намереваясь через Армению добраться до царства скифов. (Скифского царства в то время в Причерноморье уже не было, скифов в этих краях уже подчинили сарматы, но римляне и греки пока по-прежнему называли кочевников припонтийских степей скифами.) Вонон надеялся пробраться сначала в прикаспийские земли, где проживали народы альбаны и гениохи (территория современного Азербайджана), а затем, скорее всего через Каспийские ворота (современный Дербент), достичь северокавказских степей, где один из местных сарматских правителей был его родственником. Направившись как бы на охоту, Вонон укрылся в горных лесах, примыкавших к морскому побережью. Оттуда он поскакал к реке Пирам, но, как выяснилось, напрасно понадеялся на резвость своего коня. До вольных степей, где обитали родственные иранцам-парфянам иранские кочевники сарматы, Вонону не суждено было добраться. Римский центурион Ремий, которому поручили надзирать за Вононом в Киликии, не сумел предотвратить побег, но префект конницы Вибий Фронтон организовал погоню. Для начала он оповестил всю округу о бегстве бывшего царя, и это дало немедленный результат: верное римской власти местное население разрушило мосты через Пирам, а переправа вброд через бурную горную речку оказалась невозможной. На берегу Пирама Вонон и был схвачен римскими всадниками. Ремий, виновный в бегстве Вонона, как бы исправляя свою ошибку, немедленно пронзил злосчастного беглеца мечом. Столь поспешная расправа невольно навела всех на мысль, что доблестный воин поспешил покончить с Вононом, дабы тот не мог рассказать о действительных обстоятельствах своего побега, небескорыстным пособником какового как раз и мог быть Ремий. Но, как бы то ни было, смерть царя-неудачника была явно на пользу мирному развитию римско-парфянских отношений.
Приятные вести в те дни приходили к Тиберию не только с Востока, но и из Германии, с берегов Верхнего Дуная, где немалых успехов добился его родной сын Друз Младший. Внимательно изучив особенности взаимоотношений между германскими вождями и используя старинный римский девиз
«Divide et impera» («Разделяй и властвуй»), провозглашенный славными потомками Ромула еще в IV веке до н. э. во время завоевания Италии, Друз умело подстрекал извечных врагов Рима к междоусобным раздорам. Напомним, что внутригер-манские распри уже избавили Рим от злейшего и непобедимого врага — Арминия. На сей раз с помощью молодого предводителя племени готонов Катуальды удалось довести до полного краха царя маркоманов Маробода. Маробод, некогда грозный враг Рима, недавно, правда, сам оказал ему услугу, погубив Арминия. Теперь, разгромленный Катуальдой и утративший все свое могущество, он униженно просил убежища у римлян. Таковое ему охотно дали, поселив на севере Италии, в Равенне, на берегу Адриатики. Любопытно, что через некоторое время, потерпев поражение от вождя племени гермун-дуров, убежища у Рима попросил уже Катуальда. Его тоже охотно приняли и поселили в городе Форум Юлия (современный город Фрежюс на средиземноморском побережье Франции) в провинции Нарбоннская Галлия.
Что ж, оба сына Тиберия одинаково хорошо справились с порученными им непростыми делами. Поскольку действовали они в областях, весьма удаленных друг от друга, то зависти между ними не могло возникнуть и ничто не омрачало их подлинно братских отношений. Поскольку же в Риме известия об успехах Германика в Армении и Друза в Германии получены были одновременно, то сенат римского народа постановил предоставить триумф обоим. Понятно, что решение это было одобрено, если вообще не предложено самим Тиберием. Тиберий, кстати, и не скрывал своей радости, что мир на рубежах Империи, как на Западе, так и на Востоке, достигнут не мечом, но разумом. В том же году римлянам удалось без применения военной силы уладить дела и во Фракии. После тревог из-за мятежей легионов в правлении Тиберия наступила полоса значимых удач. Теперь братья должны были встретиться в Риме, где возле храма Марса Мстителя уже возвели две арки с изображениями обоих Цезарей — Германика и Друза. Но не суждено было Германику еще раз триумфально вступить в Вечный город, а Калигуле пришлось сопровождать в родную Италию лишь прах отца… Вражда Пизона и Германика завершилась трагически. Трагически для всех ее участников, но отец Гая стал первой ее жертвой.
Первая же встреча Германика и Пизона не только не ослабила взаимной неприязни, но даже больше того — разошлись они открытыми врагами. Германик все-таки принудил наместника Сирии принести извинения за ослушание, однако и в извинениях его звучали упорство и своеволие. В дальнейшем Пизон либо пренебрегал совещаниями, которые проходили под председательством Германика, либо сидел на них с полным равнодушием, всем видом выражал несогласие. Однажды он позволил себе и прямую дерзость. Союзный Риму царь народа набатеев (Набатейское царство находилось на северо-западе Аравии близ римских владений), прибыв в Антиохию, дал пир в честь римских властей Сирии. На пиршестве он царские почести воздал Германику и Агриппине. Главной римской чете на Востоке были предложены массивные золотые венки, прочим же знатным римлянам более легкие. Правитель Набатеи, разумеется, никакого дурного умысла не имел. Зная, что перед ним приемный сын владыки Римской державы со своей супругой, он, что совершенно естественно для монарха, воспринимал их как семью царственную и поступил в полном соответствии с этикетом. Странно было бы от царя требовать понимания сложностей римской политической ситуации. Собственно, римляне, на пиру присутствовавшие, особого значения этому и не придали, но только не Гней Кальпурний Пизон. Он оттолкнул предложенный ему золотой венок, громогласно заявил, что пир сей дается не в честь сына царя парфян, но в честь сына римского принцепса. К этой дерзости он добавил еще и гневную филиппику в осуждение недостойной истинных римлян роскоши, метя, разумеется, опять-таки в Германика. Тот молча стерпел это, стараясь избежать скандала на пиру, но празднество все равно было испорчено.
В конце 18 года Германик решил отправиться в Египет. Возможно, его утомила нелепая вражда с Пизоном, возможно, он хотел познакомиться со знаменитыми древностями этой некогда великой страны, а ныне римской провинции, а заодно произвести ее инспекцию, поскольку Рим зависел от поставок хлеба из Египта. Нет сомнений, что в путешествии этом Германика сопровождала его семья. Так на седьмом году жизни маленький Гай познакомился с удивительными памятниками истории одного из древнейших царств мира.
Знакомство с Египтом началось с Александрии, главного города этой страны со времени Александра Великого. Город, основанный македонским царем и ставший столицей эллинистической монархии Птолемеев, потомков славного соратника непобедимого царя Птолемея Лага, был городом греческой культуры, и Германик вел себя в нем столь же скромно, как и в Афинах. Он ходил без охраны, что, учитывая нахождение при нем жены и малолетнего Калигулы, было выражением особого доверия к александрийцам. Даже в одежде он решил следовать местным обычаям и сменил римскую тогу на легкий греческий плащ, а сапожки на открытые греческие сандалии. В этом он невольно, а может быть и сознательно, уподобился славному победителю Ганнибала Публию Корнелию Сципиону Африканскому. Того в свое время римские сенаторы упрекали за то, что, находясь в греческих городах Сицилии, он ведет себя не по-римски и даже не по-военному: «разгуливает в греческом плаще и сандалиях по гимнасию (площадке для гимнастических упражнений. —
И. К.), занимается упражнениями и книжонками»
{86}. Впрочем, и греки, и потомки древних египтян имели все основания радоваться приезду Германика: изучив состояние хлебной торговли в Египте, он распорядился открыть для внутренних потребностей провинции государственные хлебные склады, что позволило, к радости всего населения, снизить цены на хлеб.
Из Александрии путь Германика лежал вверх по Нилу. Сначала он посетил город Канопу, согласно преданию основанный спартанцами в память корабельного кормчего Канопа, умершего здесь, когда корабли царя Спарты Менелая возвращались в Грецию из-под Трои и были бурей отброшены к египетским берегам. Конечно же Германик рассказывает это предание сыну, и маленький Гай вновь сталкивается с миром героев Гомера. А ранее, в Александрии, он видел гробницу величайшего завоевателя Александра Македонского, и наверняка Германик с сыном посетили могилы Антония и Клеопатры, похороненных рядом согласно их желанию, каковое не решился не исполнить их погубитель Октавиан. Гай стоит у могилы прадеда и узнает печальные подробности последних месяцев его бурной жизни. В начале путешествия на Восток, у Акция он видел места, откуда бежал Антоний вслед за Клеопатрой, а ныне стоит у последнего его прибежища. Александрия навсегда запомнилась Калигуле. Может, потому, как сообщает Светоний, он даже собирался переселиться туда из Рима, что означало бы, кстати, перенос столицы Империи
{87}. И образ Александра Великого поразил воображение Гая, и позже, уже став принцепсом, он велел извлечь из гробницы его панцирь и любил в него облачаться, как повествует Светоний?
Продолжив путешествие вверх по Нилу, Германик оказался у величественных развалин древней египетской столицы, которую эллины на свой лад именовали, как и столицу Беотии, Фивами. Здесь Калигула мог вместе с отцом наблюдать главнейшее из чудес Египта — статую Мемнона, издававшую, когда ее коснутся солнечные лучи, громкий звук, похожий на человеческий голос.
На обрушившихся громадах зданий древней египетской столицы времен Среднего и Нового царств отец и сын увидели древние письмена египтян. Старейший из жрецов по приказанию Германика перевел их римским гостям, и они узнали, что надпись эта была сделана по повелению грозного фараона Рамсеса. Среди чудес, увиденных Калигулой в Египте, были, конечно, и пирамиды, и знаменитое озеро Мерида в Фаюмском оазисе. Поездка завершилась в пограничных римских укреплениях Элефантина и Сиена.
Но возвращение из этого замечательного и познавательного путешествия оказалось для Германика малоприятным. Тиберий был крайне недоволен пребыванием приемного сына в Египте. В своем послании правящий император попенял Германику за его увлечение греческой одеждой и образом жизни, но вот за отъезд в Александрию Тиберий отчитал суровейшим образом. Дело было в том, что Германик действительно преступил запрет Августа, согласно которому римские сенаторы и виднейшие из всадников не имели права посещать Египет, не испросив разрешения у принцепса. Египет стал первой римской провинцией, к управлению которой сенат даже формально не имел отношения: он управлялся людьми, прямо назначаемыми принцепсом, ибо Египет был его личным владением. Из своеволия Германика Тиберий мог сделать вывод, что он уже не считает себя обязанным спрашивать на что-либо разрешения принцепса. А такая непокорность могла иметь далеко идущие последствия, если учесть к тому же присутствие рядом с Германиком неукротимой Агриппины. Наверное, Германик забыл или просто не знал о запрете Августа, который Тиберий оставил действительным и в свое правление. Сознательно против воли Тиберия Германик никогда не шел и теперь смиренно принял гнев принцепса. К чести Тиберия, он не стал придавать своей обиде на пасынка публичный характер, и недоразумение было исчерпано. В Сирию Германик направился при прежних своих высоких полномочиях.
Однако возвращение доброго расположения Тиберия к Германику никак не могло отразиться на крайнем нерасположении к нему Пизона. По дороге из Александрии в Антиохию Германик, к негодованию своему, узнал, что дерзость и своеволие Пизона перешли все границы: его распоряжения, касавшиеся военных дел и управления городами провинции, были либо отменены, либо заменены противоположными. Как говорится, бойся гнева доброго человека. Германик менее всего был склонен к злобе, но, встретив такое возмутительное противодействие Пизона, обрушил на него самые тяжкие упреки. Надо сказать, что острота ситуации подогревалась и правовым тупиком в отношениях между пасынком принцепса и наместником Сирии. Да, сенат по требованию Тиберия принял постановление, согласно которому Германик в любых заморских провинциях располагал большей властью, чем тамошние наместники. Но не было прямо оговорено, что распоряжения его отменяют распоряжения местных властей. Наместника Сирии, утвержденного тем же сенатом, его полномочий в делах военных и гражданских никто не лишал, легионы по-прежнему подчинялись ему. Кроме того, миссия Германика носила характер временный, пусть и не ограниченный точным сроком, а Пизон был назначен наместником надолго. Все эти противоречия и питали дерзость Пизона.
Наконец, почувствовав тщетность противостояния тому, кто обладает статусом сына правящего Цезаря и сам Цезарь по имени, Пизон решается покинуть провинцию, что само по себе тоже случай беспрецедентный, ибо никто из Сирии его не отзывал, и не мог Тиберий и послушный ему сенат одобрить такие действия одного из глав римской власти на Востоке. Отъезд, однако, не состоялся, поскольку Пизон узнал о болезни Германика. Болезни серьезной, могущей иметь роковой исход. Вскоре, правда, Германику стало лучше, и радостные жители Антиохии организовали праздничное торжество с жертвоприношением множества животных в благодарность богам за выздоровление своего любимца. Большое праздничное жертвоприношение, так называемая гекатомба, не состоялось. Пользуясь данной ему властью и располагая вооруженной силой, Пизон приказал своим ликторам разогнать и животных, обреченных на заклание, и тех, кто должен был принести их в жертву богам, и всю ликующую толпу, собравшуюся на праздничное торжество. После этого Пизон перебирается из Антиохии в Селевкию, где намерен дождаться известий о развязке. Как понимать действия Пизона? Он просто осведомлен, что болезнь Германика смертельна, или же знает: тот отравлен и конец его неизбежен?
Сам Германик причину своей болезни видит в яде, который ему подсыпали по поручению Пизона. Виновницей своей гибельной болезни он считает также и жену наместника Планцину. Трудно счесть подозрения Германика простой мнительностью тяжело больного человека:
«Действительно, в доме Германика не раз находили на полу и на стенах извлеченные из могил остатки человеческих трупов, начертанные на свинцовых табличках заговоры и заклятия и тут же — имя Германика, полуобгоревший прах, сочащийся гноем, и другие орудия ведовства, посредством которых, как считают, души людские препоручаются богам преисподней. И тех, кто приходил от Пизона, обвиняли в том, что они являются лишь затем, чтобы выведать, стало ли Германику хуже»
{88}.
Германик, дабы прямо указать всем на своего погубителя, написал письмо, в котором отказывал во всяком доверии наместнику Сирии. Потом многие, кто знал о содержании письма, утверждали, что Германик предписал Пизону немедленно покинуть вверенную ему провинцию. Думается, это скорее толкование письма. Германик не имел полномочий высылать наместника, но сам отказ в доверии, исключавший всякое сотрудничество Пизона с приемным сыном правящего принцепса, делал невозможным его дальнейшее пребывание в Сирии. Понимая это, Пизон отплыл от сирийских берегов, но корабли его не спешили удаляться от покинутой провинции, поскольку наместник не сомневался в скорой кончине Германика.
Покуда Пизон совершал свое неспешное плавание, Германику становилось все хуже. Предчувствуя скорую кончину, он обратился к тем, кто находился близ него, с прощальной речью: «Если бы я уходил из жизни по велению рока, то и тогда были бы справедливы мои жалобы на богов, преждевременной кончиной похищающих меня еще совсем молодым у моих родных, у детей, у отчизны; но меня злодейски погубили Пизон и Планцина, и я хочу запечатлеть в ваших сердцах мою последнюю просьбу: сообщите отцу и брату, какими горестями терзаемый, какими кознями окруженный я закончил мою несчастливую жизнь еще худшею смертью. Все, кого связывали со мною возлагаемые на меня упования, или кровные узы, или даже зависть ко мне живому, все они будут скорбеть обо мне, о том, что, дотоле цветущий, пережив превратности стольких войн, я пал от коварства женщины. Вам предстоит подать в сенат жалобу, воззвать к правосудию. Ведь первейший долг дружбы — не в том, чтобы проводить прах умершего бесплодными сетованиями, а в том, чтобы помнить, чего он хотел, выполнить то, что он поручил. Будут скорбеть о Герма-нике и люди незнакомые, но вы за него отомстите, если питали преданность к нему, а не к его высокому положению. Покажите римскому народу мою жену, внучку божественного Августа, назовите ему моих шестерых детей. И сочувствие будет на стороне обвиняющих, и люди не поверят и не простят тем, кто станет лживо ссылаться на какие-то преступные поручения»
{89}.
Прощальные слова Германика были глубоко продуманы. Он прямо указал на своих убийц, при этом особо выделив Планцину: «Пал от коварства женщины!» Друзьям и соратникам он поручил мщение, но мщение вполне законное — через обращение в сенат. Германик при этом отвергал ходившие грязные слухи, что якобы сам Тиберий стоит за Пизоном и Планциной, и выражал уверенность, что попытки его отравителей представить свои действия как исполнение некоего поручения от высшего лица, будут отвергнуты судом и общественным мнением. Свидетели последних часов Германика должны были рассказать правду о его кончине Тиберию и Друзу, дабы правитель Империи и его сын — отец и брат, как их именовал умирающий, — не могли усомниться, что она следствие злодеяния. Друзья Германика дали клятву, коснувшись его руки, что месть его погубителям свершится неотвратимо.
Отдельно Германик обратился к Агриппине. Догадываясь, очевидно, что случаи недоверия к нему Тиберия связаны с проявлениями неукротимого нрава его супруги, ее честолюбивыми устремлениями, умирающий просил жену по возвращении в Рим не раздражать сильных, соревнуясь с ними в могуществе. Он надеялся, что Агриппина сумеет поладить с Тиберием и, главное, с Ливией Августой.
Смерть Германика вызвала великую скорбь. «В день, когда он умер, люди осыпали камнями храмы, опрокидывали алтари богов, некоторые швыряли на улицу домашних ларов, некоторые подкидывали новорожденных детей. Даже варвары, говорят, которые воевали между собою или с нами, прекратили войну, словно объединенные общим и близким каждому горем: некоторые князья отпустили себе бороду и обрили головы женам в знак величайшей скорби; и сам царь царей отказался от охот и пиров с вельможами, что у парфян служит знаком траура. А в Риме народ, подавленный и удрученный первой вестью о его болезни, ждал и ждал новых гонцов; и когда уже вечером неизвестные с факелами и жертвенными животными ринулись на Капитолий и едва не сорвали двери храма в жажде скорее выполнить обеты, сам Тиберий был разбужен среди ночи ликующим пением, слышным со всех сторон: «Жив, здоров, спасен Германик: Рим спасен и мир спасен!»
Когда же, наконец, стало известно, что его уже нет, то никакие увещания, никакие указы не могли сдержать народное горе, и плач о нем продолжался в декабрьские праздники. Славу умершего и сожаление о нем усугубили ужасы последующих лет, и всем не без основания казалось, что прорвавшаяся вскоре свирепость Тиберия сдерживалась дотоле лишь уважением к Германику и страхом перед ним»
{90}.
Об удивительной любви народа к Германику и потому столь всенародном горе свидетельствуют просто яростные проявления гнева людей на богов, допустивших гибель всеобщего любимца. Напомним, что в Риме богов полагалось почитать, но любить их было вовсе не обязательно. Римляне в отношении богов были предельно прагматичны и жертвы им приносили с совершенно определенными целями: боги должны дать за жертву то, что у них просят: знаменитый принцип
«Do ut des» («Даю, чтобы ты дал»). Богам, кстати, доставались буквально «рожки да ножки» жертв, ибо жертвенное мясо съедали сами люди. А вот если боги не оправдывали надежд жертвователей, то им можно было потом раз-другой в дарах и отказать, проучить за необязательность. Вот потому, скорбя о Германике, римляне и швыряли камни в храмы, где обитали боги, не уберегшие народного любимца, сокрушали их алтари. Когда же вдруг пришла весть, даровавшая надежду, то жаждущих возблагодарить богов жертвоприношениями оказалось столько, что знаменитый храм Юпитера Капитолийского едва не остался без дверей.
Об особой скорби по Германику говорит и то, что народ предавался горю даже в дни, когда римляне привыкли только веселиться — в декабрьский праздник Сатурналий. По традиции целую неделю после 17 декабря в Риме проходили народные гулянья, когда как бы воскресал золотой век всеобщего равенства и процветания. В эти дни даже рабов хозяева сажали с собой за стол и обходились как с равными. Невозможно припомнить случая, когда в дни Сатурналий римляне предпочли бы скорбь веселью… Значит, действительно великой была любовь народа к Германику.
В Антиохии, где любимец народа скончался, тело его сожгли на погребальном костре. Обряд был очень простым, ибо слава Германика, его добродетели, известные всем, не нуждались во внешней пышности. Скромность обряда только оттеняла подлинное величие ушедшего из жизни.
В великом горе пребывала Агриппина, смерть отца стала величайшим несчастьем для маленького Гая, тем более что произошла она у него на глазах, и мальчик был уже в состоянии понять, что родитель его стал жертвой чудовищного коварства врагов, к которым при жизни был слишком милосерден. Первый рубец на детском сердце и первый беспощадный урок человеческих взаимоотношений. Рядом с матерью, прижимающей к груди урну с прахом Германика, Калигула восходит на борт корабля. Рядом и маленькая сестра его Юлия. Несчастная семья направляется в Рим, где в усыпальнице предков должно захоронить останки славного представителя великого рода Юлиев. Маленький Гай, путешествуя с отцом, повидал немало мест, где происходили великие исторические трагедии, в том числе и с его предками. Теперь он очевидец трагедии своей семьи и переживает ни с чем не сравнимое горе потери самого дорогого человека — отца. С ним рядом мать, «нетерпимая ко всему, что могло бы задержать мщение», и одновременно «не уверенная, удастся ли ей отомстить, страшащаяся за себя и подверженная стольким угрозам судьбы в своей многодетности»
{91}.
Пока Агриппина с сыном и дочерью сопровождает прах Германика из Сирии в Италию, предполагаемый погубитель ее мужа узнаёт о происшедшем в Антиохии, что наверняка не стало для него неожиданностью. Пизон, застигнутый вестью о смерти Германика у берегов острова Кос, не желает скрывать своих чувств: он посещает храмы и приносит богам благодарственные жертвоприношения. Планцина, носившая траур по своей сестре, немедленно снимает его и облачается в нарядные одежды.
Надо сказать, такое недостойное поведение выглядело и вызовом Тиберию. Ведь Пизон и Планцина ликовали по поводу смерти его приемного сына. Сына, отнюдь не утратившего доверие отца, но, наоборот, облеченного высочайшим доверием принцепса и сената. Подобная дерзость наместника может быть объяснима не только крайней ненавистью к Германику, заставлявшей забыть о приличиях и необходимой осторожности, но и уверенностью в высоком покровительстве…
Тем временем в окружении Пизона мнения о дальнейших действиях покинувшего назначенную ему провинцию, но отнюдь не отстраненного на законном основании наместника резко разошлись. Марк Кальпурний Пизон благоразумно советует отцу поспешать в Рим: ведь пока никаких обвинений против него не выдвинуто, а досужая болтовня недругов отнюдь не повод для Тиберия покарать его. Марк справедливо напоминает, что в Сирии, как стало известно, обязанности наместника и командующего легионами принял на себя Гней Сенций и попытка Пизона вернуть себе властные полномочия в Сирии непременно вызовет гражданскую войну, что будет иметь для него самые печальные последствия, поскольку имя Германика в легионах любимо, а действия бывшего наместника могут быть восприняты как выступление и против верховной власти. Но Пизон оказывается чужд благоразумию. Совету сына он предпочитает советы своего друга Домиция Целера. Тот убеждал, что по закону Пизон все еще наместник и никто не отнимал у него ни фасций — знаков его власти, ни преторских полномочий для управления провинцией, ни командования легионами, в ней размещенными. А вот возвращение в Рим Целер полагает для Пизона как раз погибельным: «Или мы поторопимся, чтобы причалить одновременно с прахом Германика, чтобы и тебя, Пизон, невыслушанного и не имевшего возможности отвести от себя обвинение, погубили при первом же твоем появлении рыдания Агриппины и невежественная толпа? Августа — твоя сообщница, цезарь благоволит к тебе, но негласно; и громче всех оплакивают смерть Германика те, кто наиболее обрадован ею»
{92}.
Главное в словах Домиция Целера — прямое объявление Ливии Августы, матери правящего принцепса, сообщницей в убийстве Германика. Тиберию Целер приписывает только негласное благоволение к Пизону. Престарелая Августа оставалась фигурой зловещей. Полагали, что она способна на любое злодеяние. Многие даже смерть Августа считали следствием ее козней, поскольку она опасалась, что тот склонен передать власть не сыну ее Тиберию, а внуку своему Агриппе Постуму
{93}. А уж о роли ее в убийстве самого Агриппы Постума и говорить не приходится… Ливия недолюбливала Германика, ненавидела Агриппину. Если в честолюбии и гордости две эти выдающиеся женщины были равны, то в склонности к интригам и в коварстве Ливия, само собой, соперниц не имела. Именно поэтому, подозревая Агриппину в стремлении свершить для Германика то, что она сумела сделать для Тиберия, Ливия вполне могла подвигнуть Пизона, используя при этом и свое влияние на Планцину, также отнюдь не лишенную честолюбия и коварства, на устранение Германика. И дабы Пизон и Планцина решились на преступление, она могла дать им понять, что сам Тиберий к новому наместнику Сирии расположен, но по понятным причинам расположения этого открыто не обнаруживает.
Чтобы сохранить доверие принцепса, Пизон отсылает ему послание, в котором обвиняет Германика в высокомерии и чрезмерной роскоши, а свой отъезд из Сирии объясняет его желанием устранить того, кто мог помешать ему в совершении государственного переворота… Теперь же, когда переворот естественным образом предотвращен, Пизон готов вновь принять на себя свои законные обязанности по управлению провинцией. Принцепс, конечно, не был лишен мнительности и подозрительности, но принять обвинение в замысле государственного переворота лишь на основании ничем не подкрепленных слов Пизона — это уж слишком. От одобрения его действий воздержалась и главная сообщница и вдохновительница устранения Германика Ливия Августа.
Плохо представлявший себе, что происходит в Риме, Пизон тем временем с упорством, явно достойным лучшего применения, пытался вернуть себе наместническую власть в Сирии, чем и вызвал гражданскую войну. Пусть и в масштабах незначительных, без особого кровопролития и опасности государственному строю и власти действующего принцепса не несущую, но все-таки войну. Впервые со времен противостояния Октавиана и Антония римляне сразились с римлянами.
Пизону удалось занять сильную крепость в Киликии Келендрий. Оттуда Пизон и начал открытую вооруженную борьбу за возвращение себе наместничества в Сирии, но для достижения успеха сил у него оказалось явно недостаточно. Действительный, пусть и не совсем законный наместник Сирии Сенций двинул на Пизона настоящие боевые воинские отряды, против которых наспех собранное и разношерстное воинство Пизона оказалось бессильно. Провалилась и попытка Пизона привлечь на свою сторону флот, находившийся у киликийского побережья. Поняв тщету сопротивления, Пизон попытался уговорить Сенция дозволить ему после сдачи оружия остаться в крепости Келендрий и там дождаться указания Тиберия, кому же быть наместником Сирии. Сенций, разумеется, отказал Пизону и лишь предоставил ему корабли для возвращения в Рим, где бывшему наместнику предстояло уже оправдываться в связи с обвинением в отравлении Германика: ведь Сенций уже отправил в Рим некую Мартину, любимицу Планцины, имевшую в Сирии известность мастерицы изготавливать яды.
Тем временем Агриппина с детьми возвратилась в Италию. В гавани Брундизия ее встретила огромная толпа людей, глубоко скорбящих о несчастной судьбе Германика. Агриппина, держа в руках погребальную урну с прахом супруга, в сопровождении Гая и Юлии сошла на берег. В толпе, встречавшей ее, тут же раздался общий стон. «Встречающие превосходили в выражении своего еще свежего горя измученных длительной скорбью спутников Агриппины»
{94}.
Агриппина и ее спутники в сопровождении двух преторианских когорт, присланных Тиберием для воздания последних почестей Германику, прошествовали через всю Италию к Риму, где состоялось торжественное захоронение урны с прахом приемного сына Тиберия в гробнице Августа. В похоронах участвовали консулы и сенат, Друз, глубоко скорбевший о судьбе брата, и младший брат Германика Клавдий. Всем, однако, бросилось в глаза отсутствие на похоронах самого Тиберия, Ливии Августы и матери Германика Антонии. Всеобщая скорбь по Германику, охватившая Рим, отозвалась в народе вспышкой любви к Агриппине: «…люди называли ее украшением родины, единственной, в ком течет кровь Августа, непревзойденным образцом древних нравов и, обратившись к небу и богам, молили их сохранить в неприкосновенности ее отпрысков и о том, чтобы они пережили своих недоброжелателей»
{95}.
Всенародной была не только скорбь по Германику и любовь к Агриппине, но и жажда отмщения. Виновник убийства, а в том, что Германик был отравлен, никто не сомневался, должен был понести заслуженную кару. В виновности Пизона и Планцины сомнений почти ни у кого не было, но народная молва, как известно, во все времена не способна удержаться в рамках здравомыслия. Некоторые стали обвинять в содействии убийству, которое пока и доказано не было, самого Тиберия. В городе стали появляться крамольные надписи, обвинявшие принцепса в злодеянии, по ночам на римских улицах раздавались крики, к императору обращенные: «Отдай Германика!»
{96}
Это не могло не беспокоить Тиберия. Впрочем, и для недовольства действиями Гнея Кальпурния Пизона у него тоже было достаточно оснований. Потому Тиберий без особых колебаний решился на суд над Пизоном, но при этом решил скрупулезно соблюсти законность: все обвинения должны быть доказаны, а тот, кого молва уже провозгласила преступником, — иметь возможность для оправдания.
«Audiatur et altera pars» («Должна быть выслушана и другая сторона») — этот замечательный принцип римского правосудия был строго соблюден Тиберием в деле обвинения Гнея Кальпурния Пизона в убийстве Юлия Цезаря Германика.
Пизон, прекрасно понимая степень нависшей над ним опасности, в Рим не спешил, а сначала послал в столицу сына Марка. Тиберий радушно принял молодого Пизона и щедро одарил его, как было принято одаривать сыновей столь знатных отцов, но никаких обещаний проявить великодушие к Пизо-ну-старшему не дал. Так что ход Пизона себя не оправдал.
В Рим Пизон и Планцина прибыли, всем своим видом выказывая полнейшее спокойствие. Вероятно, таким образом супруги хотели продемонстрировать свою невиновность и уверенность в благоприятном исходе их дела, но сумели только распалить в народе ненависть к себе.
А дело их тем временем принимало самый серьезный оборот Тиберий, хотя его и просили взять на себя расследование, предпочел отказаться и передать дело сенату. Тем самым он продемонстрировал свою беспристрастность, должное почтение к традициям и уважение к сенату римского народа. На заседании сената Тиберий выступил с тщательно продуманной речью, текст которой практически полностью донес до нас Тацит.
Тиберий сначала напомнил всем, что Пизон был легатом и другом его отца Августа. В помощь Германику для устроения дел на Востоке он дал его по совету сената. Раздражал ли там Пизон Германика своим упрямством и препирательствами и только ли радовался его кончине или злодейски его умертвил — это требует беспристрастного разбирательства. «Ибо, если он превышал как легат свои полномочия и не повиновался главнокомандующему, радовался его смерти и моему горю, я возненавижу его и отдалю от моего дома, но за личную враждебность не стану мстить властью принцепса. Однако, если вскроется преступление, состоящее в убийстве кого бы то ни было и подлежащее каре, доставьте и детям Германика, и нам, родителям, законное утешение…»
{97}
Тиберий решительно отмел личную враждебность, делая упор на обвинениях Пизона в поступках, наносящих ущерб Римской державе. Каждый римлянин знал важнейший постулат своей государственности:
«Videant consules пе quid Respublica detrementi capiat!» («Да смотрят консулы за тем, чтобы государство не потерпело какого-либо ущерба!»). А Пизон явно причинял ущерб государству, что является виной тяжкой и непростительной. Против этих обвинений защита его была совершенно бессильна, поскольку они были доказаны. На фоне этого даже опровержение, казалось бы, главного обвинения в отравлении Германика ничего не меняло. Последним ударом для Пизона стало предательство Планцины. Заявлявшая изначально, что она будет верна ему при любых обстоятельствах, что даже готова пойти с ним на смерть, она вскоре стала отдаляться от мужа, всеми силами демонстрируя свое особое положение и особое покровительство: Ливия Августа стала главной заступницей Планцины, что лишало свободы действий даже самого Тиберия.
Видя, что он покинут всеми, даже, казалось бы, верной и любящей супругой, не находя ни малейшего сочувствия среди сенаторов и понимая, что Тиберий уже обрек его, Пизон принял роковое решение Вскоре его нашли в спальне с пронзенным горлом, а рядом на полу лежал окровавленный меч. Одному из своих либертинов (вольноотпущенников) Пизон оставил записку с объяснением своих действий «Сломленный заговором врагов и ненавистью за якобы совершенное мной преступление и бессильный восстановить истину и тем самым доказать мою невиновность, я призываю в свидетели бессмертных богов, что вплоть до последнего моего вздоха, Цезарь, я был неизменно верен тебе и не менее предан твоей матери, и я умоляю вас, позаботьтесь о моих детях, из которых Гней Пизон решительно непричастен к моим поступкам, какими бы они ни были, так как все это время был в Риме, а Марк Пизон убеждал меня не возвращаться в Сирию. И насколько было бы лучше, если б я уступил юноше сыну, чем он — старику отцу’ Тем настоятельнее прошу вас избавить его, ни в чем не повинного, от кары за мои заблуждения. В память сорокалетнего повиновения, в память нашего совместного пребывания консулами, ценимый некогда твоим отцом, божественным Августом, и твой друг, который никогда больше не попросит тебя ни о чем, прошу о спасении моего несчастного сына»
{98}
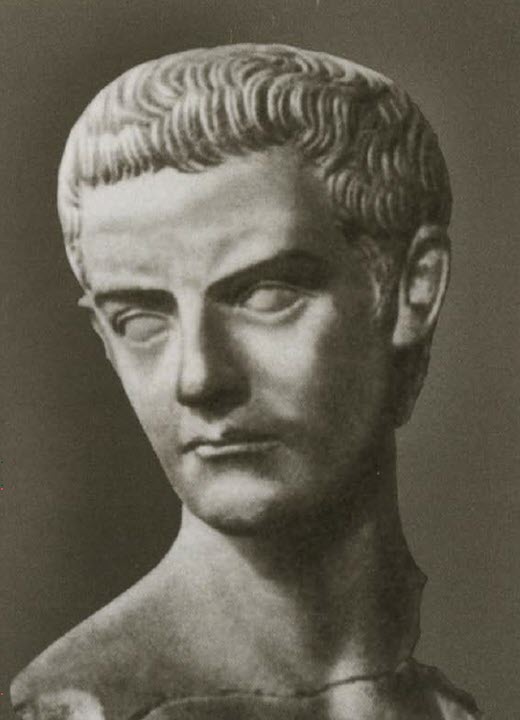
Гай Цезарь Германик Калигула (12–41), римский император (37–41)
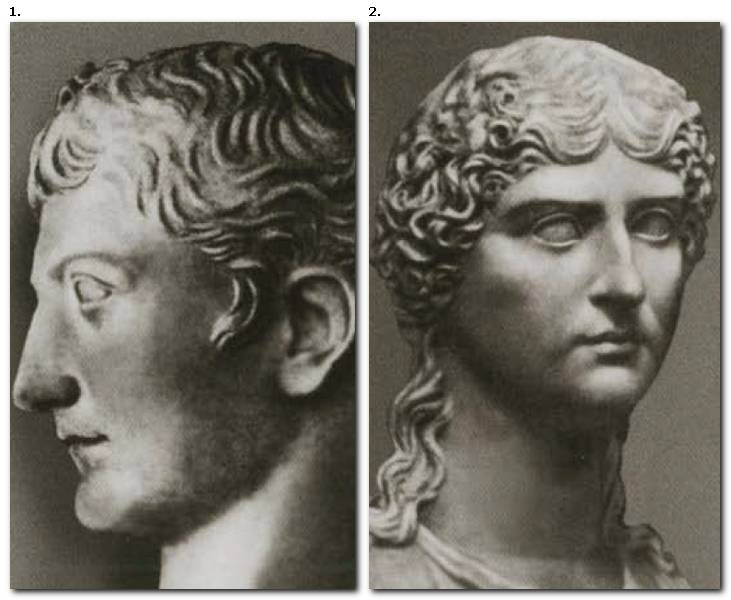
1. Германик, отец Калигулы
2. Агриппина Старшая, мать Калигулы

Капри, вилла Юпитера — одна из императорских вилл времени Тиберия.
Реконструкция

Октавиан Август

1. Ливия в образе Цереры-Августы, верховной жрицы культа императора Августа
2. Тиберий Клавдий Нерон

Друз Старший

Битва германцев с римлянами

Мавзолей Августа

Туснельда в триумфе Германика.
Картина Карда Пилоти

Тиберий

Капри. Голубой грот

Байи. Термы. Террасный комплекс

1. Афродита из Капуи
2. Помпеи. Храм Изиды

1. Трагическая маска. Фрагмент мозаики из Помпей
2. Помпеи. Храм Веспасиана. Алтарь
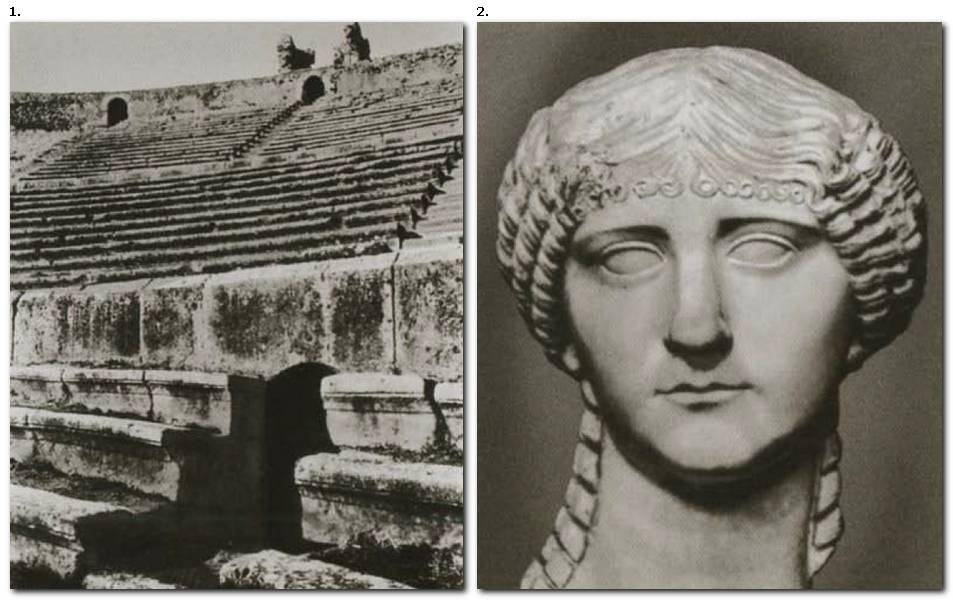
1. Помпеи. Амфитеатр
2. Агриппина Младшая

1. Антония Младшая
2. Клавдий I в образе Юпитера

1. Руины водопровода Калигулы около Рима
2. Балкон Домициана во дворце Тиберия на Палатинском холме в Риме
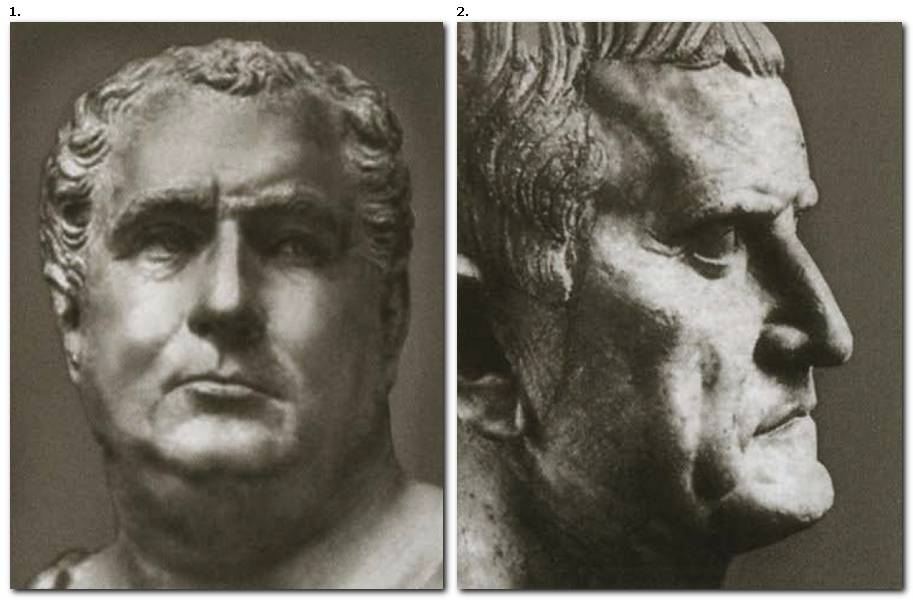
1. Авл Вителлий
2. Сервий Сульпииий Гальба

1. Калигула и Друзилла. Скульптурная группа
2. Калигула в образе наследника перед Тиберием и Ливией. Камея

Преторианцы

Убийство Калигулы

Помпеи. Арка Калигулы на улице Меркурия
Тиберий исполнил последнюю волю Пизона. С Марка сняли все обвинения в участии в междоусобной войне, но все же лишили сенаторского достоинства и выслали из Рима на десять лет. Гнея Пизона обязали именоваться Луцием Пизоном. Планцину по просьбе Ливии Августы от наказания вообще освободили.
Девять лет спустя умерла Ливия, а еще через четыре года не стало и Агриппины, и тогда по воле Тиберия Планцину, подобно ее супругу, принудили к самоубийству. Так в деле об отравлении Германика была поставлена точка.
Глава III
«ЦЕЗАРЬ КОНЕЦ ПОЛОЖИЛ
ЗОЛОТОМУ САТУРНОВУ ВЕКУ —
НЫНЕ, ПОКУДА ОН ЖИВ,
ВЕКУ ЖЕЛЕЗНОМУ БЫТЬ»
После событий 20 года — возвращение Агриппины с Гаем и Юлией в Рим, похороны Германика — мы надолго теряем нашего героя из виду. Мальчик, идущий рядом с матерью, держащей в руках урну с прахом отца, — это последнее упоминание в источниках о детстве Гая. Следующее упоминание о нем относится уже к 29 году, когда семнадцатилетний Гай Цезарь Калигула произносит на форуме с ростральной трибуны траурную речь, восхваляющую добродетели его умершей прабабки Ливии Августы. О семи годах его взросления нам известно только, что провел он их в Риме рядом с матерью. В 29 году Тиберий сослал Агриппину на остров Пандатерия в Тирренском море, и Гай перешел жить к прабабушке, но восьмидесятилетняя Ливия Августа вскоре ушла из жизни, и Гай перешел жить к своей бабушке Антонии, в доме которой провел два года. В 31 году Гая вызвал к себе на остров Капри Тиберий. С этого времени начинается уже взрослая жизнь нашего героя.
Как же прошли те годы, когда Гай воспитывался в доме Агриппины? Подробности нам неизвестны, но можно уверенно говорить, что вдова Германика отдавала все силы достойному воспитанию детей, и Гай никак не мог быть обойден ее вниманием. Воспитание под надзором матери у римлян считалось достойнейшим, имеющим самые благотворные последствия для воспитуемого. Не случайно Публий Корнелий Тацит в своем «Диалоге об деаторах» так именует материнское воспитание:
«In gremio ас sinu matris educari» — «Быть воспитанным на груди и лоне матери»
{99}. Таковое воспитание почиталось самым тщательным, самым достойным. Поскольку Калигула был разлучен с Агриппиной лишь на семнадцатом году жизни, то должен был в полной мере изведать ее заботу. Римское воспитание предполагало в первую очередь формирование у юноши твердости характера и его доброго направления. Мальчика учили почитать богов и заветы предков, уважать старших. Воспитание нравственное дополнилось развитием физическим. Юный римлянин должен был уметь ездить верхом и обращаться с оружием, владеть приемами рукопашного боя. Непременным считалось и обучение плаванию, но в случае с нашим героем мы сталкиваемся с тем, что при всей своей природной ловкости плавать он так и не научился
{100}. Зато очень полюбил танцы, которым обучали юных знатных римлян, дабы тело развивалось гармонично. Танец имел и практическое значение, поскольку использовался в ряде религиозных церемоний. Обучали подростков и пению, поскольку церемонии сопровождались и песнопениями. Танцы и пение почитались уделом юных и не подобали людям взрослым. Но Гай сохранил пристрастие к ним на всю жизнь. Уже будучи императором, пением и пляской он так наслаждался, что даже на всенародных зрелищах не мог удержаться, чтобы не подпевать трагическому актеру и не вторить у всех на глазах движениям плясуна, одобряя их и поправляя
{101}. Здесь следует напомнить, что профессии актера, певца и плясуна в Риме были уделом низших слоев населения…
В доме матери Гай получил и необходимое образование. По мнению знаменитого историка Иосифа Флавия, Калигула был «юноша, получивший вполне законченное образование»
{102}. Учитывая, что к Гаю сей ученый муж никаких симпатий не питал, его оценку вполне можно полагать объективной.
Какие науки изучал Гай? Безусловно, он должен был в совершенстве овладеть греческим языком, ибо владение языком эллинов наравне с родной латынью у римской знати давно уже было нормой и греческая литература изучалась наряду с латинской. Читали Гомера, сочинения крупнейших философов Эллады. Мы знаем, что Гай был хорошо знаком с творчеством создателя «Илиады» и «Одиссеи» и имел представление об учении Платона. Изучались, разумеется, и произведения римских авторов, начиная с «Анналов» Энния и комедий Теренция и вплоть до современников. В годы, когда подрастал Гай, особенно много читали Вергилия, Горация, Цицерона, Тита Ливия. О прочитанных авторах Калигула имел собственные представления, порой достаточно оригинальные, даже эпатажные. Так, Вергилия он бранил за отсутствие таланта и недостаток учености, а Тита Ливия объявлял историком многословным и недостоверным
{103}. Особенно невзлюбил он сочинения своего современника Луция Аннея Сенеки, находившегося в то время в расцвете своей литературной славы. Гай же труды славного писателя и философа называл «школярством чистой воды» и «песком без извести»
{104}.
Безусловно, такие суждения могли шокировать и современников, и поклонников античной литературы спустя тысячелетия, но они в первую очередь говорят о знании Гаем предмета и самостоятельном осмыслении знаменитых авторов «невзирая на лица».
Сам Калигула к сочинительству наклонности не чувствовал, но особых успехов достиг в риторике, овладение каковой считалось завершением образования у римлян. Об этом свидетельствует как Светоний: «Из благородных искусств он меньше всего занимался наукою и больше всего — красноречием, всегда способный и готовый выступить с речью, особенно если надо было кого-нибудь обвинять»
{105}, так и Тацит: «Даже расстроенный разум Гая Цезаря не лишал его речь силы»
{106}.
Мы не знаем, кто были учителями Гая. Скорее всего, среди них не было знаменитостей, но образование сыну Агриппины они дали в целом добротное, поощряя в нем, может быть, как раз в силу своей малой известности, самостоятельность суждений, независимость оценок и отсутствие преклонения перед прославленными именами, каковые полагалось безоговорочно почитать.
Конечно, к интеллектуалам Гая Цезаря отнести нельзя, но он к этому и не стремился. Образование же его было вполне достойным для представителя столь знатного семейства. Иное дело, качества нравственные. Казалось бы, сын таких достойнейших родителей, взращенный «на груди и лоне» столь выдающейся женщины, как Агриппина, притом что начатки воспитания и образования он получил в раннем детстве от великого отца — Германика, должен был по определению стать человеком самых высоких моральных качеств. Но, увы, здесь как раз тот случай, когда яблочку суждено далеко укатиться от родимой яблони. И проявляться это стало еще в юности. Говорили, что бабка Гая Антония как-то застала внука и внучку в любовной близости. Детская страсть, пренебрегшая кровным родством, привела к тому, что подросток Гай лишил невинности свою родную сестру, подростка же Друзиллу
{107}. Конечно, учитывая оговорку Светония «говорят», можно было бы скептически отнестись к этому, но будущие отношения брата и сестры не позволяют усомниться в его подлинности.
Но беда была не только в склонности Гая к инцесту. Как человек он формировался не только в доме матери своей Агриппины. В Риме царил Тиберий, и все особенности нравственной атмосферы этого правления не могли не отразиться на особенностях характера молодого человека, уже по самому рождению своему на самой вершине римского общества пребывавшего. Правнук Августа, внучатый племянник Тиберия, видел все, что происходило на Палатине. Судьба родных не могла не заставить его задуматься о судьбе собственной, каковая отнюдь не казалась безоблачной, а порой грозила стать и трагической. Гай Цезарь Калигула рос и мужал в правление Тиберия, и непростые события и жестокие перемены этого принципата неизбежно отражались на его личности.
Чем же было правление Тиберия?
Уже современники и те, кто жил в близкие к этой эпохе годы, не могли дать ему однозначной оценки. «Это был человек со многими хорошими и многими плохими качествами, и когда он проявлял хорошие, то казалось, что в нем нет ничего плохого, и наоборот»
{108}. Учитывая, что реальная власть принцепса в Римской империи была неограниченной, то все личностные противоречия Тиберия неизбежно должны были придать столь же противоречивый характер и всему его правлению, описывая которое неизбежно приходится исходить из наличия в нем двух противоположных сторон, одну из которых стоит именовать «список благодеяний», другую же нельзя назвать иначе, нежели «список злодеяний».
Прежде всего, обратимся к общему положению дел в Империи в годы правления Тиберия. Оно в целом было далеко не худшим. Империя не только сохранила в неприкосновенности свои рубежи, не только без чрезмерных усилий подавила все мятежи, но даже расширилась. Правда, немало людей в Риме, включая великого историка Публия Корнелия Тацита, осуждали Тиберия за прекращение завоевательных войн, но едва ли эти упреки можно считать обоснованными. Тиберий первым из правителей Рима осознал неизбежность приостановки завоеваний и необходимость для Империи сосредоточиться на решении задачи сохранения приобретенного. Кто в Риме имел больший военный опыт, нежели сам Тиберий? Он начал военную службу с шестнадцати лет, ему ли было не знать истинных трудностей завоевательных войн, опасности грозных мятежей, действительных возможностей римской армии. Потому отход от политики больших завоеваний следует признать делом мудрым и своевременным. Собственно, после Тиберия Рим уже великих завоеваний не знал. При Калигуле, правда, присоединят Мавретанию, при Клавдии упразднят Фракийское царство и завоюют половину Британии — предпоследнее значимое приобретение Римской империи. Последним станет Карпатская Дакия, завоеванная Траяном, а преемник Траяна Адриан вернется к политике Тиберия, в правильности которой его убедит стремительная потеря римлянами грандиозных завоеваний Траяна на Востоке, когда легионы достигли ненадолго Каспия и Персидского залива.
Внешняя политика Тиберия, его военная деятельность заслуживают самой высокой оценки. А вот оценка дел Тиберия Тацитом:
«Считаю уместным остановиться и на других сторонах деятельности Тиберия, а также на том, каким было его правление вплоть до дня, до которого доведен мой рассказ (23 год. —
И. К.) ибо уже в этом году принципат начал меняться к худшему. В начале его государственные дела, равно как и важнейшие частные, рассматривались в сенате, и видным сенаторам предоставлялась возможность высказать о них мнение, а если кто впадал в лесть, то сам Тиберий его останавливал; предлагая кого-либо на высшие должности, он принимал во внимание знатность предков, добытые на военной службе отличия и дарования на гражданском поприще, чтобы не возникло сомнений, что данное лицо — наиболее подходящее. Воздавалось должное уважение консулам, должное — преторам; беспрепятственно отправляли свои обязанности и низшие магистраты. Повсюду, кроме судебных разбирательств об оскорблении величия, неуклонно соблюдались законы. Снабжением хлеба и сбором налогов и прочих поступлений в государственную казну занимались объединения римских всадников. Ведать личными своими доходами Цезарь обычно поручал честнейшим людям, иногда ранее ему неизвестным, но доверяясь их доброй славе: принятые к нему на службу, они неограниченно долгое время пребывали на ней, так что большая их часть достигала старости, выполняя все те же обязанности. Хотя простой народ и страдал от высоких цен на зерно, но в этом не было вины принцепса, не жалевшего ни средств, ни усилий, чтобы преодолеть бесплодие почвы и бури на море. Заботился он и о том, чтобы во избежание волнений в провинциях их не обременяли новыми тяготами, и они безропотно несли старые, не будучи возмущаемы алчностью и жестокостью магистратов; телесных наказаний и конфискаций имущества не было. Поместья Цезаря в Италии были немногочисленны, рабы — доброго поведения, дворцовое хозяйство — на руках у немногих вольноотпущенников; и если случились у него тяжбы с частными лицами, то разрешали их суд и законы.
Неприветливый в обращении и большинству соприкасавшихся с ним внушавший страх, он держался тем не менее этих порядков…»
{109}
В первые годы правления Тиберий всемерно высказывал почтение к сенату. Он, правда, упразднил народные собрания, комиции, но это скорее должно считать поступком честным — они давно уже были чистой фикцией, и сохранение комиций только подчеркивало лицемерие установившегося единовластия. Но вот сенаторы начало правления Тиберия не без удивления стали воспринимать как некое возвращение к дням свободы. Светоний пишет: «Он даже установил некоторое подобие свободы, сохранив за сенатом и должностными лицами их прежнее величие и власть. Не было такого дела, малого или большого, государственного или частного, о котором бы он не доложил сенату: о налогах и монополиях, о постройке и починке зданий, даже о наборе и роспуске воинов или о размещении легионов и вспомогательных войск, даже о том, кому продлить военачальство или поручить срочный поход, даже о том, что и как отвечать царям на их послания. Одного начальника конницы, обвиненного в грабеже и насилии, он заставил держать ответ перед сенатом. В курию он входил всегда один, и когда однажды его больного принесли в носилках, он тут же отпустил служителей.
Когда некоторые постановления принимались вопреки его желанию, он на это даже не жаловался. Он считал, что назначенные магистраты не должны удаляться из Рима, чтобы они всегда были готовы занять должность, — несмотря на это одному назначенному претору сенат позволил совершить частную поездку на правах посланника. В другой раз он предложил, чтобы деньги, завещанные городу Требии на постройку нового театра, пошли на починку дороги, — тем не менее отменить волю завещателя ему не удалось. Однажды сенат выносил решение, расходясь на две стороны, и он присоединился к меньшинству, однако за ним никто не последовал.
И остальные дела вел он всегда обычным порядком, через должностных лиц. Консулы пользовались таким почтением, что однажды посланцы из Африки жаловались им на самого Тиберия за то, что тот медлил разрешить дело, с которым они были присланы. И это неудивительно: ведь все видели, как он вставал перед консулами с места и уступал им дорогу. Консулярам-военачальникам он сделал выговор за то, что они не отчитались в своих делах перед сенатом, и за то, что они попросили его распределить награды их воинам, словно сами не имели на это права. Одного претора он похвалил за то, что при вступлении в должность он по древнему обычаю почтил своих предшественников речью перед народом. Погребальные процессии некоторых знатных лиц он провожал до самого костра.
Такую же умеренность обнаружил он и в отношении малых лиц и дел. Родосские градоправители однажды прислали ему официальное письмо без обычной заключительной приписки — он вызвал их к себе, но не упрекнул ни словом, а только вернул им письмо для приписки и отправил их обратно. Грамматик Диоген на Родосе устраивал ученые споры каждую субботу; однажды Тиберий пришел его послушать в неурочное время, однако тот не принял его и через раба предложил ему прийти через семь дней. Потом, уже в Риме, Диоген сам явился к дверям Тиберия для приветствия; но Тиберий довольствовался тем, что велел ему явиться через семь лет. А наместникам, которые советовали ему обременить провинции налогами, он ответил в письме, что хороший пастух стрижет овец, но не сдирает с них шкуры»
{110}.
Последние слова отнюдь не были только остроумной фразой. Финансовая политика Тиберия была очень продуманной, взвешенной и, главное, эффективной. Умеренные налоги обеспечили их высокую собираемость, и финансы Империи при Тиберии оказались в лучшем состоянии, нежели при Августе. К концу его правления в казне находилось 700 миллионов денариев, или 2 миллиарда 800 миллионов сестерциев (денарий равнялся четырем сестерциям)
{111}.
Бережливость Тиберий проявлял во всем. Он совершенно не стремился к приобретению дешевой популярности у римской черни, обожавшей всякого рода зрелища и в первую очередь гладиаторские бои. «На театральные представления и гладиаторские бои он сократил расходы, убавив жалованье актерам и сократив число гладиаторов»
{112}.
В 16 году по его предложению сенат вынес решение, запрещающее носить роскошные шелковые одеяния, а в 22 году был принят закон против роскошных пиров. «А чтобы и собственным примером побуждать народ к бережливости, он сам на званых обедах подавал к столу вчерашние и уже початые кушанья, например половину кабана, уверяя, что на вкус половина кабана ничем не отличается от целого»
{113}.
Конечно, на первый взгляд такая экономия может показаться мелочной, но, когда в том была необходимость, Тиберий проявлял должную щедрость. Так, когда в 30 году закон о ликвидации долгов привел к расстройству денежного обращения в Империи — неизбежное следствие попыток путем государственного вмешательства обуздать превысившую все разумные пределы алчность ростовщиков, — Тиберий повелел передать различным банкам государственные деньги в размере 100 миллионов сестерциев с обязательством использовать их для выдачи беспроцентных ссуд задолжавшим землевладельцам. Денежный рынок в стране, таким образом, был успешно оздоровлен и восстановлен.
Большую щедрость Тиберий проявлял при ликвидации последствий стихийных бедствий. Так, в 17 году сильнейшее землетрясение в Малой Азии разрушило двенадцать городов и среди них древнюю столицу Лидии Сарды. Тиберий немедленно распорядился на пять лет освободить пострадавшие города от налогов и выдать из казны на восстановительные работы 10 миллионов сестерциев. В 26 году грандиозный пожар случился уже в самом Риме — выгорел весь
густонаселенный холм Целий, и Тиберий тут же организовал раздачу денег пострадавшим в размере понесенного каждым убытка. «В сенате ему принесли благодарность за это знатные граждане, а народ восхвалял его, ибо, невзирая на лица и безо всяких просьб со стороны приближенных, он помогал своей щедростью даже неизвестным ему и разысканным по его повелению погорельцам»
{114}.
36 год также «поразил Рим ужасным пожаром: выгорели часть цирка, примыкающая к Авентинскому холму, и все строения на Авентинском холме. Уплатив владельцам сгоревших усадеб и доходных домов их полную стоимость, Цезарь обратил это несчастье себе во славу. Эти щедроты обошлись в 100 миллионов сестерциев и встретили в простом народе тем большее одобрение, что для себя принцепс строил очень умеренно и даже в общественном строительстве ограничился возведением лишь двух зданий: храма Августу и сцены в театре Помпея»
{115}. Не меньшую щедрость Тиберий проявил в том же году, когда часть Рима была затоплена бурно разлившимися водами Тибра.
Когда дорожало зерно, Тиберий тратил миллионы сестерциев, дабы облегчить жизнь простого народа, более всего от хлебной дороговизны страдающего.
Только щедростью в случае бедствий забота Тиберия о благополучии народа не ограничивалась. «Более всего заботился он о безопасности от разбоев, грабежей и беззаконных волнений. Военные посты он расположил по Италии чаще прежнего. В Риме он устроил лагерь для преторианских когорт, которые до того не имели постоянных помещений и расписывались по постоям. Народные волнения он старался предупреждать до столкновения, а возникшие сурово подавлял»
{116}.
Особое внимание Тиберий уделял общественным нравам: «Нравы общества, пошатнувшиеся от нерадивости или от дурных обычаев, он попытался исправить»
{117}. И здесь принцепс попытался решительнейшим образом пресечь зловредное чужеземное влияние на исконно римские традиции: «Чужеземные священнодействия и в особенности египетские и иудейские обряды он запретил; тех, кто был предан этим суевериям, он заставил сжечь свои священные одежды со всей утварью»
{118}.
Так решительно в отношении иноземных культов римская власть не действовала, пожалуй, с далекого 186 года до н. э., когда сенат безжалостно пресек получившие в Риме широкое распространение вакханалии — оргиастические таинства в честь греческого бога Диониса, или Вакха, которого римляне именовали также Бахусом или Либером — свободным, поскольку он своим чудесным напитком из плодов виноградной лозы освобождал человека от всяческих забот. Собственно римский праздник либералии в честь Бахуса — Либера отмечался 17 марта и носил вполне безобидный характер. В городах устраивались торжественные жертвоприношения, затем театральные представления. В сельской местности проводили веселые шествия, исполняли пляски. И в городах, и в селах либералии сопровождались шумными пирушками с изобильными возлияниями вина — напитка Бахуса — Либера. Но вот греческие вакханалии принесли на римскую почву «не один-единственный вид порока, а именно — совместный разврат свободнорожденных мужчин и женщин, но из той же «мастерской» выходили лжесвидетели, поддельные печати и завещания, а также доносы; оттуда же отравленные зелья и убийства, совершаемые в далеких внутренних покоях, так что иногда не оставалось даже трупов для погребения. Вакханты отваживались на многое с помощью хитрости, но большею частью прибегали к силе. Творимое насилие сохранялось в тайне, потому что из-за восклицаний вакхантов, звона тимпанов и грохота кимвалов не мог быть услышан ни один крик о помощи среди творимых разврата и убийств»
{119}.
С вакханалиями римляне покончили достаточно быстро и беспощадно: скоро семь тысяч участников тайных оргий были казнены.
Наряду с греческими мистериями в Рим успешно проникали и восточные таинства, новые культы. Римская религия изначально была синкретичной, охотно впитывая в себя соседние божества. Ведь главные римские боги этрусского происхождения, а с богами греческими римляне своих богов легко отождествили. А в конце III века до н. э. в самый разгар тяжелейшей для римлян Второй Пунической войны, когда непобедимые, казалось, войска Ганнибала угрожали самому существованию Римской державы, римляне учредили, должно быть от отчаяния после серии поражений при Тицине, Требии, Тразименском озере и, наконец, Каннах, на Палатинском холме святилище фригийской богини Кибелы, почитаемой как Великая Мать Богов. Вслед за божеством малоазиатским вскоре в Рим стали приходить и иные божества с Востока. Исключительное распространение получил культ богини Исиды, пришедшей на берега Тибра с берегов великого Нила. Богиня Исида, сестра и жена Осириса, божества умирающего и воскресающего, мать бога Гора, почиталась как идеал верной жены и примерной матери. Исиду часто изображали с маленьким Гором на руках, который почитался как идеальное дитя. Эти изображения поразительно напоминают позднейшие изображения Девы Марии с младенцем Христом.
В Риме, однако, со временем культ Исиды приобрел черты, весьма далекие от почитания идеальной матери и жены. Как ужасные вакханалии ничем не напоминали безобидные либералии, так и римский культ Исиды оказался очень далек от своего египетского прототипа. Неслучайно Иосиф Флавий, говоря о правлении Тиберия, писал: «В это же самое время не прекращались в Риме бесстыдства, совершавшиеся в храме богини Исиды»
{120}. Далее следует прелюбопытный рассказ, поясняющий такую нелестную оценку того, что вершилось в храме Исиды в Риме. Собственно, данное происшествие и привело к решительным мерам Тиберия против почитателей египетской богини:
«В Риме жила некая знатная и славившаяся своей добродетелью женщина по имени Паулина. Она была очень богата, красива и в том возрасте, когда женщины особенно привлекательны. Впрочем, она вела образцовый образ жизни. Замужем она была за неким Сатурнином, который был также порядочен, как и она, и не уступал ей в хороших качествах. В эту женщину влюбился некий Деций Мунд, один из влиятельнейших тогда представителей всаднического сословия. Так как Паулина была слишком порядочная женщина, чтобы ее можно было купить подарками, как он узнал от подосланных лиц, Деций возгорел еще большим желанием обладать ею, так что обещал за единожды дозволенное сношение с ней заплатить ей целых 200 тысяч аттических драхм. Однако Паулина не склонилась и на такое щедрое вознаграждение, и тогда юноша, не будучи далее в силах переносить муки неудовлетворенной любви, решил покончить с собой и умереть голодной смертью. Решив это, он не откладывал исполнения этого решения в долгий ящик и сейчас же приступил к нему. У Мунда жила одна бывшая вольноотпущенница отца его, некая Ида, женщина, способная на всякие гнусности. Видя, как юноша чахнет, и озабоченная его решением покончить с собой, она явилась к нему и, переговорив с ним, выразила твердую уверенность, что при известных условиях вознаграждения сможет ему доставить возможность иметь Паулину. Юноша обрадовался этому, и она сказала, что ей будет достаточно всего 50 тысяч драхм для того, чтобы овладеть Паулиной. Подбодрив таким образом Мунда и получив от него требовавшуюся сумму денег, она пошла не той дорогой, какой пошел он, так как видела, что ту женщину за деньги не купишь. С другой стороны, зная, как ревностно относится Паулина к культу Исиды, она выдумала следующий способ добиться своей цели: явившись к некоторым жрецам Исиды для тайных переговоров, она сообщила им под величайшим секретом, скрепленным деньгами, о страсти юноши и обещала сейчас выдать половину всей суммы, а затем остальные деньги, если жрецы как-нибудь помогут Мунду овладеть Паулиной. Жрецы, побужденные громадностью суммы, обещали свое содействие. Старший из них отправился к Паулине и просил у нее разрешения переговорить с нею наедине. Когда ему это было позволено, он сказал, что явился в качестве посланца от самого бога Анубиса, который-де пылает страстью к Паулине и зовет ее к себе. Римлянке это доставило удовольствие, она возгордилась благоволением Анубиса и сообщила мужу, что бог Анубис пригласил ее разделить с ним трапезу и ложе. Муж не воспротивился этому, зная скромность жены своей. Поэтому Паулина отправилась в храм. После трапезы, когда наступило время лечь спать, жрец запер все двери. Затем были потушены огни, и спрятанный в храме Мунд вступил в обладание Паулиной, которая отдавалась ему в течение всей ночи, предполагая в нем бога. Затем юноша удалился раньше, чем явились жрецы, не знавшие об этой интриге. Паулина рано поутру вернулась к мужу, рассказала ему о том, как к ней явился Анубис, и хвасталась перед ним, как ласкал ее бог. Слышавшие это не верили тому, изумлялись необычности явления, но и не могли согласиться с таким невероятным событием, тем более что знали целомудрие и порядочность Паулины. На третий день после этого события она встретилась с Мундом, который сказал ей:
«Паулина, я сберег 200 тысяч драхм, которые ты могла внести в свой дом. И все-таки ты не преминула отдаться мне. Ты пыталась отвергнуть Мунда. Но мне не было дела до имени, мне нужно было лишь наслаждение, а потому я и прикрылся названием Анубиса». С этими словами юноша удалился. Паулина теперь только поняла всю дерзость его поступка, разодрала на себе одежды, рассказала мужу обо всей этой гнусности и просила его помочь ей наказать Мунда за это чудовищное преступление. Муж ее немедленно сообщил обо всем императору.
Подвергнув дело относительно участия жрецов самому строгому и точному расследованию, Тиберий приговорил к пригвождению к кресту их и Иду, которая была виновницей всего этого преступления, совершенного столь гнусно над женщиной. Затем он велел разрушить храм Исиды, а изображение богини бросить в реку Тибр. Мунда он приговорил к изгнанию, полагая, что наказал его таким образом достаточно за его любовное увлечение.
Таковы были позорные поступки жрецов храма Исиды»
{121}.
Крайне резко писал о культе Исиды в Риме и его поклонниках великий римский сатирик Ювенал. Самый храм великой богини он именовал «святилищем сводни».
Свирепая расправа Тиберия с храмом Исиды в Риме культ этой богини в Империи не прекратила. Он быстро возродился, и распространение его было неудержимым. Последующие владыки Рима не боролись с почитанием Исиды, и служение этой богине привлекало множество людей во всей необъятной Римской империи. Живший век с лишним спустя после Тиберия великий писатель Апулей в своем знаменитейшем романе «Метаморфозы», обычно именуемом «Золотой осел», дал наиподробнейшую картину культа Исиды в римской провинции. Благодаря Апулею мы знаем, каковы были представления римлян эпохи Империи об Исиде, как они ее почитали.
Помимо поклонников Исиды Тиберий покарал и астрологов. Они были изгнаны из Рима, но тем из них, кто просил помилования и обещал оставить свое ремесло, принцепс великодушно даровал прощение
{122}. Наиболее суровую кару из иноплеменников при Тиберии понесли иудеи: «Молодых иудеев он под видом военной службы разослал в провинции с тяжелым климатом; остальных соплеменников их или единоверцев он выслал из Рима под страхом вечного рабства за ослушание»
{123}.
В чем была причина гнева Тиберия на иудеев? Любопытное объяснение его дает римский историк иудейского происхождения Иосиф Флавий: «В это время из Иудеи бежал человек, боявшийся обвинения в нарушении некоторых законов и наказания за это. Вообще это был гнусный человек. Он тогда проживал в Риме и соединился здесь с тремя подобными ему негодяями. К ним примкнула Фульвия, знатная женщина, принявшая иудаизм. Они убедили ее послать пурпур и золото в иерусалимский храм, и когда та сдала им это, то они присвоили его себе, как то и было их первоначальным намерением. Тиберий, которому по желанию Фульвии сообщил об этом муж ее Сатурнин, бывший с императором в дружественных отношениях, распорядился изгнать из Рима всех иудеев. Консулы выбрали из них четыре тысячи человек и послали их в качестве солдат на остров Сардинию. Гораздо большее число, однако, они предали казни, потому что те отказались от участия в военной службе, благодаря запрещению этого иудейскими законами.
Таким образом, иудеи, вследствие гнусности четырех человек, были изгнаны из города»
{124}. Принцепс желал пресечь влияние чужеземных культов на римлян и уменьшить число иноплеменников в столице. Культ Исиды из всех пришедших с Востока культов был самым сильным и имел безусловный успех в Риме. Иудейская же община, должно быть, раздражала Тиберия не столько многочисленностью, сколько своей замкнутостью, будившей всяческие подозрения.
Подозрительность вообще была свойственна натуре Тиберия, следствием чего и стало все более частое применение в Риме закона, составившего худшую славу преемнику божественного Августа. И здесь невольно приходят на ум строки Михаила Булгакова из романа «Мастер и Маргарита», с замечательной точностью передающие силу воздействия этого закона на умы римлян.
Прокуратор Иудеи, не нашедший состава преступления в деле бродячего философа Иешуа Га-Ноцри, готов пощадить его и не утверждать смертный приговор, вынесенный несчастному Малым Синедрионом, но одно обстоятельство вынуждает его изменить свое решение:
«— Всё о нем? — спросил Пилат у секретаря.
— Нет, к сожалению, — неожиданно ответил секретарь и подал Пилату другой кусок пергамента.
— Что еще там? — спросил Пилат и нахмурился.
Прочитав поданное, он еще более изменился в лице. Темная ли кровь прилила к шее и лицу или случилось что-либо другое, но только кожа его утратила желтизну, побурела, а глаза как будто провалились.
Опять-таки виновата была, вероятно, кровь, прилившая к вискам и застучавшая в них, только у прокуратора что-то случилось со зрением. Так, померещилось ему, что голова арестанта уплыла куда-то, а вместо нее появилась другая. На этой плешивой голове сидел редкозубый золотой венец; на лбу была круглая язва, разъедающая кожу и смазанная мазью; запавший беззубый рот с отвисшей нижней капризною губой. Пилату показалось, что исчезли розовые колонны балкона и кровли Ершалаима вдали, внизу за садом, и все утонуло вокруг в густейшей зелени кипрейских садов. И со слухом совершилось что-то странное — как будто вдали проиграли негромко и грозно трубы и очень явственно послышался носовой голос, надменно тянущий слова: «Закон об оскорблении величества»»
{125}.
Закон об оскорблении величества
(Crimen laesae majestatis) изначально понимался римлянами как закон об оскорблении величия. И величия не какого-либо человека, пусть и высочайший пост занимающего, но величия всего римского народа. Именно так трактовал его великий оратор, философ и политик эпохи заката Римской республики Марк Туллий Цицерон
{126}. По утверждению Публия Корнелия Тацита, закон этот «был направлен лишь против тех, кто причинял ущерб войску предательством, гражданскому единству — смутами и, наконец, величию римского народа — дурным управлением государством. Осуждались дела, слова не влекли за собой наказания»
{127}.
Действительно,
Crimen laesae majestatis появился задолго до правления Тиберия — в 104 году до н. э. Инициатором его был знаменитый народный трибун Апулей Сатурнин, целью закона была защита римского народа, и в первую очередь он был направлен против неспособных полководцев. Никаких особых последствий закон Сатурнина не имел, но двадцать четыре года спустя его сумел оценить могущественный диктатор Рима Луций Корнелий Сулла. С 80 года до н. э. закон этот уже именовался в честь того, кто придал ему новое назначение:
Lex Cornelia. Теперь он защищал не интересы народа в целом, но интересы высших должностных лиц Римской республики. При Августе «личностная» трактовка закона была усугублена. Закон Юлия, принятый при основателе принципата, уже мог применяться и в случае оскорбления личности принцепса и его семьи. В то же время сам Август законом об оскорблении величия, а с этого времени все-таки точнее говорить «величества», не злоупотреблял и всемерно старался демонстрировать милосердие и гражданскую умеренность: «Плебея Юния Новата он наказал только денежной пеней, а другого, Кассия Патавина, — только легким изгнанием, хотя первый распространял о нем злобное письмо от имени молодого Агриппы, а второй при всех заявлял на пиру, что полон решимости и желания его заколоть. А однажды на следствии, когда Эмилию Элиану из Кордубы в числе прочих провинностей едва ли не больше всего вменялись дурные отзывы о Цезаре, он обернулся к обвинителю и сказал с притворным гневом: «Докажи мне это, а уж я покажу Элиану, что и у меня есть язык: ведь я могу наговорить о нем еще больше», — и более он никогда не давал потом хода этому делу. А когда Тиберий в письме жаловался ему на то же самое, но с большей резкостью, он ответил ему так: «Не поддавайся порывам юности, милый Тиберий, и не слишком возмущайся, если кто-то обо мне говорит дурное: довольно и того, что никто не может нам сделать дурного»»
{128}.
Став принцепсом, поначалу Тиберий старался следовать завету Августа: «…непочтительность и злословие, и оскорбительные о нем стишки он переносил терпеливо и стойко, с гордостью заявлял, что в свободном государстве должны быть свободны и мысль и язык. Однажды сенат потребовал от него следствия о таких преступлениях и преступниках, он ответил: «У нас слишком мало свободного времени, чтобы ввязываться в эти бесчисленные дела. Если вы откроете эту отдушину, вам уже не придется заниматься ничем другим: все по такому случаю потащат к вам свои дрязги». Сохранилась и такая речь его в сенате, вполне достойная гражданина: «Если кто неладно обо мне отзовется, я постараюсь разъяснить ему все мои слова и дела; если же он будет упорствовать, я отвечу ему взаимной неприязнью»»
{129}.
Однако когда представитель судебной власти претор Помпей Макр обратился к Тиберию с вопросом, не возобновить ли дела об оскорблении величия, принцепс твердо ответил, «что законы должны быть неукоснительно соблюдаемы»
{130}.
Очень скоро римляне убедились, как именно их император понимает неукоснительное исполнение законов и что взаимная неприязнь в понимании Тиберия это совсем не то, что под этими словами обычно понималось.
С чем связан такой поворот в поведении Тиберия? Скорее всего, это было следствием самой логики единовластия. Безусловно, Тиберий был знаком с речью Мецената, обращенной к Августу, когда двое наиболее близких к правителю Рима людей, состязаясь в красноречии, давали советы о наилучшей форме правления. Агриппа, напомним, тогда советовал вернуть республику, но не встретил должного отклика со стороны Августа. Меценат же в своем наставлении преуспел. Обратимся же к его речи, имевшей для судеб Рима столь долговременные последствия:
«Если ты заботишься об отечестве, за которое вел столько войн, за которое с удовольствием бы отдал и свою душу, то преобразуй его и приведи в порядок наиболее рациональным образом. Возможность и делать и говорить все, что только кто пожелает — это источник всеобщего благополучия, если имеешь дело с благоразумными людьми, но это приводит к несчастью, если имеешь дело с неразумными. Поэтому тот, кто дает свободу людям неразумным, все равно что дает меч ребенку или сумасшедшему, а кто дает свободу благоразумным гражданам, тот спасает всех, в том числе и безумцев, даже вопреки их воле.
Поэтому считаю необходимым, чтобы ты не обманывался, обращая внимание на красивые слова, но чтобы, взвесивши настоящее положение вещей, по существу поставил бы предел дерзким выходкам толпы и взял бы управление государством в свои руки совместно с другими достойными людьми. Тогда сенаторами были бы люди, выдающиеся своим умом, войсками командовали бы те, кто имеет опыт в военном деле, а несли бы военную службу и получали бы за это жалованье люди самые крепкие и самые бедные. Таким образом, каждый будет охотно делать свое дело, с готовностью помогать другому, не будет больше слышно о людях нуждающихся, все обретут безопасную свободу. Ибо пресловутая свобода черни является самым горьким видом рабства для людей достойных и одинаково несет гибель всем. Напротив, свобода, везде ставящая на первое место благоразумие и уделяющая всем справедливость по достоинству, делает всех счастливыми.
Ты не думай, что я советую тебе стать тираном и обратить в рабство народ и сенат. Этого мы никогда не посмеем, ни я сказать, ни ты сделать. Но было бы одинаково хорошо и полезно и для тебя и для государства, если бы ты вместе с лучшими людьми диктовал законы, а чтобы никто из толпы не поднимал голос протеста»
{131}.
Дион Кассий, донесший до нас эту замечательную речь, отметил далее, что Август «не всё, что посоветовал Меценат, немедленно провел в жизнь, так как боялся испортить дело, если он станет слишком быстро переделывать людей…»
{132}.
Тиберий, в отличие от Августа, мог уже не бояться «испортить дело», ибо сами люди ко времени его правления сильно изменились. То, что свободу нельзя давать черни, Тиберию было совершенно очевидно. Потому-то он и упразднил даже формальные комиции, бывшие тенью былого римского народовластия. Ничего от «пресловутой свободы черни» не должно было остаться. То, что свобода говорить, кто что пожелает, хороша только для благоразумных людей, не вызывало сомнений. Только где эти самые благоразумные люди? Можно ли таковым почитать даже сенаторов? Тацит дал исчерпывающую картину нравственного уровня большинства тех, кого принято было относить к «лучшим людям отечества»:
«А те времена были настолько порочны и так отравлены грязною лестью, что не только лица, облеченные властью, которым, чтобы сохранить свое положение, необходимо было угодничать, но и бывшие консулы, и большая часть выполнявших в прошлом преторские обязанности, и даже многие рядовые сенаторы наперебой выступали с нарушающими всякую меру постыдными предложениями. Передают, что Тиберий имел обыкновение всякий раз, когда покидал курию, произносить по-гречески следующие слова: «О люди, созданные для рабства!» Очевидно, даже ему, при всей его ненависти к гражданской свободе, внушало отвращение столь низменное раболепие»
{133}.
В таком окружении немудрено стать мизантропом! Тиберий был умным человеком, хорошо знал людей и потому не сомневался в истинных чувствах раболепствующих. Тот, кто пресмыкается, всегда ненавидит того, перед кем он унижен, пусть даже и добровольно унизился. Это аксиома. Потому нельзя таким людям давать право на свободное слово. Нравственно эти люди ничем не лучше той самой черни, которой не должно давать возможность поднимать голос протеста. А то, что за это будут ненавидеть еще сильнее, — не беда. Тиберий даже полюбил многократно повторять: «Пусть ненавидят, лишь бы соглашались»
{134}.
Относительно растущей к нему ненависти Тиберий не ошибался. Пренебрегая грозным законом «Об оскорблении величия», римляне в стихах отважно клеймили правителя, все более и более становящегося тираном своего отечества. Вот наиболее яркие из них:
Ты беспощаден, жесток — говорить ли про все остальное?
Пусть я умру, коли мать любит такого сынка.
Автор стихов польстил матушке Тиберия. В нравственном отношении она была, пожалуй, и похуже своего чада. Но по-своему его любила, иначе не прокладывала бы ему с таким усердием дорогу к власти. Впрочем, в этом случае Ливия Августа думала прежде всего о себе, ибо, покуда она была жива, властью обладала немалой, а по мнению иных, даже большей, нежели царствующий сын
{135}.
В другом стихотворении явственно проявилась тоска по времени правления божественного Августа, выглядевшему при Тиберии для многих истинно золотым веком:
Цезарь конец положил золотому сатурновому веку —
Ныне, покуда он жив, веку железному быть.
Тиберий в молодые годы грешил пристрастием к вину. Зная об этой его слабости, остроумцы ядовито называли его не Тиберий Клавдий Нерон, но Биберий Кальдий Мерон. Получалась весьма ядовитая игра слов: ведь Биберий — это от
bibere (пить вино), Кальдий — от
calidus (горячий), а Мерон — от
тегит (чистое, неразбавленное вино). Пожилой Тиберий в вине стал умерен, но теперь злая молва приписала ему иное пристрастие:
Он позабыл про вино, охваченный жаждою крови:
Он упивается ей так же, как раньше вином.
Наконец, одно из стихотворений выстраивало целый ряд великих кровопроливцев, из жажды власти не щадивших соотечественников:
Ромул, на Суллу взгляни: не твоим ли он счастлив несчастьем?
Мария, вспомни возврат, Рим потопивший в крови;
Вспомни о том, как Антоний рукой, привыкшей к убийствам,
Ввергнул отчизну в пожар братоубийственных войн.
Скажешь ты: Риму конец! Никто, побывавший в изгнанье,
Не становился царем, крови людской не пролив.
Здесь даже попытка выявить некую закономерность: стремятся к власти, проливая потоки крови, те, кто в жизни изведал обиды и унижения. А для римлян изгнание — величайшее унижение и жестокое наказание. Тиберию в этом случае припоминали его ссылку на остров Родос при Августе. Особо дблжно отметить, что люди, достигшие или стремившиеся достичь высшей власти в Риме, проливая потоки крови, именуются царями. Царь для римлян понятие совершенно ужасное и обвинение в стремлении к царскому венцу — самое убийственное в буквальном смысле слова. Обвинив в этом, убили Тиберия Гракха, пусть он и в мыслях не имел ничего подобного, а за действительное стремление к царской власти кинжалы убийц поразили великого Гая Юлия Цезаря. Употребляя слово «царь» —
Rex, автор обличительных стихов, безусловно, хотел показать, что титул «принцепс» в Риме уже никого не обманывает. Единовластный правитель Империи — самый настоящий царь.
Тиберий, демонстрируя в начале своего правления спокойное отношение к такого рода стихотворным выпадам, недолго сдерживал себя. Действие «закона об оскорблении величия», Тиберием окончательно превращенного в «закон об оскорблении величества», из года в год нарастало. Римские историки Тацит и Дион Кассий весьма подробно изложили действие этого печально знаменитого закона. Число процессов увеличивалось, жестокость Тиберия проявлялась все чаще. Общую трагическую картину эволюции правления пожилого принцепса лучше всех, пожалуй, дал Светоний:
«Перечислять его злодеяния по отдельности слишком долго: довольно будет показать примеры его свирепости на самых общих случаях. Дня не проходило без казни, будь то праздник или заповедный день: даже в новый год был казнен человек. Со многими вместе обвинялись и осуждались их дети и дети их детей. Родственникам казненных запрещено было их оплакивать. Обвинителям, а часто и свидетелям назначались любые награды. Никакому доносу не отказывали в доверии. Всякое преступление считалось уголовным, даже несколько невинных слов. Поэта судили за то, что он в трагедии посмел порицать Агамемнона, историка судили за то, что он назвал Брута и Кассия последними из римлян: оба были тотчас казнены, а сочинения их уничтожены, хотя лишь за несколько лет до этого открыто и с успехом читались перед самим Августом. Некоторым заключенным запрещалось не только утешаться занятиями, но даже говорить и беседовать. Из тех, кого звали на суд, многие закалывали себя дома, уверенные в осуждении, избегая травли и позора, многие принимали яд в самой курии; но и тех, с перевязанными ранами, полуживых, еще трепещущих, волокли в темницу. Никто из казненных не избежал крюка и Гемоний: в один день двадцать человек были сброшены в Тибр, среди них — и женщины и дети. Девственниц старинный обычай запрещал убивать удавкой — поэтому несовершеннолетних девочек перед казнью растлевал палач. Кто хотел умереть, тех силой заставляли жить. Смерть казалась Тиберию слишком легким наказанием: узнав, что один из обвиненных, по имени Карнул, не дожил до казни, он воскликнул: «Карнул ускользнул от меня!» Когда он обходил застенки, кто-то стал его умолять ускорить казнь — он ответил: «Я тебя еще не простил». Один муж консульского звания упоминает в своей летописи, как на многолюдном пиру в его присутствии какой-то карлик, стоявший у стола в толпе шутов, вдруг громко спросил Тиберия: почему еще жив Паконий, обвиненный в оскорблении величества? Тиберий тут же выругал карлика за дерзкий вопрос, но через несколько дней написал сенату, чтобы приговор Паконию был вынесен как можно скорее…
…Когда ему доложили, что приехал один его родосский знакомец, им же вызванный в Рим любезным письмом, он приказал тотчас бросить его под пытку, решив, что это кто-то причастный к следствию, и обнаружив ошибку, велел его умертвить, чтобы беззаконие не получило огласки. На Капри до сих пор показывают место его бойни: отсюда осужденных после долгих и изощренных пыток сбрасывали в море у него на глазах, а внизу матросы подхватывали и дробили баграми и веслами трупы, чтобы ни в ком не осталось жизни»
{136}.
Всего за время правления Тиберия состоялось семьдесят девять процессов об оскорблении величества. Чуть более трех на каждый год правления. Число их жертв было во много раз меньше, чем число тех, кто погиб во время проскрипций Луция Корнелия Суллы и триумвиров — Антония, Лепида и Октавиана
{137}. Но восприятие деяний Тиберия римлянами оказалось много более суровым, нежели оценка организаторов проскрипций, исключая Суллу. Проскрипции — явление жестокое, отвратительное, беззаконное, но все-таки кратковременное, вызванное чрезвычайными обстоятельствами. За всю историю Рима они происходили только дважды и были следствием ожесточенной гражданской войны. Репрессии же Тиберия явно претендовали на норму политической жизни Рима, становясь делом повседневным, обыкновенным. Потому здесь дело вовсе не в количестве пострадавших. Жертвой закона об оскорблении величества — о величии римского народа никто уже не вспоминал — мог стать любой не просто враждебно настроенный к правителю человек, не скрывающий своих чувств, но и злосчастный болтун — острословец, неудачно пошутивший в адрес принцепса в присутствии не самых верных друзей или случайных собеседников. Любой мог стать жертвой доноса, тем более что доносчик по тому самому зловредному закону получал в случае успешного разрешения дела четверть имущества своей жертвы. Попытка ограничить применение этой бессовестной нормы не оказалась удачной. В 24 году, когда один несправедливо обвиненный покончил жизнь самоубийством, в сенат было внесено робкое предложение, чтобы в подобных случаях доносчик оставался без вознаграждения. Но Тиберий немедленно пресек это вредное, с его точки зрения, поползновение. Согласно державному мнению принцепса в действующем законе ничто не может принципиально изменяться
{138}.
Конечно, можно говорить о том, что репрессии касались сугубо верхушки римского общества, что десятки миллионов жителей необъятной Империи и не замечали таковых, но ведь закон этот бил только по элите Рима, ибо инакомыслие всегда черта развитого интеллекта. Самым показательным процессом против свободомыслия и свободы слова стал процесс по делу Кремуция Корда, того самого историка, о котором упоминает Светоний, назвавшего республиканцев Брута и Кассия «последними римлянами». Судей не смутило даже то обстоятельство, что Корд читал свое сочинение в присутствии Августа и последний спокойно воспринял похвалу своим смертельным врагам и отсутствие похвал Гаю Юлию Цезарю и самому себе
{139}. Теперь Корду предстояло защищать свое произведение в присутствии Тиберия, сидевшего с грозно нахмуренным видом, не предвещавшим подсудимому ничего хорошего. Прекрасно понимая, что надежд на благополучный исход дела у него нет и судьба его уже решена, славный служитель музы истории Клио решил уйти из жизни с высоко поднятой головой, мужественно защищая право человека на свободу мысли и слова:
«Отцы сенаторы, мне ставят в вину только мои слова, до того очевидна моя невиновность в делах. Но и они не направлены против принцепса или матери принцепса, которых имеет в виду закон об оскорблении величия. Говорят, что я похвалил Брута и Кассия, но многие писали об их деяниях, и нет никого, кто бы, упоминая о них, не воздал им уважения. Тит Ливий, самый прославленный, самый красноречивый и правдивый из наших историков, такими похвалами превознес Гнея Помпея, что Август прозвал его помпеянцем, и, однако, это не помешало их дружеским отношениям. Сципиона, Афрания, этого самого Брута, этого самого Кассия он часто именует выдающимися мужами и нигде — разбойниками и отцеубийцами, каковое наименование им присвоено ныне. Сочинения Азиния Поллиона также хранят о них добрую память; Мессала Корвин открыто называл Кассия своим полководцем, а между тем и тот и другой жили в богатстве и неизменно пользовались почетом. Ответил ли диктатор Цезарь на книгу Марка Цицерона, в которой Катон превозносится с небес, иначе, чем составленной в ее опровержение речью, как если бы он выступал перед судьями? Письма Антония и речи Брута к народу содержат неосновательные, но проникнутые большим ожесточением упреки Августу. Общеизвестны полные оскорбительных выпадов против Цезарей стихотворения Бибакула и Катулла, но сам божественный Юлий, сам божественный Август не обрушились на них и не уничтожили их, и я затруднился бы сказать, чего в этом больше — терпимости или мудрости. Ведь оставленное без внимания забывается, тогда как навлекшее гнев кажется справедливым.
Не говорю о греках, у которых была безнаказанной не только свобода, но и разнузданность в выражениях, и если кто возмущался ими, то за слова мстил словами. И уж совсем беспрепятственно и не встречая отпора, можно было высказываться у них о тех, кого смерть отняла у ненависти или пристрастия. Разве я на народном собрании возбуждаю граждан к усобице, когда поднявшие оружие Кассий и Брут занимают поле сражения при Филиппах? Или, погибнув семьдесят лет назад, они не сохраняют своей доли памяти в книгах историков, подобно тому, как их узнают по изображениям, которых не истребил даже одержавший над ними победу? Потомство воздает каждому по заслугам, и не будет недостатка в таких, которые, если на меня обрушится кара, помянут не Кассия с Брутом, но и меня»
{140}.
Корд, покинув сенат, избрал самый мучительный способ самоубийства, уморив себя голодом. Сенаторы в угоду Тиберию спешно приказали сжечь сочинения опального историка. Но, как справедливо будет сказано Михаилом Булгаковым в самом знаменитом его романе, «рукописи не горят». Сочинения Корда были тайно сохранены и стали доступны потомкам, будучи обнародованными. Публий Корнеллий Тацит написал о происшедшем с рукописями Корда замечательные, воистину бессмертные слова, верные во все времена и для всех народов: «Тем больше оснований посмеяться над недомыслием тех, которые, располагая властью в настоящем, рассчитывают, что можно отнять память даже у будущих поколений. Напротив, обаяние подвергшихся гонениям дарований лишь возрастает, и чужеземные цари или наши властители, применявшие столь же свирепые меры, не добились, идя этим путем, ничего иного, как бесчестия для себя и славы для них»
{141}.
Тиберию в деле Корда не хватило ни терпения, ни мудрости. Понятное дело, закон об оскорблении величества не мог быть только следствием каприза этого или иного владыки Рима. Он естественным образом вытекал из самой системы единовластного правления. Оберегание престижа властителя в таком обществе быстро становится нормой, и здесь неприятие свободы слова неизбежно. В начале XIX века император Наполеон I идеально сформулирует отношение самовластия к вольному слову: «Кто может все сказать — может все сделать». Но и за тысячи лет до великого потрясателя Европы монархи и единовластные диктаторы прекрасно об этом догадывались и действовали соответствующим образом. А в пресечении свободомыслия не обойтись и без доносительства, как бы брезгливо ни воспринимать и сами доносы, и личности доносителей, во все времена неизменно гнусные. Есть даже такой исторический анекдот, гласящий, что Моисей изначально дал своему народу не десять, но одиннадцать заповедей. Последняя из них якобы гласила: не доносительствуй! Но, будучи человеком ума государственного, мудрый Моисей от нее отказался, понимая всю гадкую по природе, но несомненную пользу доносительства для власть имущих.
Возвращаясь же к вечной актуальности оценки Публием Корнелием Тацитом пороков правления Тиберия, хочется напомнить одно трагическое событие конца XVIII века, случившееся в Париже в разгар Великой французской революции. Знаменитый революционер Камилл Демулен, которому принадлежала честь первому призвать парижан к походу на Бастилию (так он сам полагал), опубликовал в своей газете «Старый кордельер» несколько отрывков из Тацита, обличающих тиранические действия Тиберия. В Тиберии неожиданно узнал себя вождь якобинской диктатуры Максимилиан Робеспьер, бывший соученик и близкий друг Демулена. Памятуя о прошлом, Робеспьер великодушно, как ему самому представлялось, предложил сжечь крамольный номер газеты. На это Камилл гордо воскликнул: «Сжечь — не значит ответить!» Ответом Робеспьера стала отправка Демулена на гильотину.
Должно быть, Неподкупный Максимилиан — прозвание, надо сказать, абсолютно справедливое — либо не читал Тацита достаточно внимательно, либо просто был не в состоянии его глубоко понять и оценить.
Усилия Тиберия по искоренению свободомыслия и права открытого его выражения действительно превратили для мыслящих римлян его правление в «железный век». Времена Августа теперь воспринимались как идиллические, как прекрасные годы «золотого Сатурнова века». В то же время подавление свободы мысли и слова, отчуждение и запрет исторических и литературных сочинений за крамольное, с точки зрения власти, содержание все же не стали системой в Римской империи. Собственно, попытка Тиберия уничтожить труд Крему-ция Корда в итоге потерпела неудачу, да и стала она лишь эпизодом в римской истории. Более в дохристианской Империи подобных запретов сочинений мы не знаем. Да, Нерон велел уничтожить сочинение Фабриция Вейентона, но не за политическую направленность или гражданскую смелость, а как произведение сугубо клеветническое, возводящее хулу и напраслину на многих достойных людей и ничем, кроме авторской злобы, не подкрепленное.
Что же касается нарастающего с годами в правление Тиберия действия закона об оскорблении величества, то в этом отразились не только перемены в характере стареющего императора, но и та самая двойственность его, так точно подмеченная Дионом Кассием. Презирая — и заслуженно — окружающее его раболепие и носителей этого постыднейшего из человеческих пороков, Тиберий одновременно жестоко бил по тем, кто не желал пресмыкаться перед властью, кто стремился сохранить человеческое достоинство и отстаивал свое право на свободу, совершенно, кстати, при этом не угрожая ничем существующему правлению и правящему императору.
Тиберий проделал эволюцию, совершенно обратную Августу. Молодой Октавиан был совсем не чужд жестокости. Достаточно вспомнить проскрипции триумвиров, в коих роль его была очень заметной. Можно поразиться его холодной жестокости, когда после взятия города Перузия он обрывал просивших его о пощаде пленных тремя словами: «Ты должен умереть!»
{142} А после битвы при Филиппах двум пленникам, отцу и сыну, молившим о пощаде, велел жребием или игрой на пальцах решить, кому остаться в живых, а потом смотрел, как оба они погибли — отец поддался сыну и был казнен, а сын после этого сам покончил с собой
{143}. Есть даже сведения, что Октавиан пытал как раба претора Квинта Галлия, коего заподозрил в замысле покушения на себя, и даже казнил собственными руками, выколов сперва несчастному глаза
{144}. И как не похож на себя молодого мудрый принцепс Август, при котором никто не пострадал за вольные или строптивые речи и которого не смущают разбросанные в курии, где заседает сенат, многочисленные подметные письма, каковые он спокойно и обстоятельно опровергает, не позволяя искать сочинителей. Даже знаменитый случай, когда Август застал своего внука за чтением сочинений Цицерона и, к его изумлению, — он-то знал о роли дедушки в гибели прославленного оратора и философа — с глубоким почтением отозвался о нем как о достойнейшем человеке, великом мыслителе и римском патриоте, не стоит расценивать только как проявление изощренного лицемерия. Такие слова о Цицероне требовали от Августа и мужества, ведь познания внуков о событиях времен его союза с Марком Антонием и Лепидом не были для него тайной. А умение отдать должное великому человеку независимо от обстоятельств личных с ним отношений всегда достоинство.
В стареющем же Тиберии невозможно увидеть былого славного воителя, подарившего Риму столько новых земель и отразившего столько грозящих державе бед, человека, которого до середины шестого десятка лет жизни никто не мог уличить ни в одном пороке, исключая излишнее пристрастие к благородному напитку. Он не только не сумел удержаться на уровне достойных начинаний первых лет собственного правления, но и сам, своею же рукой разрушил на века, на тысячелетия представление о себе как о достойном правителе.
В чем же истинная причина столь разительных перемен в Тиберии? Только ли в двойственности его натуры? А может, само раболепие и угодничество его окружения так скверно воздействовали на него? Или главную роль
сыграли трагические истории, пережитые им? Зловредное влияние людей из его ближайшего окружения, наконец?
Скорее всего, и первое, и второе, и третье… На все поставленные вопросы можно без колебаний дать утвердительный ответ. О двойственности натуры Тиберия, о «людях, созданных для рабства», в его окружении уже немало говорилось. Но еще в давние времена историки связывали трагический поворот в правлении Тиберия со смертью его сына Друза, случившейся в 23 году. Со следующего года закон об оскорблении величества стал применяться все чаще и чаще… Но самой зловещей личностью в окружении Тиберия, оказавшей сильнейшее на него влияние, безусловно всеми признается префект претория Луций Элий Сеян. Кто же был этот человек, этот злой гений Тиберия, сыгравший немалую роль и в судьбе нашего героя Гая Цезаря Калигулы?
Сеян родился, по одним данным, около 20-го, по другим — около 16 года до н. э. в городке Вульсинии. Происхождение его высокой знатностью не отличалось. Отец принадлежал к сословию всадников, мать — к известному роду Юниев. Очевидно, позднее он был усыновлен кем-то из знатного рода Элиев, потому и стал именоваться Луций Элий Сеян. С молодых лет он был близок к семье правящего принцепса. Уже в ранней юности состоял при внуке Августа Гае Цезаре и в 4–1 годах до н. э. сопровождал его в поездке на Восток. Возможно, тогда он и познакомился с Тиберием. Особое доверие Тиберия Сеян завоевал во время грозных событий памятного для римлян паннонского бунта легионов, когда он состоял в свите Друза вместе со своим отцом Сеем Страбоном. В успокоении мятежных войск Сеян и Страбон проявили себя весьма достойно, и Тиберий высоко оценил это. Сей Страбон был назначен префектом Египта, а Луций Элий Сеян стал единственным префектом — ранее их было два — преторианских когорт, расквартированных в Италии близ Рима и бывших гвардией принцепса. Именно Сеяну принадлежит честь слияния разбросанных по разным местам подразделений в единое воинское соединение, расположенное в лагере у самой столицы — на холме Виминал. Девять тысяч воинов преторианцев с этого времени стали надежной опорой императора в столице.
Сеян быстро проявил себя как умелый начальник преторианской гвардии. Он стал самолично назначать центурионов, трибунов, возглавлявших когорты, заботился о рядовых воинах, регулярно посещая их в лагере и интересуясь их нуждами, он обращался к ним по именам, доверительно беседовал с ними. Тиберия он убедил в том, что разбросанные подразделения трудно контролировать и это неизбежно приведет к ослаблению порядка и дисциплины. Находясь же в едином лагере, когорты будут под неусыпным контролем единого же префекта преторианцев, а в случае необходимости девять соединенных когорт могут действовать с должной решительностью и успехом, чего никак нельзя ожидать от подразделений, которые разбросаны по разным местам и в которых дисциплина уступила место распущенности.
Тиберий не мог не признать правоты Сеяна и действенности его руководства преторианцами. Предложенные Сеяном меры с точки зрения укрепления боеспособности гвардии и безопасности императора были своевременны и вполне эффективны.
Тацит так характеризует Сеяна, объясняя причины его столь удивительного для окружающих успеха:
«Сеян достиг этого не столько благодаря свойственному ему хитроумию (ведь и его одолели тем же оружием), сколько вследствие гнева богов, обрушенного ими на Римское государство, для которого и его возвышение, и его низложение были одинаково роковыми. Тело его было выносливо к трудам и лишениям, душа — дерзновенна; свои дела он таил от всех, у других выискивал только дурное; рядом с льстивостью в нем уживалась надменность; снаружи — притворная скромность, внутри — безудержная жажда главенствовать, и из-за нее — порою щедрость и пышность, но чаще усердие и настойчивость — качества не менее вредоносные, когда они используются для овладения самодержавною властью»
{145}.
Удивительная карьера Сеяна при дворе Тиберия не имела для великого историка разумного объяснения, и он трактовал ее по-своему. Качества же префекта преторианцев, скрупулезно Тацитом перечисленные, позволяют увидеть как сильные стороны Сеяна, обеспечившие ему взлет, — выносливость, усердие, настойчивость, щедрость, так и слабые, приведшие его к краху карьеры и гибели, — неумеренная дерзость, надменность, безудержная жажда власти. Последнее качество для подданного монархического государства было смертельно опасно, особенно если он находился рядом с особой единовластного владыки. Если он не в силах побороть в себе неудержимое властолюбие, то должен рано или поздно бросить вызов законному правителю и попытаться занять его место.
Сеян, похоже, пошел по этому пути. Успехи префекта преторианцев действительно были впечатляющими. Его положение при Тиберии было таковым, какого при Августе не достигал и не мог достичь никто из его соратников и приближенных. Резче всех на такие изменения на Палатинском холме отреагировал сын Тиберия Друз, имевший все законные основания полагать себя вторым человеком в государстве. Известны его возмущенные слова: «Многого ли не хватает, чтобы Сеян был назначен соправителем?» Свою неприязнь он выражал не только словами, но и действием. Однажды, в разгар возникшего спора, сын Тиберия, человек от природы вспыльчивый, замахнулся на Сеяна. Но тот, недооценив степень антипатии Друза, упорно стоял на своем. Тогда Друз ударил Сеяна по лицу. Оскорбление жестокое, но жаловаться Тиберию на сына префект не решился. Полученная пощечина ясно свидетельствовала о враждебности наиболее вероятного и, главное, законного преемника Тиберия. Принцепс старел. Пусть он и отличался отменным здоровьем и с тридцати лет обходился без помощи врачей, а за время своего правления не болел ни разу
{146}. Но ведь годы идут, ему уже пошел седьмой десяток… И если Тиберия сменит Друз, то Сеяну не жить.
Думается, едва ли, затевая интригу против Друза, Сеян помышлял о будущей верховной власти. Скорее, он желал погубить не соперника в борьбе за звание принцепса, а именно будущего принцепса. В этой борьбе Сеян сумел найти себе союзника. Жена Друза Ливия, ее именуют также Ливией Ли-виллой, сестра Германика, стала любовницей Сеяна. Дабы у нее не было сомнений в его верности, префект удалил из своего дома жену, мать троих его детей. Потерявшая от любви голову Ливия согласилась помогать любовнику против законного мужа, более того, она вовлекла в заговор своего врача Эвдема.
В то же время, стремясь укрепить свои связи с семьей принцепса, Сеян сумел сосватать свою дочь сыну брата Германика Клавдия Друзу Клавдию Нерону. Однако жених вскоре после помолвки умер и вхождение дочери префекта в семью Тиберия не состоялось. Тем не менее само это сватовство вызвало в римских верхах вполне понятное раздражение, многие сочли, что Сеян слишком высоко заносится в своих замыслах
{147}. Особенно недоволен был, конечно, Друз, который не мог удержаться от самых злых слов в адрес своего недруга. Он упомянул, что, по желанию Сеяна, близ стен Рима уже создан военный лагерь и воины, в нем находящиеся, отданы в руки того, кому они подчинены. Статуя Сеяна уже красуется в театре Гнея Помпея, где место изображениям только выдающихся римлян. Теперь еще и намечающееся родство… «после этого только и остается, что молиться богам о ниспослании ему скромности, дабы он не пожелал большего»
{148}.
Сеян, понимая опасность дальнейшего обострения отношений с Друзом, решается использовать яд. Очевидно, в этом ему помогал личный врач Ливии Эвдем. Яд был подобран искусно: он действовал медленно, что создавало вполне убедительное впечатление болезни. Непосредственно дал Друзу яд молодой евнух Лигд, коего молва числила в любовниках… Сеяна. Впрочем, подобные слухи о столь разнообразном любвеобилии префекта скорее объясняются всеобщей ненавистью к нему: один Тиберий его обожал да, наверное, воины-преторианцы.
Смерть Друза в 23 году стала рубежом в жизни и правлении Тиберия. Потерю сына он перенес мужественно, искренне считая ее следствием болезни. Но затем… Все римские историки единодушно связывают резкий поворот правления Тиберия к худшему именно со смертью Друза.
А Сеян продолжал укреплять свое положение при императоре. Неудача с браком дочери не остановила его в стремлении породниться с семьей Тиберия. В этом он встретил решительную поддержку Ливии. Сестра Германика, тетушка Гая Цезаря Калигулы, страстно влюбленная в Сеяна, сама уговаривала его обратиться к Тиберию за разрешением на новый брак. Став мужем Ливии, Сеян уже сам вошел бы в семью Тиберия. Супруг родной племянницы правящего принцепса — это уже достаточно близкий родственник. Но нужно было согласие Тиберия…
Сеян обратился к принцепсу с тщательно продуманным посланием, в котором напоминал о благосклонности к себе Августа, благодарил Тиберия за его расположение, которое приучило его обращаться со своими надеждами и чаяниями в первую очередь к нему, а лишь затем к богам, подчеркивал, что никогда не добивался для себя сановных должностей, а всегда предпочитал «трудную службу воина, несущего стражу ради безопасности императора»
{149}. Понимая, что немалым препятствием для брака с Ливией является его происхождение, Сеян ссылался на то, что вроде бы сам Август намечал своей дочери в мужья кого-то из римских всадников… Важнейшим местом в послании можно считать выпад Сеяна против матери нашего героя: брак с Ливией должен оградить его семью от враждебности Агриппины.
Если, устраняя Друза, Сеян не только избавлялся от крайне опасного для него в будущем возможного принцепса, но и сам мог подумывать о достижении высшей власти, то выпад против вдовы Германика мог иметь дальний прицел: если удастся, направить неприязнь и на ее детей. Ведь трое сыновей Германика и Агриппины — Друз, Нерон и Гай — естественным образом претендовали на высшую власть в Империи после Тиберия.
Император ответил пространнейшим письмом, которое не могло не вызвать у Сеяна двойственных чувств. С одной стороны, Тиберий писал, что не станет противиться намерениям Сеяна и Ливии заключить новый брак, но в то же время напомнил, что его происхождение все же помеха для брака с представительницей семьи принцепса, ибо вызовет неудовольствие высших должностных лиц и знатнейших людей Рима. Что же касается Агриппины, то Тиберий выражал опасение, что в случае брака Сеяна и Ливии ее непримиримость разделит дом принцепса на два враждующих лагеря, а это, понятное дело, недопустимо. Наконец, нельзя не считаться с Антонией и Ливией Августой, матерью и бабкой вдовы Друза, мнение которых в сложившихся обстоятельствах имеет первостепенное значение.
Окончание же императорского послания было для Сеяна не только утешительным, но и вселяло самые радужные надежды: «Нет ничего столь высокого, чего бы не заслужили твои добродетели и твоя верность, и, когда придет время, я не умолчу об этом ни в сенате, ни перед народом»
{150}.
Сеян лишний раз убедился в значении отношения к нему Агриппины и невозможности завоевать расположение римской знати, окружавшей Тиберия в Риме. Поэтому его борьба против вдовы Германика будет усиливаться, а дабы оторвать Тиберия от зловредного влияния римской знати и высших магистратов, хитроумный префект, используя мнительность и подозрительность императора, вознамерился убедить его покинуть столицу и поселиться где-нибудь в приятном месте подальше от семи холмов Рима. Понятно, что в этом случае префект, оставаясь в Риме, являлся бы важнейшим доверенным лицом принцепса в столице. А поскольку вся связь императора с Римом неизбежно шла бы через преторианцев, Сеяну подчиненных, то он действительно становился бы вторым человеком в Империи.
В борьбе с влиянием Агриппины в императорской семье судьба благоприятствовала Сеяну. Некто Домиций Афр, бывший претор, обвинил двоюродную сестру вдовы Германика Клавдию Пульхру в разврате, в прелюбодеянии и, самое страшное, в ворожбе и злоумышлении на жизнь Тиберия. Над ней нависла грозная опасность, и мать Гая, чтобы спасти ее, обратилась непосредственно к Тиберию. Явившись в покои принцепса, она застала его за принесением жертвы своему приемному отцу Августу. Зрелище это только усилило гнев горячей и несдержанной Агриппины, и она в лицо открыто заявила Тиберию, что не подобает одному и тому же человеку заниматься закланием жертв божественному Августу и преследованием его потомков
{151}. Из этих слов прямо следовало обвинение самого принцепса в фабрикации дела Пульхры и в сознательном стремлении извести семью основателя принципата. Единственной же причиной преследования своей двоюродной сестры гневная Агриппина назвала ее преданность, добавив, что «незачем прикрываться именем Пульхры»
{152}. Тиберий же, остановив ее за руку, произнес греческий стих: «Ты, дочка, считаешь оскорблением, что не царствуешь?»
{153}
Пульхра и ее любовник Фурний были осуждены, а их обвинитель Афр заслужил славу первостепенного оратора.
Что здесь произошло на самом деле — сказать сложно. Агриппиной, скорее всего, двигали родственные чувства и серьезные подозрения, что обвинение сестры будет использовано против нее. В то же время нам неизвестно, насколько добродетельна была Клавдия Пульхра. В конце концов, прелюбодеяние — не самый редкий порок. Не так давно Августу пришлось за разврат осудить собственную дочь. И вообще-то странной представляется мысль, что Домиций Афр, изобличая безнравственность Пульхры, метил и в Агриппину, славившуюся своей добропорядочностью и целомудрием. Думается, столь печальный оборот эта история приобрела как раз из-за мнительности Агриппины и ее несдержанности, толкнувших ее на несправедливое обвинение Тиберия, что было крайне неосторожно и не очень-то умно.
Тиберий, кстати, даже постарался смягчить ситуацию. Когда вскоре после случившейся размолвки Агриппина заболела, он навестил ее. Но примирения не произошло. Агриппина сначала долго плакала, потом стала осыпать императора упреками и наконец попросила его устроить ее личную жизнь, подыскав достойного супруга. Просьба не слишком удивительная, ведь вдова Германика была еще достаточно молода… Но Тиберий, и без того подозревавший Агриппину в желании царствовать, не мог не увидеть во внезапных мечтах невестки о замужестве проявления тех самых властолюбивых амбиций. Принцепс молча покинул ее, и сколько она затем ни обращалась к нему с этой просьбой, ответом ее не удостоил.
Сеян, внимательно следивший за развитием взаимоотношений Тиберия и Агриппины, не мог не радоваться происходящему. Чувствуя, что ветер дует в его паруса, он подослал к Агриппине мнимых доброжелателей. Те, пользуясь крепнущей неприязнью вдовы Германика к свекру, сумели убедить ее, что во дворце Тиберия для нее уже изготовлен яд, каковой ей в ближайшее время дадут в каком-либо кушанье на трапезе у императора.
Известно, что все горячие, вспыльчивые люди не только неосторожны, но и весьма доверчивы. Вот и Агриппина поверила коварным наушникам, ловко подосланным к ней Сеяном. И вот, во время обеда в императорском триклинии (столовой), возлежа за столом рядом с принцепсом, Агриппина подчеркнуто не прикасалась к еде, с угрюмым видом храня молчание. Наконец Тиберий, которого не могло не задевать такое поведение — а что оно означало, догадаться было легко, — решил проверить свои подозрения. Обед близился к концу. Согласно многовековой традиции он обычно завершался яблоками:
«Аb ovo usque ad mala» («От яйца до яблока») — начало и завершение римского обеда. Похвалив стоявшие перед ним плоды, Тиберий протянул Агриппине яблоко, но та, не отведав угощения, передала его рабам. Трудно было сильнее оскорбить императора, тем более что подозрение было необоснованным и незаслуженным.
Тиберий ни слова не сказал оскорбившей его невестке, но, обратившись к Ливии Августе, заметил, что не будет ничего удивительного в том, если он примет суровые меры против той, которая обвиняет в намерении его отравить ее
{154}. После этого он перестал приглашать Агриппину к своему столу
{155}.
Тем временем у принцепса крепло желание покинуть Рим и поселиться вдали от столицы. Наконец Тиберий выехал из Рима на юг, в Кампанию, область, считавшуюся прекраснейшей в Италии. Предлогом для отъезда была необходимость освятить храм Юпитера в Капуе и храм Августа в Ноле. Но больше в Рим Тиберий не вернется.
Каковы были причины отъезда императора из столицы и действительно ли все объясняется только коварными и далекоидущими происками Сеяна? На этот вопрос исчерпывающий ответ попытался дать Публий Корнелий Тацит:
«Хотя его удаление, следуя за большинством писателей, я объяснил происками Сеяна, но так как, расправившись с ним, Тиберий еще целых шесть лет прожил в таком же уединении, я часто задумываюсь, не правильнее ли было бы усматривать причину его отъезда в его личном желании прикрыть свою жестокость и любострастие, как бы они ни обнаруживались его поступками, хотя бы своим местопребыванием. Были и такие, кто полагал, что в старости он стыдился своего облика: он был очень высок, худощав и сутул; макушка головы была у него лысая, лицо в язвах и по большей части залепленное лечебными пластырями, к тому же во время своего уединения на Родосе (имеется в виду добровольное изгнание Тиберия на Родос при Августе. —
И. К.) он привык избегать общества и скрывать утехи своего любострастия. Сообщают также, что его изгнало из Рима и властолюбие матери, которую он не желал признавать своей соправительницей и от притязаний которой не мог избавиться, так как самая власть досталась ему в дар от нее. Ибо Август подумывал, не поставить ли во главе государства внука своей сестры, всеми восхваляемого Германика, но, вынужденный сдаться на просьбы жены, усыновил Тиберия, повелев ему то же сделать с Герма-ником. Этим и попрекала его Августа, постоянно требуя от него благодарности»
{156}.
Как известно, и смерть матери не подвигла Тиберия на возвращение в Рим. Должно быть, удручающие перемены во внешности, с годами только усугублявшиеся, старческое любострастие и, безусловно, желание быть подальше как от «людей, созданных для рабства», так и от тех, кто представлялся ему опасным, и определили поведение Тиберия в последние десять лет его правления.
Тем временем, казалось, сама судьба посылала подарок за подарком Сеяну. Тиберий с приближенными, среди которых, разумеется, был и Сеян, пировал в естественном гроте на вилле, справедливо носившей название «Пещера». Внезапно у самого входа в грот произошел обвал и обрушившиеся камни завалили несколько человек. Остальных охватила безудержная паника, и все участники пиршества немедленно разбежались, даже не помышляя о судьбе замешкавшегося в гроте пожилого императора. Один только Сеян остался при Тиберии и прикрыл его своим телом от сыпавшихся камней. В этой героической позиции он и был обнаружен подоспевшими для спасения принцепса воинами-преторианцами. С этого дня доверие Тиберия к Сеяну стало безграничным.
Случившееся стало для Тиберия очередным доказательством ничтожества окружавших его людей: ведь бросили, трусливо разбежались, даже не попытавшись спасти правителя Рима. Один Сеян проявил себя безупречно. Кому же теперь верить? Только ему!
Вне всякого сомнения, Сеян совершенно искренне взволновался за жизнь Тиберия. Не станет его — к власти придет один из сыновей ненавистной Агриппины, и тогда Сеян в лучшем случае потеряет свой пост, а в худшем… Но в любом случае поступок его был достойным и мужественным. Прикрывая Тиберия своим телом, он действительно рисковал, и, окажись сыпавшиеся камни покрупнее или замешкайся преторианцы, гибель префекта могла быть неизбежной.
Усиление своего положения при императоре Сеян немедленно использует для начала атаки на детей Агриппины. Двое из ее сыновей уже люди взрослые, старший из них, Нерон, всеми почитался как ближайший преемник Тиберия, а поскольку последнему уже под семьдесят, то в сложившейся ситуации необходимо поспешать. И Сеян поспешает.
Он находит невольных сообщников среди клиентов и вольноотпущенников Нерона. Не сомневаясь в скором наступлении принципата своего патрона, они постоянно внушают молодому человеку, что ему следует активнее выказывать смелость и независимость, чего, по их словам, желает римский народ, желает войско. Под влиянием своих недальновидных приближенных старший из сыновей Агриппины допускает ряд промахов. У него вырываются порой слова дерзкие, необдуманные, которые окружающими легко могут быть истолкованы как стремление к скорейшему овладению высшей властью. Понятное дело, нашлись доносители, доведшие до сведения Тиберия о коварных замыслах Нерона, а поскольку из двух старших сыновей Агриппина больше отличала Нерона, то для стареющего принцепса это было лишним доказательством властолюбивых намерений сына Германика. Дабы держать Нерона под постоянным наблюдением, Тиберий использовал свою внучку Юлию, дочь Друза, бывшую супругой Нерона. Она добросовестно сообщала своей матери Ливии Августе буквально о каждом вздохе своего мужа, а та делилась этими сведениями с Сеяном. Любые слова злосчастного молодого человека, могущие быть истолкованными как крамольные, выдающие его стремление к власти, каковую надлежало вырвать из слабеющих старческих рук Тиберия, становились известными престарелому принцепсу.
Удалось Сеяну вбить клин и между братьями. Друз, ревновавший к Нерону, поскольку тот был более отличаем матерью, обладал характером злопамятным и действительно был не лишен властолюбия в отличие от старшего брата, коему сие опасное качество упорно пытались приписать. Друз, доверившись Сеяну, не подозревал, что происки Сеяна направлены не против одного Нерона, но против всего мужского потомства Германика и Агриппины. Помогая префекту против брата, он рыл яму и самому себе.
Единственный, кого эта тайная война не касалась, о ком пока никто не вспоминал, это наш герой, Гай Цезарь Калигула, мужавший под присмотром обожавшей его Агриппины. Он был лишь третьим из сыновей Германика, не достиг еще совершеннолетия, а потому скрытые от большинства окружающих смертоносные бури, бушевавшие в большой императорской семье, покуда его не задевали.
Тем временем Тиберий после освящения храмов в Капуе и Ноле отплыл на остров Капрею (Капри), показавшийся ему замечательным местом для уединения, поскольку был мощной природной крепостью: высадиться на него можно было только в одном месте, где была небольшая гавань. «С остальных же сторон он был огражден крутизной высочайших скал и глубью моря»
{157}. Вскоре, правда, ему пришлось покинуть Капрею, поскольку близ Рима, в Фиденах, обрушился переполненный людьми амфитеатр, где проходил гладиаторский бой. Погибли, по одним сведениям, до двадцати тысяч человек
{158}, по другим — до пятидесяти тысяч
{159}. Это трагическое происшествие многие в Риме поставили в вину Тиберию, поскольку он не желал тратить большие деньги на любимые народом развлечения.
Тиберий, как всегда, в трагических для римского народа ситуациях проявил себя достойно. Была оказана всемерная помощь пострадавшим, сам принцепс при известии о страшном бедствии в Фиденах немедленно вернулся с Капреи в Италию. В эти дни он принимал с просьбами всех желающих, и никто не остался без вспомоществования. Тогда в Риме были живы славные обычаи предков: знатные люди открыли двери своих домов для пострадавших, всем оказывали врачебную помощь, снабжали лекарствами. Были приняты все меры, чтобы в дальнейшем не допустить подобных катастроф.
Вскоре Тиберий отправился в добровольное изгнание. Рим более не видел своего повелителя. Последнее десятилетие правления император провел на Капрее. Когда-то Тиберий уже провел восемь лет на острове (с 6 года до н. э. до 2 года н. э.). Тогда пребывание на Родосе было следствием охлаждения к нему Августа и в конце концов с 1 года до н. э. стало официальной ссылкой. Ныне он сам решил укрыться на острове, избегая опасностей жизни в столице. Тем не менее он продолжал зорко следить за всем происходившем в Риме. Прежние подозрения в отношении Агриппины и ее потомства у него только крепли. В 29 году в возрасте восьмидесяти шести лет скончалась Ливия Августа. Осиротевший Тиберий не особенно скорбел по ушедшей из жизни матери, он даже отказался должным образом почтить ее память, хотя многие относились к великой Ливии Августе с большим почтением. К примеру, историк Веллей Патеркул писал о ней как об исключительной женщине, более подобной богам-мужчинам, нежели женщинам
{160}.
Когда Августы не стало, Тиберий обрушил свой гнев на несчастную семью Германика. Такой решительный поворот опять-таки не обошелся без содействия Сеяна. Приставленные им к Агриппине и ее старшим сыновьям соглядатаи отслеживали буквально каждый их шаг. Более того, к ним постоянно подсылались провокаторы, уговаривавшие их немедленно бежать на рейнскую границу к германским легионам, якобы готовым в память о Германике поддержать его семью в борьбе против Тиберия. Были советы и совсем уж нелепого толка: Агриппине с сыновьями предлагали в самый людный час на форуме, обняв статую божественного Августа, воззвать к сенату и римскому народу о помощи против Тиберия. Понятное дело, советы эти Агриппиной отвергались, но поскольку она не изобличала гнусных советчиков, не отдавала их в руки властей для законной кары, то Сеян представлял происходившее Тиберию как подготовку к осуществлению переворота, а отказ немедленно следовать советам — как обычную осторожность заговорщиков.
Смерть Ливии Августы развязала врагам семейства Германика руки. Не то чтобы мать Тиберия была покровительницей Агриппины и ее детей, но она не желала раскола в большой императорской семье, могущего обернуться самыми печальными последствиями для складывающейся династии, ибо выгоден он был более всего Сеяну, чего мудрая Августа не могла не понимать. Потому-то она и задержала у себя не без наущения написанное от имени Тиберия послание сенату, направленное против Агриппины и Нерона. Когда Ливия ушла из жизни, письмо это наконец-то попало в сенат. Впрочем, несмотря на резкий тон письма, политических обвинений в нем не было. Нерон осуждался за любовные связи с юношами, а Агриппина укорялась за надменность и строптивый нрав. Неясно, действительно ли старший брат Гая погряз в разврате однополых связей, но матери его и надменность, и строптивость были свойственны. С другой стороны, эти, пусть и не лучшие человеческие качества, вовсе не повод для сурового наказания, что же до обвинений против Нерона, то их все считали измышленными
{161}.
Вопиющее несоответствие официальных обвинений и требований самого сурового приговора, с предложением какового настойчиво изъявлял желание выступить сенатор Котта Мессалин, многих «отцов, внесенных в списки»
(patres conscripti) — обычное обращение к сенаторам — не могло не смутить. Как-никак резкий тон письма не обозначал точно истинных намерений Тиберия, а уж «состав преступления» вызывал скорее недоумение. Потому-то виднейший сенатор Юний Рустик, удостоенный Тиберием почетной и ответственной обязанности вести протоколы заседаний сената, поддержал тех, кто сомневался в необходимости осудить Агриппину и Нерона. Более того, он стал увещевать консулов не начинать разбирательства этого явно сомнительного дела и заключил свою речь словами, «что важные последствия могут зависеть от ничтожнейших обстоятельств и что старик, быть может, когда-нибудь стал бы раскаиваться в истреблении семейства Германика»
{162}.
Подкреплением здравой речи Юния Рустика стало поведение народа. Толпа окружила курию, где заседал сенат. Люди несли изображения Агриппины и Нерона и возглашали здравицу Тиберию, не веря в намерение принцепса расправиться с родственниками. «Письмо подложно!» — раздавались в толпе крики. Сенат, вняв доводам Юния Рустика, облеченного высоким доверием принцепса, учел и мнение римлян, выражавших не только желание защитить от расправы родных Германика, но и совершеннейшую преданность Тиберию, и не решился принять «прискорбные решения». Увы, глас сената римского народа в Империи уже мало что решал, если противоречил воле императора. Тиберий издал специальный указ, где выразил порицание простому народу, Юния Рустика же прямо назвал предателем, подвергшим императорское величие публичному оскорблению. Вновь Тиберий повторил те же обвинения в адрес Агриппины и Нерона, а решение вопроса об их наказании потребовал передать на свое усмотрение. Сенат безропотно покорился.
Агриппина была приговорена к ссылке на остров Пандатерию в Тирренском море. Когда она попыталась роптать, то центурион, присланный за ней и получивший, очевидно, самые строгие указания, не задумываясь прибег к побоям и выхлестнул несчастной глаз. Когда же в ссылке она попыталась уморить себя голодом, Тиберий приказал насильно кормить ее. При этом он не уставал говорить о своем милосердии: ведь он не приказал удавить ее и бросить на лестницу Гемоний
{163}.
Разгневанный попыткой сената заступиться за семью Германика, Тиберий увеличил число осужденных. Наряду с Нероном врагом отечества был объявлен и Друз. Нерона отправили в ссылку на остров Понтию, также в Тирренском море, где год спустя он был умерщвлен голодом. Говорили, правда, что несчастный сам покончил с собой, когда к нему явился палач с петлей и крючьями. Друз же был заточен в подземелье дворца Тиберия на Палатине. Заточение его продлилось четыре года, затем и его ждала голодная смерть: голод измучил Друза до того, что он пытался грызть солому из тюфяка
{164}. В том же 33 году умерла и Агриппина.
А где же в это время пребывал наш герой? Ведь страшная участь матери и братьев не могла не потрясти его, не оставить глубокой раны на его сердце.
Гай Цезарь, очевидно по причине своего юного возраста, избег обвинений и опалы. Единственно, напомним, он был вынужден расстаться с матерью и оказался под присмотром своей бабки Антонии. Но будущее его представлялось опасным. Сеян, возжелавший покончить со всей ненавистной и опасной для его замыслов семьей Германика, готовил удар и по Калигуле. Бывший претор Секстий Пакониан, имевший, вероятно, заслуженную репутацию наглого негодяя, умело выведывающего чужие тайны, что было постоянным его занятием, должен был по заданию префекта претория подготовить западню для последнего сына Агриппины и Германика…
{165} Дело свое Пакониан делал, должно быть, без спешки, тщательно, и это спасло Гая. В конце лета 31 года, в канун своего девятнадцатилетия, он был вызван Тиберием на Капрею. Здесь и состоялся обряд, посвященный достижению им совершеннолетия. В этот день он надел тогу, подобавшую взрослому римлянину, и впервые побрился.
Совершеннолетие Гая, однако, Тиберий распорядился не проводить торжественно
{166}. В то же время, дабы никто, кроме него самого, не мог знать об истинном статусе Гая на Капри, Тиберий назначает его жрецом-авгуром на место его заточенного в подземелье Палатинского дворца брата Друза, и еще до посвящения Гая возводят в сан понтифика. Вскоре Тиберий устраивает и первый брак Гая, определив ему в невесты Юнию Клавдилу, дочь одного из самых знатных римлян Марка Силана. Это выглядело уже явным благоволением принцепса к своему внучатому племяннику, а с учетом усыновления Тиберием Германика — официальному внуку. Такие знаки расположения императора к Гаю не прошли незамеченными окружающими. Кто знает, как повернулись бы события дальше и какова была бы судьба нашего героя при дворе Тиберия, если бы Сеян сумел удержаться в роли виднейшего из приближенных императора. Но тому, кто живет под властью тирана, не подобает уповать на постоянство своего положения. Сеян причинил немало зла, ненавидели его многие, да и самые замыслы его были опасны и для него самого. Ведь Тиберий мог ценить его только как вернейшего помощника, но никак не претендента на высшую власть. А то, что Сеян стремился к высшей власти, сомнений не вызывает.
Надо помнить, что для римлянина честолюбие, стремление достичь наивысшего успеха в деле, которому он посвятил свою жизнь, были нормой. Скромность — черта, пришедшая в римский мир только в эпоху торжества христианства. Истинный римлянин никогда не мог принять этой христианской добродетели. Стремление к власти как высшее проявление честолюбия с точки зрения римлянина было безусловной добродетелью, достоинством. В былые республиканские времена подобные устремления имели предел — законное избрание на консульскую должность. Вспомним знаменитого честолюбца Луция Сергия Каталину. Он трижды пытался законным путем стать консулом и, только отчаявшись после третьей неудачи и видя в ней происки коварных недругов, решился на бестолковый, к слову сказать, заговор и безнадежный мятеж. Кризис республики породил у выдающихся полководцев, каковыми всегда был славен и изобилен Рим, мечты о единоличной власти. За нее уже боролись Марий и Сулла, она была заветной мечтой гениального Цезаря, и он достиг ее осуществления, но из-за заговорщиков, пытавшихся кинжалами спасти проигранное дело республики, не сумел должным образом ею воспользоваться. С наступлением же имперской поры высшее проявление мечты — власть принцепса, императора. И здесь сразу появляется ограничение: чтобы претендовать на высшую власть в Империи, должно принадлежать либо к роду Юлиев, из которого вышли два первых цезаря — божественные Юлий и Август, либо к роду Клавдиев, подобно Тиберию, поскольку мать его была верной женой Августа и добилась усыновления им своего сына. Отсюда и традиционное наименование первой правящей династии Римской империи Юлии — Клавдии. Но, с другой стороны, ни в каких законах не было указано, что принцепс непременно должен быть из Юлиев — Клавдиев и само правление в Римской державе отныне носит династический характер. Все понимали, что окажись в свое время удачливее иные полководцы, то правили бы в Риме то ли Помпеи, то ли Антонии. Короче, главное — удачливость и конечный успех. И здесь не самое знатное происхождение Сеяна не должно воспринимать как сколь-либо серьезную помеху в его властолюбивых замыслах. Ведь Гай Марий не просто в седьмой раз стал консулом. В те дни, когда он овладел Римом на рубеже 87–86 годов до н. э., он вел себя как единовластный его правитель, пусть и имел коллегу по консульству Луция Корнелия Цинну. И аристократ Цинна во всем следовал за ним, не оспаривая однозначно первенствующего положения безродного муниципала… а Сеян по сравнению с Марием происхождения куда более благородного. Вспомним, что сорок лет спустя после описываемых нами событий новую династию в Римской империи приведет к власти человек совершенно незнатного рода, изображений предков не имевший. Но главным будет то, что стыдиться его государству не придется
{167}. Сеян, напомним, пытался поправить свою незнатность вхождением в семью Тиберия, но встретил внешне мягкий, но решительный по сути отказ. При таком обороте дела Сеяну необходимым становилось планомерное уничтожение мужского потомства Германика, поскольку после смерти Друза именно из него мог со временем появиться новый принцепс. Ведь сын покойного Друза, родной внук Тиберия Тиберий Гемелл был слишком мал и потому в число первоочередных воспреемников власти дряхлеющего принцепса пока не входил.
31 год казался Сеяну несомненно удачным. В начале его он стал консулом, коллегой его был сам Тиберий. Более того, Сеяну удалось добиться от Тиберия для себя проконсульского империя и власти трибуна, что, в сущности, превращало его во второго человека в государстве
{168}. Похоже, на самом деле «Сеян замышлял переворот, и уже день рождения его праздновался всенародно, и золотые изображения его почитались повсюду»
{169}. Но здесь всесильный, казалось, префект претория совершил роковую ошибку. Он попытался обвинить в оскорблении величества старейшего друга Тиберия, легата провинции Ближняя Испания, Луция Аррунция. Этого Тиберий уже не стерпел. Со старого воина было снято обвинение. Более того, согласно императорскому указу запрещалось отныне обвинять в чем-либо легатов во время исполнения ими своих должностных обязанностей. Префект претория, выдвинув обвинение против старого воина, допустил роковую ошибку. В Тиберии проснулся полководец. Как можно отдать на расправу за какую-то болтовню заслуженного военачальника, с которым императора связывали старинная дружба и совместные походы? Одно дело, карать болтунов-сенаторов, но губить воина, да еще по наущению человека, никаких воинских заслуг не имеющего? Никогда! Отсюда и такой решительный указ в защиту легатов. Те, кто командует легионами, неприкосновенны для всякого рода доносителей, цену которым Тиберий конечно же знал прекрасно. Да, крайне неосторожно затронул префект в Тиберии «военную косточку»! Встревоженный Сеян, должно быть, попытался перейти к решительным действиям по захвату власти, но здесь в дело вмешалась ненавидевшая его по вполне понятным причинам бабушка Гая Антония. Она написала Тиберию подробнейшее письмо, в котором сообщала о задуманном Сеяном покушении на жизнь императора. Возможно, ей удалось раздобыть действительные сведения о зловещих планах префекта претория. Преданнейший из слуг Антонии Паллас доставил разоблачительное послание Тиберию, тот воспринял его самым серьезным образом и немедленно принял меры
{170}. Помимо письма Антонии Тиберий получил от некоего Сострия Секунда еще одно донесение о заговоре Сеяна, что окончательно убедило его в необходимости расправы с зарвавшимся неблагодарным фаворитом.
17 октября 31 года Тиберий назначил нового префекта претория Квинта Невия Корда Сертория Макрона. Преторианцам от имени императора выдали по тысяче денариев, дабы обеспечить их верность. В курию, где заседал сенат, явился ничего не подозревающий Сеян, которому посланец Тиберия Меммий Регул сообщил, что в письме сенату император просит для него трибунскую власть. Зачитано Регулом в сенате, разумеется, было послание совсем иного содержания, из коего явствовало, что Сеян — преступный заговорщик. Сенат немедленно принял постановление, осуждающее Сеяна. Растерявшийся префект претория не мог оказать никакого сопротивления. Он был схвачен и немедленно казнен
{171}.
Столь стремительное падение и бесславная гибель всемогущего, казалось, фаворита настолько потрясла Рим, что город охватило настоящее безумие. Валили статуи Сеяна, уничтожали его изображения, хладное тело его на три дня стало предметом глумления толпы и, только когда добрые римляне пресытились унижением останков того, перед кем совсем недавно трепетали, было сброшено в Тибр.
О творившемся в эти октябрьские дни 31 года кошмаре в Риме бессмертные строки оставил великий Ювенал. Вот отрывок из его, возможно, самой знаменитой X сатиры:
Власть низвергает иных, возбуждая жестокую зависть
В людях; и почестей список, пространный и славный, их топит.
Падают статуи вслед за канатом, который их тащит,
Даже колеса с иной колесницы срубает секира,
И неповинным коням нередко ломаются ноги;
Вот затрещали огни, и уже под мехами и горном
Голову плавят любимца народа: Сеян многомощный
Загрохотал; из лица, что вторым во всем мире считалось,
Делают кружки теперь, и тазы, и кастрюли, и блюда.
Дом свой лавром укрась, побеливши быка покрупнее,
На Капитолий веди как жертву: там тащат Сеяна
Крючьями труп напоказ. Все довольны. «Вот губы, вот рожа!
Ну и Сеян! Никогда, если сколько-нибудь мне поверишь,
Я не любил его. Но от какого он пал преступленья?
Кто же донес? И какие следы? И кто был свидетель?» —
«Вовсе не то: большое письмо пришло из Капреи,
Важное». — «Так, понимаю, все ясно. Но что же творится
С этой толпой?» — «За счастьем бежит, как всегда, ненавидя
Падших. И той же толпой, когда бы Судьба улыбнулась
Этому туску, когда б Тиберия легкую старость
Кто придавил, — ею тотчас Сеян был бы Августом назван.
Этот народ уж давно, с той поры, как свои голоса мы
Не продаем, все заботы забыл, и Рим, что когда-то
Все раздавал: легионы, и власть, и ликторов связки,
Сдержан теперь и о двух лишь вещах беспокойно мечтает:
Хлеба и зрелищ!» — «Грозит, наверное, многим уж гибель!» —
«Да, без сомненья: ведь печь велика. Где жертвенник Марса,
Встретился мне мой Бруттидий, совсем побледневший, бедняга.
Как я боюсь, что Аякс побежденный примерно накажет
Нас за плохую защиту! Бежим поскорее, покуда
Труп на прибрежье лежит и недруга Цезаря — пяткой!
Пусть только смотрят рабы, чтобы кто отказаться не вздумал.
Не потащил, ухватив за шею, на суд господина».
Вот как болтали тогда о Сеяне и тайно шептались.
Хочешь ли ты, как Сеян, быть приветствуем, так же быть в силе,
Этих на кресла сажать курульные ради почета.
Тем войсковую команду давать, императорским зваться
Опекуном, пока сам пребывает на тесной Капрее,
С кучкой халдеев? Ты хочешь, конечно, конвоя и копий,
Всадников лучших и войск в столице, — не правда ли, хочешь?
Хочется власти и тем, кто совсем убивать не хотел бы.
Что — настолько блестяще и счастливо в жизни, что мера
Радостных этих вещей равнялась бы мере несчастий?
Что предпочтешь ты — одеться в претекоту хотя бы Сеяна
Или начальством в Фиденах и Габиях быть деревенским,
Жалким эдилом служить в захолустье улубрском и кружки
Неполномерные бить, учиняя над ними расправу?
Стало быть, ты признаешь, — неизвестным осталось Сеяну
То, чего надо желать; добиваясь почета не в меру,
К власти чрезмерной стремясь, готовил себе он ступени
Многие башни высокой, откуда падение глубже
В пропасть бездонную, как от толчка развалилась постройка.
Что погубило Помпея и Красса и что — триумвира,
Им укрощенных квиритов однажды приведшего к плети?
Высшее место, конечно, добытое хитрым искусством,
Слишком большие желанья: им вняли коварные боги
{172}.
Ювенал глубже всех понял суть происшедшего. Не преступления погубили Сеяна, но слишком большие желания. Желания власти. А отвращение здесь вызывает не казненный преступник — преступник с точки зрения императора, а скудоумная злобная толпа, готовая глумиться над всяким павшим, особенно если до этого перед ним трепетала. Перехитри Сеян Тиберия — толпа терзала бы другой труп, другого бы славословила, но было бы все это точно так же омерзительно.
Почти все римские историки отнеслись к Сеяну отрицательно. Как злодей он описан и Тацитом, и Светонием, и Дионом Кассием. Единственно Веллей Патеркул нашел о Сеяне добрые слова, воспев его трудолюбие, требовательность к себе и подчиненным, заботу о безопасности императора и государства
{173}. Но он писал свою историю в 30 году, когда Сеян был на вершине могущества. Вольно было творить Тациту и Светонию в прекрасные времена правления Антонинов во II веке, когда на несколько десятилетий, казалось, понятия империя и свобода в Риме слились воедино. Никогда в эпоху Империи римляне не творили так свободно, как при Траяне (98—117), Адриане (117–138), Антонине Пие (138–161), Марке Аврелии (161–180). Да и Дион Кассий, писавший во времена династии Северов (193–235), ничем не рисковал, ибо эти императоры мнили себя наследниками Антонинов и при всей суровости иных из них свободу творчества историков не ограничивали. Веллей Патеркул же, живя и творя при Тиберии, которого искренне боготворил, поскольку в молодости доблестно сражался под его знаменами, оценивал Сеяна так, как на то время оценивал его сам принцепс. Думается, проживи Патеркул поболе, продли он свою историю на несколько лет, и Сеяну от него тоже досталось бы, поскольку на деле он оказался опаснейшим врагом обожаемого императора.
Сеян свою участь заслужил, но расправа коснулась и всех его близких, и тех, кто как-либо был с ним связан или представлялся таким. Последовали самые многочисленные казни времени правления Тиберия. По свидетельству Светония, «больше всего смертей повлекла гибель Элия Сеяна»
{174}. «Произошло страшное избиение, — пишет Тацит, — и на Гемониях лежало несметное множество убитых обоего пола, всякого возраста, знатных и из простого народа, брошенных поодиночке или сваленных в груды. Ни близким, ни друзьям не дозволялось возле них останавливаться, оплакивать их сколько-нибудь, подолгу смотреть на них; сторожившие их со всех сторон воины, внимательно наблюдая за всеми, так или иначе проявлявшими свою скорбь, неотступно следовали за разложившимися телами, пока их волочили к Тибру. Они уплывали вниз по течению, или их прибивало к берегу, и никто к ним не притрагивался и не предавал их сожжению. Так сознание общности жребия человеческого подавлялось силой страха, и чем больше свирепствовала жестокость, тем больше преград встречало сострадание»
{175}.
Самым отвратительным событием этой расправы стала казнь ни в чем не повинных детей падшего фаворита, его несовершеннолетних сына и дочери. Как пишет Тацит, «их доставляют в темницу, причем мальчик догадывался, какая судьба его ожидает, а девочка была еще до того несмышленой, что спрашивала, за какой проступок и куда ее тащат, говорила, что она больше не будет так делать, пусть лучше ее отстегают розгами. Писатели того времени передают, что, так как удавить девственницу было делом неслыханным, то палач сперва надругался над ней, а потом уже накинул на нее петлю; после того, как они были задушены, их детские трупы выбросили на Гемонии»
{176}.
Не убереглась от гибели и бывшая жена Сеяна Апиката, успевшая перед смертью сообщить об обстоятельствах смерти сына Тиберия Друза. Возможно, она молчала до поры до времени, опасаясь расправы со стороны всесильного бывшего мужа, а после гибели его, когда нечего было терять, она могла надеяться заслужить пощаду, а в худшем случае, как оно и получилось, отомстить ненавистной Ливии Ливилле, разбившей ее семейную жизнь.
По показаниям Апикаты были подвергнуты пытке соучастники преступления врач Евдем и евнух Лигд. Картина гибели Друза в результате преступного заговора была полностью восстановлена, и Ливия Ливилла понесла суровое наказание. Она была казнена. Казнили ее, правда, не в Мамертинской тюрьме, где обычно в подземелье палач душил осужденных, а в собственном доме. Должно быть, сыграло роль ее происхождение… Так еще одна представительница семьи Германика стала жертвой правления Тиберия. Жертвой, однако, совсем не безвинной, что отличает ее судьбу от участи несчастной Апикаты и детей Сеяна. Как обычно в истории, трагедия безвинных — следствие вины виноватых, но никакая вина не может служить оправданием трагедии невинных.
Гибель Сеяна совершенно не отразилась на участи сосланной на Пандатерию Агриппины и продолжавшего томиться в палатинском подземелье Друза (Нерон погиб на Понтии за год до изобличения префекта претория). Любопытно, что «тем не менее Тиберий не поколебался написать в составленной им краткой и беглой записке о своей жизни, что Сеяна он казнил, когда узнал, как тот свирепствовал против детей его сына Германика»
{177}. Но дела престарелого императора здесь решительно расходятся с его словами: Агриппина и Друз погибли в 33 году, почти два года спустя после изобличения и казни Сеяна. «Из этого яснее видно, что Сеян обычно не подстрекал его, а только шел навстречу его желаниям»
{178}. В деле Агриппины и ее старших сыновей все именно так и обстояло.
А вот в отношении дочерей Агриппины и Германика, сестер Гая, Тиберий был милостив. Они не только не знали опалы и гонений, но и обрели супругов стараниями принцепса.
Первой из них он выдал замуж сестру Калигулы Агриппину, вошедшую в историю под именем Агриппины Младшей. Мужем ее стал Гней Домиций Агенобарб, знаменитый древностью своего рода, а также состоявший в кровном родстве с Юлиями, поскольку был внуком сестры Августа Октавии, а ему, соответственно, приходился внучатым племянником. Высокородность супругов обеспечит августейшее положение и их сыну, Луцию Домицию Агенобарбу, вошедшему в историю под именем императора Нерона, правлением которого и суждено будет завершиться в Риме династии Юлиев — Клавдиев. В 33 году, в год гибели Агриппины и Друза, Тиберий после долгих раздумий решил устроить семейную жизнь двух других сестер Гая — Друзиллы и Юлии, поскольку обе они достигли уже брачного возраста. Мужем Друзиллы, самой любимой Гаем и близкой ему сестры, стал Луций Кассий Лонгин. Род Кассиев был плебейским, но очень древним и знаменитым. Особенно прославлен был он Гаем Кассием Лонгином, пламенным республиканцем и одним из убийц Гая Юлия Цезаря, соратником Марка Юния Брута в гражданской войне против Октавиана и Антония. Тиберий, как мы помним, запретил сочинение Корда, где отдавалась дань уважения Бруту и Кассию, покарав и самого историка. Но на потомка гнев его, видимо, не распространялся, тем более что отец мужа Друзиллы воспитывал сына в строгости и, надо думать, в верности императорской власти.
Мужем Юлии стал Марк Виниций, провинциал. Дед и отец его достигали консульского звания, но сама семья принадлежала к всадническому сословию. Марк отличался мягким, добродушным нравом. Эти же качества были присущи и Луцию Кассию. Тиберий сообщил сенату о замужестве дочерей Агриппины, сдержанно похвалив их молодых мужей.
Занявшись устройством личной жизни сестер Гая, Тиберий, скорее всего, хотел подобрать им таких мужей, какие не стали бы, используя обретенное высокое родство, опасными для его правления. Гней Домиций Агенобарб, правда, имел самую дурную славу на редкость порочного человека, но именно это и делало его безопасным для Тиберия. Тем более что никого из супругов и близко к делам государства не подпускали.
В самом непростом положении из всех членов разгромленной Тиберием семьи Германика и Агриппины оставался наш герой. Гибель Сеяна спасла его от опаснейших происков всесильного префекта претория и его сообщника Секетия Пакониана. Если Тиберию и стало известно о недобрых замыслах Сеяна в отношении Гая Цезаря, то уже после октября 31 года. Это было скорее в его пользу, ибо тот, кого хотел погубить злодей, скорее всего, невинен. Причин опасаться Гая у принцепса не было, поскольку молодой человек в силу своих лет не мог быть замешан ни в какую политическую интригу. Тиберий вызвал Гая на Капрею, дабы оградить его от всяких зловредных влияний и держать под своим неусыпным контролем. Намереваясь, безусловно, сохранить за родом Юлиев — Клавдиев императорскую власть, дряхлеющий принцепс не мог рассчитывать на единственного прямого потомка Тиберия Гемелла, сына Друза. Гай Цезарь Калигула должен был как бы страховать сохранение высшей власти в руках складывающейся династии. Тиберия при этом совершенно не смущало то обстоятельство, что оба его вероятных преемника лишились своих матерей по его воле. Конечно, Ливия Ливилла была преступна, но ведь и Агриппина казалась таковой принцепсу, пусть мы и знаем, что мать Гая не то что преступного, ни одного недостойного поступка в жизни своей не совершила. У Тиберия же был свой особый взгляд на вещи, и непокорность, гордость, неукротимость Агриппины, с его точки зрения, были опасны для его правления, а значит, и преступны. При этом он совершенно не брал в расчет сыновних чувств Гая. Возможно, сам не любивший мать, он предполагал такие же чувства у всех прочих людей… а скорее, просто не желал задумываться, каково сыну находиться при особе того, кто заточил его мать и старших братьев, а потом и обрек их на мучительную смерть. Наверняка то, насколько Гай проявит свои чувства, узнав о смерти матери, и было для него важнейшей проверкой лояльности.
Вот в такой тяжелейшей обстановке Гаю и пришлось жить на Капрее.
Глава IV
«СТАРИК КОЗЕЛ ОБЛИЗЫВАЕТ КОЗОЧЕК»
Остров Капрея (Капри), на котором решил провести свои последние годы престарелый Тиберий, уже более полувека был императорским владением. В 29 году до н. э. он перешел к Октавиану. Первый принцепс Империи и второй Цезарь, принявший в январе 27 года до н. э. имя Август, полюбил этот изумительно красивый остров, велел построить себе на нем виллу и часто проводил на ней время. Император увлекался собиранием древних и редких вещей, которыми украшал свои виллы. Не стала исключением и вилла Августа на Капрее. Здесь его коллекцию составили «доспехи героев и огромные кости исполинских зверей и чудовищ, которые считают останками гигантов»
{179}. Таким образом, собрание редких древностей на капрейской вилле Августа можно считать первым в мировой истории музеем палеонтологии. Это сообщение Светония неожиданно подтвердилось в 1905 году, когда в восточной части побережья Капри рабочие, рывшие котлован для фундамента гостиницы «Квисиана», обнаружили гигантские кости мамонта, носорога и пещерного медведя вместе с каменными орудиями первобытных людей. Возраст находок составлял пятьдесят тысяч лет. Очевидно, подобные экспонаты украшали и виллу Августа на Капрее
{180}.
Тиберий, в отличие от Августа, не наезжавший на остров время от времени, а обосновавшийся там всерьез и надолго, построил на Капрее не одну, как его предшественник, а двенадцать вилл, каждая из которых имела свое название и была не скромным местом отдыха и хранения редкостных древностей, но настоящим дворцом. Самая большая и роскошная из них располагалась в северо-восточной части острова на обрывистой скале, возвышавшейся над морем на 300 метров
{181}. К югу от дворца на расстоянии около 90 метров от входа на самом краю скалы находилась башня Фарос, служившая маяком. Любимейшим местом Тиберия здесь была пещера, расположенная на уровне середины скалы, хорошо заметная с моря, но не имеющая доступа с суши. Она по сей день носит название Грота ди Тиберио. Согласно легенде, он спускался в нее по потайному ходу.
В северо-западной части острова, в уединенном месте высоко над морем, находилась летняя вилла Тиберия, условно именуемая ныне Дамекута. Главной достопримечательностью этой виллы является знаменитый Голубой грот — пещера, залитая водой и доступная только с моря, где она имеет два выхода: один очень узкий, другой — широкий. Солнечный свет, проникая внутрь грота, придает морской воде особый голубой оттенок, давший пещере название
{182}. Тиберий в Голубой грот попадал либо с моря, либо спускался по потайному ходу.
Остальные десять вилл были менее примечательны.
Оказавшись на Капрее, вдали от столицы, Тиберий дал волю всем своим дурным страстям, кои ранее он старался сдерживать. По словам Тацита, «насколько прежде он был поглощен заботами о государстве, настолько теперь предался тайному любострастию и низменной праздности»
{183}.
Строго говоря, и ранее Тиберия сложно было назвать образцом нравственности. В молодости, как уже упоминалось, он грешил пристрастием к вину, что в военной среде, впрочем, едва ли сильно осуждалось. «Потом, уже у власти, уже занятый исправлением общественных нравов, он однажды два дня и ночь напролет объедался и пьянствовал с Помпонием Флакком и Луцием Пизоном. Одного из них он тут же назначил префектом Рима, другого — наместником Сирии и в приказах о назначении величал их своими любезнейшими и повсечасными друзьями. Цестия Галла, старого развратника и мота, которого еще Август заклеймил бесчестием, он при всех поносил в сенате, а через несколько дней сам напросился к нему на обед, приказав, чтобы тот ничего не изменял и не отменял из обычной роскоши и чтобы за столом прислуживали голые девушки. При назначении преторов он предпочел ничтожного соискателя знатнейшим за то, что тот на пиру по его вызову выпил целую амфору вина. Азеллию Сабину он дал 200 тысяч сестерциев в награду за диалог, в котором спорили белый гриб, мухолов и дрозд. Наконец, он установил новую должность распорядителя наслаждений и назначил на нее римского всадника Тита Цезония Приска»
{184}.
Гай Светоний Транквилл — историк скрупулезнейший. Точность — главное качество его сочинения. А поскольку его государственная служба в императорской канцелярии «по ученым делам», где он сначала надзирал за публичными библиотеками, а затем занял высокий пост «советника по переписке» и к нему сходились все отчеты и донесения со всех концов необъятной Римской империи для доклада императору, а затем он составлял и рассылал на места императорские распоряжения, открывала ему доступ в императорские архивы, это гарантировало высокую достоверность фактов
{185}. Когда Светоний сомневался в достоверности сообщаемого им, он всегда предупреждал читателя: «…так говорили». Потому мы не вправе подвергнуть сомнению факты недостойного поведения Тиберия в первые двенадцать лет его правления до отъезда на Капри.
И о чем говорят эти факты? С пристрастием к вину в зрелые годы Тиберий в основном сумел покончить. Единственный недолгий загул — два дня и одна ночь — за многие годы никак не показатель разгульного образа жизни. Какие еще проявления порочности сумел откопать в архивах Светоний? Посещение обеда у Цестия Галла и любование обнаженными прелестями прислуживающих девушек? Поступок, разумеется, нравственно небезупречный, но вызывающий скорее усмешку. Назначение претором молодца, способного за обедом осушить целую амфору вина, тоже необязательно ставить в укор Тиберию. Ведь иные соискатели превосходили его знатностью, но вовсе не деловыми качествами. А почему бы Тиберию не руководствоваться истиной, озвученной спустя девятнадцать столетий Иваном Андреевичем Крыловым: «По мне хоть пей, да дело разумей!» Совсем не обязательно осуждать награждение сочинителя Азеллия Сабина за описание диспута белого гриба, мухолова и дрозда. Ведь это скорее всего была пародия и, возможно, замечательно остроумная. А прекрасное знание Тиберием греческой и римской литературы не позволяет предполагать поощрение им малоталантливого произведения. Наконец, появление специальной должности распорядителя наслаждений и назначение на нее некоего всадника Тита Цезония Приска ничего в осуждение поведения Тиберия не добавляет. Ничего порочащего о самом назначенце Светоний не приводит, как и не указывает, что это были за наслаждения и так ли уж они достойны порицания.
Увы, на Капрее поведение Тиберия разительным образом изменилось. Следует заметить, что он решительно не вовремя умер. Ему бы уйти из жизни лет на десять, а в идеале — на пятнадцать раньше, и вошел бы он в римскую и мировую историю как великий правитель, достойнейший преемник божественного Августа. Все историки отмечали бы его успешную внешнюю политику, неустанную заботу о народе, экономические успехи, а также незаурядные нравственные качества. Последнее разительно отличало бы его от двух первых Цезарей: ведь божественный Юлий слыл «мужем всех жен и женою всех мужей»
{186}, а божественный Август был большим любителем молоденьких девушек, которых ему отовсюду добывала сама жена, Ливия
{187}.
Да, первые десять лет правления Тиберия только что не безупречны. Но после потери сына характер принцепса сильно меняется в худшую сторону, что приводит к поразительной и на редкость отвратительной перемене его нравственного облика. В семидесятилетием императоре известная поговорка: «седина в бороду — бес в ребро» нашла просто фантастическое подтверждение! Человек, о нравственном облике которого прежде никто не мог сказать ничего дурного, как бы стремился наверстать упущенное, дабы ославить себя в веках как самого изощренного развратника:
«…На Капрее, оказавшись в уединении, он дошел до того, что завел особые постельные комнаты, гнезда потаенного разврата. Собранные толпами отовсюду девки и мальчишки — среди них были те изобретатели чудовищных сладострастий, которых он называл «спинтриями», — наперебой совокуплялись перед ним по трое, возбуждая этим зрелищем его угасающую похоть. Спальни, расположенные тут и там, он украсил картинами и статуями самого непристойного свойства и разложил в них книгу Элефантиды, чтобы всякий в своих трудах имел под рукой предписанный образец. Даже в лесах и рощах он повсюду устроил Венерины местечки, где в гротах и между скал молодые люди обоего пола предо всеми изображали фавнов и нимф.
За это его уже везде и открыто стали называть «козлищем», переиначивая название острова (Сарга,
лат. — коза. —
И. К.)…
…Отказанную ему в завещании картину Паррасия, изображавшую совокупление Мелеагра и Аталанты, он не только принял, но и поставил в своей спальне, хотя ему и предлагалось на выбор получить вместо нее деньги, если предмет картины его смутит»
{188}.
Вспоминая бережливость Тиберия, воспринимаемую современниками зачастую как скаредность, его умение считать и копить деньги, нельзя не поразиться сумме в миллион сестерциев, отданной за какую-то соблазнительную картинку, пусть и известного мастера, пусть и очень вольного содержания… Это, пожалуй, самое убедительное свидетельство того, насколько неудержимо старческая похоть овладела императором.
Когда же от созерцания дряхлеющий принцепс пытался перейти к делу, то здесь возраст неизменно давал о себе знать и старик терпел естественную неудачу, приходя в напрасную ярость, никак не могущую ему помочь получить желанное наслаждение, но крайне опасную для жертв его бессильной страсти…
«Измывался он и над женщинами, даже самыми знатными: лучше всего это показывает гибель некой Маллонии. Он заставил ее отдаться, но не мог добиться от нее всего остального; тогда он выдал ее доносчикам, но и на суде не переставал ее спрашивать, не жалеет ли она. Наконец она во весь голос обозвала его волосатым и вонючим стариком, похабной пастью, выбежала из суда, бросилась домой и заколола себя кинжалом. После этого и пошла по устам строчка из ателланы, громкими рукоплесканиями встреченная на ближайшем представлении: «Старик козел облизывает козочек!»»
{189}
Невозможно возразить, и слова Маллонии, и строка комического куплета совершенно справедливы. Тиберий заслужил их.
А вот со стороны развратных подростков, развлекавших Тиберия порочными играми, неудовольствия, похоже, не возникало. Более того, из числа этих бесстыжих спинтриев вышел человек, которого судьба, правда на недолгие восемь месяцев, вознесла на самую вершину власти в Риме. Девятым римским цезарем стал Авл Вителлий, который «детство и раннюю юность провел… на Капрее среди любимчиков императора Тиберия и на всю жизнь сохранил позорное прозвище Спинтрия; думали даже, что именно красота его лица была причиной и началом возвышения его отца»
{190}.
Тиберий, похоже, своими игрищами спинтриев вдохновил и иных развратников в Риме на подобные развлечения, пусть и с меньшим числом участников. Гай Петроний в своем «Сатириконе», написанном три десятилетия спустя после правления Тиберия — уже во времена Нерона, рассказывает, как некая развратница Квартилла устраивала для себя и своих гостей зрелище «брачной ночи» не подростков даже, но детей — мальчика Гитона и девочки Паннихис: «Немедленно привели девочку, довольно хорошенькую, на вид лет семи, не более, — ту самую, что приходила к нам в комнату вместе с Квартиллой. При всеобщих рукоплесканиях по требованию публики стали справлять свадьбу. В полном изумлении я принялся уверять, что, во-первых, Гитон, стыдливейший отрок, не подходит для такого безобразия, да и лета девочки не те, чтобы она могла вынести закон женского подчинения.
— Да? — сказала Квартилла. — Но разве она сейчас младше, чем я была в то время, когда впервые отдалась мужчине? Да прогневается на меня моя Юнона, если я хоть когда-ни-будь помню себя девушкой. В детстве я путалась с ровесниками, потом пошли юноши постарше, и так до сей поры. Отсюда, верно, и пошла пословица: «Кто поднимал теленка, поднимет и быка».
Боясь, как бы без меня с братцем не обошлись еще хуже, я присоединился к свадьбе.
Уже Психея окутала голову девочки огненного цвета фатой; уже кинэд нес впереди факел; пьяные женщины, рукоплеща, составили процессию и застлали брачное ложе непристойным покрывалом. Возбужденная этой сладостной игрой, сама Квартилла встала и, схватив Гитона, потащила его в спальню. Без сомнений, мальчик не сопротивлялся, да и девчонка вовсе не была испугана словом «свадьба». Пока они лежали за запертыми дверями, все уселись на пороге спальни, впереди всех Квартилла, со сладострастным любопытством следившая через бесстыдно проделанную щелку за ребячьей забавой. Дабы и я мог полюбоваться тем же зрелищем, она осторожно привлекла меня к себе, обняв за шею, а так как в этом положении щеки наши соприкасались, то она время от времени поворачивала ко мне голову и как бы украдкой целовала меня…»
{191}
Извращенность Тиберия не знала пределов. Он не ограничился только созерцанием спинтриев и «облизыванием козочек», хотя и это уже было свидетельством полной нравственной деградации. «Но он пылал еще более гнусным и постыдным пороком: об этом грешно даже слушать и говорить, но еще труднее этому поверить. Он завел мальчиков самого нежного возраста, которых называл своими рыбками и с которыми он забавлялся в постели. К похоти такого рода он был склонен и от природы, и от старости»
{192}.
Причины таких перемен в похотливых устремлениях развратников указывает известный античный философ Дион Хрисостом, писавший несколько десятилетий спустя после Тиберия — в правление императора Домициана:
«Разве распутники удержатся от совращения и развращения юношей и станут соблюдать ту границу, которую ясно поставила сама природа? Разве, испытав все возможные способы удовлетворения своей похоти с женщинами, они, пресыщенные наслаждениями, не станут искать иных форм разврата, более острых и беззаконных? Соблазнять женщин — даже свободнорожденных — и девушек оказалось делом легким и не требующим большого труда от охотника, который выходит на эту охоту, владея богатством; тот, кто поведет осаду даже против самых уважаемых женщин и против дочерей уважаемых отцов, используя уловки Зевса и неся в руках золото, никогда не потерпит неудачи. А что произойдет дальше, ясно всякому — ведь мы видим так много подобных случаев. Человек, ненасытный в своих страстях, не встречая отпора и сопротивления на этом поприще, начинает презирать легкий успех и любовь женщин, слишком просто достающуюся ему и по-женски нежную, и переходит к погоне за юношами; ему хочется опозорить тех, из кого впоследствии выйдут судьи и военачальники, и он надеется испытать с ними какой-то новый вид наслаждения, более труднодостижимый; он уподобляется любителям вина и пьяницам, которые долго и непрерывно пили несмешанное вино, уже не хотят пить его и искусственно возбуждают жажду потогонными средствами, солеными и острыми кушаньями»
{193}.
Тиберий, имевший все возможности войти в историю как великий полководец и мудрый правитель, сделал все, чтобы позднейший историк Рима безжалостно дал такую оценку его продолжительного царствования: «Тиберий управлял государством с великой беспечностью, ненасытной жадностью и мерзостной похотью»
{194}. И как не согласиться с Аврелием Виктором, утверждавшим, что Тиберий «сам губил добрые начинания»
{195}.
Вот с таким Тиберием и встретился на Капрее девятнадцатилетний Гай. Деградирующий на глазах старец, мнительный и жестокий, не мог вызывать никаких добрых чувств у юноши, тем более что он видел перед собой убийцу своего старшего брата, виновника несправедливого заточения среднего брата и главное — горячо любимой матери. Невиновность их была для Гая очевидной, и потому можно не сомневаться в том, каким было его истинное отношение к Тиберию. Не забудем, что он наверняка знал разные версии смерти своего отца. Ведь молва упорно считала Тиберия виновным в смерти Германика… Поэтому Гай не мог не опасаться и за собственную жизнь. Откуда и когда придет беда — сын Германика и Агриппины не знал, но вправе был ожидать грозы каждодневно и ежечасно. Сейчас он вроде бы у Тиберия в числе людей привечаемых, наряду с его внуком Гемеллом — один из ближайших родственников, но что ждет его завтра? Брат Друз, ныне томящийся в подземелье Палатина, был покорен принцепсу, никакой опасности для него не представлял, и он ведь такой же сын Германика… Кто знает, что завтра придет на ум этому мерзостному старику! Отсюда осторожность, осторожность и еще раз осторожность! Иного способа выжить на Капрее у Гая Цезаря не было, поведение его должно было стать таким, дабы не дать никакого повода для каких-либо подозрений и обвинений.
Не забудем, что и люди его окружали не самые доброжелательные. Порядочность, искренность, верность при дворе Тиберия на Капрее существовать просто не могли. Потому-то немало хитрецов пытались выведать у Гая его сокровенные мысли, дабы приобрести материал для доноса: «На Капрее многие хитростью или силой пытались выманить у него выражение недовольства, но он ни разу не поддался искушению: казалось, он вовсе забыл о судьбе своих ближних, словно с ними ничего не случилось. А все, что приходилось терпеть ему самому, он сносил с таким невероятным притворством, что по справедливости о нем было сказано: «Не было на свете лучшего раба и худшего государя»»
{196}.
Примерно то же сообщает о нашем герое и Тацит: «Он настолько владел собой, что ни осуждение матери, ни гибель братьев не исторгли у него ни одного возгласа; как начинал день Тиберий, тот же вид, почти те же речи были и у него. Отсюда ставшее впоследствии широко известным крылатое слово оратора Пассивна: никогда не бывало лучшего раба и худшего господина»
{197}.
И Аврелий Виктор пишет, что Гай успешно носил личину «стыдливости и покорности, так что с полным основанием в народе пошел слух, что никогда не было еще лучших слуг и более строгого господина, нежели он»
{198}. По его же словам, на Капрее при дворе Тиберия Калигула «был всем любезен и приятен»
{199}.
Можем ли мы осудить нашего героя за такое поведение? Ни в коем случае! Только таким способом он мог обеспечить себе безопасность при дворе Тиберия. Ведь мнительный старик всегда помнил, что Гай принадлежит к семье Германика, от него жестоко пострадавшей, и потому особого доверия к последнему сыну ненавистной Агриппины не испытывал
{200}. Лишь желание найти себе преемника только из своего рода заставляло старого императора проявлять великодушие к Гаю Цезарю.
Его позиции при дворе сильно укрепило дело Сеяна. Дело даже не только в уходе из жизни опаснейшего врага, готовившего против него опаснейшие каверзы, но вслед за префектом претория была изобличена и казнена Ливия Ливилла. То, что она была многолетней любовницей Сеяна, заставило Тиберия усомниться в законнорожденности Гемелла, ныне его единственного родного внука. А если он сын не Друза, но Сеяна? Сомнительная добродетель, а вернее полное отсутствие таковой у злодейки-мужеотравительницы Ливии весьма способствовала появлению у Тиберия самых мрачных мыслей относительно происхождения Гемелла. Потому присутствие Гая на Капрее становилось необходимым, и Тиберий вынужден был все более и более позиционировать его в качестве наиболее вероятного будущего принцепса.
33 год стал важнейшим, переломным годом в жизни Гая Цезаря Калигулы. Он принес ему самые страшные потери в жизни: сначала скончался от голода брат его Друз, вскоре после него от голодной же смерти умерла мать. Друз, умирая, призывал на голову Тиберия проклятия, дабы тот, кто стал убийцей невестки, племянника и внуков, кто заполнил свой дворец трупами, сам был наказан богами и, став очистительной жертвой для потомков, снял позор с родового имени предков. Недалекий центурион Аттий, свидетель последних дней Друза, подробно изложил все это в донесении сенату. Когда оно было оглашено, сенаторов охватили страх и изумление: как мог принцепс так откровенно представить всем бесчеловечнейшую расправу над внуком? В донесении Аттия подробно излагались и все истязания несчастного Друза, каковые туповатый служака ставил себе в заслугу, почитая за доблесть. Сенат же теперь был в ужасе, «что некогда столь осторожный и так тщательно скрывавший свои преступления принцепс дошел до такой откровенности, что, как бы раздвинув стены, показал внука под плетью центуриона, осыпаемого пинками рабов и тщетно молящего хоть о какой-нибудь пище для поддержания жизни»
{201}.
Сенаторы, впрочем, умело скрыли свои истинные чувства, представив шум, возникший при зачтении донесения Аттия, как выражение негодования дерзостью Друза, проклявшего Тиберия… Но Тиберия их действительное отношение мало волновало. Очередной раз он действовал по своему заветному принципу: «Пусть ненавидят, лишь бы повиновались». А сенаторы повиновались…
После известия о гибели Друза не заставила себя ждать и весть о смерти Агриппины. Было объявлено, что она сама себя уморила голодом, но многие полагали, вспоминая недавнюю судьбу ее сына, что добровольность ее кончины — вымысел и что ее так же уморили голодом, как и Друза. Комментарий Тиберия по поводу ее смерти превзошел, кажется, все пределы человеческой лжи и низости. Для начала принцепс обвинил Агриппину в распутстве и даже назвал имя ее «любовника» — Азиний Галл… Якобы после его смерти Агриппина впала в отвращение к жизни и уморила себя голодом. Обвинение это — просто фантастическая клевета, каковой ни один хоть сколь-либо здравомыслящий римлянин поверить не мог. Вдова Германика была известна своей безупречной нравственностью, целомудрие ее никто никогда не подвергал сомнению. Да, она была властолюбива, неукротимо дерзка, самонадеянна, но распутство было ей совершенно чуждо. Тиберий не мог этого не знать, но по злобе своей не устоял перед желанием осквернить память погибшей по его вине невестки. При этом он и не пытался придать своим словам хотя бы тень правдоподобия. Ну каким любовником Агриппины мог стать старик Азиний Галл, бывший консулом еще в далеком 8 году до н. э. при Августе, отец сыновей, двое из которых — Гай Азиний и Марк Азиний — сами уже побывали в консульском сане в 23 и 25 годах? Более того, злосчастный старец три последних года своей жизни ходил под обвинением в оскорблении величества, и смерть его — также от голода — вызывала немало сомнений: то ли самоубийство, то ли принуждение к смерти… Тиберий тогда еще поскорбел, что Азиний ушел не изобличенным как преступник…
Говоря об Агриппине, Тиберий особо отметил, что умерла она во вторую годовщину казни Сеяна, что заслуживает особого внимания. Себе он даже приписал милосердие: ведь Агриппина избежала смерти от удавки палача и тело ее не бросили на лестницу Гемоний. Раболепный сенат вынес благодарность принцепсу и даже постановил приносить ежегодно в день Сеяна и Агриппины дар Юпитеру. Сенаторы лишний раз старательно убеждали Тиберия, что они «люди, созданные для рабства».
Каково же было Гаю все это вынести? Ни словом, ни жестом, ни взглядом не выдать своих истинных чувств? Несправедливо было бы объяснять это цинизмом и бесчувственностью. Забегая вперед скажем, что после смерти Тиберия Гай отправится на острова, где погибли его мать и брат Нерон, велит собрать их останки, сам доставит их в Рим и достойнейшим образом похоронит. Значит, невероятно трудно было ему в присутствии Тиберия и его клевретов изображать полнейшее равнодушие к судьбе матери и брата, но это был единственный способ выжить. Не выдержи он этого бесчеловечного экзамена, ждала бы его судьба Агриппины, Нерона и Друза. А он хотел жить.
Поразительная выдержка, проявляемая Гаем в течение двух лет на Капрее, принесла плоды. В 33 году он становится квестором, хотя для занятия этой должности, согласно римской традиции, ему еще не хватало пяти лет возраста. Это было важным событием, свидетельствующим об определенном доверии — до конца Тиберий доверял только Сеяну и жестоко в нем обманулся — принцепса. Квестура — первая ступень восхождения молодого знатного римлянина по должностной лестнице. В Риме со времен Цезаря было двадцать квесторов. При республике они были чиновниками по финансовым делам, а теперь занимались устройством гладиаторских игр (обычно при вступлении в должность) и зачитывали сенаторам обращения к ним принцепса. Следующей ступенью была должность трибуна (их было десять человек) и эдила (их было шестеро).
В их ведении были благоустройство города и устройство народных развлечений и забав. Выше стояла должность претора (их было шестнадцать). Преторы ведали делами судебными. Высшей же должностью в имперскую эпоху, как и в республиканскую, был пост консула. Консулы формально продолжали считаться главными правительствующими персонами, но реальной власти при Империи не имели. Им остался только почет. Дабы больше представителей знати могли насладиться консулатом, императоры стали назначать по несколько пар консулов за год, в то время как при Республике их было только двое на год. Для всех должностей существовал возрастной ценз, но в случаях экстраординарных допускались исключения. Так, Октавиан получил преторские полномочия, не достигнув и двадцати лет. В имперское время все уже зависело от особы императора. К примеру, при Республике составлением списков сената занимались двое цензоров, а теперь это право перешло к принцепсу.
Калигула, естественно, никакими финансовыми вопросами при дворе Тиберия на Капрее не занимался, но должность квестора, принятая им не по летам, указывала на начало государственной карьеры. Квестура стала важным дополнением к ранее обретенной Гаем должности одного из пятнадцати жре-цов-понтификов. Это была верховная жреческая коллегия в Риме, а великим понтификом в эпоху Империи обычно был правящий император.
Брак с Юнией Клавдиллой для Калигулы тоже имел определенный смысл. Отец ее, Марк Силан, знатный сенатор, побывавший консулом, принадлежал к числу тех, кого Тиберий удостаивал своей дружбы. Для будущего Гая такое родство несомненно было добрым знаком.
Долгим, однако, супружеству Гая и Юнии Клавдиллы не суждено было быть. Вскоре молодая жена Калигулы скончалась в родах… Гай одновременно потерял и супругу, и ребенка. Еще одна трагедия молодого человека…
Лишившись супруги, Калигула вел на Капрее жизнь, нравственно вполне соответствовавшую тому, что установил на острове Тиберий. В нем проснулись (или эти качества должно считать приобретенными Гаем в отвратительной атмосфере двора Тиберия последних лет его царствования?) черты, никак не достойные сына Германика и Агриппины. Он с жадным любопытством начал присутствовать при пытках и казнях истязаемых по повелению Тиберия. Обычно расправа над неугодными, по преданию, происходила на скалистом обрыве между маяком Фарос и входом во дворец императора — виллу Юпитера. По сей день это зловещее место на Капри называют Сальто ди Тиберио: отсюда палачи сбрасывали в море тела казненных
{202}.
Столь невеселые дневные зрелища, возможно, и толкали Гая на, прямо скажем, весьма необычные для молодого римлянина знатнейшего рода развлечения. Он полюбил «по ночам в накладных волосах и длинном платье» бродить по кабакам и притонам, где «с великим удовольствием плясал и пел на сцене»
{203}.
Тиберий, которому доносили о причудах Гая, воспринимал их достаточно спокойно и если и не поощрял необычные развлечения возможного наследника, то охотно их допускал, полагая, что подобная разрядка смягчит нрав молодого человека. Странные привычки Гая позволили иным людям сделать невеселые выводы о сложившемся нраве возможного преемника дряхлого принцепса: «Еще раньше, чем власть перешла к нему, он явил себя человеком жестоким и в высшей степени испорченным, преследовавшим исключительно свои личные удовольствия и доступным клевете: он легко пугался всего и поэтому был кровожаден там, где мог быть вполне покоен»
{204}.
Качества роковые для будущего правителя, крайне опасные и для его подданных, и для него самого…
Вдовство Калигулы и его стремление утешить себя разного рода развлечениями, включая и весьма экстравагантные, с традиционной римской точки зрения, не остались без внимания человека, быстро набирающего силу при дворе, — нового префекта претория Невия Макрона. Макрон не пытался стать новым Сеяном при Тиберии. Печальная участь любимца принцепса не оставляла у него сомнений в опасности такого предприятия. Новый командующий преторианскими когортами смотрел в будущее. Как никак Тиберий уже перевалил за середину восьмого десятка лет жизни, перекрыв возрастное достижение Августа. Ясно было, что лет у него в запасе совсем немного. Потому нелепо искать особого расположения того, кому согласно природе вскоре предстоит совершить путешествие в царство мертвых. Должно завоевать расположение его наиболее вероятного преемника. А то, что таковым является Гай Цезарь Калигула, сомневаться уже не приходилось. Гибель Агриппины и расправа над Друзом никак не ухудшили положения Гая при дворе Тиберия. А это, несомненно, означало, что молодой человек не утратил расположения принцепса, а поскольку он остался единственным взрослым внуком императора, то его будущее начинало обретать величайшую перспективу… Уловивший такой поворот судьбы сына Германика, Макрон делает все, чтобы завоевать его расположение. Чувственный юноша, не успевший еще насладиться супружеством и уже трагически овдовевший, нуждался в новой верной подруге… Таковой, согласно замыслу Макрона, должна была стать… его собственная жена Энния, каковую он сам буквально толкал на супружескую неверность. Энния, похоже, не слишком сопротивлялась навязанной ей малопочтенной роли и, убедительно изобразив страстную влюбленность, сумела не только влюбить в себя Гая, но даже связать его обещанием жениться. Хитроумные супруги удачно использовали, как им казалось, в интересах своей блистательной будущности порывистый и несдержанный характер Гая, но недооценили результаты многолетней опеки Тиберия, давшей сыну нравственно безукоризненных Германика и Агриппины уроки лицемерия и притворства, совсем недурно им усвоенные
{205}.
Правда, Светоний, в отличие от Тацита, склонен полагать инициатором этой удивительной интриги не Макрона и не Эннию, а самого Гая: «Гай все больше и больше получал надежду на наследство. Чтобы еще крепче утвердиться в ней, он, после того как Юния умерла в родах, обольстил Эннию Не-вию, жену Макрона, стоявшего во главе преторианских когорт: ей он обещал, что женится на ней, когда достигнет власти, и дал в этом клятву и расписку. Через нее он вкрался в доверие к Макрону»…
{206}
Если факты, сообщаемые Светонием, заслуживают высокой степени доверия, то трактовка их порой весьма спорна. Зачем Гаю в преддверии наследования власти заводить любовную интрижку с женой префекта претория? В его ли интересах клятва и расписка? Будущему принцепсу ни роман с Эннией, ни тем более брак с ней никаких выгод не сулят, а пока он только вероятный преемник Тиберия, то вся эта история положения его при императоре не укрепляет. Если он обольщает Эннию, то едва ли Макрон будет тому рад… А настраивать
против себя префекта претория для Гая было делом явно рискованным.
А вот со стороны Макрона и Эннии такая комбинация имела смысл. Став супругой молодого принцепса, Энния становилась бы ближайшей его советницей. О том, что значила Ливия при Августе, все помнили. Макрон же, пожертвовав супругой, мог рассчитывать на его благоволение, и поскольку они с Эннией Невией вдвоем вели свою игру, то надежды их получить огромное влияние на неопытного молодого императора были небезосновательны. Лишь бы Тиберий поскорее сел в лодку Харона…
Тем временем подоспело официальное завещание Тиберия. На семьдесят шестом году жизни престарелый принцепс решился, наконец, определиться с будущим преемником.
Круг лиц, из коих предполагался выбор грядущего владыки Вечного города, был неширок. У Тиберия был родной внук Тиберий Гемелл, был племянник, брат Германика, носивший то же имя, что и сам император до усыновления его Августом, — Тиберий Клавдий Нерон. Обычно, дабы отличить племянника от дяди, его именовали просто Клавдий. Клавдий был уже немолод, достиг он середины пятого десятка жизни. Солидный возраст возможного преемника скорее импонировал Тиберию. Ведь и сам он сменил Августа на Палатине в возрасте пятидесяти пяти лет. В пользу сорокапятилетнего брата Германика говорила и его склонность к углубленным занятиям, потому Тиберий всерьез думал о Клавдии как о будущем принцепсе. Сам человек блестяще образованный, старый император не мог не оценить, что племянник его не только говорит и пишет по-гречески, но и знает даже ушедший в прошлое язык этрусков. С юных лет Клавдий был склонен к сочинительству. В молодости он по совету великого историка Тита Ливия и с помощью своего друга Сульпиция Флава принялся писать римскую историю, начав ее со времени убийства Гая Юлия Цезаря. Помимо этого он написал по-гречески историю этрусков в двадцати книгах, а также в восьми книгах историю злейшего врага Рима Карфагена. Об уровне этих произведений судить невозможно, ибо они утрачены и поэтому суда потомков избежали.
Однако ни высокая образованность, ни трудолюбие не стали главными чертами, характеризующими Клавдия в глазах окружающих. Увы, бедняга имел стойкую и непререкаемую репутацию глупца. Бабка Клавдия Ливия Августа относилась к нему с величайшим презрением и предпочитала общаться с внуком… через рабов. Мать Антония прямо именовала сына «урод среди уродов», добавляя, «что природа начала его и не кончила». Обычной для укора кого-либо в тупости у нее была фраза: «Глупее моего Клавдия»
{207}. Да и сам Тиберий племянника не жаловал и, когда тот настойчиво выпрашивал у него консульскую должность, как бы в насмешку ограничился лишь присылкой знаков консульского достоинства. Вот потому-то колебания Тиберия в пользу наследника Клавдия были недолгими. Оставался выбор между Тиберием Гемеллом и Гаем Цезарем.
Гемелл был родным внуком, но слишком юные годы не позволяли отдать ему первенство. Напомним также, что порочность его матери Ливии Ливиллы будила в Тиберии сомнения в происхождении внука. Действительно ли он его прямой потомок? Гай был сыном ненавистной Агриппины и братом замученных Нерона и Друза, старших ее сыновей… Но он смиренно вел себя на Капрее, а нелепые странствия его в переодетом виде по злачным местам Тиберия не огорчали. Так что все постепенно складывалось в пользу нашего героя. Твердо решив установить в Риме династический порядок передачи власти, Тиберий сам предельно сузил круг претендентов. Второй Сеян теперь был решительно невозможен. Ветер великой удачи все сильнее дул в паруса Гая, и он не мог этого не осознавать. Тем более, кстати, требовалось соблюдать предельную осторожность, не давая мнительному злому старцу поводов для недовольства. Чем такое недовольство может внезапно закончиться — он знал прекрасно. И по судьбе, казалось бы, всесильного и неуязвимого Сеяна, и по трагедии своей собственной семьи, да и, как мы помним, он на Капрее мог воочию видеть, как заканчивается жизнь тех, кто неугоден принцепсу. А может, это жуткое зрелище притягивало его, поскольку ни на минуту не оставляла его мысль, что и сам он может оказаться на месте осужденных…
Итак, исключив племянника из числа возможных преемников, Тиберий решил объявить своими наследниками обоих внуков в равной степени. Завещание было составлено в двух списках: «Один был сделан собственноручно, другой продиктован вольноотпущеннику, но по содержанию они не различались… По этому завещанию он отказывал наследство в равной доле своим внукам Гаю, сыну Германика, и Тиберию, сыну Друза, назначив их наследниками друг друга»
{208}.
Формально Тиберий передавал Гаю и Гемеллу только имущество, а не власть, но все понимали, что значит такое завещание на самом деле. Наследник божественного Юлия Октавиан немедленно стал важнейшей политической фигурой в Риме еще в рамках республики, а Тиберий в качестве наследника божественного Августа никем, кроме мятежных легионов на далеких берегах Рейна, в Империи как новый правитель государства не оспаривался. Теперь же, пусть наследство и делилось поровну, у Гая были преимущественные права, поскольку Тиберий Гемелл был еще несовершеннолетним.
Тем временем у Гая Цезаря Калигулы появился новый друг, прибывший с далекого Востока, отношения с которым могли иметь для него печальные последствия, приведя к краху всех надежд на законное наследство. Другом этим был Агриппа, внук знаменитого царя Иудеи Ирода Великого, сын Аристо-була и жены его Береники. Он и ранее бывал в Риме, жил там и в это время очень сдружился со своим сверстником Друзом — сыном Тиберия. Дружбу эту поощряла Антония (жена Друза — брата Тиберия, мать Германика и бабка Калигулы). «Антония очень высоко ценила мать Агриппы Беренику и хотела вывести в люди также сына ее»
{209}. В этом, однако, она не преуспела, несмотря на все свои старания. Агриппа после смерти матери проявил себя человеком чрезвычайно легкомысленным и расточительным: «Когда же Береника умерла и он стал самостоятелен, Агриппа растратил свои средства отчасти постоянными ежедневными кутежами, отчасти путем той расточительности, с которой он раздавал деньги. Наиболее значительные суммы пошли в карманы императорских вольноотпущенников, так как Агриппа рассчитывал на их поддержку. Вскоре он впал в такую бедность, что не мог далее жить в Риме
{210}. Разорение Агриппы совпало со смертью Друза. Скорбя о сыне, Тиберий запретил его друзьям показываться ему на глаза, дабы они не будили в нем мрачных воспоминаний
{211}. Агриппа был вынужден вернуться в Иудею, которая после смерти Ирода Великого стала римской провинцией и управлялась римскими наместниками — прокураторами.
В родных краях денежные дела Агриппы пошли совсем уж плохо. В конце концов у него образовался гигантский долг, выплатить который не было никакой возможности. Самым печальным было то, что его долг перед императорской казной составил 300 тысяч сестерциев, что грозило большой бедой. Агриппа пытался занять денег в Александрии, но потерпел очередную неудачу. Тогда он решил вновь отправиться в Италию к императорскому двору, надеясь добиться расположения Тиберия и загладить свою вину. Тиберий милостиво согласился принять Агриппу и на приеме был весьма любезен. Однако на следующий же день после приема Тиберий получил письмо от Геренния Капитона, одного из римских наместников на Востоке, извещавшего императора, «что Агриппа задолжал ему 300 тысяч сестерциев, пропустил срок оплаты и, когда ему напомнили об этом, бежал из страны своей; таким образом, теперь Геренний совершенно не знает, как вернуть эти деньги»
{212}.
Тиберий, естественно, разгневался. Бережливый император не мог не возмутиться столь безобразным поведением Агриппы в денежных делах, да еще и казну затрагивающих, и лишил незваного гостя из Иудеи доступа ко дворцу. Но тут на помощь Агриппе пришла его старая покровительница Антония, к которой он сообразил обратиться. В память о своей дружбе с Береникой Антония изыскала необходимую сумму, и злосчастный должник немедленно расплатился, чем вернул себе расположение Тиберия. Император вновь принял своего царственного по происхождению гостя и даже приставил к своему внуку Тиберию Гемеллу, поручив сопровождать его повсюду. Однако потомок Ирода Великого предпочел сблизиться с другим наследником Тиберия. Для начала он умело вошел в доверие к некоему императорскому вольноотпущеннику Фаллу, бывшему родом из иудейской Самарии. Фалл успешно занимался ростовщичеством и, зная о расположении Тиберия к Агриппе, охотно ссудил ему миллион сестерциев. Агриппа сразу вернул долг Антонии, дабы сохранить ее расположение. Последнее ему удалось. Более того, Агриппа быстро подружился с внуком Антонии Гаем. Огромные деньги, оставшиеся в его распоряжении после возврата долга Антонии, позволили так угождать Калигуле, что скоро Агриппа достиг значительного влияния на старшего из сонаследников Тиберия.
Конечно же внезапная дружба Агриппы с Гаем не была случайностью и не добрыми отношениями с бабкой Гая Антонией она объясняется. Агриппа быстро сообразил, кто в Риме ближе всех к обретению высшей власти после неизбежного ухода престарелого императора в мир иной. Агриппа даже решил не скрывать своих настроений от самого Гая. Когда они однажды вместе отправились на прогулку и у них зашла речь о Тиберии, то Агриппа открыто выразил пожелание скорейшей смерти императору, дабы Гай, как наиболее достойный во всех отношениях, занял его место.
Недостаток благоразумия подвел Агриппу и здесь. Он совершенно не подумал о том, что возница — прогулка, очевидно, была на колеснице — мог услышать крамольные речи своего господина. До поры до времени возница Евтих, бывший вольноотпущенником Агриппы, молчал о неосторожных словах, услышанных им. Но, когда Агриппа уличил его в краже своего плаща, — возможно, плащ этот Евтих и полагал достойной ценой своего молчания, — проворовавшийся либертин решил бежать. Далеко уйти ему не удалось, и вскоре беглеца доставили к префекту Рима Пизону. Столь большое внимание к особе ничтожного возницы-либертина объясняется, должно быть, высоким положением его господина — человека царской крови, приближенного к императорскому двору. Евтих был допрошен, и вот тогда-то он и оценил значение слов, случайно услышанных во время прогулки Гая и Агриппы. Впрочем, Пизону он сказал лишь, что ему совершенно необходимо сделать сообщение императору, касающееся его безопасности
{213}. Пизон, разумеется, отправил Евтиха на Капрею, где его содержали в оковах, дожидаясь, пока Тиберий соблаговолит поинтересоваться, какую такую сверхважную весть сей ничтожный человечек желает сообщить. Принцепс, однако, верный своей привычке не спешить понапрасну, вызов Евтиха на допрос не торопил. Тогда Агриппа, не догадываясь, какие речи его неверный либертин слышал и что, собственно, собирается поведать Тиберию, сам начал через свою покровительницу Антонию торопить императора, не подозревая, чем допрос Евтиха может для него самого обернуться.
Антония попросила Тиберия допросить Евтиха. Искушенный в допросах доносителей всякого рода и звания император передал Агриппе весьма недвусмысленное предостережение, над каковым гостю из Иудеи надлежало бы крепко призадуматься: «Если Евтих выдумал слова, которые он приписал Агриппе, то он получит от меня должное возмездие, если же при расследовании окажется, что он сказал правду, то пусть Агриппа остерегается, как бы наказание, которое он собирается уготовить своему вольноотпущеннику, не пало на его собственную главу»
{214}. Агриппа продолжал настаивать на своем, и Антония, выбрав удобный момент, когда Тиберия после обеда вынесли в носилках на прогулку, а сопровождали его как раз Гай и Агриппа, еще раз попросила принцепса немедленно допросить Евтиха. Тиберий тут же заметил: «Клянусь, Антония, богами, что то, что я теперь делаю, я делаю не по своей воле, но благодаря твоим просьбам»
{215}.
Агриппа, что называется, напросился…
Когда Евтих предстал перед императорскими очами — приказание, кстати, исполнил Макрон, еще один жаждавший скорейшего принципата Гая, — Тиберий немедленно спросил, что он может сказать против человека, которому обязан свободой. Вот тут-то и настал час Евтиха. Пожалел Агриппа какой-то плащ — так получай теперь сполна за свою жадность!
«Государь! — сказал Евтих. — Однажды этот вот Гай и Агриппа выехали на прогулку в колеснице, а я сидел у ног их. Они беседовали долго о всякой всячине, и наконец Агриппа обратился к Гаю со следующими словами: «Наступит ли день, когда этот старик умрет и сделает тебя владыкой мира? Ведь внук его, Тиберий, не будет нам препятствием. Ты можешь умертвить его. Тогда вселенная будет счастлива, и более ее я»»
{216}.
Тиберий отнесся к доносу Евтиха серьезно. Агриппа и так уже вызвал его недовольство, предпочитая дружбу с Гаем опеке над Тиберием Гемеллом, каковая императором была ему поручена. «Поэтому император сказал: «Макрон, наложи на него оковы». Макрон, однако, не понял, о ком говорил Тиберий, никак не предполагал, что последний мог иметь в виду Агриппу, и поэтому не привел приказание в исполнение»
{217}.
Думается, дело здесь вовсе не в непонятливости префекта претория. Заключение в оковы Агриппы было угрозой благополучию Гая, а все надежды Макрона на будущее были связаны исключительно с ним. Где уверенность в том, что тара постигнет только того, кто говорил, минуя того, кто слушал?
Возможно, Макрон рассчитывал, что, поостыв, Тиберий раздумает карать человека царского происхождения… Но не тут-то было. Когда Тиберий вскоре увидел Агриппу на ипподроме, то немедленно напомнил Макрону о своем приказе. Попытка Макрона вновь прикрыться непонятливостью на сей раз не удалась. Прямо с ипподрома в пурпурном царственном одеянии Агриппа был доставлен в темницу.
Заключение, правда, не стало для него чрезмерно строгим благодаря стараниям по-прежнему покровительствовавшей ему Антонии. Добрая старая женщина, понимая несвоевременность и бесполезность заступничества за Агриппу, сделала все возможное, чтобы лишение свободы для сына ее подруги и друга ее внука прошло без особых лишений. Макрон по ее просьбе назначал наиболее мягкосердечных центурионов и воинов для охраны заключенного. Агриппа не ощущал особого недостатка ни в чем. Ему доставляли любимую пищу, его посещали друзья. Гая, кстати, среди них не было, что следует считать разумной осторожностью.
Почему Тиберий, наказав Агриппу заключением под стражу, не тронул Калигулу? Должно быть, Гай, верный избранной тактике поведения, ничем не обнаружил сколь-либо коварных замыслов против престарелого императора. Тем более что он наверняка не подтвердил подлинности слов Евтиха. Понятно, что и Агриппа решительно отвергал обвинения вольноотпущенника. А свидетелей у Евтиха не было… Поэтому, наверное, и ограничился Тиберий арестом Агриппы, оставив его, что называется, в полнейшем неведении. Гая карать пока было не за что, но волнение он наверняка пережил сильнейшее.
Надо полагать, что все шесть месяцев, покуда длилось заключение Агриппы, страх за свое будущее да и за саму жизнь у Калигулы не проходил. Не могло ведь быть ни малейшей уверенности в том, что Тиберий не пожелает вдруг жестко допросить заключенного и у того не вырвут роковое признание… А тогда месть Тиберия не заставит себя ждать. Итак, при дворе все понимали, что Гай у принцепса уже на подозрении
{218}. Старик и ранее не питал иллюзий относительно своего возможного преемника. Проницательность была одной из сильных сторон Тиберия, и неслучайно он не раз говорил, «что Гай живет на погибель себе и всем и что в нем он вскармливает ехидну для римского народа»
{219}.
Спасительным для Гая было и ослабление здоровья семидесятисемилетнего старца. Тиберий терял не только силы физические, но и духовные. «В конце концов, по-прежнему колеблясь душой и ослабев телом, он предоставил судьбе решение, непосильное ему самому, бросая, однако, порой замечания, из которых можно было понять, что он отчетливо представлял себе будущее: так, он в прозрачном иносказании упрекнул Макрона за то, что тот отворачивается от заходящего солнца и устремляет свой взор на восток, а Гаю Цезарю, в случайно возникшей между ними беседе, когда тот стал высмеивать Суллу, предсказал, что он будет обладать всеми пороками Суллы и ни одной из его добродетелей. И когда он при этом со слезами обнял меньшего внука, а старший, увидев это, нахмурился, он, обратившись к нему, сказал: «Ты убьешь его, а тебя — другой»»
{220}.
Интересно, а за что, собственно, Гай высмеивал Луция Корнелия Суллу, первого римлянина, установившего в государстве единовластную диктатуру, пролив при этом потоки крови? Суллой можно ужасаться, можно цинично им восхищаться, можно анализировать его заслуги и преступления, но менее всего эта замечательно одаренная, но еще более порочная личность заслуживает осмеяния. Великий Гай Юлий Цезарь решительно осуждал Суллу за добровольный уход от власти, справедливо утверждая, что «Сулла не знал и азов, если отказался от диктаторской власти»
{221}. Может, Гай повторял суждение гениального тезки, что и рассердило Тиберия?
Но усиливающиеся подозрения и проявляемое раздражение не заставили Тиберия принять решительные меры против Калигулы. Старик не мог не предчувствовать приближения своего заката и потому понимал опасность для будущего Империи, если власть перейдет в руки несовершеннолетнего внука. Будь Гемелл постарше — кто знает, чем стали бы для Гая откровения Евтиха… Но у Тиберия не было выбора.
До последнего времени здоровье Тиберия было превосходным. За все годы правления он ни разу не болел, «хотя с тридцати лет заботился о себе сам, без помощи и советов врачей»
{222}. Более того, он привык высмеивать само врачебное искусство и тех, «кто, достигнув тридцати лет, нуждается в указаниях со стороны, что ему полезно и что вредно»
{223}. Даже когда у него наступило явное ухудшение здоровья, он не пожелал оставить свои любострастные утехи, делая вид, что они нисколько не изнуряют его
{224}. Опаснейшее для таких лет поведение…
Март 37 года оказался для Тиберия роковым.
В начале весны император предпринял поездку в Рим. За все время пребывания на Капрее он только второй раз собрался посетить столицу. В первый раз он на триреме морем достиг устья Тибра, а затем поднялся по реке до пригородных садов, но в самом городе так и не появился. На сей раз он предпочел сухопутную поездку и по
Via Appia — Аппиевой дороге — доехал до седьмой мили от Рима, откуда уже были видны городские стены. Едва завидев их, он приказал возвращаться. Будучи человеком крайне суеверным — обычная черта римлян той эпохи, — Тиберий испугался недоброго знамения: издохла его любимая большая змея, и он нашел ее изъеденной муравьями. В этом мнительный правитель увидел знак остерегаться насилия черни
{225}. Потому-то он и не отважился вступить в Рим, где этой самой черни было в избытке. Возвращаясь от стен Рима к морю в Кампанию, Тиберий заболел. Поначалу он не придал своему недомоганию особого значения и, почувствовав вскоре улучшение, решился даже присутствовать на лагерных играх воинов. Дабы никто не догадался о его нездоровье, он даже лихо метнул дротик в выпущенного на арену кабана, но при этом явно переоценил свои силы: сразу же его схватила острая боль в боку. К этому добавилась и простуда, поскольку разгорячившегося старика еще и продуло ветром. Теперь болезнь не только вернулась, но все более и более усиливалась. Тиберий отчаянно пытался скрыть от окружающих очевидное, продолжая вести себя как ни в чем не бывало, не отказываясь от привычных развлечений и утомительных пиршеств, но никого уже не мог обмануть.
Хотя Тиберий и отвергал с тридцати лет всякую врачебную помощь, при дворе его находился искусный врач Харикл. Обычно император к его услугам не прибегал, но тот должен был быть всегда готов дать повелителю необходимый совет. Наблюдая угасание Тиберия, многоопытный врач не мог ошибаться в сути происходящего. Дабы уточнить диагноз, Харикл придумал ловкий ход: испросив у Тиберия разрешения покинуть виллу, он как бы с почтением коснулся его руки, а на самом деле пощупал пульс. Тиберий, догадавшись о хитроумии Харикла, велел ему остаться и более того — приказал закатить пир пышнее предыдущего. Место для пиров, надо сказать, было выбрано им идеально: пировали на бывшей вилле славного Луция Лициния Лукулла, вошедшего в историю умением задавать самые пышные и изысканнейшие пиры. «Лукуллов пир», «Лукуллово угощение» — во все времена эти слова означают несравненные гастрономические удовольствия. Сии дарования Лукулла даже заставили потомков забыть, что он был и видным полководцем, нанесшим решающие поражения злейшему врагу Рима царю Понта Митридату VI Евпатору…
Теперь на этой вилле, помнившей изысканные угощения своего славного хозяина, последний раз в своей жизни пировал Тиберий. Когда казавшийся нескончаемым пир наконец-то завершился, Тиберий, превозмогая боль и слабость, встал, как обычно в таких случаях, посреди триклиния (столовой) и попрощался с каждым из уходящих гостей, называя их по имени, показывая, что находится в полном здравии и рассудке.
Но Харикла провести ему не удалось. Искусный грек успел сделать роковой вывод о действительном состоянии больного. Макрону, по чьему наущению он и отважился пощупать пульс императора, Харикл немедленно доложил, что жизнь в Тиберии еле теплится и ему не прожить и двух дней. То ли Макрон решил более не скрывать очевидного, то ли Харикл еще кому-то поведал правду о состоянии императора, но все вокруг переполошились. К легатам в войска помчались гонцы с известием о смертельной болезни Тиберия. Сам принцепс из последних сил все еще пытался быть правителем Империи. Он даже затребовал сенатские отчеты, в которых обнаружил проявление неуважения к своей персоне. Дело в том, что сенаторы-судьи отпустили на свободу, даже не допросив, нескольких подсудимых, на которых поступили доносы, известные и самому принцепсу, о чем он даже изволил в свое время кратко упомянуть. Теперь он собирался на любимую Капрею, дабы там решить, как поступить со столь неумеренно великодушными судьями. Но сначала наступила непогода, не позволившая ему отплыть из гавани Мизена, близ которого и находилась Лукуллова вилла, а затем пришла смерть…
Сведения, касающиеся ухода Тиберия из жизни, противоречивы. Вот что пишет Тацит: «В семнадцатый день апрельских календ (16 марта) дыхание Цезаря (Тиберия) пресеклось и все решили, что жизнь его покинула. И уже перед большим стечением поздравляющих появился Гай Цезарь, чтобы взять в свои руки бразды правления, как вдруг сообщают, что Тиберий открыл глаза, к нему возвратился голос и он просит принести ему пищи для восстановления оставивших его сил. Это повергает всех в ужас, и собравшиеся разбегаются, снова приняв скорбный вид и стараясь казаться неосведомленными о происшедшем, между тем как только что видевший себя властелином Гай Цезарь, погрузившись в молчание, ожидал для себя самого худшего. Но не утративший самообладания и решительности Макрон приказывает удушить старика, набросив на него ворох одежды, и удалиться за порог его спальни. Таков был конец Тиберия на семьдесят восьмом году жизни»
{226}.
Светоний в биографии Калигулы сомнительную честь удушения умирающего старца приписывает самому Гаю: «Умирающий еще дышал, когда Гай велел снять у него перстень; казалось, что он сопротивлялся. Тогда Гай приказал накрыть его подушкой и своими руками стиснул ему горло, а вольноотпущенника, который вскрикнул при виде этого злодейства, тут же отправил на крест»
{227}. Правда, верный себе историк-архивист немедленно осторожно добавляет: «…это не лишено правдоподобия»
{228}. В жизнеописании же самого Тиберия Светоний приводит иные версии смерти императора: «Некоторые полагают, что Гай подложил ему медленный разрушительный яд; другие — что после приступа простой лихорадки он попросил есть, а ему не дали; третьи — что его задушили подушкой, когда он вдруг очнулся и, увидев, что во время обморока у него сняли перстень, истребовал его обратно. Сенека пишет, что он, чувствуя приближение конца, сам снял свой перстень, как будто хотел его кому-то передать, подержал его немного, потом снова надел на палец и, стиснув руку, долго лежал неподвижно. Потом вдруг он кликнул слуг, но не получил ответа; тогда он встал, но возле самой постели силы его оставили, и он рухнул»
{229}.
Из всех приведенных версий смерти Тиберия наиболее точной кажется та, что изложена Луцием Аннеем Сенекой. Знаменитый философ жил в эти времена и бесспорно мог располагать точными сведениями о последних часах жизни императора. Да и Светоний излагает написанное Сенекой без ка-ких-либо уточнений и сомнений. Кто-то полагает, иные говорили, третье не лишено правдоподобия… а уверенный рассказ Сенеки приводится подробно и серьезных сомнений в точности изложенного не вызывает.
Весьма любопытно излагает события последних дней жизни Тиберия Иосиф Флавий. Рассказ его заметно отличается от того, о чем сообщают Тацит и Светоний:
«Между тем Тиберий возвратился на остров Капрею, где и заболел, сперва, правда, легко, но затем, когда болезнь осложнилась, он стал сильно опасаться за свое выздоровление. Поэтому он приказал Эводу, своему приближенному из вольноотпущенников своих, привезти к нему детей, с которыми ему необходимо было переговорить перед смертью…
Тиберий, приказав Эводу привести к нему на следующий день рано утром детей, стал теперь молить богов явить знамение, кому из юношей надлежит стать его преемником. Правда, он охотнее всего оставил бы престол своему внуку, но еще больше значения и веры, чем своему личному взгляду на дело и желанию, он придавал решению богов. У него, между прочим, было твердое убеждение, что тот из претендентов получит престол, который первым явится к нему рано утром.
Решив это, он послал за воспитателем своего внука (Тиберия Гемелла) и приказал ему на заре привести к нему питомца. Тиберий предполагал, что этим он повлияет на решение богов. Бор, однако, решил иначе. В таком расчете император приказал Эводу, как только стало светать, впустить к нему того из юношей, который придет первым. Тот вышел и, найдя Гая (Тиберий еще не пришел, так как ему слишком поздно подали завтрак, а Эвод ничего не знал о намерениях своего государя), сказал ему: «Отец зовет тебя». С этими словами он ввел его к императору.
Увидев Гая, Тиберий понял всемогущество бога и то, что сам он ничего не мог против этого поделать и не мог теперь уже изменить принятое решение. Затем он стал жалеть как о самом себе, что у него отнята возможность привести в исполнение собственное решение, так и о внуке своем Тиберии, который не только лишился римского престола, но и вместе с тем подвергается личной опасности, потому что его безопасность теперь в руках других, более могущественных лиц, которые не станут терпеть его рядом с собой. При этом император понимал, что и родственные узы не окажут Тиберию услуги, так как наследник престола будет бояться и ненавидеть его отчасти как претендента на власть, отчасти как человека, который не сможет не злоумышлять против его особы с целью совершить государственный переворот.
…Хотя его и очень огорчало, что престол неожиданно перешел к нежелательному лицу, однако император, правда нехотя и с неудовольствием, обратился к Гаю со следующими словами: «Дитя мое! Хотя Тиберий мне и ближе, чем ты, однако я все-таки по доброй воле и с утверждения богов вручаю тебе власть над римским народом. Но при этом прошу тебя, не забывай, когда ты будешь императором, ни о моем к тебе благоволении, в силу которого я поставил тебя на такое высокое место, ни о родстве своем с Тиберием. Знай, что я с соизволения богов даровал тебе такое благо, за которое ты вознаградишь меня, если подумаешь о родстве своем с Тиберием. С другой стороны, помни, пока он будет жив, Тиберий будет оплотом твоей власти и личности, а если умрет, то это будет началом твоего несчастья. Стоять одиноким на таком высоком посту тяжело, и боги не оставят безнаказанным беззаконного нарушения какого-либо предписания»»
{230}.
Конечно, увлекательный рассказ Иосифа Флавия об обстоятельствах обретения Гаем преимущественных прав наследования выглядит историческим анекдотом, каковым, наверное, в основном и является. Но склонность Тиберия суеверно воспринимать всякого рода предзнаменования или же то, что за них принималось, общеизвестна. Особенности будущих взаимоотношений Гая и Тиберия Гемелла также подчеркнуты предельно точно. Возможно, Тиберий и в самом деле увещевал Гая в надежде оградить внука от смертельной опасности…
Но «несколько дней спустя после назначения Гая своим преемником Тиберий умер, пробыв императором двадцать два года, пять месяцев и три дня. Таким образом, Гай стал четвертым римским императором»
{231}.
Глава V
«ДА СОПУТСТВУЕТ СЧАСТЬЕ И УДАЧА ГАЮ ЦЕЗАРЮ
И ЕГО СЕСТРАМ!»
Известие о смерти Тиберия вызвало в римском народе бурное ликование. За несколько дней до ухода из жизни император не решился посетить столицу, покинутую им десять лет назад, уверовав в недоброе знамение о грозящем ему насилии черни. Знамение это на самом деле сбылось. Сбылось, правда, когда жители Рима узнали о смерти повелителя Империи. Насилие разнузданной толпы грозило теперь мертвому телу Тиберия. На улицах города немедленно родился циничный каламбур: «Тиберия в Тибр!» Иные молили Манов, в которых, по представлениям римлян, воплощались души мертвых, не давать покойному принцепсу «места, кроме как среди нечестивцев, третьи грозили мертвому крюком и Гемониями»
{232}. Толпа сулила Тиберию судьбу Сеяна, мгновенно позабыв о всех благах, на которые так щедр был император двадцать два с лишним года. И совсем недавно, когда из-за ужасного пожара выгорели все дома на Авентинском холме, он выделил из казны 100 миллионов сестерциев, возместив всем без исключения пострадавшим полную стоимость всего погибшего в огне… Напомним, что и от жестокостей Тиберия простые римляне не страдали, а расправы его над знатью и приближенными та же толпа встречала буйным злорадством, особо ярко проявившимся после падения Сеяна. Жаль, что Ювенал не посвятил римской толпе, узнавшей о смерти Тиберия, столь же звучных стихов, каковыми оценил ее поведение после казни Сеяна.
Нельзя, правда, не сказать, что яростный настрой римлян против умершего был еще и усугублен как бы посмертной кровожадностью Тиберия. Дело в том, что в Мамертинской тюрьме Рима содержались приговоренные к смерти жертвы закона об оскорблении величества. По традиции, согласно решению сената, казнь должна была совершаться на десятый день после вынесения приговора. Для некоторых несчастных смертников день намеченной казни как раз совпал с приходом в Рим вести о смерти Тиберия. Тюремная стража, поскольку никаких распоряжений от власть предержащих относительно приговоренных не поступало, привычно пренебрегая мольбами осужденных, решила на свой страх и риск привести приговоры в исполнение. Несчастные были задушены палачом, и их мертвые тела, как обычно в таких случаях, оказались на лестнице Гемоний. Узнав об этом, и без того буйствующая толпа разъярилась еще более: и со смертью тирана его зверства не прекращаются! Когда же наконец тело Тиберия было доставлено в Рим, то в последний путь императора провожали громкие призывы поджарить его труп на потеху всем в амфитеатре. Лишь то обстоятельство, что носилки с телом покойного сопровождали преторианцы, а возглавлял похоронную процессию Гай, пользовавшийся народной любовью как сын Германика, спасло останки Тиберия от поругания. Жалкий финал того, кто мог бы войти в историю как один из величайших правителей Рима… Вот какую своеобразную эпитафию Тиберию написал Публий Корнелий Тацит: «Жизнь его была безупречна, и он заслуженно пользовался доброю славою, покуда не занимал никакой должности или при Августе принимал участие в управлении государством; он стал скрытен и коварен, прикидываясь высокодобродетельным, пока были живы Германик и Друз; он же совмещал в себе хорошее и дурное до смерти матери; он был отвратителен своею жестокостью, но таил ото всех свои низкие страсти, пока благоволил к Сеяну или, может, боялся его; и под конец он с одинаковою безудержностью предался преступлениям и гнусным порокам, забыв о стыде и повинуясь только своим влечениям»
{233}.
А наш герой тем временем в одночасье достиг высшей власти. Преторианские когорты немедленно по получении известия о смерти Тиберия провозгласили его императором. Макрон, очевидно, провел хорошую подготовительную работу. Но дело не только в ней. Главным была конечно же память о Германике. «…Воспоминание о нем продолжало жить среди людей. Результатом всего этого была большая популярность его сына; особенно привязаны были к нему солдаты и в случае необходимости готовы были умереть за него»
{234}. Так Германик добродетелями своими проложил сыну дорогу к единовластию в Римской империи.
Не только воины, весь римский народ в те дни ликовал, радуясь как уходу старого, так и приходу нового правителя. Гай «достиг власти во исполнение лучших надежд римского народа или, лучше сказать, всего рода человеческого. Он был самым желанным правителем и для большинства провинций и войск, где многие помнили его еще младенцем, и для всей римской толпы, которая любила Германика и жалела его почти погубленный род»
{235}.
По дороге из Мизена в Рим Калигулу сопровождали «грустно ликующие толпы» — как-никак похоронная процессия. Люди умилялись молодому владыке — ведь Гаю еще не исполнилось двадцати пяти лет. Провозглашенного императора напутствовали самыми добрыми пожеланиями, ласково именуя его и «светиком», и «голубчиком», и «куколкой», и «дитяткой». Никто не смел усомниться в том, что новый правитель является достойнейшим представителем своей семьи. Даже наиболее проницательные люди думали, что Гай будет похож на своих родителей. «По такой причине все стремились смягчить суровую судьбу этой семьи, открывая широкие возможности перед этим юношей»
{236}.
Итак, при всеобщем ликовании Гай, именуемый отныне Гай Цезарь Германик, вступил в Рим. Преторианцы провозгласили его императором 16 марта — в день смерти Тиберия, народ немедленно и с радостью признал его своим владыкой, сенат 18 марта утвердил вновь провозглашенного принцепса. Калигула немедленно проявил должное почтение к сенату: днем прихода к власти он велел считать 18 марта. Законная власть вручается только сенатом… Впрочем, и Тиберий начинал примерно так же.
Единогласному приговору сената поспособствовала и толпа, ворвавшаяся в курию.
Patres conscripti, думается, утвердили единодержавие Гая Цезаря никак не вследствие только уже состоявшегося его провозглашения императором преторианцами и столь дерзкого вторжения в курию толпы с выражением всенародной любви. Избавление от Тиберия и обретение молодого принцепса из достойнейшей семьи было им самим по сердцу. Такого единодушия в Риме до сих пор не было и быть не могло. Божественный Юлий и божественный Август обрели высшую власть после жесточайших и кровопролитнейших гражданских войн, Тиберий был законным преемником Августа согласно его завещанию, каковое далеко не всем нравилось, а вот Гай был первым всенародно обретенным правителем Рима. Никто и думать не желал о каком-либо другом развитии событий, об ином человеке на Палатине.
Гая сделало владыкой Рима его происхождение. Не только добродетели его родных, не только сочувствие к ужасной судьбе родителей и братьев, но и их знатность. Калигула — кровный правнук божественного Августа, успевшего порадоваться появлению еще одного продолжателя славного рода Юлиев. Всенародное одобрение молодого императора являлось фактически всенародным признанием утверждения в Риме монархии, ибо Гай, не имевший никаких военных и державных заслуг, не бывший соправителем предшественника, обретал власть исключительно на династических основаниях. Безусловно, сам молодой император прекрасно все это сознавал, пусть и проявил должное почтение к сенату. Потому-то и не пожелал он быть императором по завещанию Тиберия.
28 марта 37 года состоялись пышные похороны Тиберия. Гай произнес достойную погребальную речь. Восемь лет назад он впервые выступал публично на похоронах Ливии Августы, теперь это была первая публичная речь нового правителя Империи. «Между прочим, Гай был отличным оратором, одинаково хорошо владевшим греческим и латинским языками. При этом он сразу понимал все; пока другим приходилось соображать и сопоставлять, он сразу находил, что ответить, и тем далеко оставлял за собой любого оратора в любом деле. Он развил свои природные дарования и достиг силы в этом отношении благодаря усидчивому труду»
{237} — так оценивал ораторский дар Калигулы Иосиф Флавий. По свидетельству же Диона Кассия, это дарование Гая обеспечило ему и первый большой успех в сенате, когда он убедил «отцов отечества» объявить недействительным завещание Тиберия. Главным доводом здесь прозвучало утверждение о старческом слабоумии покойного, составившего завещание явно не в здравом уме
{238}. Такая постановка вопроса — свидетельство не только здравого ума, но и определенного хитроумия и холодного политического расчета у молодого императора. Получалось, что Гай ничем не обязан предшественнику, а является принцепсом исключительно благодаря своим собственным неоспоримым правам. Дабы пышность погребения Тиберия, захороненного в мавзолее Августа, никого не вводила в заблуждение, Гай, к радости всего сената, не стал настаивать на обожествлении покойного — событие, безусловно, знаковое, обещающее всем иной образ правления. Недействительность завещания Тиберия также избавляла Калигулу от возможных в будущем претензий Гемелла. В то же время, не желая упреков в унижении Гемелла и попрании его прав, Гай объявил о его усыновлении. Тиберий Гемелл в день совершеннолетия был объявлен «главой юношества» и стал именоваться
«princeps iuventutis». Все это позволяло считать внука Тиберия наследником Гая Цезаря. Династическая традиция, таким образом, была еще раз узаконена.
Ничем, однако, в эти дни не был отмечен префект претория Макрон, человек более всех, исключая самого Гая, мечтавший о его воцарении на Палатине. Памятуя о печальном опыте Тиберия с Сеяном, Калигула не желал превращать кого-либо из должностных лиц во вторую персону в государстве. Макрон должен был удовлетвориться сохранением права командовать преторианскими когортами и не мечтать о большем.
В первые дни после похорон Тиберия (28 марта) и заседания сената, состоявшегося на второй день правления Гая Цезаря, миллионы римлян не могли сдержать искренних слез умиления. Гай немедленно решил отправиться на острова Тирренского моря, где покоился прах его родных. Не остановила его сыновнего и братского порыва даже непогода. Напрасна ирония Светония, полагавшего, что он хотел тем самым подчеркнуть, выпятить свою сыновнюю любовь
{239}. Искренность молодого человека не может вызывать сомнений. Мы не знаем, каковы были отношения Гая со старшими братьями — Нероном и Друзом, но нам также неизвестна и какая-либо неприязнь к ним. А мать, как и отца, он всегда любил. И можно только представить, чего ему стоило сохранять хладнокровие и непроницаемость, когда Тиберий расписывал, торжествуя, последние муки Агриппины… О гибели матери и братьев Гай никогда не забывал и никогда не прощал этого злодеяния Тиберию. Наверное, он лелеял и замыслы отмщения. Не случайно он рассказывал, скорее всего уже будучи у власти, что однажды даже вошел с кинжалом в спальню к спящему Тиберию, но, почувствовав жалость к беспомощному старику, бросил кинжал и ушел. Тиберий якобы узнал об этом, но не посмел ни преследовать, ни наказывать его.
Посетив сначала остров Пандатерию, а затем Понтию, Гай благоговейно, собственными руками собрал прах Агриппины и Нерона и уложил в урны. После этого он торжественно и с подобающей пышностью на биреме (корабль с двумя рядами весел) со знаменем на корме доставил их сначала в Остию, римскую приморскую гавань, а затем вверх по Тибру в столицу. Самые знатные всадники при огромном стечении народа на двух погребальных носилках внесли урны в мавзолей. Не раз, наверное, в эти скорбные дни вспоминал Гай, как они с матерью везли урну с прахом Германика из Антиохии в Рим… и тогда он нес в своих руках то, что осталось от самого дорогого ему человека.
В память матери и братьев Гай установил ежегодные всенародные поминальные обряды. В честь Агриппины были установлены также специальные цирковые игры, где ее изображение в процессии везли на колеснице. Желая возвеличить и память отца, Калигула повелел отныне называть месяц сентябрь германиком. Так он поставил никогда не правившего в Риме и не притязавшего на высшую власть Германика на один уровень с Гаем Юлием Цезарем и Августом. Сии божественные персоны, желая увековечить память о себе, подарили свои имена двум летним месяцам. Но если названия июль и август прижились успешно и навсегда, то, увы, Германику повезло много меньше. Сентябрь так и остался сентябрем. Римляне, очень Германика почитавшие, не пожелали следовать указу его сына. Виной этому стало само правление Гая…
Должного почитания удостоились и живые представители правящего теперь в империи рода. Бабка Гая Антония удостоилась тех же почестей, что и мать Тиберия и вдова
Августа незабвенная Ливия Августа. О ней, кстати, Гай не забывал и, вспоминая, обычно именовал ее «Улиссом в женском платье»
{240}. Сравнение с хитроумным Одиссеем конечно же было двусмысленным. Отдавая должное тонкому и изощренному уму прабабки, Калигула с раздражением вспоминал ее коварные происки против Германика, по мнению многих, стоившие ему жизни (вспомним ее покровительство жене Пизона Планцине).
Почета удостоился и дядюшка Гая Клавдий. Тот самый Клавдий, которого незадолго до смерти Тиберий также рассматривал как своего возможного преемника. Калигула немедленно возвеличил брата своего отца, сделав его своим товарищем по консульству. Не исключено, что как бы и назло покойному принцепсу, отказавшемуся сделать Клавдия консулом. Со временем расположение Гая подняло престиж Клавдия в народе и его стали приветствовать возгласами: «Да здравствует дядя императора!» и «Да здравствует брат Германика!»
{241}
Но самую большую любовь Гай проявил к своим сестрам. Упоминания о них теперь звучали рядом с именем самого императора. Друзилла, Агриппина и Юлия становились августейшими особами. В их честь Калигула повелел прибавлять к каждой официальной клятве: «И пусть я не люблю себя и детей моих больше, чем Гая и его сестер!» Консульские же предложения теперь звучали: «Да сопутствует счастье и удача Гаю Цезарю и его сестрам!»
{242}
Такого глубокого и, вне всякого сомнения, совершенно искреннего выражения родственных чувств со стороны правящего императора Рим никогда не видел ранее и никогда не увидит в будущем.
Поведение Калигулы было встречено римским народом с любовью и пониманием. Когда он отплыл на острова за прахом матери и брата, пренебрегая непогодой на море, то все в Риме «приносили обеты на его возвращение, не упуская самого малого случая выразить тревогу и заботу о его благополучии»
{243}. И едва ли это были показные чувства. Римляне ликовали и переживали за молодого правителя совершенно искренне. После отвратительного старика — не важно, что он столько добра сделал для простого римского народа, — во главе державы прекрасный юноша, сын наидостойнейших родителей.
Восторженно был встречен приход Гая к власти и в провинциях, особенно на Востоке, где была свежа память о его путешествии с отцом в Сирию и Египет. Ликовали и легионы на Западе. На берегах Рейна высоко чтили память о Германике и были рады приходу к власти его сына. Двадцать три года назад рейнские легионы не смогли заставить Германика оспорить высшую власть у Тиберия, и вот теперь сын любимого полководца стал принцепсом, в чем многим виделась глубокая справедливость.
Сохранилась любопытная надпись из города Ассия в Малой Азии, в древней Троаде, который Гай в детстве посетил вместе с отцом, когда знакомился с местами, воспетыми Гомером и Вергилием. Его жители были особенно обрадованы воцарением Гая, поскольку хорошо помнили, как он с отцом своим посетил их город и даже, оказывается, обещал содействовать его процветанию:
«В год консульства Гнея Ацеррония и Гая Понтия Петрония Нигрина (37 г.). Решение по поручению народа Ассия:
Так как было объявлено о долгожданном для всех восхождении на престол Гая Цезаря Германика, и мир не знает меры в своей радости, и так как каждый город и каждый народ спешит увидеть бога, потому что теперь наступил золотой век для всего человечества, городской совет, римские купцы и народ Ассия постановили образовать посольство из самых уважаемых римлян и греков, чтобы оно поздравило его и ходатайствовало перед ним, дабы он помнил о городе и заботился о нем, как он это пообещал нашему городу, когда впервые прибыл в провинцию со своим отцом Германиком»
{244}.
Конечно, едва ли Гай помнил те обещания, которые дал славным жителям Ассия его отец от своего имени и имени шестилетнего сына, но скорее всего это напоминание, да еще столь лестно оформленное, он встретил не без удовольствия.
Десятки миллионов подданных Империи могли быть уверены в наступлении золотого века. Молодой, прекрасный император выглядел, казалось, надежной гарантией этого. Ведь если боги даруют ему жизнь, столь же долгую, как Августу и Тиберию, то править Гаю Цезарю суждено никак не менее полувека. Август, напомним, ушел из жизни на семьдесят шестом, а Тиберий — на семьдесят девятом году жизни. Легко было подумать, что конец наступившего правления из ныне живущих суждено увидеть лишь детям и людям юного возраста… Никто бы весной 37 года, казавшейся столь счастливой для будущего Римской державы, не поверил бы, что их современниками ныне являются пять (!) будущих императоров, трое из которых старше Гая, причем двое — намного. (Клавдию было сорок шесть лет, Гальбе — сорок, Веспасиану — двадцать семь; моложе Гая были будущие цезари Вителий — двадцать два года и Отон — ему шел пятый год.)
Гай, правда, могучим здоровьем от природы не отличался. С детства он страдал падучей болезнью (эпилепсией), подобно своему великому предку и тезке божественному Юлию, «в юности, хоть и был вынослив, но по временам от внезапной слабости почти не мог ни ходить, ни стоять, ни держаться, ни прийти в себя»
{245}.
Каким же видели молодого императора римляне? Светоний дает нам совсем не лестный его портрет:
«Росту он был высокого, цветом лица очень бледен, тело грузное, шея и ноги очень худые, глаза и виски впалые, лоб широкий и хмурый, волосы на голове — редкие, с плешью на темени, а по телу — густые. Поэтому считалось смертным преступлением посмотреть на него сверху, когда он проходил мимо, или ненароком произнести слово «коза». Лицо свое, уже от природы дурное и отталкивающее, он старался сделать еще свирепее, перед зеркалом наводя на него пугающее и устрашающее выражение»
{246}.
Описанию Светония, однако, противоречат сохранившиеся изображения нашего героя. До нас, правда, их дошло совсем немного, поскольку после гибели Калигулы сенат принял «Закон об осуждении памяти» и все его портреты должны были быть уничтожены. Тем не менее часть их сохранилась.
На монетах времени правления Калигулы изображен благородный профиль императора. На мраморных бюстах у него совсем не редкие волосы, согласно описанию Светония, а достаточно густые и без всякого намека на плешь. Лучшим из скульптурных портретов Гая признается мраморный бюст, хранящийся в музее Копенгагена. Мы видим, что у Калигулы был широкий лоб, как и у всех известных нам представителей династии Юлиев — Клавдиев, прическа, при которой волосы зачесывались на лоб. Подобную прическу носили Август и Тиберий. Рот Гая на этом скульптурном изображении имеет несколько странную и малоприятную форму, передающую, очевидно, неровность его характера. В самом лице замечательно передано нечто настораживающее…
{247}
В первые дни и даже месяцы правления нашего героя ничего в его поведении римлян не настораживало. Никто не задумывался, да почти никто и не знал о горьких словах Луция Аррунция, сказанных им незадолго до смерти Тиберия и собственной гибели. Этот ветеран римской политической сцены — он был консулом еще в 6 году, за тридцать лет до описываемых событий, — разменявший уже восьмой десяток лет, был лживо обвинен в «неуважении к императору». Обвинение состряпал префект претория Макрон, преуспевший в своем грязном деле более, нежели его предшественник Сеян, так и не сумевший убедить Тиберия в преступности Аррунция, чем во многом и подготовил почву для своего падения. Аррунцию его друзья настоятельно советовали оправдаться, а еще лучше — добиться отсрочки суда, каковая могла стать для него спасительной, ибо состояние здоровья Тиберия убеждало многих в близости его кончины. Кстати, двое подельников Аррунция, Гней Домиций и Вибий Марс, следуя подобным советам, жизни свои сохранили. Но старый консуляр предпочел добровольную смерть. Друзьям же он сказал: «Не всем приличествует одно и то же: ему уже много лет, и единственное, в чем он себя укоряет, это то, что среди опасностей и издевательств терпел полную треволнений старость, всегда ненавистный кому-нибудь из стоящих у власти: долгое время Сеяну, теперь Макрону, — и не потому, что за ним какая-нибудь вина, а потому, что он не выносит подлости. Вполне вероятно, что можно протянуть несколько дней до кончины принцепса, но как ускользнуть от молодости того, кто немедленно займет его место? И если Тиберия при столь большой опытности в делах все-таки развратило и изменило единовластие, то ужели Гай Цезарь, едва вышедший из отрочества, ни в чем ничего не смыслящий и воспитанный на самых дурных примерах, усвоит что-нибудь лучшее при таком руководителе, как Макрон, потому и выбранный для расправы с Сеяном, что сам он — еще больший злодей, чем тот, и истерзал государство еще большим числом преступлений? Он предвидит еще более жестокое порабощение и торопится уйти как от прошлого, так и от будущего»
{248}. Произнеся эти пророческие слова, он вскрыл себе вены.
Если бы после воцарения Гая кто и рискнул напомнить римлянам вещие слова Луция Аррунция, то столкнулся бы не просто с непониманием, но решительнейшим несогласием и непременным осуждением подобных мыслей и слов. Это был бы, что называется,
vox clamantis in deserto — глас вопиющего в пустыне. Никто в те дни не задумывался над странностями поведения Гая на Капрее, где он со жгучим любопытством и явным удовольствием созерцал кровавые расправы над неугодными Тиберию людьми, не задавался мыслью, насколько молодой человек готов к тяжелейшему труду управления Империей. Тиберий, увы, держал Гая при своем дворе, но палец о палец не ударил, чтобы обучить возможного наследника нелегкому искусству правителя государства. Вдвойне обидно, поскольку сам он им владел отменно и не мог не помнить, как его самого Август обучал таковому. Тиберий был соправителем Августа в самые последние годы правления основателя принципата, Гая же и близко к делам государственным не подпускали…
Но обо всем этом в Риме задумаются позднее, а пока уверенно можно сказать: «Никогда еще восшествие на престол молодого императора не сопровождалось столь всеобщей радостью, и то не была радость, связанная с надеждой на обогащение, а блаженство, вызванное только его восшествием на престол.
В городах приносили жертвы во имя этого события, веселились жители, облаченные в светлые одежды, с коронами на головах, проходили празднества и торжества, музыкальные состязания и конные скачки. Это были всеобщий праздник и всеобщая радость. Богатые не кичились перед бедняками, знаменитые люди не похвалялись перед безвестными, рабовладельцы не издевались над рабами, а времена Кроноса (римский вариант — Сатурн), воспетые поэтами, уже не казались вымыслом»
{249}.
Ученому иудею из Александрии Филону вторит римлянин Светоний: «Ликование в народе было такое, что за ближайшие три неполных месяца было, говорят, зарезано больше чем сто шестьдесят тысяч жертвенных животных»
{250}.
Обычно развеселые сатурналии, когда римляне как бы возвращались в те счастливые времена золотого века, длились всего неделю — с 17 по 24 декабря каждого года. В 37 году произошло невиданное: три первых месяца правления Гая Цезаря Калигулы на деле превратились в непрерывное подобие этого любимейшего квиритами празднества. Ничье правление доселе не выглядело с первых же дней «золотым Сатурновым веком», надежды на возвращение которого, казалось, давно уже напрочь убиты жестокостями последних лет правления Тиберия.
Для столь восторженного восприятия начальных месяцев своего правления Гай сделал немало. Первейшим его деянием было помилование всех осужденных и сосланных по всем обвинениям. Естественно, речь здесь не шла о преступлениях уголовных, всеобщая амнистия предназначалась для жертв закона об оскорблении величества. Помиловав несчастных жертв деспотизма, молодой император пожелал пойти и далее. Он прекратил действие ненавистного всем достойным римлянам закона. Вернулась в Рим и свобода слова: «Сочинения Тита Лабиена, Кремуция Корда, Кассия Севера, уничтоженные по постановлениям сената, он позволил разыскать, хранить и читать, заявив, что для него важнее всего, чтобы никакое событие не ускользнуло от потомков»
{251}.
Вспомнил Гай и о друге своем, царственном иудее Агриппе. Он не только получил свободу, но и был щедро вознагражден: вместо той железной цепи, в которую его заковали по повелению Тиберия, Агриппа получил золотую цепь такого же веса. Бывший узник мог теперь и поскорбеть, что оковы его были недостаточно тяжки… Во дворце, где Агриппа сначала был поручен заботам императорских брадобрея и портного, Гай самолично возложил на друга-страдальца драгоценную диадему, после чего провозгласил его правителем двух областей в Иудее — тетрархии Филиппа, к которой он присоединил еще тетрархию Лисания
{252}. Напомним, что, упразднив царство Иудею, римляне разделили ее территорию на четыре области, назначив в каждую «четверовластника», по-гречески «тетрарха».
Естественно, посмертно были сняты все обвинения с матери и братьев Гая, послужившие поводом к расправе с ними Тиберия. Протоколы обвинений были им лично принесены на форум и им же торжественно сожжены. Особое великодушие он продемонстрировал, объявив, призывая богов в свидетели, что ничего в протоколах этих не читал и не трогал. Этим он успокоил всякий страх у доносчиков и свидетелей по делам Агриппины, Нерона и Друза, могущих ожидать жестокой мести со стороны сына и брата погубленных по злой воле Тиберия людей.
Единственными, кто подвергся наказанию в эти дни, стали те самые спинтрии, развратные юноши и девки, «изобретатели чудовищных наслаждений», тешившие своими бесстыдными игрищами дряхлую похоть Тиберия. Гай сначала хотел, не особо мудрствуя, просто утопить их всех в море, но у развратников нашлись заступники. Скорее всего, среди спинтриев оказалось немало лиц совсем не простого происхождения… Вспомним только Авла Вителлия… (Он, кстати, избежав утопления в водах Тирренского моря, достиг спустя тридцать два года высшей власти в Риме, но она принесла ему не славное правление, а скорую и ужасную погибель.) Спинтриев просто выгнали прочь подальше от Рима.
Хотя завещание Тиберия по настоянию самого Гая было объявлено недействительным, но все подарки, обещанные в нем, Гай самым добросовестным образом выплатил. Более того, вспомнив, что жадный старик в свое время пренебрег волей ушедшей из жизни матери Ливии Августы и не выплатил никому ни сестерция по ее, очень щедрому, кстати, завещанию, Гай восстановил справедливость и честно произвел все выплаты. Щедрость Калигула проявлял ко всем, невзирая на происхождение. Так, царю Коммагены Антиоху он велел выплатить 100 миллионов сестерциев, некогда отобранных у него Тиберием, а вот одна скромная вольноотпущенница удостоилась награды в 800 тысяч сестерциев за то, что под самыми жестокими пытками не стала доносить на своего патрона. Двух миллионов сестерциев удостоился удачливый возничий, победивший на состязаниях колесниц… и был это тот самый Евтих, по чьему доносу пострадал Агриппа и над самим Гаем нависла опасность. Награждая верную либертину, Гай показывал всем, что ни одно доброе дело не будет забыто и совершивший его удостоится должной награды. Осыпав же сверх меры деньгами Евтиха, Калигула продемонстрировал и незлобивость, и незлопамятность, и справедливость.
Были также в первые месяцы правления Гая приняты и различные меры, долженствующие улучшить дела в управлении государством. Вновь стали публиковаться введенные еще Августом отчеты о состоянии державы, упраздненные при Тиберии. Для улучшения работы судей Гай велел расширить судебные учреждения, присоединив к четырем действующим пятую декурию. Но главным было разрешение должностным лицам свободно править суд, ни о чем не запрашивая правящего принцепса. Была у Гая даже мысль восстановить народные собрания и тем самым вернуть народу выборы должностных лиц, но реального воплощения этот смелый гражданский замысел, разумеется, не нашел. Упрека молодой император не заслуживает. Бессмысленно для дня будущего воскрешать безвозвратно ушедший день вчерашний. Всенародные выборы на комициях (народных собраниях) безнадежно изжили себя еще в республиканскую пору. При империи они могли быть лишь жалкой фикцией, потому в возобновлении их никакого смысла не было. В этом случае отказываться от наследия правления Тиберия не стоило. А вот обычай Тиберия достойно возмещать пострадавшим от стихийных бедствий убытки Гай в первые месяцы своего правления достойно продолжил. И в налоговой политике поначалу руководствовался правилом Тиберия: «Хороший пастух стрижет овец, но не сдирает с них шкуры». По воле императора Италия была освобождена от полупроцентного налога на распродажи.
«За все эти его деяния сенат, в числе прочих почестей, посвятил ему золотой щит: каждый год в установленный день жреческие коллегии должны были вносить этот щит на Капитолий в сопровождении сената и с песнопением, в котором знатнейшие мальчики и девочки воспевали добродетели правителя. Было также постановлено, чтобы день его прихода к власти именовался Парилиями, как бы в знак второго основания Рима»
{253}.
Сенаторы в желании восхвалить нового принцепса явно перестарались. Конечно, первые месяцы правления Гая выглядели в глазах многих возвращением «золотого Сатурнова века», но приравнять день начала нового принципата к основанию Рима…
Правитель, желавший завоевать любовь народа, и в первую очередь жителей столицы, просто обязан был считаться с двумя главными требованиями римской толпы:
«Рапет et circensesl» («Хлеба и зрелищ!») И первым, и вторым власть со времени диктатуры Гая Юлия Цезаря всегда старалась баловать римлян. Тиберий, всегда предпочитавший занятие важными государственными делами заигрыванию с чернью, полагавший всякого рода увеселения для народных толп бессмысленной тратой денег, каковые должны пополнять казну, а не расходоваться на потеху простонародья, потому-то и не заслужил народной любви даже в лучшие свои годы. Рачительность и бережливость императора в денежных делах несправедливо воспринимались в народе как скаредность и скупость. Щедрость же Тиберия в дни народных бедствий воспринималась как должное и в заслугу правителю во мнении народном не ставилась.
Калигула с первых дней своего правления дал почувствовать римлянам, что не склонен следовать примеру своего предшественника. Молодости свойственно любить увеселения, яркие зрелища, причем не только созерцать, но и участвовать во всеобщих развлечениях. Гай с этой точки зрения казался идеальным правителем. Он немедленно вернул в Рим изгнанных Тиберием актеров. Театральные представления для народа были возобновлены и размах получили доселе невиданный. Теперь их давали постоянно, «разного рода и в разных местах, иной раз даже ночью, зажигая факелы по всему городу»
{254}. На радость многочисленным зрителям, Гай повелел разбрасывать среди них всяческие подарки, что конечно же вызывало потасовки, только добавлявшие веселья. А чтобы никто из зрителей не чувствовал себя ущемленным или неудачником, корзины с самыми разными закусками раздавались каждому. Тех, кто выражал радость и с особой охотой принимал императорские дары, Гай мог и поощрить. Увидев однажды, как некий римский всадник поглощал дарованное угощение с особенным аппетитом, Гай великодушно послал ему и собственную долю угощения. Еще более повезло некоему сенатору. Тот так смачно и радостно закусывал на глазах у императора едой из врученной ему, как и всем прочим зрителям, корзинки, что умилил и самого Гая. В итоге сенатор удостоился даже указа принцепса о назначении претором вне очереди.
Помимо представлений театральных много большее распространение получили горячо любимые римлянами представления цирковые. Они теперь могли проходить с утра и до позднего вечера. Главным зрелищем в цирке были скачки и состязания колесниц. В Риме соперничали четыре команды участников — Зеленые, Синие, Красные и Белые. Разумеется, каждый цвет имел своих многочисленных поклонников. Известно, что сам Гай был горячим поклонником Зеленых.
На цирковых аренах устраивались и кровавые представления, особо любимые римлянами. Травля африканских диких животных приводила в восторг жаждущую острых ощущений толпу, но ничто не могло, разумеется, сравниться с самым любимым развлечением римлян — гладиаторскими боями. При Тиберии гладиаторы были не в чести. Организация этого зрелища было делом дорогостоящим, и уже поэтому к нему не лежало сердце преемника Августа: число выставляемых на бой пар не должно было превышать ста… Для сравнения: божественный Юлий в свое время порадовал римлян, показав им самую настоящую битву, где сражались две когорты по пятьсот человек, две кавалерийские алы по триста человек и даже по двадцать боевых слонов с каждой стороны!
{255} Теперь Калигула восстанавливал столь милые народу традиции, заложенные великим Гаем Юлием Цезарем. И Август тоже никогда не пренебрегал зрелищами для народа, количеством и разнообразием их даже превзойдя своего предшественника. Гладиаторские бои проходили при нем и на цирковой арене, и в амфитеатре, и даже на римском форуме
{256}. Таким образом, восстановив гладиаторские бои в их прежнем блеске, Гай выступил достойнейшим преемником Цезаря и Августа, что не могло не понравиться народу. Запреты Тиберия были сняты, и вскоре число гладиаторов, принадлежавших императору, достигло двадцати тысяч человек! Самое настоящее войско, равное двум легионам полного состава и со вспомогательными частями!
В своей любви к гладиаторским боям Калигула был настоящим римлянином. Голоса противников кровавых зрелищ в Риме никогда не были слышны, да и противников-то были единицы. Из римских императоров впоследствии лишь двое откровенно не любили сражений гладиаторов. Двое совершенно не похожих императоров: Нерон и Марк Аврелий. Нерон презирал кровавые зрелища, отдавая предпочтение высокому искусству театральной трагедии, изысканному пению под сладостные звуки кифары… Марк Аврелий не принимал гладиаторский бой прежде всего с точки зрения полной бессмысленности кровопролития на арене и истребления людей, прекрасно владеющих боевым оружием. Потому-то в самый разгар войны с вторгшимся в римские владения германским племенем маркоманов он повелел отправить на театр военных действий девять тысяч римских гладиаторов, дабы их воинские таланты наконец-то послужили на пользу отечеству, а не были бездарно растрачены на потеху толпе.
Наш герой, как мы видим, здесь оригинальностью не отличался. Он принадлежал к большинству. При Калигуле бои гладиаторов вновь стали частым зрелищем. Гай даже сумел их разнообразить, приказав в перерывах между кровавыми поединками выводить на арену отряды отборных кулачных бойцов, составленные из цвета молодежи двух областей: провинции Африка (современный Тунис) и близкой к Риму италийской области Кампания. Сам Гай на гладиаторских боях был постоянным зрителем и имел свои предпочтения. Самыми популярными были поединки между гладиаторами «фракийцами» и «самнитами». Они различались вооружением. «Фракийцы», одетые в ярко-красные туники, были вооружены подобно воинам Фракии: они сражались короткими изогнутыми мечами, головы их прикрывали шлемы с забралами, в свободной от оружия руке они держали небольшие круглые щиты. «Самниты» были одеты в голубые туники и имели вооружение воинов Самния — области, некогда упорнее всех сопротивлявшейся римскому господству в Италии. Эти гладиаторы бились короткими прямыми мечами, головы их покрывали закрытые шлемы с крыльями, на левой ноге были защитные поножи, в свободной руке — большой прямоугольный щит.
Как среди поклонников состязаний на колесницах, так и среди любителей гладиаторских боев существовали партии болельщиков. Самыми многочисленными были болельщики «самнитов» и «фракийцев». Гай был горячим поклонником «фракийцев». Его привязанность к ним была столь велика, что он даже поставил нескольких особо доблестных гладиаторов-фракийцев начальниками над своими телохранителями. Но были и гладиаторы, не пользовавшиеся его расположением: почему-то он сильно невзлюбил гладиаторов-мирмиллонов, носивших галльское вооружение — шлем с изображением рыбы на острие, небольшой квадратный щит и короткий широкий меч. Им он даже велел убавить вооружение, дабы затруднить успешное выступление. Светоний приводит даже такой случай: когда один нелюбимый Гаем гладиатор-мирмиллон по прозванию Голубь одержал победу, получив от противника только легкую рану, Гай велел вложить ему в рану яд…
{257}
Зрелища для народа Гай готов был устраивать в любое время, причем необязательно только по своему желанию. Однажды он просто осматривал цирк и его убранство, должно быть, намечая какое-то представление на будущее. Несколько человек с балконов соседних домов увидели императора и высказали желание увидеть игры как можно скорее. Гай не только не рассердился на, казалось бы, несвоевременную и не лишенную некоторой дерзости просьбу, но и повелел устроить игры немедленно, без всякой подготовки, выделив, разумеется, на это немалые средства.
Такие случаи, конечно, прибавляли молодому императору народной любви, но также неуклонно убавляли деньги в казне…
Огромных расходов требовали и многочисленные как традиционные, так и вновь введенные празднества. Здесь Гай также позаботился об умножении народного веселья. К самому любимому в народе празднику сатурналий, когда как бы оживал «золотой век Сатурна», рабы садились за стол рядом с господами, позволялись любые шутки, все равно отдыхали от привычных трудов, Калигула счел необходимым добавить лишний день, получивший название ювеналий.
Все празднества должны были отмечаться с предельной пышностью, дабы доставить народу истинное удовольствие. А празднеств этих было превеликое множество. Помимо тех, что были посвящены почитаемым в Риме богам, было множество знаменательных дат, когда отмечались великие деяния, свершенные предшественниками Гая, божественными Юлием и Августом, а также Тиберием. Только с 27 марта по 28 августа таковых было двадцать, по четыре на месяц в среднем. Распределялись они, правда, неравномерно. В мае, к примеру, отмечались только годовщина посвящения храма Марса Августу и приносились дары Весте в годовщину рождения отца Гая Германика. Зато в апреле таких праздничных дней было уже пять: годовщина победы Юлия Цезаря над сторонниками Гнея Помпея при Тапсе в Нумидии, годовщина первой победы Августа в гражданской войне при Мутине, годовщина первого провозглашения Августа императором, годовщина совершеннолетия Тиберия и, наконец, годовщина освящения статуи богини Весты в доме Августа. При этом в апреле еще традиционно отмечали праздниками и играми дни богини плодородия Цереры, богини распускающихся цветов Флоры, а также дни великой пророчицы Сивиллы. Каждый из этих праздников длился неделю.
Если все праздники самым торжественным образом отмечать, как решил Калигула, то в иные месяцы
dies profesti (будни) — просто терялись бы среди
dies festi — праздничных дней.
Наверное, Гай действительно в первые месяцы правления искренне добивался того, чтобы жизнь у римлян стала сплошным праздником. Щедрость его не знала пределов. Дважды он устроил всенародную раздачу денег по 75 денариев (300 сестерциев) каждому. Дважды были устроены роскошные угощения для всех сенаторов и лиц из сословия всадников в Риме, на которые впервые получили право явиться жены и дети приглашенных. Решив после первого пиршества, что проявленная им щедрость была недостаточной, Гай после второго угощения велел подарить каждому мужчине нарядную тогу, а женщинам и детям — пурпурные повязки.
Проведением празднеств, игр, представлений, зрелищ, пиршеств Гай любил руководить сам, но порой в порыве великодушия, дабы доставить радость своим друзьям и высшим должностным лицам, охотно перепоручал им руководство радостями народа.
Зрелища и прочие праздничные удовольствия при Гае вовсе не ограничивались только столицей Империи. Известны праздники игр в Сиракузах на Сицилии, в Лугдуне (современный Лион) в Галлии. Здесь прелюбопытно и со своеобразным юмором было устроено состязание в латинском и греческом красноречии. Побежденные должны были платить победителям награды и сочинять в их честь славословия. Те, чьи сочинения менее всего угодили победителям, должны были стирать свои писания в лучшем случае губкой, а то и языком, если не хотели быть битыми розгами или выкупанными в ближайшей реке
{258}. Зная любовь Гая к красноречию и его умение таковым блеснуть, можно предположить, что он приложил руку к столь забавному сценарию состязания ораторов, а если нет, то наверняка отнесся к нему с безусловным одобрением.
Для многочисленных празднеств и игр в Риме уже просто не хватало места, и Гай велел построить новый цирк для проведения любимых народом развлечений. Местом для него было выбрано поле на Ватикане, где ранее мать Калигулы Агриппина велела разбить сады
{259}. Не воспоминания ли детства привели Гая к мысли о строительстве цирка там, где он провел свои отроческие годы, когда жил у матери после возвращения с Востока? Цирк этот был украшен привезенным из Египта древним обелиском. Для того чтобы доставить этот монумент с берегов Нила на берега Тибра, понадобилось построить огромный корабль. По свидетельству Плиния Старшего, построенное для перевозки обелиска судно было «поразительнее всего, что когда-нибудь было видано на море»
{260}. Особенно поражала мачта корабля, сделанная из сосны удивительной высоты. Интересна и судьба самого судна. Преемник Калигулы, его дядюшка Клавдий, не зная, как использовать это чудо римского судостроения по прямому назначению, распорядился отвести корабль в гавань Остии, где его, заполнив песком, затопили, использовав для расширения порта.
На обелиске Гай приказал выбить латинскую надпись с посвящением Августу и Тиберию. Последнего, разумеется, Калигула совсем не жаловал, но тот был законным носителем высшей власти и, исходя из дорогих сердцу Гая династических представлений, император-предшественник должен был быть официально почитаем, пусть божественности, в этом и состояла месть, не удостоился.
Какого времени сам обелиск — установить невозможно, поскольку иероглифической надписи на нем не было. Обелиск этот находится в Ватикане и в наши дни. Единственно, что добавили на нем прошедшие тысячелетия, это христианская посвятительная надпись, сделанная по повелению римского папы Сикста V (годы понтификата 1585–1590), когда по проекту замечательного архитектора Доменико Фонтана в 1586–1589 годах был построен новый папский дворец в Ватикане вместо покинутого папами старого дворца в Латеране.
Неприязнь к Тиберию, возможно, сказалась на одном из крупнейших строительств, затеянных Калигулой в Риме. Если Август жил предельно скромно в доме, не примечательном ни размерами, ни убранством
{261}, то Тиберий счел необходимым построить в Риме на Палатинском холме настоящий дворец. К этому его едва ли подвигла любовь к роскоши. Скорее всего, он таким образом повышал престиж императорской власти. Размеры дворца Тиберия были впечатляющими: 150 на 120 метров. Калигула, не желая жить во дворце предшественника, который, к слову говоря, десять последних лет жизни там и не появлялся, повелел построить новый дворец. Строить его стали к северу от дворца Тиберия на Палатине. Простирался он до самого форума и вплотную приблизился к храму Кастора и Поллукса (близнецов Диоскуров) и Дома весталок, служительниц богини домашнего очага Весты. Храм Диоскуров и Дом весталок обрамляли проход к дворцу молодого императора, образовав своего рода пропилеи. В самом храме Диоскуров Калигула велел сделать специальный проход между статуями близнецов, по которому любил проходить в свой дворец. Сыновья Зевса (Юпитера) Кастор и Поллукс являлись как бы его привратниками…
Дворец Калигулы поглотил дом знаменитого оратора Цицерона и ряд других, менее знаменитых зданий. Он стал первым многоэтажным дворцом в Риме с большими застекленными окнами.
В настоящее время то, что осталось от дворца Гая, сокрыто под садами знаменитой виллы Фарнезе.
Вообще Гай был неравнодушен к монументальным строительным проектам и за свое недолгое правление немало в их осуществлении преуспел. Он завершил строительство в Риме храма Августа и театра Помпея. Обе постройки были начаты Тиберием, но затем из экономии средств строительство прекратилось. На Сицилии в Сиракузах по повелению Гая были восстановлены рухнувшие от ветхости стены и храм. Собирался Калигула завершить строительство храма в Милете в Малой Азии. Была у него мысль о восстановлении исторического памятника на острове Самос, где некогда правил знаменитый тиран Поликрат, любивший, как известно, испытывать свое счастье. Наверное, образ этого человека, к которому долгое время судьба невероятным образом благоволила, Гая сильно привлекал. Потому, должно быть, он и повелел отстроить его дворец. Интересно, а задумывался ли Гай при этом над судьбой самосского тирана? Ведь после многих лет поразительного везения во всем судьба покарала его самым жестоким образом: персы, захватившие Самос, убили Поликрата и распяли его тело на кресте…
Был у Гая и проект, чрезвычайно нужный в те времена мореходам. Он задумал прорыть канал через перешеек Истм, отделяющий полуостров Пелопоннес от материковой части Греции. Если бы истмийский канал был прорыт, кораблям не пришлось бы огибать Пелопоннес, чтобы попасть из Ионического моря в Эгейское. Ведь плавали античные корабли, как правило, вдоль берегов, а многочисленные скалы полуострова часто приводили к кораблекрушениям. Замысел был прекрасен, но дело ограничилось только поездкой посланного Гаем в Грецию старшего центуриона преторианских когорт (так называемый центурион-примипил, командир первой центурии), сделавшего предварительные измерения. Мечта Гая осуществилась только в конце XIX века — в 1893 году Греческое королевство осуществило наконец проект римского императора.
Начато было при Гае, но также не закончено строительство гаваней в Регии (современный Реджо-ди-Калабрия), портов на самом юге Италии у пролива, отделяющего ее от Сицилии, и на самой Сицилии. Там должны были появиться стоянки для прибывающих из Египта судов с хлебом, они, конечно, могли бы стать, по общему признанию, весьма полезными сооружениями, но для завершения строительства не хватило денег.
Крупнейшим достижением Калигулы безусловно можно считать начало строительства водопровода в Рим из близлежащей области Тибура. Как свидетельствовал Плиний Старший, предшествующие водопроводы превзошло последнее недавнее дорогостоящее сооружение, начатое цезарем Гаем и законченное Клавдием: от сорокового камня (в 40 милях от Рима) до той возвышенности, с которой воду могли бы получать все холмы города, были проведены Курциев и Голубой источники и Новый Аниен, а на сооружение это было израсходовано 350 миллионов сестерциев. «Так что, если кто оценит потщательнее обилие вод в общественных местах, банях, водоемах, каналах, домах, садах, пригородных виллах, расстояния подачи воды, что во всем мире не было ничего более поразительного»
{262}. Автор трактата «Об акведуках города Рима» Фронтин (35—103), живший в годы, когда само имя Калигулы было предано проклятию, тем не менее не мог не восхититься этим великим строительством: «Неужели с таким множеством необходимых громадных сооружений водопроводов можно сравнить явно праздные пирамиды или прочие бесполезные, но прославленные сооружения греков?»
{263}
Колоссальные затраты в 350 миллионов сестерциев, восьмая часть накоплений Тиберия за двадцать три года правления, в этом случае себя оправдали. И здесь Калигула заслуживает только одобрения и благодарности со стороны народа города Рима и потомков. Но поскольку закончен был акведук при Клавдии, то слава благодетеля, обеспечившего Рим бесперебойным снабжением водой, Гаю не досталась. Самым же знаменитым его сооружением, поразившим современников и завершившимся в его правление, стал грандиознейший мост, построенный по его повелению между скал в Путеоланском заливе Тирренского моря у берегов Кампании, где «на протяжении трех миль между скал он связал между собой два ряда кораблей; насыпал на них песку, построил прочную, как бы сухопутную дорогу»
{264}.
Гай Светоний Транквилл подробнейше описывает и само это удивительное сооружение, и смысл его создания для самого Гая:
«Кроме того, он выдумал зрелище новое и неслыханное дотоле. Он перекинул мост через залив между Байями и Путеоланским молом, длиной почти в три тысячи шестьсот шагов; для этого он собрал отовсюду грузовые суда, выстроил их на якорях в два ряда, насыпал на них земляной вал и выровнял по образцу Аппиевой дороги. По этому мосту он два дня подряд разъезжал взад и вперед: в первый день — на разубранном коне, в дубовом венке, с маленьким щитом, с мечом и в златотканом плаще; на следующий день — в одежде возницы, на колеснице, запряженной парой самых лучших скакунов, и перед ним ехал мальчик Дарий из парфянских заложников, а за ним отряд преторианцев и свита в повозках. Я знаю, что, по мнению многих, Гай выдумал этот мост в подражание Ксерксу, который вызвал такой восторг, перегородив много более узкий Геллеспонт (современный пролив Дарданеллы. —
К К.), а по мнению других — чтобы славой исполинского сооружения устрашить Германию и Британию, которым он грозил войной. Однако в детстве я слышал об истинной причине этого предприятия от моего деда, который знал о ней от доверенных придворных: дело в том, что когда Тиберий тревожился о своем преемнике и склонялся уже в пользу родного внука, то астролог Фрасилл заявил ему, что Гай скорее на конях проскачет через Байский (он же Путеоланский) залив, чем будет императором»
{265}.
Столь мощный и неоспоримый аргумент в опровержение пророчества Фрасилла потряс современников и не перестает удивлять потомков. В данном случае Калигула уподобился создателям тех великих, но бесполезных сооружений, о которых писал Фронтин. Мост Ксеркса через Геллеспонт был не причудой, но совершенно необходимым инженерным сооружением, позволившим успешно и быстро переправить огромное персидское войско из Азии в Европу для похода на Элладу. Путеоланский же мост страха на германцев и тем более на бриттов никак не мог навести. Они могли испугаться лишь внезапного появления римских легионов на своей земле, увидев насыпи их лагерей. Насыпь между неведомыми им Путеолами и Байями не могла произвести на варваров должного впечатления. Наверное, Калигула и в самом деле решил посрамить астролога: и императором стал, и через залив перескакал.
Иной пользы от этого моста не было. Не случайно Светоний именует его не сооружением, но «зрелищем новым и неслыханным дотоле». Добавим к этому немедленно проявившуюся нехватку грузовых кораблей для доставки зерна в Рим… Путеоланский мост стал апофеозом безумных трат Гая. Он как бы не задумывался, что за политику жизни как сплошного праздника, за все его великие замыслы, если их воплощать в жизнь, необходимо прежде всего платить, платить и платить… А деньги в подобных случаях, сколько бы их ни было, очень быстро заканчиваются. Праздник начала правления Калигулы неизбежно должен был в скором времени закончиться. И он закончился.
Глава VI
«ДО СИХ ПОР РЕЧЬ ШЛА О ПРАВИТЕЛЕ,
ДАЛЕЕ ПРИДЕТСЯ ГОВОРИТЬ О ЧУДОВИЩЕ»
Резкая перемена в правлении Гая наступила еще до того, как к концу 37 года обозначился после его немыслимых трат жестокий финансовый кризис. Причиной ее, как считается, стала тяжелая болезнь, постигшая его спустя семь месяцев с начала правления. Болезнь молодого императора, которого за недолгие месяцы правления все в Риме успели полюбить, вызвала в народе всеобщую тревогу. Когда стало известно о его болезни, «люди ночами напролет толпились вокруг Палатина; были и такие, которые давали письменные клятвы биться насмерть ради выздоровления больного или отдать за него жизнь»
{266}. Что это была за болезнь и почему она привела к столь роковым для нашего героя последствиям, спустя почти два тысячелетия определить невероятно трудно. Уверенно можно говорить лишь о том, что после тяжелого недуга Калигула решительно изменился, заставив современников считать себя отныне человеком, впавшим в безумие. Не понимая, какая, собственно, болезнь лишила императора рассудка, многие предполагали отравление. Появилась версия, что Гай стал жертвой любовного зелья, изготовленного из «гиппомана» — нароста на лбу жеребенка. Великий сатирик Ювенал именно мозг жеребенка называет отравой, погубившей разум Калигулы и ввергшей его в совершенное безумие:
…впадешь ты
В бешенство, вроде того опоенного дяди Нерона,
Мужа Цезонии, что налила ему мозг жеребенка
(Всякая женщина то же, что царские жены, содеет).
Всё пред Калигулой было в огне, все рушились связи,
Точно Юнона сама поразила безумием мужа
{267}.
Обвиняя Цезонию, Ювенал явно грешит против истины, доверяясь заурядной сплетне. Во время роковой болезни Цезония не была приближена ко двору и никак не могла подливать коварное снадобье в его пищу. Но, описывая суть безумия императора, гениальный обличитель пороков римлян эпохи первого века Империи замечательно точен. Когда Калигула выздоровел, все прежние связи его разрушились и сгорели дотла.
Перемена в Гае была непостижимой для римлян. Как мог человек так внезапно измениться? Как было найти объяснение тому, что тот, кто так прекрасно начал, вдруг сам во зло себе и
окружающим переменил свое правление? Ведь «достигнув власти… он прекрасно обращался с народом, с сенаторами, с солдатами, и когда стало известно о заговоре, он, как бы не веря этому, убеждал, что это не относится к нему, жизнь которого никого не тяготит и не стесняет. Но вдруг, предав казни нескольких невинных людей на основании различных обвинений, он словно показал лик зверя, глотнувшего крови, и потом целое трехлетие прошло в том, что весь мир осквернялся многообразными казнями сенаторов и самых выдающихся людей»
{268}. Да, действительно, только недавно Калигула «донос о покушении на его жизнь не принял, заявив, что он ничем и ни в ком не мог возбудить ненависти и для доносчиков слух его закрыт»
{269}, и вдруг без всякого видимого повода расправляется с близкими ему людьми, не чураясь и пролитием родной крови.
Несколько человек, казненные по повелению Калигулы после выздоровления, — это его официальный преемник Тиберий Гемелл, бывший тесть Гая, отец его первой жены Юнии Клавдиллы, скончавшейся в 36 году при родах; Марк Юний Силан; Птолемей, сын мавретанского царя Юбы, живший в Риме при императорском дворе на Палатине; префект претория Макрон и его жена — недавняя любовница Калигулы Энния Невия. Расправа эта, правда, не носила единовременного характера, а растянулась на месяцы.
Почему он вдруг решил с ними расправиться? Самую очевидную причину, послужившую основанием расправиться с Птолемеем, называет Дион Кассий: Калигула прослышал о его несметном богатстве
{270}. В данном случае бесчеловечность имеет вполне понятное объяснение: казна из-за постоянных расходов на всевозможные празднества, зрелища и грандиозное строительство неуклонно истощается, а поскольку обычным путем пополнить ее невозможно, то здесь несметные богатства злосчастного мавра с македонским именем и римскими корнями оказались как раз кстати. Гая совсем не смутило родство. Ведь Птолемей был сыном царя мавров Юбы и жены его Селены, дочери Марка Антония. К памяти Марка Антония Гай всегда относился с великим почтением, а здесь и родная кровь его не остановила. Правнук Антония погубил внука почитаемого прадеда.
Легко объясняется жестокой логикой власти расправа над Макроном и Эннией. Действительно ли префект претория проложил Гаю дорогу к власти, придушив умирающего Тиберия, — вопрос, по меньшей мере, очень спорный. Но то, что все свои надежды Макрон связывал с правлением Гая, воображая себя вторым Сеяном, совершенно очевидно. Энния Невия, ставшая любовницей Гая по бесстыдному наущению супруга, надумавшего столь оригинальным способом утешить молодого вдовца, только что потерявшего жену и нерожденного ребенка, притязала и на большее. Не забудем, что она располагала письменной клятвой Гая с обещанием жениться на новоявленной возлюбленной, а развод в Риме был делом простым, тем более при таком муже, как Макрон, авторе всей интриги.
Конечно, Калигула нуждался в Макроне, покуда был только сонаследником при Тиберии. Опора на преторианскую гвардию и расторопного префекта в дни болезни Тиберия немало помогла Гаю беспрепятственно овладеть высшей властью в Риме по смерти престарелого принцепса. Но во все времена властители тяготились присутствием тех, кому властью своей были обязаны. Тем более что благодетели эти совсем не бескорыстны были, а явно надеялись на всевозможные блага при новом правителе. Макрон вновь пытался сделать пост префекта важнейшим в государстве, супруга его притязала на великое достоинство Августы. Иначе зачем брать с Гая такую клятву, да еще и в письменном виде? Но память о Сеяне была еще слишком свежа, а прекрасно помнивший о событиях шестилетней давности, в которых не последнюю роль сыграла его бабка Антония и которые проложили ему дорогу на Капри ко двору Тиберия, Гай решил не затягивать дело. Все произошло предельно быстро. И Макрон, и Энния вместо благодарности за услуги награждены были жестокой смертью
{271}. Макрон рассчитывал на повторение успеха Сеяна, но достиг лишь его печального конца. Энния же напрасно мечтала о сане Августы. Вынужденная клятва не могла не раздражать Гая, а смысл затеянной супругами интриги едва ли составлял для него тайну Потому оба они получили от императора приказ умереть. Макрону, правда, сначала была предложена должность наместника в богатейшей провинции Римской империи: префект претория должен был стать префектом Египта
{272}. Но он так и не успел решить: радоваться новому назначению или скорбеть о нем.
О судьбе Макрона и его супруги в Риме едва ли кто печалился. Префект претория имел самую дурную славу как сообщник и Сеяна, и Тиберия в их злодеяниях, среди каковых, что для Гая имело особое значение, было и соучастие в расправе над его матерью и братьями, а «целомудрие» Эннии Невии и особенности понимания ею супружеской верности наверняка многим были известны. Но вот гибель Тиберия Гемелла и Марка Силана не могла не поразить римлян, только что восхищавшихся великодушием и незлобивостью молодого императора: «Своего брата Тиберия он неожиданно казнил, прислав к нему внезапно войскового трибуна, а тестя Силана заставил покончить с собой, перерезав бритвой горло. Обвинял он их в том, что один в непогоду не отплыл с ним в бурное море, словно надеясь, что в случае несчастья с зятем он сам овладеет Римом, а от другого пахло лекарством, как будто он опасался, что брат его отравит. Между тем Силан просто страдал морской болезнью и боялся трудностей плавания, а Тиберий принимал лекарство от постоянного кашля, который все больше его мучил»
{273}.
Силан, очевидно, отказался сопровождать Калигулу в его плавании на Пандатерию и Понтию, где печально завершилась жизнь его матери и брата. Плавание это для Гая имело особое значение, и он, не интересуясь причиной, заставившей Марка Юния Силана остаться на берегу, мог затаить обиду, затем переросшую в ужасное подозрение. Что до Тиберия Гемелла, то кто-то услужливо донес Гаю, что тот принимает не лекарство от обычной болезни, а противоядие, опасаясь, что его отравят по приказу императора. Как видим, после болезни Калигула подобрел к доносчикам. Узнав о странном поведении родственника и наследника, Гай рассвирепел. Если Гемелл принимает противоядие, значит, он враждебен императору, поскольку отравления ждут только от врагов. А поскольку Калигула не собирался травить «предводителя юношества», то вправе был негодовать на оскорбительное подозрение. Да если бы он и в самом деле решил избавиться от Гемелла, то неужели его спасли бы какие-то снадобья? Сам факт принятия Тиберием противоядия казался Гаю глубоко оскорбительным для его достоинства владыки Рима. «Как? Противоядие — против Цезаря!»
{274} — воскликнул он, и судьба внука императора Тиберия и его несостоявшегося преемника была решена.
Думается, причина гибели несчастного Тиберия Гемелла кроется в событиях, происходивших во время тяжелой болезни Калигулы. Тогда не все, очевидно, молили богов о спасении жизни и выздоровлении обожаемого принцепса, но были и такие, кто, предполагая наихудший исход болезни, не мог не задуматься над преемственностью власти в империи… Кто сменит Гая? Первый претендент, разумеется, сонаследник еще при Тиберии, а ныне объявленный преемник. Не исключено, что, когда Гай, казалось, находился между жизнью и смертью, иные высокородные и высокопоставленные особы стали проявлять особое расположение к родному внуку покойного императора, полагая его в ближайшем будущем хозяином дворца на Палатинском холме. Когда Гай выздоровел, не могло не найтись «доброжелателей», донесших ему о таких настроениях. Возможно, и злосчастный Марк Юний Силан оказывал чрезмерное почтение Тиберию Гемеллу, покуда бывший зять его метался в жару. Возможно…
Первые жертвы произвола Калигулы во многом сопоставимы с жертвами жестоких деяний его предшественников. Тиберий Гемелл погиб по той же причине, по какой Август повелел убить Цезариона, сына Гая Юлия Цезаря и Клеопатры, Ливия погубила Агриппу Постума, Тиберий избавился от старших братьев Гая. Императоры устраняли возможных претендентов на высшую власть. При этом действительные намерения злосчастных родственников для их палачей значения не имели. Может притязать на власть — значит, опасен, а следовательно, и виновен. Изуверская, но, увы, обычная логика первых цезарей…
Устранение же Макрона никого не огорчило. Претензии префекта на особое положение неизбежно заставляли не только императора, но очень многих людей полагать, что он и впрямь желает править, отодвинув Гая на второе место
{275}. Силан мог быть заподозрен в нелояльности. Расправа над царственным Птолемеем, по крайней мере, объяснима необходимостью пополнить истощившуюся по причине многомесячных празднеств казну…
Но вскоре римляне, к ужасу своему, убедились, что их молодой владыка решительно переменился к худшему и казнь людей независимо от их действительной вины доставляет ему удовольствие. Не политическая необходимость подвигает его на жестокие деяния, как Августа, не старческая мнительность и неприятие вольнодумства, как Тиберия, но в первую очередь упоение собственной жестокостью, наслаждение видом мучений несчастных жертв. Исчерпывающую картину изуверств Калигулы, утратившего свой прежний, столь приятный римлянам облик, дал Гай Светоний Транквилл:
«Свирепость своего нрава обнаружил он яснее всего вот какими поступками. Когда вздорожал скот, которым откармливали диких зверей для зрелищ, он велел бросить им на растерзание преступников; и, обходя для этого тюрьмы, он не смотрел, кто в чем виноват, а прямо приказывал, стоя в дверях, забирать всех, «от лысого до лысого». От человека, который обещал биться гладиатором за его выздоровление, он потребовал исполнение обета, сам смотрел, как он сражался, и отпустил его лишь победителем, да и то после долгих просьб. Того, кто поклялся отдать жизнь за него, но медлил, он отдал своим рабам — прогнать его по улицам в венках и жертвенных повязках, а потом во исполнение обета сбросить с раската. Многих граждан из первых сословий он, заклеймив раскаленным железом, сослал на рудничные или дорожные работы, или бросил диким зверям, или самих, как зверей, посадил на четвереньки в клетках, или перепелил пополам пилой, — и не за тяжкие провинности, а часто лишь за то, что они плохо отзывались о его зрелищах или никогда не клялись его гением. Отцов он заставлял присутствовать при казни сыновей; за одним из них он послал носилки, когда тот попробовал уклониться по нездоровью; другого он тотчас после зрелища казни пригласил к столу и всяческими любезностями принуждал шутить и веселиться. Надсмотрщика над гладиаторскими битвами и травлями он велел несколько дней подряд бить цепями у себя на глазах и умертвил не раньше, чем почувствовал вонь гниющего мозга. Сочинителя ателлан за стишок с двусмысленной шуткой он сжег на костре посреди амфитеатра. Один римский всадник, брошенный диким зверям, не переставал кричать, что он невиновен; он вернул его, отсек ему язык и снова прогнал на арену. Изгнанника, возвращенного из давней ссылки, он спрашивал, чем он там занимался, тот льстиво ответил: «Неустанно молил богов, чтобы Тиберий умер и ты стал императором». Тогда он подумал, что и ему его ссыльные молят смерти, и послал по островам солдат, чтобы их всех перебить.
…Сенатор преторианского звания, уехавший лечиться в Антикиру, несколько раз просил отсрочить ему возвращение; Гай приказал его убить, заявив, что если не помогает чемерица, то необходимо кровопускание. Каждый десятый день, подписывая перечень заключенных, посылаемых на казнь, он говорил, что сводит свои счеты. Казнив одновременно нескольких галлов и греков, он хвастался, что покорил Галлогрецию. Казнить человека он всегда требовал мелкими частыми ударами, повторяя свой знаменитый приказ: «Бей, чтобы он почувствовал, что умирает!» Когда по ошибке был казнен вместо нужного человека другой с тем же именем, он воскликнул: «И этот того стоил!» Он постоянно повторял известные слова трагедии: «Пусть ненавидят, лишь бы боялись!»»
{276}
В чем причина такой ужасающей перемены? Только ли в неизвестной болезни, помутившей разум Калигулы? Наверное, она тоже сыграла свою роль, но главным представляется то, как Гай прожил последние семь лет правления Тиберия и первые семь месяцев правления собственного. Известно, что лучшей чертой своего характера Гай почитал невозмутимость. Качество это он выработал в себе в годы пребывания при дворе Тиберия, где он, как мы помним, оказался сразу после того, как в немилость у владыки Рима угодили его мать и вслед за ней его старшие братья. В искренней любви Гая к ним усомниться невозможно, но он хотел выжить, избежать их участи. Та самая, поражавшая всех невозмутимость, которую он вынужден был сохранять, чтобы ничем не выдать чувств, охвативших его при известии о гибели самых дорогих ему людей, стала сильнейшим испытанием для психики молодого человека. Вне всякого сомнения, все эти годы он жил в чудовищном напряжении. Ведь угроза его благополучию и самой жизни присутствовала постоянно. Даже когда он вместе с Тиберием Гемеллом стал сонаследником старого принцепса, оснований успокоиться не было. Стоило Тиберию сделать решительный выбор в пользу родного внука, а подобные настроения у него были, все об этом знали, и в первую очередь сам Гай, и за жизнь последнего сына Германика никто не дал бы и медного асса. Преемник отстраненный, о чем убедительно свидетельствовал опыт римской политической жизни начала империи, неизбежно рано или поздно мог быть подвергнут и физическому устранению. Можно было стать и жертвой доноса. Соври Евтих, что Гай с восторгом встретил слова Агриппы с пожеланием скорейшей смерти Тиберию, и кто знает, какое решение принял бы жестокий принцепс… Гая очередной раз выручила мучительно приобретенная, выстраданная невозмутимость.
Первые месяцы правления, ставшие для римлян непрерывным празднеством, а для самого Гая временем воистину упоительным, не могли не стать очередным потрясением для измученной многолетним напряжением психики молодого человека. Такие резкие перепады для любого человека опасны, а уж для того, кто семь лет подавлял в себе все чувства из страха гибели, а затем вдруг обрел безграничную власть над людьми, могли стать роковыми. Жуткая атмосфера, царившая при дворе Тиберия в последние годы его правления, не могла не подействовать разрушительным образом на психику Гая, что, напомним, и проявлялось в его пристрастии к созерцанию чужих мук. Зрелище в эти годы на Капрее совсем не редкое… Тиберий, до последнего дня колебавшийся в выборе преемника, к сожалению, палец о палец не ударил, чтобы хоть как-то подготовить к будущему правлению одного из сонаследников. И дар великого полководца, и несомненный талант умелого правителя третий цезарь предпочел унести с собой в могилу, но не передать тому, кому суждено было стать следующим императором. Лишь уроки жестокости достались Гаю от престарелого владыки. Вот они вкупе с пережитыми нравственными и психическими потрясениями и дали свои ужасные плоды. Молодой правитель, подававший прекрасные надежды, быстро превратился в настоящего монстра, облеченного безграничной властью.
Общеизвестно, что власть, особенно власть неограниченная, способна легко испортить человека. Справедливо, впрочем, и обратное утверждение: люди сами портят власть. Нельзя не признать, что Тиберий сам испортил собственное, такое успешное вначале, правление. В случае же с Гаем очевидно убийственное воздействие на молодого правителя, лишенного всякого опыта государственного управления, необъятной власти и полной безнаказанности. И первый опыт политического убийства стал тем самым роковым глотком крови, который, по уже приводившемуся образному выражению Аврелия Виктора, превратил его в зверя
{277}.
Безусловная убежденность в своем всемогуществе проявлялась, на словах пока, даже в первые счастливые для всех и для него самого месяцы правления. Бабушке своей Антонии Августе незадолго до ее смерти он жестко сказал в ответ на ее увещевания: «Не забывай, что я могу сделать что угодно и с кем угодно!»
{278} В дальнейшем Калигула всегда старался напомнить окружающим о беспредельности своей власти и чем она для них в любой миг может обернуться по его капризу. Однажды «средь шумного пира он вдруг расхохотался; консулы, лежавшие рядом, льстиво стали спрашивать, чему он смеется, и он ответил: «Атому, что стоит мне кивнуть, и вам обоим перережут глотки!»»… «Целуя в шею жену или любовницу, он всякий раз говорил: «Такая хорошая шея, а прикажи я — и она слетит с плеч!»»
Такими шутками Калигула забавлялся постоянно
{279}. Но забавы эти возбуждали ненависть к нему, возможно, не меньше, чем сами жестокости. Римляне с подобным никогда не сталкивались. Проскрипции эпохи гражданских войн касались ограниченного круга лиц, внесенных в роковые списки и в той или иной мере в большинстве своем враждебных или неудобных для победителей. Тиберий превратил закон об оскорблении величия в закон об оскорблении величества, но и здесь было понятно, кого именно в первую очередь закон сей касается: будь осторожен, не давай повода для доноса, терпи гнусные причуды тирана, и гибельное обвинение тебя не коснется. При Калигуле же воцарилась полная непредсказуемость: кого хочу — того казню! Здесь и речи нет хотя бы о видимости вины перед императором. Если он заявляет о готовности забавы ради приказать перерезать глотки консулам, высшим должностным лицам державы, то никто вообще не вправе считать себя в безопасности. А то, что Цезарь не просто шутит, было для всех совершенно очевидно, поскольку расправ такого рода было предостаточно.
Первыми жертвами Калигулы стали люди знатнейшие, составлявшие его ближайшее окружение, и возможно было допустить, что они готовили какой-то заговор, были недостаточно верны… Но ведь в дальнейшем жертвами Гая становились люди вовсе не знатные, никаких заговоров составлять не могущие и ничем перед императором не провинившиеся. Они погибали только потому, что это доставляло удовольствие правителю, развлекало его, чего он, собственно, не только не скрывал, но чем откровеннейшим образом похвалялся. Кровавую забаву обезумевший принцепс был готов учинить в любое время, в любом месте, с любыми людьми и при любых обстоятельствах:
«В Путеолах при освящении моста он созвал к себе народ с берегов и неожиданно сбросил их в море, а тех, кто пытался схватиться за кормила судов, баграми и веслами отталкивал вглубь»
{280}. Иногда шутки Калигулы были относительно безобидны, но чаще — бессмысленно жестоки; иной мог стать жертвой кровавой расправы просто за свою внешность: «Встречая людей красивых и кудрявых, он брил им затылок, чтобы их обезобразить. Был некий Эзий Прокул, сын старшего центуриона, за огромный рост и пригожий вид прозванный Колосс-Эротом; его он во время зрелищ вдруг приказал согнать с места, вывести на арену, стравить с гладиатором легко вооруженным, а когда тот оба раза вышел победителем, — связать, одеть в лохмотья, провести по улицам на потеху бабам и, наконец, прирезать. Поистине, не было человека такого безродного и такого убогого, которого он ни постарался бы обездолить»
{281}.
Что особенно возмущало римлян в жестокостях Калигулы, так это единоличный характер принимаемых решений о судьбах людей, включая и высших должностных лиц. При Тиберии сенат, пусть и раболепствующий, все-таки оставался высшей судебной инстанцией и приговор обвиняемому выносил он. При этом, как правило, обвиняемый мог защищать себя, важнейший постулат римского права: «Да будет выслушана и другая сторона!» строго соблюдался. При Гае решение исходило от одной-единственной персоны — императора. Уже судьбы Тиберия Гемелла, Марка Юния Силана, Птолемея, Макрона и Эннии Невии Калигула решил сам, сенат совершеннейшим образом ни во что не ставя.
Тиберий, родившийся в эпоху гражданских войн и взрослевший в годы становления принципата — монархии в республиканских одеждах, искусно создаваемой Августом, который мудро учитывал печальный опыт божественного Юлия, убитого за явное стремление к открытой царской власти, старался продолжать политику великого предшественника и не покушался на основы государственного строя, им созданного. Видимость республики при действительной необъятной власти правителя, лишь в угоду традиции не царем открыто, но стыдливо принцепсом именуемого, совершенно его устраивала. А как он властью этой пользовался, мы хорошо помним. Гай, выросший и возмужавший при Тиберии, необходимости сохранения если не одежд, то хотя бы фигового листка республиканства решительно не понимал. Он однозначно воспринимал свою власть как монаршую, основанную на династических правах, а не на воле какого-то там сената римского народа. Именно этим обстоятельством, а не только пылкой братской (и не только братской) любовью к сестрам объясняется столь высокая и необычная для римлян их титулатура. Вспомним девиз его правления: «Да сопутствует счастье и удача Гаю Цезарю и его сестрам!» На вновь отчеканенных монетах помимо изображений самого Гая, что было естественным, стали изображаться и его сестры Друзилла, Юлия Ливилла и Агриппина. Им сопутствовали изображения рога изобилия, чаши и весла — атрибуты богини плодородия, согласия и счастливой судьбы. Все три сестры, равно как и их бабушка Антония Августа, получили почетные права жриц богини Весты, на всех бесчисленных зрелищах и играх они занимали особо привилегированные места рядом с братом-императором
{282}. Отныне высшая власть в Риме должна была выглядеть делом сугубо семейным. Семья принцепса становилась подлинно августейшей.
На кого должен был стремиться походить Гай — монарх, не желающий быть просто принцепсом, подобно Августу и Тиберию? Ответ напрашивается легко: наилучшим образцом могли быть только монархи эллинистические. Самих царей былых держав, порожденных распадом необъятной империи Александра Великого, уже, правда, не осталось, и обломки их государств, одни раньше, другие позже, превратились в провинции Рима. Несколько ничтожных правителей мелких областей на римско-парфянском пограничье, по недоразумению все еще именовавших себя царями, понятное дело, не в счет.
Другой исторический опыт Риму не подходил. Цари — от Ромула до Тарквиния Гордого — были слишком далекой историей, и традиция исключала возвращение к их опыту. Цари стран и народов, которых римляне числили варварскими, тем более не могли быть достойным примером. Монархи же эллинистические, особенно в эпоху слияния греческой и римской культуры, для человека, стремящегося к единоличной власти, неизбежно становились образцом для подражания. Да и за примерами далеко ходить не надо. Гай Юлий Цезарь и Марк Антоний держали себя, да и были таковыми по сути, как царственные супруги царицы эллинистического Египта Клеопатры. Оба они были достойным примером для Гая. Но не в смысле поиска возлюбленной на берегах Нила, а как люди к царскому венцу неравнодушные.
Стремление Гая превратить свою власть в царскую не осталось незамеченным римлянами: «Он присвоил множество прозвищ: его называли и «благочестивым», и «сыном лагеря», и «отцом войска», и «Цезарем благим и величайшим». Услыхав однажды, как за обедом у него спросили о знатности цари, явившиеся в Рим поклониться ему, он воскликнул:
…Единый да будет властитель,
Царь да будет единый!
Немного недоставало, чтобы он тут же принял диадему и видимость принципата обратил в царскую власть»
{283}.
Позднеримский историк утверждал: «Возгордившись… он требовал, чтобы его называли господином, и пытался надеть себе на голову знаки царской власти»
{284}.
По мосту из Путеол в Байи Гай и в самом деле проскакал однажды в подлинно царском облачении: на нем были доспехи Александра Македонского.
Из эллинистических традиций и нравов Гаю были близки не только царственные. Его отношения с Друзиллой, шокировавшие римлян, испокон века нетерпимо относившихся к инцесту, с точки зрения эллинистического Востока, и в первую очередь Египта, вовсе не выглядели чем-то необычным. В этом Египет Птолемеев был наследником Египта фараонов, ведь в этом древнем царстве роль женщины была совсем не такой, как в иных странах Востока и Греции. Египетская женщина вовсе не была приниженной и бесправной. В Древнем Египте земельная собственность наследовалась по женской линии — от матери к дочери. Муж поэтому владел собственностью, пока была жива его жена. Но в случае ее смерти собственность переходила либо к дочери, либо к мужу дочери. И вдовец, дабы не утратить то, чем владела семья, должен был жениться на собственной дочери. Потому кровнородственные браки у египтян стали делом обыкновенным. Особенно ярко эта традиция проявилась в царских семьях, но и простые египтяне также спокойно относились к кровнородственным связям и бракам. О том, что в результате кровосмесительных браков могут рождаться дети с умственными и физическими отклонениями, они не задумывались. Кстати, столь печальный итог инцеста вовсе не обязателен. У египтян понятие «братская любовь» означало совсем не то, что у иных народов. Вот пример египетской любовной песенки, в которой девушка обращается к своему брату:
Брат мой, приятно мне купаться
В твоем присутствии.
Ведь ты можешь смотреть на мои прелести
Сквозь тончайшую тунику из царского льна,
Когда она становится влажной.
Иди ко мне со своей красной рыбой,
Которая так красиво лежит на моей ладони,
Иди и смотри на меня
{285}.
Эллинистический мир в Египте и близлежащих областях вполне спокойно унаследовал древние египетские нравы и в этом очень щепетильном вопросе. Вот пример из знаменитого античного романа Ахилла Татия «Левкиппа и Клитофонт», действие которого происходит во времена эллинистических царств. Отец главного героя вознамерился найти супругу своему взрослому сыну: «Отец женился во второй раз, и от этого брака родилась моя сестра Каллигона. Отец хотел поженить нас, но Мойры, более могущественные, чем люди, предназначили мне в супруги другую»
{286}. Богини судьбы, пребывающие на Олимпе, разрушили замысел отца Клитофонта, вовсе не ужаснувшись его намерению поженить брата и сестру, но сочтя Левкиппу более достойной любви его сына.
Такие особенности древних египетских нравов не изменились и в римскую эпоху. Историк Диодор Сицилийский, современник ранней Империи, писал: «В Египте вопреки обычаям всех других народов существует закон, по которому братья и сестры могут сочетаться браком».
Разумеется, любовная связь Гая и Друзиллы случилась не потому, что их вдохновили любовные традиции далекого Египта. Причиной, скорее всего, стало опасное соседство юноши и девушки, единовременно застигнутых «ужасами полового созревания». Но египетские обычаи наверняка были обоим известны, что дало им смелость не слишком таить свои отношения. Дабы и окружающие воспринимали инцест как норму в августейшей семье, Калигула с гордостью говорил, что мать его, Агриппина, родилась от кровосмешения, совершенного Августом с родной дочерью Юлией! Убийственная клевета на человека, издавшего закон о суровом наказании за инцест! Впрочем, Гай менее всего собирался опорочить прадеда, он желал, чтобы римляне смотрели на кровосмесительную связь как египтяне и ближневосточные эллины. Заодно, напомним, ему не хотелось иметь дедом ненавистного Агриппу, сыгравшего столь значительную роль в поражении и последующей гибели любимого Гаем прадеда Марка Антония.
Любовь Гая и Друзиллы особенно расцвела, когда Калигула стал императором и счел, что более незачем таиться от окружающих и уж тем более стыдиться своих чувств. Возлюбленную сестру он отнял у ее мужа, Луция Кассия Лонгина, на жизнь с которым Друзиллу обрек ненавистный Тиберий. Теперь Друзилла заняла при брате положение законной жены. Во время болезни он даже назначил ее наследницей своего имущества и власти
{287}. И это при живом еще официальном преемнике Тиберии Гемелле! А может, назначение Друзиллы законной наследницей и ускорило гибель злосчастного внука Тиберия? Кстати, такое распоряжение наследством было в истинно египетском, но никак не в римском духе. А весьма оригинальный способ следования римским обычаям Калигула продемонстрировал весной 38 года. Явившись на свадьбу Гая Кальпурния Пизона и красавицы Ливии Орестиллы, он повел себя совершенно неожиданным образом: «Ливию Орестиллу, выходившую замуж за Гая Пизона, он сам явился поздравить, тут же приказал отнять ее у мужа и через несколько дней отпустил, а два года спустя отправил в ссылку, заподозрив, что она за это время сошлась с мужем. Другие говорят, что на самом свадебном пиру он, лежа напротив Пизона, послал ему записку: «Не лезь к моей жене!», а тотчас после пира увел ее к себе и на следующий день объявил эдиктом, что нашел себе жену по примеру Ромула и Августа»
{288}. Здесь Калигула с очень своеобразным юмором подчеркивает следование примеру знаменитейших римлян: основатель города Ромул организовал для первых римлян, не имевших жен, знаменитое похищение сабинянок, а Август, основатель принципата, «жену одного консуляра на глазах у мужа увел с пира к себе в спальню, а потом привел обратно, растрепанную и красную до ушей»
{289}.
Дело было, конечно, не в подражании великим. Гаем руководили внезапно вспыхнувшая похоть, а также обычное для него желание унизить знатнейших людей Рима. Скоропалительная его супруга ведь звалась Ливия Корнелия Орестилла, дочь и сестра консулов, представительница знатных родов, знаменитых в Риме с республиканской поры. Гай Кальпурний Пизон в представлении тоже не нуждался. Но не было ли в этом случае оттенка своеобразной мести Пизонам за вину в смерти Германика? Впрочем, с незадачливым супругом Гай обошелся вполне снисходительно, включив его в жреческую коллегию арвальских братьев. Арвальские братья (название коллегии происходило от слова
arvum — пашня) — древнейшая коллегия Рима, созданная, по преданию, самим Ромулом. Основатель Рима возглавил братство, в которое кроме него входили одиннадцать его молочных братьев, детей Ларенции и Фаустула, супругов, вырастивших Ромула и Рема. В эпоху Империи в Арвальское братство входили сам цезарь и наиболее близкие к нему люди. Так что Пизон должен был утешиться получением права по торжественным случаям вместе с Калигулой и другими арвальскими братьями исполнять древний гимн, обращенный к божествам плодородия.
Роман с Орестиллой и неожиданная женитьба на ней не обязательно должны были помешать продолжению любви Гая и Друзиллы. По тому же египетскому обычаю дозволялись не только родственные браки, но и многоженство. Но, чтобы не шокировать римлян окончательно, Гай и для Друзиллы придумал новый брак, дав ей в мужья Марка Эмилия Лепида, также одного из знатнейших римлян. Думается, доблестный Марк был не в восторге от такой милости принцепса и затаил к нему ненависть, что вскоре и проявилось. К этому добавились и амбиции новоявленного родственника императора, поскольку Калигула вскоре включил Лепида, как супруга Друзиллы, в число своих наследников, проведя через сенат право супруга обожаемой сестры занимать высшие магистратуры на пять лет раньше срока. Так Гай утешал Марка за то, что он должен был числиться супругом возлюбленной императора.
Любовь к Друзилле, как видим, не мешала иным увлечениям Гая. Впрочем, египетские обычаи, как мы помним, и многоженство, и наличие наложниц почитали делом наизаконнейшим. Заодно Калигула следовал примерам всех трех своих предшественников, ибо и божественный Юлий, и божественный Август, не говоря уже о Тиберии, целомудрие в числе своих достоинств не числили. Правда, и разврат свой напоказ старались не выставлять. Гай же ничего не скрывал. Страсть его не минула и двух других сестер, Юлию Ливиллу и Агриппину, именуемую обычно Младшей, дабы отличить ее от матери, Агриппины Старшей, знаменитой своим целомудрием, каковое не унаследовали ни младший сын, ни дочери.
Юлию и Агриппину Гай «любил не так страстно и почитал не так сильно, как Друзиллу: он не раз даже отдавал их на потеху своим любимчикам»
{290}. Согласно же утверждению римского историка IV века Евтропия, Калигула «над сестрами своими учинил насилие, от одной даже имел ребенка»
{291}. Другие источники, правда, этого не подтверждают.
Агриппина сохранила привычку к инцесту и в дальнейшей своей жизни. «Она соблазнила своего дядю Клавдия волшебством, распутными взглядами и развратными ласками»
{292}. Дион Кассий даже приводит мнение, что она пускала в ход те же средства, чтобы соблазнить и сына своего Нерона, оговариваясь, правда, что не может утверждать этого с уверенностью
{293}.
Если связь с Юлией и Агриппиной являлась для Калигулы скорее забавой, тешившей его похоть, то Друзилла была его первой и совершенно безумной любовью, самым сильным чувством в его недолгой жизни. Тем более страшным ударом стали для Гая ее внезапная болезнь и смерть, последовавшая 10 июня 38 года. Горе Гая не знало предела: «Когда она умерла, он установил такой траур, что смертным преступлением считалось смеяться, купаться, обедать с родителями, женой или детьми. А сам он, не в силах вынести горя, внезапно ночью исчез из Рима, пересек Кампанию, достиг Сиракуз и с такой же стремительностью вернулся с отросшими бородой и волосами. С этих пор все свои клятвы о самых важных предметах, даже в собрании перед народом и перед войсками, он произносил только именем божества Друзиллы»
{294}.
Гай, как мы помним, был образован, прекрасно знал римскую поэзию. Потому легко предположить, что в дни скорби по безвременно ушедшей Друзилле он неустанно твердил строки Тита Лукреция Кара:
… Exoritur, neque fit laetum
Neque amabile quidquam…
(Радости нет без тебя никакой
и прелести в жизни.)
Скорее всего, осенью 38 года Друзилла была официально обожествлена. Сенат покорно пошел навстречу воле императора, сколь странным это ни казалось. Ведь умершую сестру и (все это знали) возлюбленную Калигула приравнивал к Гаю Юлию Цезарю и Августу. Свидетельство воистину беспредельных представлений Калигулы о своей власти. Друзилла никак не соответствовала привычным канонам обожествления. Получается, Гай считал ее правящей августой, но ведь этот титул ей присвоен не был, да и не мог быть присвоен. Ливия Августа, игравшая выдающуюся роль в правление Августа и Тиберия, и недавно ушедшая из жизни бабушки Гая Антония Августа и близко не удостаивались таких посмертных почестей, как Друзилла, никаких заслуг перед отечеством не имевшая, детей не родившая, а только скандальной любовью с родным братом-императором знаменитая. Говоря потому о римском сенате тех дней, хочется несколько переиначить не раз уже упомянутые знаменитые слова Тиберия: «О люди, созданные для холуйства!» Холуй хуже всякого раба. Раб часто не виноват в своем рабстве, холуй — всегда доброволец, чем и омерзителен.
А тем временем в курии, где заседал сенат, по его же постановлению появился золотой портрет покойной, на форуме установили статую Венеры с ликом Друзиллы. Возлюбленная сестра и подруга Гая должна была удостоиться, как обожествленная особа, храма, ей посвященного, подобно божественным Юлию и Августу. Ни одна женщина за почти восемь столетий римской истории таких почестей не заслужила. После этого мало кто из здравомыслящих римлян мог усомниться в очевидном повреждении разума молодого императора. В то же время абсолютно не соответствующее молодой римской традиции обожествления ушедших из жизни правителей провозглашение богиней Друзиллы сколь-либо заметного возмущения в Риме не вызвало, и даже римские историки особо в вину Калигуле это событие не ставили, более делая упор на инцест брата и сестры и поражаясь глубине скорби Гая по ушедшей из жизни возлюбленной. Может, потому, что прокламирование особого статуса всей правящей семьи и постоянное упоминание сестер императора вслед за его именем приводили многих к мысли, что и обожествление кого-либо из них — дело семейное, только правящего рода и касающееся. Иные же могли рассуждать в духе славных спартанцев, некогда ответивших на требование Александра Македонского признать его божественность после паломничества его к святилищу Амона-Ра в Египте: «Если Александр хочет быть богом, то пусть будет им».
Получалось, если Гай Цезарь хочет, чтобы Друзилла стала богиней, пусть она ею станет. Все равно статус покойницы ничего в жизни римлян не менял.
Утрату возлюбленной Гай быстро восполнил страстью к самой известной римской блуднице Пираллиде и в то же время продолжал тешить себя развлечениями с именитыми женами знатных мужей. Здесь, наверное, главной была не похоть, но стремление лишний раз унизить староримскую знать, напомнить ей, что император может все и никто не в праве ему в чем-либо противиться: «Ни одной именитой женщины он не оставлял в покое. Обычно он приглашал их с мужьями к обеду и, когда они проходили мимо его ложа, осматривал их пристально и не спеша, как работорговец, а если иная от стыда опускала глаза, он приподнимал ей лицо своею рукой. Потом он при первом желании выходил из обеденной комнаты и вызывал к себе ту, которая больше всего ему понравилась; а вернувшись еще со следами наслаждений на лице, громко хвалил или бранил ее, перечисляя в подробностях, что хорошего и плохого нашел он в ее теле и какова она была в постели. Некоторым в отсутствие мужей он послал от их имени развод и велел записать это в ведомости»
{295}.
Не были оставлены им и заботы о женитьбе. Им двигала забота о продолжении династии — ведь прямого наследника у него не было. Иметь же таковых из числа родственников Гай не желал. Неужели молодой, полный сил император не обеспечит себя прямым потомством!
Следующей, третьей по счету супругой Калигулы стала Лоллия Паулина, бывшая женой известного военачальника Гая Меммия, побывавшего и в консульском сане. До Гая Цезаря дошел слух, что бабушка Лоллии отличалась неслыханной красотой. Решив почему-то, что внучка должна также быть раскрасавицей, он вызвал ее из провинции, где она проживала с мужем, в Рим и принудил Меммия с ней развестись. Брак с Паулиной, однако, оказался недолгим. То ли красота ее оказалась не такой, на какую Гай надеялся, то ли он решил, что она неспособна подарить ему потомство, но вскоре он расстался с ней, запретив впредь с каким-либо мужчиной сближаться. Лоллия Паулина при жизни Калигулы, памятуя о ссылке Ливии Орестиллы, ни с кем не сближалась, но о недолгом своем статусе императрицы, сулившем звание Августы, не забывала. После гибели Гая она попыталась выйти замуж за нового цезаря Клавдия, но успеха ее затея не имела.
Выбор Гая в конце концов пал на замужнюю уже женщину Цезонию, мать троих дочерей, что не оставляло сомнений в ее плодовитости. Она, правда, не отличалась ни молодостью, ни особой красотой, но Гая решительным образом покорила. Цезонию Гай полюбил по-настоящему. Супругой тем не менее он из осторожности объявил ее лишь тогда, когда она родила ему дочь, получившую имя Юлии Друзиллы. В браке с Цезонией Гай пребывал до самой гибели, и ей пришлось разделить его трагическую судьбу, которая не миновала и их безвинного ребенка…
Цезония привлекала Гая качествами, ему близкими и понятными: была она замечательно сладострастна и не знала удержу в расточительстве. Гай всюду появлялся с ней и даже перед войсками, причем Цезония была в шлеме, кавалерийском плаще и с легким щитом — почти амазонка!
Своим друзьям Калигула даже показывал Цезонию голой! Можно толковать это как крайнюю степень бесстыдства и самого Гая, и его новой супруги. Возможно, она появлялась на людях без покровов вовсе не по принуждению, а с удовольствием. Как известно, где есть любители посмотреть, всенепременно найдутся и любители показать…
А может быть, эти смотрины имели для Калигулы и иное значение. Вне всякого сомнения, ему было известно предание о царе Лидии — страны на западе Малой Азии, подарившей человечеству искусство чеканить монеты, — Кандавле. Царь этот обожал свою жену и был убежден, что обладает самой красивой женщиной на земле. Был у Кандавла среди его приближенных особо близкий человек по имени Гигес, коему он доверял более всего. Однажды из странного тщеславия Кан-давл решил показать другу свою жену обнаженной, дабы тот убедился, что она и в самом деле прекраснейшая женщина на свете, как о том говорят. Гигес пытался отклонить предложение царя, опасаясь попасть из-за этого в беду. Кандавл успокаивал его, говоря, что жена ничего не заметит. Тем не менее царица увидела Гигеса и поняла, что все подстроено Кандавлом. Предстать перед посторонним в обнаженном виде считалось у лидийцев величайшим позором. Царица возненавидела мужа за предательство и унижение, которому она подверглась по его вине. На следующий же день она вызвала к себе Гигеса и поставила ему жестокое условие: либо Гигес убьет Кандавла и станет мужем царицы и царем Лидии, либо он сам должен умереть. Гигес выбрал жизнь и исполнил условие царицы. Так погиб Кандавл, а Гигес стал царем Лидии и супругом прекрасной царицы.
Это древнее предание подробно изложил в своей «Истории» Геродот
{296}.
Калигула, показывая друзьям нагую Цезонию, убеждал себя в своей безнаказанности: среди его друзей никогда не найдется Гигеса!
Столь странное испытание верности друзей и преданности жены Гай упорно продолжал сочетать с полным презрением ко всем сословиям римского общества: «Мало уважения и кротости выказывал он и к сенаторам: некоторых, занимавших самые
высокие должности, облаченных в тоги, он заставлял бежать за своей колесницей по нескольку миль, а за обедом стоять у его ложа в изголовье или в ногах, подпоясавшись полотном. Других он тайно казнил, но продолжал приглашать их, словно они были живы, и лишь через несколько дней лживо объявил, что они покончили с собой. Консулов, которые забыли издать эдикт о дне его рождения, он лишил должности, и в течение трех дней государство оставалось без высшей власти. Своего квестора, обвиненного в заговоре, он велел бичевать, сорвав с него одежду и бросив под ноги солдатам, чтобы тем было на что опираться, нанося удары.
С такой же надменностью и жестокостью относился он и к остальным сословиям. Однажды, потревоженный среди ночи шумом толпы, которая заранее спешила занять места в цирке, он всех их разогнал палками; при замешательстве было задавлено больше двадцати римских всадников, столько же замужних женщин и несчетное число прочего народу. На театральных представлениях он, желая перессорить плебеев и всадников, раздавал даровые пропуска раньше времени, чтобы чернь захватывала и всаднические места. На гладиаторских играх иногда и в палящий зной он убирал навес и не выпускал зрителей с мест; или вдруг вместо обычной пышности выводил изнуренных зверей и убогих дряхлых гладиаторов, а вместо потешных бойцов — отцов семейств, самых почтенных, но обезображенных каким-нибудь увечьем. А то вдруг закрывал житницы и обрекал народ на голод»
{297}.
Как видим, если при Тиберии репрессии касались в первую очередь знатных людей, несдержанных на язык, свободомыслящих или казавшихся такими, то при Калигуле жертвами его самодурства становились представители всех сословий. Поэтому трудно усомниться в том, что однажды в цирке, когда толпа зрителей рукоплескала победившим в состязании возницам, не принадлежащим к обожаемым Гаем «зеленым», он воскликнул: «О, если бы у римского народа была только одна шея!»
{298}
В сословной политике Калигулы тем не менее прослеживалась и определенная логика. Это явствует из сообщения Иосифа Флавия:
«Император Гай… в своем безумии свирепствовал по всему протяжению Римской империи, на суше и на море, преисполняя мир тысячами таких бедствий, о которых никогда ранее и не слыхали. Наиболее чувствовал его гнет город Рим, который он нисколько не выделял из числа прочих городов, тут он своевольно обращался с гражданами и особенно с сенаторами, главным же образом с теми, которые принадлежали к числу патрициев и пользовались почетом за знатное происхождение. Он ревностно преследовал сословие всадников, которые пользовались особенным почетом и значением благодаря своим деньгам и которые почитались одинаково с сенаторами; из числа их поэтому пополнялись члены сената. Этих людей он подвергал бесчестию и изгнанию, убивал их и присваивал их имущество. Вообще все эти казни в большинстве случаев имели в виду разграбление имущества казненных»
{299}.
Итак, репрессии против знати должны были смирить гордость высшего сословия Рима, дабы не смело оно противиться безграничному всевластию императора; преследование богатого сословия всадников должно было помочь поправить денежные дела, которые при Гае шли хуже некуда. Ведь он менее чем за год промотал два миллиарда семьсот миллионов сестерциев, практически все наследие рачительного Тиберия!
{300}
Пополнить казну таким способом все равно не получалось, и Гай был вынужден прибегнуть к налоговому прессу. А это касалось уже не только высшей знати и сословия всадников, это било по всему населению Империи. Отсюда неизбежный резкий упадок любви к Гаю в народе. Избаловав народ в первые семь месяцев изобилием хлеба и зрелищ, Гай теперь был не в состоянии продолжать прежний курс. И зрелищ стало поменьше, и безопасны для народа они перестали быть из-за жестоких причуд еще недавно обожаемого Цезаря, а рост налогового бремени всегда больше бьет по небогатым слоям населения, они же более всего страдают от неизбежного в подобных случаях роста цен на продовольствие. Тем более что в своей новой налоговой политике Гай проявил удивительную изобретательность, не позволившую, правда, радикально улучшить финансовое положение страны, но зато изумившую и возмутившую всех. Политика была нелепой, порой просто смешной, но прежде всего плохо продуманной и не просчитывающей последствия.
Вот что сообщает о ней Светоний: «Налоги он собирал новые и небывалые. Сначала через откупщиков, а затем, так как это было выгоднее, через преторианских центурионов и трибунов. Ни одна вещь, ни один человек не оставались без налога. За все съестное, что продавалось в городе, взималась твердая пошлина; со всякого судебного дела заранее взыскивалась сороковая часть спорной суммы, а кто отступался или договаривался без суда, тех наказывали; носильщики платили восьмую часть дневного заработка; проститутки — цену одного сношения; к этой статье было прибавлено, что такому налогу подлежат все, кто ранее занимался блудом или сводничеством, даже если они с тех пор вступили в законный брак. Налоги такого рода были объявлены устно, но не вывешены для всеобщего обозрения, и по незнанию точных слов закона часто допускались нарушения; наконец, по требованию народа, Гай вывесил закон, но написал его так мелко и повесил в таком тесном месте, чтобы никто не мог списать. А чтобы не упустить никакой наживы, он устроил на Палатине лупанар: в бесчисленных комнатах, отведенных и обставленных с блеском, достойным дворца, предлагали себя замужние женщины и свободнорожденные юноши, а по рынкам и базиликам были посланы глашатаи, чтобы стар и млад шел искать наслаждений; посетителям предоставлялись деньги под проценты, и специальные слуги записывали для общего сведения имена тех, кто умножает доходы Цезаря. Даже из игры в кости не погнушался он извлечь прибыль, пускаясь и на плутовство, и на ложные клятвы. А однажды он уступил очередь следующему игроку, вышел в атрий дворца и, увидев двух богатых римских всадников, проходящих мимо, приказал их тотчас схватить и лишить имущества, а потом вернулся к игре, похваляясь, что никогда не был в таком выигрыше»
{301}.
Казну Гай пытался пополнить не только прямым грабежом богатых людей, нелепыми налогами, которые должны были платить лица менее состоятельные, но и проведением самых широких распродаж, что называется, всего и вся: «Торги он устраивал, предлагая для распродажи все, что оставалось после больших зрелищ, сам назначал цены и взвинчивал их до того, что некоторые, принужденные к какой-нибудь покупке, теряли на ней все состояние и вскрывали себе вены»
{302}. Трагическое часто соседствует с комическим. На одних из торгов Гай, заметив, как один из участников, некто Апоний Сатурнин, задремал, сидя на скамье покупщиков, посоветовал глашатаю, ведшему торги, обратить особое внимание на этого человека, который на все кивает головой. Как обычно, Калигула проявил весьма своеобразное остроумие. В результате некстати задремавший Сатурнин по итогам торгов приобрел тринадцать гладиаторов на сумму в девять миллионов сестерциев, во много раз превышавшую их обычную стоимость.
«Во время своего пребывания в Галлии он пустил на распродажу даже убранство старого императорского дворца, для доставки которого были собраны все наемные повозки и даже вьючная скотина с мельниц, что привело к нехватке некоторое время в Риме хлеба. А чтобы распродать эту утварь, он не жалел ни обманов, ни заискиваний: то попрекал покупщиков скаредностью за то, что им не стыдно быть богаче императоров, то притворно жалел, что должен уступать имущество правителей частным лицам. Однажды он узнал, что один богач из провинции заплатил двести тысяч его рабам, рассылавшим приглашения, чтобы хитростью попасть к нему на обед; он остался доволен тем, что эта честь в такой цене, и на следующий день на распродаже послал всучить богачу какую-то безделицу за двести тысяч и позвать на обед от имени самого Цезаря»
{303}.
Гай стремился не только, а может быть, и не столько восполнить вконец опустевшую казну, но и к увеличению собственного богатства. Особым вниманием его пользовались предметы искусства, драгоценная храмовая утварь: «Он не оставил ни одного греческого храма без разграбления; везде, где находились какие-нибудь рисунки, или изваяния, или утварь, он приказывал привозить это все к нему, говоря, что красивое обязательно должно находиться в красивейшем месте, а таким является город Рим. Похищенными таким образом вещами он украшал дворец и свои сады, а также многочисленные, рассеянные по всей Италии виллы. Он даже распорядился перевезти в Рим статую почитаемого греками Зевса Олимпийского работы афинянина Фидия. Впрочем, это намерение его не было приведено в исполнение, так как архитекторы сказали Манлию Регулу, которому была поручена перевозка статуи, что изваяние сломается, если его вздумают сдвинуть с места»
{304}.
Не удалось Гаю также перевезти в свой дворец из городка Лавиния на Альбанской горе к юго-востоку от Рима (современная Чивита Лавинья) изумительной красоты картину из храма Юноны Спасительницы. На ней были изображены обнаженными две мифические героини: Елена, дочь Зевса и Леды, жена царя Спарты Менелая, похищенная Парисом и увезенная им в Трою, что и стало поводом к Троянской войне, а также Аталанта, героиня-охотница, участница славного похода аргонавтов за золотым руном. В эротике изображения двух нагих красавиц художник явно преуспел, ибо «принцепс Гай, воспламененный страстью, попытался забрать их, и забрал бы, если бы природа штукатурки позволила»
{305}. Картина, к сожалению для Гая, была фреской.
Интерес Гая к сокровищам храмов и знаменитым изображениям богов носил не только меркантильный характер. Это собирание началось, когда Гай стал «притязать на божеское величие»
{306}, когда он благодаря своей власти перестал считать себя обыкновенным смертным, сам провозгласил себя божеством и вообще начал всячески глумиться над Предвечным
{307}.
Все начиналось с того, что римская высшая знать испугалась очевидного намерения Гая превратить свою власть в царскую не только по существу, но и по имени. Почему-то потомков Ромула царский титул владыки Рима страшил даже много больше его кровавого деспотизма. Они могли простить многие преступления власти, только бы ее верховный властитель не именовал себя царем и не водрузил на свою голову царскую диадему. Дабы уговорить Калигулу не увенчивать себя диадемой и не превращать принципат в царскую монархию, придворные льстецы стали убеждать его, что он уже возвысился превыше всех принцепсов и царей. Потому принять царский титул означает для него спуститься ниже, утратить достигнутое величие. А кто стоит выше царей? Только бессмертные боги! Повредившийся ум молодого императора именно так все и истолковал. Потому забота о собственном божественном достоинстве становится важнейшим занятием Гая
{308}.
У Гая взгляд на религию изначально был шире, чем у Тиберия. Он, к примеру, вернул в Рим культ Исиды, запрещенный своим предшественником. На Марсовом поле был воздвигнут новый храм египетской богине, сестре и жене Осириса, что, понятное дело, особо импонировало брату и возлюбленному Друзиллы. Теперь же, когда ему так хорошо объяснили, каков его истинный статус, превышающий все человеческое, настала пора ввести новое божество — самого себя.
Дабы никто отныне не заблуждался, кем является Гай Цезарь для римлян, Калигула начал принимать посетителей у входа в свой дворец в храме Диоскуров, стоя между статуями близнецов Кастора и Поллукса и требуя к себе божеских почестей. Некоторые от изумления даже стали величать его Юпитером Латинским. «Мало того, он посвятил своему божеству особый храм, назначил жрецов, установил изысканнейшие жертвы. В храме он поставил свое изваяние в полный рост и облачил его в собственные одежды. Должность главного жреца отправляли поочередно самые богатые граждане, соперничая из-за нее и торгуясь. Жертвами были павлины, фламинго, тетерева, цесарки, фазаны — для каждого дня своя порода. По ночам, когда сияла луна, он неустанно звал ее к себе в объятия и на ложе, а днем разговаривал наедине с Юпитером Капитолийским: иногда шепотом, то наклоняясь к его уху, то подставляя ему свое, а иногда громко и даже сердито. Так однажды услышали его угрожающие слова:
— Ты подними меня, или же я тебя… — и потом он рассказывал, что бог, наконец, его умилостивил и даже сам пригласил жить вместе с ним. После этого он перебросил мост с Капитолия на Палатин через храм Божественного Августа, а затем, чтобы поселиться еще ближе, заложил себе новый дом на Капитолийском холме»
{309}.
Деяния эти вслед за великим французским историком Эрнестом Ренаном можно полагать и горькой иронией, смесью серьезного и комического, чем-то вроде ядовитой насмешки над родом человеческим
{310}. Проще видеть во всем этом следствие помраченности ума. Калигула, кстати, временами и сам ощущал свое нездоровье и даже говорил о помыслах удалиться от дел, чтобы очистить мозг. Возможно, это стало бы для него лучшим выходом…
Народ самообожествление Гая воспринимал с совершенным равнодушием. Возможно, при таком императоре все уже устали удивляться его причудам, возможно, просто потому, что это не сулило никому никаких неприятностей. Вновь римляне рассудили по-спартански: хочет быть богом, пусть будет им… Одно только позабыл Гай. До сих пор в Риме обожествляли только умерших, а значит, он сам себя записал в покойники… Когда два с лишним десятилетия спустя племяннику Калигулы императору Нерону придворные льстецы предложат прижизненное обожествление, он вполне разумно пояснит им, что таковое только мертвым полагается, а он-то жив.
Но на дальней окраине Империи, в Иудее, куда Гай отправил царствовать своего друга Агриппу, внука Ирода Великого и сына Аристобула и Береники, обожествление Калигулы и сопутствующее ему воздвижение его изображений в храмах вызвали сильнейшее волнение. Для иудеев появление в их храмах чьих-либо изображений было кощунством, и потому они не могли не возмутиться. Совсем недавно наместник Иудеи Понтий Пилат, назначенный Тиберием, «ночью ввез в Иерусалим завернутые в полотно изображения Цезаря: их называют знаменами. Утром среди иудеев началось великое смятение; подойдя поближе, они ужаснулись от увиденного: попраны законы их, не позволявшие ставить в городе никаких изображений»
{311}. А ведь на сей раз речь шла не о римских знаменах в Иерусалиме, но о помещении колоссальной статуи из золота в иерусалимском храме, что должно было заставить иудеев отныне посвятить самый храм особе императора
{312}. Неудивительно, что подобное кощунство было воспринято как проявление ненависти Гая ко всему роду иудейскому. Вот как писал о случившемся великий историк христианской церкви Евсевий Памфил:
«После смерти Тиберия власть получил Гай; он много и над многими издевался, но самую тяжкую обиду нанес иудейскому племени. Об этом можно вкратце узнать у Филона, который пишет дословно так:
«Что-то нервное и странное было в отношении Гая ко всем, в особенности же к иудейскому роду Он жестоко ненавидел евреев; объявил молитвенные дома по всем городам, начиная с Александрии, своей собственностью, заполнил их статуями и изображениями самого себя (он позволил ставить их другим, сам же водружал насильственно). Храм в святом городе, который оставался пока неприкосновенным и пользовался всеми правами убежища, он по-своему переделал и превратил в свое личное святилище, которое именовалось храмом Зевса Новоявленного — Гая»»
{313}.
Думается, едва ли Калигула испытывал особую ненависть к иудеям. Царственный иудей Агриппа был даже удостоен его дружбы Неприязнь же к народу Иудеи, раздражение и злость возникли у Гая лишь как реакция на непокорность иудеев, не желавших чтить императора так, как он того желал. Встречавший со стороны римлян и греков полную покорность при самых странных своих причудах, Гай впервые столкнулся с упорным сопротивлением. Не зная сути чужой для него веры, он не мог понять, что, собственно, заставляет иудеев противиться появлению в их храмах изображений императора. Римская религия, как и греческая, не знала таких жестких догматов, как иудаизм. Потому Гаю сопротивление иудеев казалось проявлением их враждебности к его власти, а вовсе не попыткой защитить исконные основы своей веры. Масла в огонь подлили и александрийские греки. В этом городе между господствующей эллинской и иудейской общинами сложились очень непростые отношения. Менее всего в их разногласиях было религиозного. Вражду породило острое соперничество в делах торговых и финансовых. Религиозная замкнутость иудеев, их неприятие идолопоклонства усугубляли взаимную неприязнь. И вот во время очередной распри александрийские греки решили обратиться к императору, используя в качестве главного обвинения иудеев их нежелание воздвигать в честь Гая статуи и клясться его именем. Своих людей послали к Гаю и иудеи. Всего в посольстве было шесть человек — три эллина и три иудея. Среди иудеев выделялся глава их делегации — знаменитый Филон Александрийский, человек блестяще образованный, замечательный знаток греческой философии. В греческой делегации выделялся некий Апион, как раз и делавший упор на непочтительность иудеев к особе римского императора.
Гай принял посольство александрийцев на своей вилле в Мизене, недалеко от Путеол. Он пребывал в веселом расположении духа. Очевидно, эллины лучше подготовились к этому приему, сумев заранее привлечь на свою сторону человека, с одной стороны, незначительного, но с другой — очень близкого к императору. Это был его любимый шут Геликон, названный так в честь знаменитой горы, обители муз. Геликон, скорее всего подученный греками, начал забавлять Калигулу, рассказывая ему всякие оскорбительные истории об иудеях, создавая у него соответствующее настроение перед беседой с александрийцами. Прием себя оправдал. Гай, встретив делегатов, обратился в первую очередь к иудеям: «А, так это вы, вы, которые одни только не хотите признать меня богом и предпочитаете обожествлять того, кого даже назвать не можете?»
{314} Растерявшиеся от столь неласкового приема иудеи молчали, чем не преминул немедленно воспользоваться Апион: «Все подданные Римской империи воздвигают в честь Гая алтари и храмы и всюду почитают его как бога; одни только александрийские иудеи считают позорным воздвигать в его честь статуи и клясться его именем»
{315}. Заметив, что сказанное произвело должное впечатление на императора, Апион постарался усугубить «вину» иудеев перед ним, заявив, что они единственные, кто не приносил жертв за его здоровье, в то время как все другие народы делали это.
На сей раз иудеи не смолчали и в один голос воскликнули, что это гнусная клевета, они трижды устраивали в честь императора самые торжественные жертвоприношения, какие только знает их вера. Реакция Гая была мгновенной и неожиданной. «Пусть так, — сказал он, — вы приносили жертвы; это хорошо. Но все-таки не мне вы их приносили. Какая мне от них выгода?» То есть надо понимать, Гаю нужны были только те жертвоприношения, которые предназначались ему самому как божеству, но никак не иным, тем более чужеземным богам.
На это у несчастных иудеев ответа не нашлось. Гай тем временем, как бы утратив к делегатам всякий интерес, повернулся к ним спиной и быстрым шагом прошел по внутренним покоям виллы, отдавая распоряжения о ее убранстве. Делегаты, среди которых был Филон, достигший уже восьмидесяти лет, пытались следовать за ним, но не поспевали за молодым владыкой и «своим запыхавшимся видом только развлекали императорскую свиту»
{316}. Внезапно Калигула снова обратился к иудеям: «Кстати, почему это вы не едите свинины?» Иудеи снова растерялись, и только один из них неуверенно сказал: «Но ведь есть люди, которые не едят баранины». Ответ Гаю неожиданно понравился. «Ну да! — сказал он. — У этих есть серьезное основание. Баранье мясо невкусно». После этого он продолжал измываться над делегатами, то делая вид, что готов с интересом их выслушать, то, резко отворачиваясь, как только кто-либо из них начинал свою речь, то вновь начинал прогулку по вилле, отдавая разного рода распоряжения. Так прошло несколько часов. Когда иудеи уже готовились к смерти, наблюдая растущую мрачность императора, он, вдруг повеселев, совершенно спокойно сказал: «Положительно, эти люди не так виновны, их скорее приходится пожалеть за то, что они не верят в мою божественность». На этом прием завершился. Так он описан Филоном Александрийским
{317}. Иосиф Флавий и Евсевий дают несколько иную картину завершения приема. Когда Апион закончил свою обвинительную речь, Филон, глава иудейского посольства, «хотел выступить и опровергнуть эти обвинения, но Гай запретил ему и приказал убираться; он был в сильном гневе и явно собирался жестоко поступить с послами. Филон вышел, осыпаемый оскорблениями, и посоветовал иудеям, которые были с ним, мужаться: Гай, гневаясь на них, готовит себе Божье наказание»
{318}.
Прием александрийцев не изменил намерений Гая любой ценой добиваться установления своей статуи в иерусалимском храме: «Разгневанный тем, что одни иудеи так презирают его, Гай послал в Сирию легата Петрония… Он приказал ему с сильной ратью вторгнуться в Иудею и, если иудеи добровольно уступят, воздвигнуть в храме Господнем его статую, если же они окажут сопротивление, сделать это с оружием в руках»
{319}. «Петроний с тремя легионами и большими силами сирийских союзников поспешил из Антиохии в Иудею. Среди евреев одни не верили слухам о войне, другие же верили, но не знали, как ее отразить. Скоро, однако, трепет объял тех и других, ибо войско было уже у Птолемаиды»
{320}.
Город этот располагался на морском побережье Галилеи, северной области Иудеи. Здесь на равнине, близ городских стен собралась огромная толпа иудеев, пришедших с женами и детьми молить о пощаде. Пощаде прежде всего законов веры, потом уже людей, ее исповедующих. Петроний, человек здравомыслящий и не желавший бессмысленной жестокости и напрасного кровопролития, хотел решить дело миром. Для начала он попытался объяснить иудеям, как он это понимал, неразумность их поведения. Ведь все народы Римской державы покорно установили в своих храмах изображения Гая Цезаря рядом с богами. Одни только иудеи противятся, что в глазах власти равносильно дерзости и измене.
Иудеи в ответ объяснили Петронию, что их вера и обычаи предков не дозволяют выставлять ни в храмах, ни в иных местах ни человеческих, ни божественных изваяний. Римскому легату разъяснили буквальный смысл библейской заповеди: «Не сотвори себе кумира». Тот с пониманием выслушал слова иудеев, сказал, что и он обязан повиноваться закону, а законом этим для него, римского легата, является воля его императора. И если он пощадит иудеев, противящихся приказу Цезаря, то его самого постигнет суровое наказание за ослушание. Слова Петрония вызвали единодушный крик толпы: «Ради закона мы готовы вытерпеть все что угодно!»
Установилось молчание. Затем Петроний спросил, значит ли это, что иудеи готовы воевать с Цезарем. Те отвечали, что дважды в день приносят жертвы в честь Цезаря и римского народа, но если он попробует ввести к ним идолов, то в этом случае придется принести в жертву весь народ иудейский, ибо все иудеи без исключения готовы за свою веру отдать на заклание себя, своих жен и детей.
Ответ произвел огромное впечатление на Петрония, и он не принял никакого определенного решения. Толпа успокоилась и разошлась, но окрестности Птолемаиды не покинула, ожидая окончательного разрешения рокового конфликта. Время шло, а пора была горячей, надо было сеять хлеб. Семь недель ожидания огромных толп народа у Птолемаиды грозили жестоким неурожаем, ибо никто не занимался севом, а незасеянные поля означали не только голод местного населения, подданных Империи, но и невозможность собрать положенные подати, а денег в римской казне стараниями Гая практически не было. Петроний должен был найти решение, устраивающее обе стороны. К этому его побуждали и знатнейшие люди Иудеи, включая брата Агриппы — Аристобула. Они и посоветовали легату в обращении к Гаю сделать упор на то, что нечем будет пополнить казну, если противостояние продолжится.
Согласившись на новую встречу с иудеями, на которую явились несметные толпы — защита веры оказалась делом несравненно более важным, нежели хлеб насущный, — Петроний выступил с тщательно продуманной и искусно построенной речью. Пояснив в очередной раз, что все действия его — никак не собственная воля, но покорность повелению императора, он признал недопустимость нарушения закона иудейской веры и осквернения ее храма. Призвав народ вернуться к делам своим, и прежде всего к возделыванию полей, Петроний пообещал послать донесение Гаю о сложившемся положении и выразил надежду на благоприятный результат, позволяющий избежать и осквернения храмов, и напрасного кровопролития. В своем письме императору легат основной акцент сделал на опасности истребления столь большого числа людей, поскольку иудеи не допустят попрания законов своей веры даже ценой жизни всего народа, и напоминал о потере немалых доходов для императорской казны.
Сложно сказать, как Гай воспринял бы послание сирийского наместника, если бы в дело не вмешался Агриппа, узнавший о событиях на своей родине и по понятным причинам совершенно не желавший трагического исхода противостояния римской власти и народа Иудеи. Царь находился тогда в Риме, куда привели его неотложные дела: против него начала опасную интригу его сестра Иродиада, жена тетрарха Галилеи и Переи Ирода Антипы. Возвышение Агриппы резко понизило статус Антипы, ранее занимавшего первенствующее положение в Иудее. Напомним, что в те годы, когда Ирод Антипа был тетрархом при Тиберии, был казнен знаменитейший предтеча христианства Иоанн Креститель, согласно традиции почитаемый как человек, окрестивший в водах Иордана самого Иисуса. По преданию, Ирод Антипа противился расправе над Иоанном, но голову его Иродиада добыла у супруга хитроумным способом: ее дочь от предыдущего брака Саломея исполнила перед тетрархом танец столь восхитительный, что он пообещал ей за него любой дар, какой только она пожелает. Наученная матерью, Саломея попросила у Ирода Антипы голову Иоанна, каковую ей и поднесли на блюде…
И на сей раз тетрарх противился своей супруге, возмечтавшей воздействовать на римского императора и, опорочив в его глазах Агриппу, добиться для своего супруга царского венца и, соответственно, стать царицей. Иродиада умела настоять на своем, и Антипа очередной раз дал себя уговорить. Супруги отправились в Рим за царскими диадемами, рассчитывая на успех прежде всего благодаря своему богатству. Денежные затруднения Калигулы, конечно, были им известны, и щедрые вливания в императорскую казну могли обеспечить искателям царского величия благоприятный исход интриги против ненавистного Агриппы. Но уж больно пышно был обставлен их отъезд в Рим и слишком прозрачны его цели. Агриппа, сообразивший, что намерены искать в столице Империи его недруги, быстро принял меры. Он немедленно отправил в Италию своего вольноотпущенника Фортуната, который повез императору богатые дары, а также письмо, в котором Агриппа изобличал злые умыслы Антипы и Иродиады. На случай утраты письма Агриппа проинструктировал Фортуната, что именно сообщить Цезарю на словах.
По удивительной случайности Ирод Антипа и посланец Агриппы прибыли к италийским берегам одновременно. В Байях, где пребывал в это время Гай, Ирод добился у него приема, но в этот же час явился Фортунат и передал императору письмо Агриппы. Гай немедленно пожелал ознакомиться с посланием старого верного друга и с изумлением прочел, что находящийся рядом с ним тетрарх из Галилеи некогда, оказывается, участвовал в заговоре Сеяна против Тиберия, в правление Гая стал тайным союзником парфянского царя Артабана против Рима и, разумеется, против императора. Для исполнения своих коварных замыслов он создал арсенал, коим можно семьдесят тысяч воинов вооружить до зубов.
Донос, надо сказать, искуснейший. Имя Сеяна было ненавистно Гаю, возможный союз иудеев с парфянами тоже не выглядел небылицей, ибо в царстве этом проживала многочисленнейшая иудейская община. Община, к слову сказать, благополучнейшая, ибо тамошние цари никогда не помышляли поставить свои бюсты в синагогах иудейских подданных Парфии. Что до арсенала — так это была чистая правда. Только вот верный союзник Рима тетрарх Ирод Антипа и мысли не имел использовать его против своих покровителей.
Гай, обеспокоенный сообщением об арсенале в Галилее, прежде всего спросил Антипу, правда ли написана в письме.
Тетрарх, разумеется, не мог отрицать очевидного, да и не видел в том никакой беды для себя, поскольку оружие это, по его разумению, для Рима угрозы не представляло, а в случае необходимости пошло бы на вооружение союзников Империи. О первых же двух, самых тяжких, обвинениях Гай Ироду Антипе не сказал, но, когда тот легко подтвердил подлинность третьего пункта письма Агриппы, немедленно поверил в подлинность и первых двух. Проверив столь оригинально правдивость сообщения Агриппы, Гай немедленно принял решение: Ирод Антипа лишается тетрархии и уступает ее Агриппе; все состояние его также переходит к последнему; сам бывший тетрарх приговаривается к ссылке в Галлию в город Лугдун (современный Лион). Иродиаду Гай собирался доверить братской заботе Агриппы и даже распорядился вернуть ей ее личные средства. Однако Иродиада не пожелала воспользоваться великодушием Калигулы и гордо заявила: «Государь! Ты великодушно и милостиво предложил мне исход, но мне мешает воспользоваться милостью твоей моя преданность мужу: я, разделявшая с ним все, когда он был счастлив, теперь не считаю себя вправе бросить его при перемене судьбы»
{321}. Рассерженный Калигула отправил Иродиаду в ссылку вслед за мужем.
Конечно, супружеская верность Иродиады заслуживает уважения, но не следует сбрасывать со счетов и иные ее соображения: она никак не могла полагаться на великодушие Агриппы. Его «братская забота», каковую, кстати, интригой своей она вполне заслужила, могла быть опаснее ссылки в чужие края.
Из галльской ссылки Ирод Антипа и Иродиада не вернулись. Агриппа же сам отправился в Рим, дабы закрепить свой успех. Гай по-прежнему к нему благоволил, и их дружба все более крепла. И вот однажды Агриппа пригласил Гая на обед. Здесь он достиг, казалось, невозможного: сумел изумить императора роскошью и изысканностью блюд и вин, всевозможными удовольствиями, сопутствующими пиру, невиданными расходами. Гай, восхищенный приемом, изъявил желание вознаградить Агриппу тем, что могло бы сделать его счастье полным. Он полагал, что царь попросит у него новых владений и доходов, но Агриппа немедленно заявил о бескорыстии своей любви к императору. Гай, естественно, стал настаивать, чтобы его друг все же уточнил, какой дар хотел бы получить. Тогда Агриппа сказал о главном:
«Государь, так как ты столь милостиво считаешь меня достойным награды, то я не стану просить тебя ни о чем таком, что имело бы в виду мое обогащение; ведь я благодаря твоему великодушию и без того не беден. Поэтому я попрошу тебя о такой вещи, которая даст тебе славу человека благочестивого, которая побудит Предвечного быть твоим защитником во всех твоих начинаниях и которой я могу стяжать себе добрую память у всех, кто о том узнает: могу ли я рассчитывать на исполнение с твоей стороны моего желания? Прошу тебя, откажись от мысли воздвигнуть твою статую в иудейском храме, как о том ты послал распоряжение Петронию»
{322}.
Гай без особых колебаний пошел навстречу своему другу. Петронию было отправлено письмо, в котором были следующие слова:
«Если ты успел уже воздвигнуть мою статую, то пусть она стоит; если же ты не успел еще сделать это, то не заботься дальше о том, но распусти войско и вернись к тому делу, ради которого я тебя первоначально послал. Я не интересуюсь более постановкой статуи и делаю это в угоду Агриппе, человеку, которого я слишком высоко чту, чтобы мог отказать ему в какой-либо просьбе»
{323}.
Но, когда письмо Петронию было уже отправлено, Гай получил из Иудеи новые известия, из которых следовало, что иудеи открыто выражают намерение вступить в борьбу с римлянами, бросают вызов римской власти, а значит, богу-императору Гаю Цезарю. Калигула пришел в ярость. Он проявил неслыханное великодушие, а в ответ — наглое непокорство его власти! Тут же Петронию было направлено новое послание. Гай грозил Петронию смертью, если тот не выполнит приказаний, предшествовавших ошибочному проявлению милосердия. А это означало войну. Но здесь в судьбы народов вмешалась сама природа. Грозное письмо Калигулы, после которого кровавая бойня в Иудее становилась неизбежной, из-за бурного моря задержалось на три месяца. Когда же настала благоприятная погода, то из Рима в Антиохию срочно пришло иное известие, скорее всего доставленное по суше и потому опередившее первое послание. Оно извещало Петрония о смерти Гая Цезаря Калигулы. Двадцать семь дней спустя легату наконец-то доставили и грозное послание императора — уже покойного. Война на сей раз не разразилась, и самодурство Гая последствий не имело. Но напряжение между римской властью и иудеями возросло, и три десятилетия спустя большая война в Иудее все же разразилась, но это произошло в правление уже другого императора — Нерона, племянника Гая.
Время правления Калигулы, по счастью для Рима, было достаточно спокойным, без сколько-нибудь заметных катаклизмов. На Востоке, пользовавшемся особой симпатией Гая — память о детских впечатлениях, а также искренняя симпатия к эллинизму, — в ряде областей вместо прямого римского было восстановлено правление местных царьков, Риму во всем покорных. Так, царь Коммагены Антиох, лишенный трона Тиберием, вновь обрел его по милости Гая Цезаря. Ирод Агриппа, напомним, стал царем, получив дополнительно две тетрархии в управление. Три сына фракийского царя Котиса получили царские троны во Фракии, Малой Армении и Понте. А вот в Северной Африке гибель царя Птолемея привела к тому, что его царство было присоединено к Риму. Но здесь войны избежать не удалось. Вольноотпущенник Птолемея, бывший царский управляющий грек Эдемон, поднял вооруженное восстание против римлян, желая отомстить за гибель своего царя и благодетеля. Мятеж начался в 40 году, в следующем году, уже в правление императора Клавдия, полководец Марк Лициний Красс, полный тезка и потомок победителя Спартака, восстание подавил, но сопротивление мавров продолжалось еще около трех лет.
Отсутствие настоящей войны Гай постарался восполнить войной инсценированной, ставшей, наверное, самой оригинальной войной, которую когда-либо вели римляне.
Римская империя была создана ударами меча. Пожалуй, только при царе Нуме Помпилии, преемнике основателя Города Ромула, все сорок три года его правления ворота храма Януса, если верить преданию, были закрыты, что означало мирное время. Божественный Август дважды приказывал закрыть двери храма Януса, дабы подчеркнуть, что он даровал народам Империи
Pax Romana — Римский Мир. Но мы помним, что время его правления вовсе не было таким уж мирным, войн и мятежей было предостаточно. Тиберий, многоопытнейший военачальник, проявивший свой полководческий дар в разных концах необъятной Римской державы от Испании до Армении, в Альпийских горах, на равнинах Паннонии и в лесах Германии, лучше кого-либо знал, что такое война и во что она обходится государству. Потому в годы своего правления стремился поддерживать мир на границах державы. За это он совершенно незаслуженно удостоился резких упреков со стороны римских историков. И Тацит, и Светоний сурово упрекали его за отказ от войн и нежелание расширять пределы Империи. Гай, в отличие от Тиберия, с шестнадцати лет поступившего на военную службу и с небольшим перерывом несшего ее сорок лет — до самого принятия высшей власти, военным человеком не был, в войске никогда не служил, военными знаниями если и обладал, то самыми скромными и часто умозрительными. Но римский император обязан воевать. Четвертый цезарь должен был в этом непременно соответствовать первым трем. Ведь предшественники его — гениальный полководец Юлий Цезарь и великий воитель Тиберий; Август, хотя сам и не был полководцем, но с девятнадцати лет участвовал в войнах и, умело подбирая помощников-полководцев, всегда был удачлив. Наконец, Гай — внук славного Друза и сын доблестного Германика, прославивших римское оружие своими победами. Да и сам он «в лагере был рожден, под отцовским оружием вырос» и потому просто обречен был самим своим положением и великим наследием воинской доблести, славных побед и завоеваний возглавить хотя бы одну военную кампанию.
Но, верный себе, «войной и военными делами занялся он только раз, да и то неожиданно»
{324}. Однажды ему напомнили, что отряд его телохранителей, состоявший из воинов германского племени батавов (Батавия — территория современной Голландии), нуждается в пополнении. Здесь необходимо пояснить, откуда и почему отряд этот появился. Считается, что еще из рассказов прабабки своей Ливии Гаю было известно, что Августа помимо воинов преторианских когорт охранял специальный отряд телохранителей, состоявший из наемных варваров. Их измены Август не опасался. Когда Гай избавился от префекта претория Макрона, он решил повторить опыт прадеда. Было создано подразделение воинов-германцев из племени батавов. Отряд был сильный, способный не только поддерживать порядок в Риме, но и противостоять преторианцам в случае их мятежа.
Напоминание о Германии немедленно вызвало у Гая желание предпринять туда военный поход
{325}. Так пишет Светоний, но выглядит такое объяснение не более чем историческим анекдотом. При всей причудливости решений, принимаемых Гаем, для серьезной военной экспедиции требовалась достаточно серьезная причина.
Военная ситуация на границе с Германией по Рейну тревоги не вызывала, все было спокойно, римские легионы уверенно контролировали исторически опасное пограничье. Спокойствие царило и в Галлии, последние мятежи были подавлены еще в начальные годы правления Тиберия. Конечно, Гая в эти края могли тянуть и воспоминания детства. Сын Германика должен был искать военной славы там, где прославили себя его дед и отец, где сам он провел среди воинов первые годы своей жизни.
Была, однако, еще одна причина, вынудившая Гая спешно прибыть в расположение рейнских легионов. Он получил доказательства заговора. Состав заговорщиков должен был его потрясти: в заговоре участвовали его сестры, Агриппина и Юлия Ливилла, а во главе стояли Лепид, бывший муж безвременно ушедшей из жизни Друзиллы, и, что самое опасное, Гетулик, командующий верхнегерманскими легионами, прикрывавшими границу Империи по Верхнему Рейну. Было отчего и прийти в ярость, и испытать страх, и решиться на немедленные действия.
Марк Эмилий Лепид, облагодетельствованный Калигулой, как он сам полагал, браком с Друзиллой и ставший благодаря этому родственником императора, а поскольку прямых наследников у него не было, то и одним из возможных преемников, мог желать ускорить события и ударами кинжалов приблизить свое преемство. Гней Корнелий Лентул Гетулик был одним из старейших и достойнейших римских военачальников. По сообщению Тацита, во времена правления Тиберия «Гетулик… стоял во главе размещенных в Верхней Германии легионов, снискав у них редкостную любовь своей благожелательностью и справедливостью»
{326}. Гетулик в свое время был близок с Сеяном и даже собирался породниться с ним. Когда же временщик пал, то Гетулик отправил Тиберию смелое письмо, в котором напоминал, что породниться с префектом претория он намеревался не по своему побуждению, а по совету самого Тиберия; он обманулся в Сеяне, как и принцепс, и потому считает несправедливым, чтобы одна и та же ошибка одному безнаказанно сошла с рук, а для другого обернулась гибелью. Сам он, Гетулик, по-прежнему безупречно верен Тиберию и его верность непоколебима, пока против него не строятся козни. Если ему на смену в Верхнюю Германию будет прислан новый человек, он воспримет это как свой смертный приговор. Далее Гетулик дерзко предлагал Тиберию компромисс: он, командующий верхнегерманскими легионами, и принцепс заключают союз, дабы один сохранил за собой свою провинцию, а другой сохранял власть над всем государством. Тиберий, как гласила молва, дерзкую преданность Гетулика оценил
{327}. Гетулик пребывал в милости у старого императора до самой его смерти. Теперь этот заслуженный человек оказался в стане врагов Гая… Должно быть, испытанный ветеран, несмотря ни на что, почитал Тиберия, памятуя о его славном военном прошлом и умении управлять государством. Гай мог вызвать у старого воина одни только разочарования, каковые и привели Гетулика к участию в заговоре вместе с Лепидом.
Почему же сестры Гая оказались причастными к заговору? Ответ на этот вопрос дать нелегко. Обид от него они не видели, имена их звучали рядом с именем самого императора, что подчеркивало их августейший статус. Если только, в отличие от Друзиллы, любовные отношения с братом были не добровольны, а силой навязаны Гаем? Кто знает… Возможно, какую-то роль сыграла любовная связь Агриппины с Марком Эмилием Лепидом, если смутные сведения о ней верны… Так или иначе, но заговор существовал, Гай имел прямые доказательства — письма и даже кинжалы, для убийства императора заготовленные. Быстрота
появления Калигулы в Галлии и точность сведений и улик, переданных неизвестным для истории доброжелателем, привели к краху заговора в самом его зародыше. Гетулик и Лентул были осуждены на смерть, сестер Гай сослал на те самые Понтийские острова, куда не так давно Тиберий отправил его мать и брата. Когда сестры пытались просить Гая о смягчении участи, он жестко ответил: «У меня есть не только острова, но и мечи!» Обвинения же в адрес Агриппины и Юлии были своеобразны. Среди прочих выделялось обвинение в разврате! Что он имел в виду? Разумеется, связь Агриппины, супруги Гнея Домиция Агенобарба, с Лепидом! Что касается Юлии Ливиллы, супруги Марка Виниция, то за ней вроде бы особых грехов не водилось, исключая, конечно, «братскую любовь» самого Гая.
Сенат был извещен об изобличении и наказании заговорщиков. В благодарность за спасение Гая были принесены жертвы. Особую ретивость проявил претор Тит Флавий Веспасиан. Он предложил лишить заговорщиков права на погребение и тела их выставить на Гемониях. Веспасиан тогда не упускал ни одного случая угодить Калигуле. Ранее, будучи эдилом и отвечая за чистоту римских улиц, он был справедливо уличен в небрежении своими обязанностями, за что Гай справедливо, пусть и в грубоватой форме, наказал его: тогу Веспасиана изваляли в уличной грязи, этой же грязью набили ему полную пазуху, дабы нерадивый эдил, что называется, на собственной шкуре почувствовал последствия своей лени и нераспорядительности.
Сенат отправил к императору специальное посольство во главе с его дядюшкой Клавдием для поздравления с чудесным избавлением от опасности. С выбором главы посольства сенаторы явно промахнулись. Гай, обласкавший дядюшку в начале правления, давно уже успел в нем разочароваться. Клавдий имел теперь при дворе Гая славу дурачка, над которым всем кому не лень можно потешаться. Клавдий, человек уже немолодой, ему было около пятидесяти лет, после трапезы обычно начинал дремать. И тогда шуты, развлекая Калигулу, «бросали в него косточками фиников или маслин, а иной раз, словно в шутку, будили хлыстом или прутьями; любили они также, пока он храпел, надевать ему на руки сандалии, чтобы он, разбуженный внезапно, тер себе ими лицо»
{328}. И вот его-то сенат и определил главой посольства к императору в Галлию. «Гай был в диком негодовании и ярости, оттого что к нему нарочно прислали его дядю, словно к мальчишке для надзора, и некоторые даже сообщают, будто его, как он был в дорожной одежде, бросили в реку»
{329}.
Но самым примечательным решением сената следует считать присуждение Гаю «овации», то есть «малого триумфа». Ее присудили императору по предложению того же Тита Флавия Веспасиана за победоносный германский поход… А можно ли назвать не то что победоносным, а вообще военным походом то, что происходило в Галлии и на ее рубежах под руководством Калигулы?
В описании Светония военные действия Гая Цезаря на Рейне и морском побережье Галлии выглядят крайне нелепо и лишний раз заставляют задуматься о помутненном разуме императора. Начал, правда, свои действия на германской границе Гай с меры весьма благоразумной: щедро осыпал войско деньгами. Гетулика в войске любили, и расправа с ним могла иметь опасные последствия — склонность рейнских легионов к мятежу была хорошо известна. В двухлетнем возрасте Гай сам оказался в гуще такого мятежа. Деталей он, конечно, не помнил, но наверняка ему всё и очень подробно не раз рассказывали. Дождь из сестерциев успокоил легионы, и они предпочли не скорбеть о Гетулике. Тут же был назначен новый командующий. Им стал пасынок покойной Ливии Августы Луций Сульпиций Гальба (до усыновления он носил имя Сервий). Гальба знал военное дело, и легионы приняли его. Гальба, прибыв к легионам, немедленно ужесточил дисциплину. И тут же по лагерю пошел стишок: «Этот Гальба — не Гетулик: привыкай, солдат, служить!»
В то же время военачальник, опытный и в придворной жизни, проведший детство при дворе Августа, знавший и двор Тиберия, держал себя осторожно, предоставив Гаю самому проявлять способности полководца, вернее — полнейшее их отсутствие. Вот самые яркие страницы «походов» Гая в 39 и 40 годах:
«За весь этот поход он не совершил ничего, только когда под его защиту бежал с маленьким отрядом Адмоний, сын британского царя Кинобеллина, изгнанный отцом, он отправил в Рим пышное донесение, будто ему покорился весь остров.
…А потом, так как воевать было не с кем, он приказал нескольким германцам из своей охраны переправиться через Рейн, скрыться там и после дневного завтрака отчаянным шумом возвестить о приближении неприятеля. Все было исполнено: тогда он с ближайшими спутниками и отрядом преторианских всадников бросается в соседний лес, обрубает с деревьев ветки и, украсив стволы наподобие трофеев, возвращается при свете факелов. Тех, кто не пошел за ним, он разбранил за трусость и малодушие, а спутников и участников победы наградил венками нового имени и вида: на них красовались солнце, звезды и луна, и назывались они «разведочными»»
{330}.
В то же время даже при тени настоящей опасности Гай проявил постыдную трусость: «Когда он однажды за Рейном ехал в повозке через узкое ущелье, окруженный густыми рядами солдат, и кто-то промолвил, что появись только откуда-нибудь неприятель и будет знатная резня, — он тотчас вскочил на коня и стремглав вернулся к мостам; и так как они были загромождены обозом и прислугой и он не желал ждать, то его переправили на другой берег над головами людей, передавая из рук в руки»
{331}.
Самым удивительным должно признать окончание этой, с позволения сказать, войны: «Наконец, словно собираясь закончить войну, он выстроил войско на морском берегу, расставил баллисты и другие машины, и между тем как никто не знал и не догадывался, что он думает делать, вдруг приказал всем собирать раковины в шлемы и складки одежды — это, говорил он, добыча Океана, которую он шлет Капитолию и Палатину. В память победы он воздвиг высокую башню, чтобы она, как Фаросский маяк, по ночам огнем указывала путь кораблям. Воинам он пообещал в подарок по сотне денариев каждому и, словно это было беспредельной щедростью, воскликнул: «Ступайте же теперь, счастливые, ступайте же, богатые!»
После этого он обратился к заботам о триумфе»
{332}.
Но еще одной заботой он решил сделать мщение. Месть тем легионам, среди которых он сам пребывал двухлетним ребенком…
«Прежде чем покинуть провинцию, он задумал еще одну чудовищную жестокость: истребить все легионы, бунтовавшие после смерти Августа, за то, что они держали когда-то в осаде его самого младенцем и его отца Германика, своего полководца. Его с трудом отговорили от этого безумного намерения, но ничем не могли удержать от желания казнить хотя бы каждого десятого. И вот, созвав легионеров на сходку, безоружных, даже без мечей, он окружил их вооруженной конницей, но, заметив, что многие догадываются в чем дело и пробираются к своему оружию, чтобы дать отпор, он бежал со сходки и прямо направился в Рим»
{333}.
В Рим Гай Цезарь Калигула ехал навстречу скорой смерти…
Глава VII
«ПОЛУЧАЙ СВОЕ!»
Гай возвращался в Рим, ощущая себя победителем. Заговор уничтожен, опаснейшие враги казнены, неверные сестры сосланы. Крупнейшим успехом стали многочисленные конфискации и распродажи, давшие ему прибыль в полтораста миллионов. Армия получила достаточное денежное довольствие и не имела повода роптать. Инсценировка военных действий на берегах Рейна многих, конечно, позабавила, но любому легионеру было очевидно: настоящая война с германцами — это тяжелые бои, большие потери и мало добычи. Тем более под таким командованием. Гай совсем не Германик, не Друз и не Тиберий. Под началом такого императора более вероятен второй Тевтобургский лес, а никак не славный прорыв к Альбису и Океану. Судьбы легионов Вара воины себе не желали. Да и в Британии Гай никак не смог бы повторить подвигов своего гениального тезки, божественного Юлия. Потому, когда Калигула вроде как всерьез надумал начать переправу в Британию, армия возроптала, и тогда он немедленно отменил вторжение… Не в наказание ли за это заставил он легионеров собирать морские раковины? А может, раковины ему просто очень нравились?
Искать логику в действиях Гая при возвращении в Рим из Галлии — дело крайне затруднительное. Сначала он под страхом смерти запрещает сенату оказывать ему какие-либо почести, не желая, таким образом, принимать овацию, дарованную ему по предложению Веспасиана. Затем вдруг обращается к заботам о триумфе: «Не довольствуясь варварскими пленниками и перебежчиками, он отобрал из жителей Галлии самых высоких и, как он говорил, пригодных для триумфа, а также некоторых князей: их он приберег для торжества, заставив не только отрастить и окрасить в рыжий цвет волосы, но даже выучить германский язык и принять варварские имена. Триремы, на которых он выходил в Океан, было приказано почти все доставить в Рим сухим путем. А казнохранителям своим он написал, чтобы триумф они подготовили такой, какого никто не видел, но тратились бы на него как можно меньше: ведь в их распоряжении — имущество всего населения»
{334}.
Такая организация триумфа должна была всем показать, что Гай подобен отцу своему и деду. Как и они, он победил германцев, как и они — плавал по Океану. То, что Друз и Германик действительно воевали, а он лишь бестолково маневрировал, бездарно войну изображая, Калигулу не смущало, что самым печальным образом характеризует его умственные способности. Галлы, перекрашенные в германцев, и вожди их, по нескольку германских слов кое-как выучившие, ничего, кроме смеха, в Риме вызвать не могли.
Готовясь к триумфу, Гай попутно свирепо обрушился на сенат. Еще во время своего псевдопохода за Рейн он издал специальный эдикт, в котором порицал сенат римского народа и сам римский народ за то, что они наслаждаются отдыхом на прекрасных виллах, цирковыми и театральными зрелищами и несвоевременными пирами в то время, когда он, Цезарь, сражается среди бесчисленных опасностей. А возвращаясь из похода, Гай обвинил сенат в том, что тот отказывает ему в законном триумфе, как бы забыв о своем запрете…
Похоже, пребывание среди войска, ведшего себя вполне послушно, пусть и не пожелавшего отправляться на берега туманного Альбиона, окончательно убедило Гая в его полном всемогуществе и необъятности его власти. Зачем, в таком случае, вообще нужен какой-то сенат? Он — единовластный правитель, он — живой бог. Потому оставаться всего лишь принцепсом, причем сенатом и утвержденным, просто унизительно. Здесь уже логика действий Калигулы предельно точно просматривается: я — монарх, а значит, ни к чему сохранять эти нелепые республиканские одежды. С такой точки зрения действия Гая откровеннее и честнее политики Августа и Тиберия. Римский император — полновластный владыка, зачем же тогда сохранять этот бессильный и бесполезный сенат, да еще на словах признавать его правящую роль в державе? Монархия — и всё, хватит игр в давно почившую и никому не нужную республику.
Вот потому-то очередной сенатской депутации, прибывшей к нему, когда он уже направлялся в Рим, и умолявшей поспешить в столицу, где сенат и народ ждут его не дождутся, Гай ответил громовым голосом: «Я приду, да, приду, и со мною — вот кто», — и похлопал по рукояти меча, висевшего на поясе
{335}.
Это означало, что опирающийся на военную силу император прямо грозит расправой всем, кто ему неугоден. А кто неугоден — так вот вам специальный эдикт: Гай Цезарь «возвращается только для тех, кто его желает — для всадников и народа; для сената же он не будет более ни гражданином, ни принцепсом»
{336}. Сенаторам даже было запрещено выходить навстречу императору.
Эдикт означал, по сути, упразднение принципата и установление прямого монархического правления. Император более не гражданин, как все прочие римляне, он царственная богоподобная особа, и сенат теперь не вправе даже формально утверждать его власть, ибо он — владыка, коего нельзя титуловать жалким наименованием «принцепс».
В Рим тем не менее Гай вступил не триумфатором, но скромно удовольствовавшись овацией, совместив ее со своим днем рождения — 31 августа
{337}. Во время ее он постарался явить народу щедрость, самолично разбрасывая золотые и серебряные монеты встречающим его толпам
{338}.
Дабы никто не смел усомниться в его божественности, недавно родившуюся у него дочь (Цезония, скорее всего, родила ее в Лигдуне) он сам «отнес на Капитолий и положил на колени статуи Юпитера, уверяя, что этот ребенок в одинаковой мере принадлежит как ему, так и Юпитеру, что у нее, значит, двое отцов и что он, Гай, поэтому оставляет вопрос открытым, кто из них обоих является более могущественным
{339}.
Трудно вспомнить хоть какой-то подобный случай в античной истории. Разве что Александра Македонского египетские жрецы провозгласили сыном Зевса — Амона (по представлениям египтян, их солнечный бог Амон-Ра в Греции почитался под именем Зевса), но в этом случае отрицалось отцовство царя Филиппа II… Гай же себя ставил вровень с Юпитером.
В этом случае уместно обратиться к словам лауреата Нобелевской премии мира Людвига Квидце, произнесенным им в 1894 году и как раз посвященным образу «цезарианского безумия»:
«Ощущение неограниченной власти заставляет монарха забыть о рамках правового порядка: теоретическое обоснование этой власти как божественного права делает безумными мысли несчастного, который пагубным образом верит, что формы придворного этикета, а еще больше раболепное поклонение тех, кто близок к правителю, делают его выше всех людей, существом возвышенным самой природой: из наблюдений над своим окружением он делает вывод, что вокруг него подлая презренная толпа»
{340}.
Гая в подобных ощущениях убеждало то, что «народ неизменно спокойно взирал на такие его поступки»
{341}.
Однако не столь уж спокойны были настроения в верхах римского общества. Заговор Гетулика — Лепида не остался явлением исключительным. После возвращения Гая в Рим число всякого рода заговорщиков стало множиться. Вскоре был изобличен еще один заговор, затеянный сыном консула Секс-том Папинием и сыном всадника Бетилленом Бассом. Выдал заговорщиков некто Цериал, сам к заговору причастный, но предательством купивший себе жизнь. После этого Цериал прожил достаточно долгую жизнь, но все же кары не избежал. Она настигла его в конце правления племянника Гая Нерона (54–68). Погиб Цериал на основании ложного доноса, но никто о судьбе его не жалел, памятуя роль его в деле разоблачения заговора против Калигулы
{342}.
После расправы над молодыми заговорщиками Гай велел допросить отца Бетиллена Басса. Тот сделал неожиданное признание: истинные руководители заговора остаются на свободе; более того, они принадлежат к ближайшему окружению императора, ибо один из них — вольноотпущенник Каллист, главный помощник Цезаря в делах государственных, а остальные двое — префекты претория, возглавляющие преторианские когорты после устранения Макрона.
Гай растерялся. По сообщению Диона Кассия, он вызвал к себе всех троих, прямо рассказал им о том, что они обвиняются в руководстве заговором с целью убить императора, и завершил свою речь словами: «Я один против вас троих. Вы вооружены, я же безоружен. Если вы в самом деле меня ненавидите и хотите убить, убивайте!»
{343} Каллист и префекты, разумеется, все отрицали.
О Каллисте следует сказать несколько слов особо. Он первый из либертинов, ставший тем, кто вошел в римскую историю под славным наименованием «великого вольноотпущенника». Явление это расцветет в годы правления уже преемника Гая Клавдия, когда все дела государства при слабоумном императоре будут вершить его либертины Нарцисс и Паллант. Продвижение на первые роли именно вольноотпущенников имело большой смысл: в отличие от выдвиженцев из римской старой знати либертины не могли претендовать на высшую власть и были, как правило, верны своим благодетелям. Дела же государства знали они хорошо, и Империя благополучно развивалась и крепла независимо от того, какой причудливой особе принадлежит высшая власть. Сама же эта особа, чья голова чрезмерно закружилась от необъятной власти и кажущейся безнаказанности, могла по глупости своей головы этой и лишиться.
Растерянность Гая после разоблачения заговора Басса — Папиния и признания Басса-отца об истинных его руководителях была велика. Не решившись поверить в преступность Каллиста и префектов претория, он даже пошел на уступку ненавистному сенату, заявив, что гневается не на весь сенат, но лишь на некоторых сенаторов. Сенат настолько вдохновился внезапной добротой императора, что немедленно признал его богом
{344}.
Любопытно, что именно в последние месяцы жизни Калигула сталкивается с людьми, которым суждено было в дальнейшем стать во главе Римской империи. Он разлучает сосланную Агриппину с ее сыном Луцием, оставляя ребенка на попечение его тетушки Домиции Лепиды. Мальчик Луций станет через четырнадцать лет императором Нероном. В Галлии Калигула ставит во главе верхнегерманских легионов Гальбу… Гальбе суждено стать преемником Нерона. Не упускающий ни одного случая польстить Гаю, пресмыкающийся перед ним Веспасиан станет основателем новой династии Флавиев, пришедшей вместо Юлиев — Клавдиев, чей век завершится с гибелью Нерона, и оба сына его, Тит и Домициан, будут править Римом. Наконец, придурковатый дядюшка Клавдий, которого Гай в Лугдуне, как говорили, приказал бросить в воды Родана (Роны), совсем скоро сменит на Палатине его самого… А в самом начале своего правления, пощадив развратных спинтриев, Гай «спас» для недолгой императорской власти Авла Вителлия… Из всех этих преемников умереть собственной смертью суждено было только Веспасиану и Титу, но и Тит ушел далеко не старым, лишь на сорок втором году жизни.
Ощущение тревоги не заставило Гая вести себя осмотрительнее, не раздражать своей непредсказуемостью римлян. Даже не понимал он, что его безобидные забавы, никому ничем дурным не грозящие, вызывают к нему неприязнь немногим меньшую, нежели его жестокие расправы. Тем более что все убедились: безобидные развлечения Гая легко переходят в кровавые. Но он как бы специально старался как можно чаще изумлять римлян и внешним видом своим, и поступками, и намерениями. Чего стоил только его внешний вид! Гай, забавы ради, иногда появлялся в женском обличье. Римлянин в женской одежде — это нечто немыслимое. Когда-то знаменитый Клодий в женском обличье проник в дом Гая Юлия Цезаря для любовного свидания с его женой, и это был поступок, всеми резко осуждаемый. Да, на сцене актеры играли женские роли в женском, естественно, обличье… но то актеры, к черни римской знатью относимые, а здесь сам император, и не на сцене, а на Палатине! Он и обувался, чтобы всех потешить: то в обычные сандалии, то в актерские котурны, то в солдатские сапоги, а то и в женские туфли. Не забудем и его появления в божественном виде: «Много раз он появлялся с позолоченной бородой, держа в руке молнию, или трезубец, или жезл — знаки богов, — или даже в облачении Венеры»
{345}. Последний наряд, очевидно, вызывал наибольшее изумление…
Ко всему этому Калигула, также на глазах у римлян, и «гладиатор, и возница, певец и плясун, он сражался боевым оружием, выступал возницей в повсюду выстроенных цирках, а пением и пляской он так наслаждался, что даже на всенародных зрелищах не мог удержаться, чтобы не подпевать трагическому актеру и не вторить у всех на глазах движениям плясуна, одобряя их и повторяя»
{346}.
Последнее выдает в Гае увлеченного до самозабвения зрителя, способного высоко оценить и красивое пение, и отточенные движения умелого танцора. Плясать он был готов всегда и везде. Трое римских сенаторов консульского звания лично убедились в наличии у их повелителя такого необычного пристрастия. Однажды уже за полночь Гай вызвал к себе во дворец на Палатине трех почтенных консуляров. Сам рассадил их на сцене. Трепеща, они ожидали самого худшего… Император удалился, предоставив почтенным сенаторам возможность еще поволноваться перед неизведанным… но вдруг под звуки флейт и трещоток вновь появился перед ними в женском покрывале и в длинной тунике до пят, проплясал танец и, ни слова не говоря, ушел, оставив консуляров в глубоком раздумье относительно смысла происшедшего…
Шутка? Эпатаж? Конечно, и не самый ужасный, иные цари дурачились и похлеще. Вот сирийский царь Антиох IV Эпифан однажды после успешного похода давал пир для своих приближенных. Пирующих развлекали разного рода шутовскими представлениями, декламациями, в каковых и сам царь принял участие. Но вот царь вышел из пиршественной залы… Вскоре появились рабы, несущие что-то завернутое в ткань, и положили сверток на стол перед пирующими придворными. Зазвучала музыка, сверток вдруг ожил и оказался человеком, который поднялся на ноги… Внезапно ткань упала и перед всеми предстал совершенно голый царь. Еще мгновение — и он закружился в танце.
Нельзя не признать, что танец Гая был куда пристойнее и сам он был, по крайней мере, одет, пусть и в женское платье.
Но самое большое изумление, вызвавшее и самое удивительное предположение, связано с особой привязанностью Гая к своему коню. «Своего коня Быстроногого он так оберегал от всякого беспокойства, что всякий раз накануне скачек посылал солдат наводить тишину по соседству; он не только сделал ему конюшню из мрамора и ясли из слоновой кости, не только дал пурпурные покрывала и жемчужные ожерелья, но даже отвел ему дворец с прислугой и утварью, куда от его имени приглашал и охотно принимал гостей. Говорят, он даже собирался сделать его консулом»
{347}.
Наверняка сам Гай пришел бы в изумление, узнав, какое фантастическое намерение приписывает ему молва. Но в том-то и беда, что римляне были убеждены: их император способен на все, от него можно ожидать самого дикого чудачества, самого жестокого поступка. И то и другое совершенно непредсказуемо, и чем вызвано — понять невозможно. А значит, почему бы такому человеку и в самом деле не ввести любимого коня в сенат и не провозгласить его консулом? К коню ведь он относится много лучше, нежели к действительным консулам, коим то ли шутки ради, то ли всерьез обещал глотки перерезать за дружеским ужином?
В таких условиях неудивительны заговоры и неудивительно участие в них высших лиц государства, людей из ближайшего окружения Калигулы. Думается, одним из сильнейших толчков, побудивших заговорщиков действовать, было крайне непродуманное и способное возмутить всех римских граждан решение Гая, узаконивавшее доносы рабов на хозяев: «Гай также позволил рабам выступать с какими угодно обвинениями против своих хозяев: конечно, все, что они говорили, было ужасно, потому что в угоду Гаю и по его понуждению ими возбуждались страшнейшие обвинения. Дело дошло даже до того, что некий раб Полидевк решился выступить против Клавдия, и Гай не постеснялся явиться послушать судебное разбирательство по делу своего родственника: он даже питал надежду найти теперь предлог избавиться от Клавдия. Однако это дело у него не выгорело, ибо он преисполнил все свое государство наветами и злом, а так как он сильно восстановил рабов против господ, то теперь во множестве стали возникать против него заговоры, причем одни участвовали в них, желая отомстить за испытанные бедствия, другие же считали нужным избавиться от этого человека раньше, чем он вверг бы их в большие бедствия. Поэтому смерть его была бы по законам всех народов всякому желательна…»
{348}
Свободу рабских доносов в Риме долго терпеть не могли. Да, бывали времена, когда рабам дозволялось доносить на господ. Случалось такое во время проскрипций, но тогда был четко обозначен круг тех, на кого доносы эти принимаются, — списки проскрибированных вывешивались для всеобщего осведомления. И рабы наравне со всеми прочими обязаны были сообщать властям, где находятся и укрываются лица, в роковые списки внесенные. Понятное дело, многие рабы были не прочь доносом своим отомстить жестокому хозяину. Потому особо любопытна статистика предательства во время проскрипций второго триумвиратора, приводимая Веллеем Патеркулом. Рабы, конечно, старались, но их по числу доносов обошли… сыновья несчастных. Дети доносили на отцов усерднее рабов! Менее рабов усердствовали либертины — черная неблагодарность, ибо хозяевам своим они были обязаны свободой; наиболее верными, менее всех подвержденными пагубному и позорному пороку доносительства оказались жены
{349}.
Калигула же дал рабам полную свободу доносительства: отныне они были вольны изобличать любого в любых происках против императора. Гай таким образом пытался остановить заговоры, испугать тех, кто замышлял дурное против него. То, что никто отныне не защищен от рабского доноса, должно было показать обвинение Полидевка против Клавдия. Этот суд, благополучно завершившийся для обвиняемого, был скорее всего предупреждением для всех: никто отныне, даже члены августейшей семьи, не защищен от рабского доноса. Показательным было и присутствие самого Гая на суде. Клавдий уцелел не потому, что донос Полидевка был неубедителен. Калигула не считал придурковатого, по его мнению, дядюшку сколь-либо опасным для себя человеком. Да и заговорщиком он и близко не был, в чем Гай не сомневался. Но пример этот сыграл роль обратную. Он, разумеется, испугал многих, но иных подвиг на решительный замысел покончить с тираном, отдавшим благополучие и жизнь господ в руки рабов — дело доселе неслыханное. Вот потому-то «среди этих безумств и разбоев многие готовы были покончить с ним: но один или два заговора были раскрыты, и люди медлили, не находя удобного случая. Наконец, два человека соединились между собой и довели дело до конца не без ведома влиятельных вольноотпущенников и преторианских начальников. Они уже были оговорены в причастности к одному заговору, и хотя это была клевета, они чувствовали подозрение и ненависть Гая: тогда он тотчас отвел их в сторону, поносил жестокими словами, обнажил меч с клятвой, что готов умереть, если даже в их глазах он достоин смерти, и с тех пор не переставал обвинять друг перед другом и ссорить»
{350}.
Светоний, как мы видим, несколько иначе описывает встречу Гая с Каллистом и префектами преторианских когорт, обвиненных Бассом-старшим в заговоре против императора. Но суть примерно та же: Гай не поверил в их вину и отпустил. Правда, как говорят обычно в подобных случаях, оставил под сильнейшим подозрением. «Великий либертин» и префекты претория, легко догадываясь, чем могут закончиться для них подозрения Гая, да еще и в условиях свободы доносительства, дарованной рабам, не могли не беспокоиться за свою судьбу.
Если их причастность к заговору молодого Басса действительно была клеветой — не могли столь солидные люди ввязаться в дело, чуть ли не юнцами задуманное, — то ныне вступление в заговор в роли силы направляющей, разумеется, становилось неизбежным. Тем более что к их услугам были сразу три заговора «и в каждом из этих заговоров инициаторами являлись благородные мужи»
{351}.
Первым из этих «благородных мужей» был Эмилий Регул, уроженец города Кордубы в Иберии (Испании), сплотивший вокруг себя целую группу товарищей, готовых убить ненавистного тирана. Другой заговор возглавил трибун-преторианец Кассий Херея, третий — Аппий Минуциан. Каждый из предводителей имел свои причины ненавидеть Гая и желать ему смерти. Минуциан жаждал отомстить за Марка Эмилия Лепида, казненного вместе с Гетуликом. В решимости истребить кровавого деспота, погубителя выдающихся римских граждан его поддерживала не только жажда благородного отмщения за близкого друга Лепида, но и страх за свою жизнь. Гай, зная о близости Алпия к казненному заговорщику, как-то в гневных выражениях пригрозил ему казнью. Угрозу эту он почему-то не спешил выполнить, но доблестный Минуциан, не желая находиться в постоянном страхе, решительно стал на путь тираноборчества. Кассий Херея имел личные основания ненавидеть Гая, хотя ему император никакими карами не грозил и в заговорщиках не числил. Херея служил в легионах на Рейне в то время, когда в них вспыхнул мятеж. Тогда двухлетний Гай и молодой центурион оказались в одном лагере. Маленький сын Германика едва ли понимал происходящее. Кассий Херея же, верный законному принцепсу и любимому полководцу, отцу Гая Германику, проявил себя мужественным воином, решительно, можно сказать, мечом проложив себе дорогу через мятежный строй. Теперь это был немолодой человек, достигший высокого звания трибуна и командовавший одной из девяти преторианских когорт. В Риме его отношения с молодым императором не сложились. Калигула поручил преторианскому трибуну сбор податей и недоимок в императорскую казну, когда подати эти удвоились. Херея, человек времени правления Тиберия, усвоил иные, куда более разумные способы сбора налогов, каковые утвердились в Римской империи при старом принцепсе. Известно, что умело установленные умеренные налоги всегда собираются много лучше, нежели подати высокие, грозящие выжать последние соки из налогоплательщиков. Потому-то Тиберий и собрал богатейшую казну, а Калигула поставил Империю на грань банкротства. Вот трибун и собирал недоимки, исходя из возможностей податного населения, а не ради немедленного пополнения казны за счет практического ограбления людей. Тем более что знал он, как Гай распорядится собранными деньгами. Калигула же, раздраженный медленным поступлением податей, обозвал старого заслуженного воина бабой. С этого времени Калигула не переставал глумиться над Хереей: «…несмотря на его пожилой возраст, Гай не уставал всячески издеваться: то обзывал его неженкой и бабьем, то назначал ему как пароль слова «Приап» или «Венера», то предлагал ему в благодарность за что-то руку для поцелуя, сложив и двигая ее непристойным образом»
{352}.
«Всякий раз, когда Херее приходилось являться за паролем, у него вскипал гнев, особенно когда ему приходилось сообщать пароль войску, потому что тогда товарищи его смеялись над ним. Всякий раз, когда он являлся с докладом к императору, они рассчитывали на немалое удовольствие. Поэтому у Хереи, который был доведен в своем гневе до крайностей, созрела решимость наметить некоторых товарищей по заговору»
{353}.
Наконец, третий заговорщик, Эмилий Регул, стал на путь заговора против императора не из личных обид, но согласно своим убеждениям: «Регул был человеком весьма вспыльчивым и с ненавистью относившимся ко всему, в чем проявлялась несправедливость; в его характере вообще были решимость и любовь к свободе, почему он и не скрывал своих планов, о которых сообщил друзьям и другим людям, казавшимся ему достаточно решительными»
{354}.
Регул был единственным среди заговорщиков, кто походил на исторических предшественников — убийц Гая Юлия Цезаря. Тех вдохновляли не личные обиды — великодушие Цезаря не знало границ, — но стремление восстановить республику, не дать утвердиться в Риме ненавистной монархии.
Но что объединяло всех этих очень разных людей — один боялся за свою жизнь, а заодно жаждал отомстить за друга; второй не мог сносить издевательские шутки императора; третий был врагом несправедливости и поборником свободы — так это отсутствие четких представлений о том, что же будет с Римом после убийства тирана. Брут и Кассий были убеждены, что устранение Цезаря вернет власть республиканским учреждениям и сам по себе естественно восстановится прежний порядок, лишь непомерными властными амбициями блистательного Юлия придавленный. Недругам Калигулы сложно было надеяться на естественное восстановление римской свободы. Республиканские учреждения во главе с сенатом являли собой лишь тень того, чем они были восемьдесят пять лет назад, когда под кинжалами заговорщиков пал Гай Юлий Цезарь. Потому надеяться на воскрешение республиканского правления было крайне сложно, пусть и непредсказуемые жестокости Калигулы многих людей в Риме заставили об этом задуматься. Но, повторим, сколь-либо четкого плана действий на будущее после убийства императора все три ветви заговора не имели. Это, конечно, не облегчало судьбы Гая, но и не сулило успешного будущего его убийцам. Они, кстати, могли бы и вспомнить о печальной судьбе Брута и Кассия, павших в гражданской войне с Антонием и Октавианом, менее всего озабоченными восстановлением республики в Риме.
Определенный взгляд на будущую власть в Риме имел Каллист. Многоопытный государственный муж, человек, достигший величайшей власти, почти такой же, как сам тиран, не строил иллюзий по поводу будущей формы правления в Римской державе после устранения Калигулы. Великого вольноотпущенника в заговор привели две причины: во-первых, попав под подозрение из-за клеветы старшего Басса, он имел все основания серьезнейшим образом опасаться за свою жизнь; во-вторых, как знающий свое дело политик Каллист не мог не видеть обреченность Гая. Но в отличие от Регула, Минуциана и Хереи он думал не только об истреблении тирана, но и о том, кто придет ему на смену в Палатинском дворце. В неизменности установившегося единовластного правления в Риме Каллист справедливо не сомневался. «Поэтому он сблизился с Клавдием и тайно примкнул к нему в надежде, что после смерти Гая власть должна была перейти к Клавдию и что он тогда благодаря своему влиянию достигнет у него подобного же почетного положения, особенно оттого, что заранее успеет доказать ему свою благодарность и расположение»
{355}. Будущее показало, что Каллист безошибочно определил преемника Гая.
Сам Гай в эти дни вел себя так, словно ему ничего не угрожало, хотя предшествующие события должны были его насторожить. Но он не принял никаких мер по усилению своей личной охраны. Верные ему германцы-батавы несли службу в столице, но не рядом с императором. А ведь изначальный смысл создания батавской гвардии как раз и был в том, чтобы они стали именно телохранителями императора, противовесом не совсем надежным преторианцам. Более того, оскорбляя и унижая Кассия Херею, Гай поступал вовсе уж неразумно. Как известно из истории, все удачливые тираны всегда были обходительны и предельно доброжелательны с теми, кто непосредственно им служил, прежде всего это касалось прислуги и личной охраны. А здесь непрерывные издевки, убийственные для старого заслуженного воина, имеющего к тому же прямой доступ к особе императора, причем как раз в силу своего служебного положения — при оружии… Воистину
«Quern deus perdere vult, dementat prius» («Кого бог хочет погубить, того он лишает разума»).
К нашему герою эта римская поговорка полностью применима.
Заговорщиков к действию подтолкнуло очередное кровопролитие в Риме, учиненное Гаем. В Риме давно установилась традиция: граждане, пришедшие в цирк на очередное зрелище и увидевшие, что на нем присутствует император, были вправе обратиться к нему с любой просьбой. Обычно просьбы эти были вполне умеренны и выполнимы, потому императоры и не отказывали в них. Не раз и сам Гай эту традицию с удовольствием соблюдал. «И в этот раз народ приступил к Гаю с настоятельной просьбой об ослаблении поборов и облегчении бремени налогов. Гай не согласился, а так как народ слишком бурно выражал свои желания, он распорядился схватить крикунов и безотлагательно казнить их. Так велел Гай, и приказание его было исполнено: погибла масса народа. Чернь перестала кричать и в ужасе смотрела на это, убедясь воочию, насколько легко их просьбы могут привести к смерти. Между тем Херею все это еще более убедило в необходимости заговора и освобождения человечества от озверевшего Гая»
{356}.
Херея сошелся с Минуцианом, который укрепил его в решимости. Корнелий Сабин также решился поддержать план убийства императора. После ряда совещаний, отсрочек, обсуждения разных способов устранения тирана заговорщики остановились на времени празднования в Риме Палатинских игр, установленных в честь Августа. С убийством следовало спешить, поскольку стало известно, что по окончании игр Гай намерен морем отправиться в Александрию. Но только стремлением посетить далекую провинцию и освежить воспоминания детства планы его не ограничивались: «Так, он собирался переселиться в Анций, а потом — в Александрию, перебив сперва самых лучших мужей из обоих сословий. Это не подлежит сомнению: в его тайных бумагах были найдены две тетрадки, каждая со своим заглавием — одна называлась «Меч», другая — «Кинжал», в обеих были имена и заметки о тех, кто должен был умереть»
{357}. Получалось, что заговорщики наносили превентивный удар.
Убийство свершилось в последний день игр. Гай находился на театральном представлении, вокруг было множество людей, и заговорщики во главе с Кассием Хереей — он взял на себя обязанности предводителя тираноубийц — никак не могли улучить удобный момент для рокового удара. Приходилось ожидать, когда император удалится во дворец на дневной завтрак. Путь его в этом случае был известен, и Херея все предусмотрел. Около трех часов дня Гай направился во дворец. В подземном переходе, по которому он непременно должен был пройти, его уже ждали. Задачу заговорщиков облегчило и то, что в том же переходе готовились к своему выступлению знатные мальчики из провинции Азия (бывшее царство Пергам на западе полуострова Малая Азия). Они должны были во время мистерий петь гимны и выступать в качестве танцовщиков. Гай остановился посмотреть на них и захотел похвалить детей, успевших, очевидно, уже проявить себя перед публикой. Убийцам это оказалось на руку, поскольку сопровождавшие Гая люди — среди них были дядя императора Клавдий, муж Юлии, сестры Гая, Марк Виниций — не задерживаясь, прошли вперед.
«О дальнейшем рассказывают двояко. Одни говорят, что, когда он разговаривал с мальчиками, Херея, подойдя к нему сзади, ударом меча глубоко разрубил ему затылок с криком: «Делай свое дело!» — и тогда трибун Корнелий Сабин, второй заговорщик, спереди пронзил ему грудь. Другие передают, что когда центурионы, посвященные в заговор, оттеснили толпу спутников, Сабин, как всегда, спросил у императора пароль; тот сказал: «Юпитер»; тогда Херея крикнул: «Получай свое!» — и, когда Гай обернулся, рассек ему подбородок. Он упал, в судорогах крича: «Я жив!» — и тогда остальные прикончили его тридцатью ударами — у всех был один клич: «Бей еще!» Некоторые даже били его клинком в пах. По первому шуму на помощь прибежали носильщики с шестами, потом — германцы-телохранители; некоторые из заговорщиков были убиты, а с ними и несколько неповинных сенаторов»
{358}.
Известие о внезапной гибели Гая вызвало в переполненном театре смятение. Одни ликовали, другие не хотели верить в случившееся, были и такие, кто сожалел о погибшем императоре. К числу последних относились прежде всего любители даровых кровавых зрелищ: женщины и молодежь — свидетельство Иосифа Флавия
{359}, солдаты, которым платили хорошее жалованье, и, конечно, рабы, в кои-то веки получившие возможность глумиться над своими господами, обвиняя их в государственных преступлениях и находя поддержку у самого императора. Большинство, однако, было радо убийству Калигулы. Германские телохранители недолго проявляли свой гнев и мстили за любимого владыку… ведь бесполезно стараться за того, кто мертв и уже не может их вознаградить. К тому же варвары сообразили, что преемник убитого может сурово покарать их за бессмысленное кровопролитие, не могущее помочь тому, кто лежит в дворцовом переходе, пронзенный десятками мечей и кинжалов.
Между тем главный из убийц Гая Кассий Херея оставался недоволен тем, что не вся семья ненавистного тирана истреблена. Он послал трибуна-преторианца Юлия Лупа с приказом убить вдову и дочь Гая — бессмысленная и постыдная жестокость, изобличающая в Кассии Херее не тираноборца, но злобного мстителя за личные обиды, ибо беззащитная женщина и крохотная дочка ее никак не являлись препятствием к восстановлению римской свободы и на власть императорскую тоже никак претендовать не могли.
Юлий Луп, примкнувший к уже победившему заговору, с удовольствием выполнил приказ Кассия, воображая, что проявляет гражданскую доблесть, каковой будет потом гордиться. Цезонию он нашел у тела Гая. Несчастная вдова была покрыта кровью своего убитого мужа, рядом на полу лежала ее маленькая дочь Друзилла. Эта полная горя и отчаяния картина не тронула жестокого сердца Лупа. Заметив приближающегося трибуна, Цезония со слезами и стонами попросила его подойти поближе, но когда поняла истинную цель его прихода, то с мужеством отчаяния обнажила шею и попросила Лупа не медлить и исполнить то, для чего он послан. Трибун не удовлетворился только убийством беззащитной женщины: схватив за ноги малышку Друзиллу, он разможжил ей голову о стену.
Смерть Гая действительно вызвала в Риме последний порыв к свободе. Сенат, очнувшийся от страха и раболепия, готов был провозгласить возвращение к республике, но быстро выяснилось, что единовластие слишком укоренилось в Риме, и на Палатине появился новый император. Стал им тот самый Клавдий, дядя покойного Гая, на которого и сделал ставку многоопытный Каллист. Ему удалось и при новом императоре сохранить свое положение при дворе. Позднее на первый план выдвинулись иные «великие либертины» — Нарцисс, советник императора по делам прошений, и Паллант, советник по денежным делам. Непосредственным же тираноубийцам повезло много меньше. Клавдий приказал казнить убийц Гая, дабы никому не повадно было проливать императорскую кровь. Херея и
Луп были обезглавлены, причем Херея просил казнить его тем же мечом, каким он поразил Калигулу.
Телу Гая было отказано в должном погребении. Его наполовину сожгли на костре и кое-как забросали дерном. Только возвратившиеся из изгнания, куда сам Калигула их отправил, сестры Агриппина и Юлия распорядились вырыть его останки, сжечь и похоронить согласно римскому обычаю.
Никогда римляне не поминали Гая добрым словом. Имя его в веках стало символом безумной и кровавой тирании. Так сын лучших римлян вошел в историю худшим из римских императоров.
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ ГАЯ ЦЕЗАРЯ ГЕРМАНИКА КАЛИГУЛЫ
12 — в городе Анций родился Гай Цезарь.
14 — Гай вместе со своей матерью Агриппиной Старшей отправляется в Галлию, где командует легионами его отец Германик.
Смерть и обожествление Августа. Приход к власти Тиберия. Мятеж в рейнских легионах. Мятежники пытаются провозгласить Германика принцепсом, он решительно отказывается и подавляет мятеж.
14–16 — походы Германика за Рейн против германцев. Гай Цезарь пребывает в военных лагерях со своей матерью. Воины дают ему прозвище Калигула — Сапожок.
17 — триумф Германика в Риме. Гай Калигула находится на триумфальной колеснице рядом с отцом.
18 — Гай сопровождает своего отца Германика в путешествии на Восток.
Отец и сын посещают Грецию, руины Трои, прибывают в Сирию.
19 — Гай вместе с Германиком посещает Египет. Смерть Германика в Антиохии от отравления.
20 — Гай вместе с Агриппиной сопровождает прах отца в Италию. Похороны Германика в Риме.
Процесс Пизона, обвиняемого в отравлении Германика. Самоубийство Пизона.
20–29 — Гай пребывает в доме своей матери Агриппины в Риме, где получает полное образование.
29 — смерть Ливии Августы, вдовы Августа и матери Тиберия. Гай Цезарь
Калигула выступает с надгробной речью — его первое публичное выступление.
Ссылка Агриппины Старшей на остров Пандитерию, а старшего брата Нерона — на остров Понтию. Заточение в подземелье Палатинского дворца другого брата — Друза.
29–31 — Гай пребывает в доме своей бабки Антонии. Начало любовной связи Гая с родной сестрой Друзиллой.
30 — самоубийство брата Гая Нерона.
31 — Гай вызван Тиберием на Капрею, где назначается понтификом.
Брак Гая с Юнией Клавдилой. Падение и гибель Сеяна. Казнь сообщницы Сеяна Ливии Ливиллы, сестры Германика и вдовы Друза — сына Тиберия.
33 — Гай Цезарь Калигула становится квестором.
Гибель матери Гая Агриппины Старшей. Смерть брата Гая — Друза.
37 — смерть Тиберия и приход Гая Цезаря Калигулы к власти.
Смерть Антонии, бабки Гая. Тяжелая болезнь Гая Калигулы, повредившая его разум.
38 — расправа над Тиберием Гемеллом, внуком Тиберия. Казнь префекта претория Макрона. Смерть любимой сестры Гая Друзиллы и ее обожествление. Брак Калигулы с Лоллией Паулиной.
39 — строительство грандиозного моста в Байях. Брак Калигулы с Цезонией. Заговор Гетулика против Калигулы. Поход Калигулы в Галлию. Имитация войны с германцами.
40 — рождение Юлии Друзиллы, дочери Калигулы и Цезонии.
Армия Калигулы на морском побережье Северной Галлии собирает по его приказу раковины — единственный яркий эпизод запланированного, но не состоявшегося похода на Британию. Присоединение Мавритании к Римской империи. Возвращение Калигулы в Рим.
41 — указ Калигулы, разрешающий рабам доносить на своих господ. Убийство Гая Цезаря Калигулы.
Источники
Аврелий Виктор. О Цезарях: Извлечения о жизни и нравах римских императоров / Пер. В. С. Соколова // Римские историки IV века. М., 1997.
Евсевий Памфил. Церковная история. СПб., 1993.
Евтропий. Краткая история от основания города / Пер. А. И. Дончен-ко // Римские историки IV века. М., 1997.
Иосиф Флавий. Иудейская война / Пер. М. Финкельберг, А. Вдовиченко; под ред. А. Ковельмана. М., 1993.
Иосиф Флавий. Иудейские древности. Т. 1–2. М., 2004.
Немировский А. И., Дашкова М. Ф. «Римская история» Веллея Патеркула. Воронеж, 1985.
Плиний Старший. Естествознание. Об искусстве /Пер., предисл. и примеч. Г. А. Тароняна. М., 1994.
Светоний. Жизнь двенадцати цезарей / Пер. М. Гаспарова. М., 1990.
Тацит. Сочинения: В 2 т. / Изд. подг. А. Бобович, Я. Боровский, М. Сергеенко. М., 1993.
Ювенал. Сатиры /Пер. Д. Недовича, Ф. Петровского // Римская сатира. М., 1989.
Исследования
Баррет Э. А. Калигула. М., 1999.
Буассъе Г. Римская религия от времен Августа до Антонинов. М., 1914.
Гримм Э. Исследования по истории развития римской императорской власти. Т. 1. Римская императорская власть от Августа до Нерона. СПб., 1990.
Егоров А. Рим на грани эпох. Л., 1985.
Крист К. История времен римских императоров. Т. 1. Ростов н/Д., 1997.
Нони Д. Калигула. Ростов н/Д., 1998.
Остерман Л. Римская история в лицах. М., 1997.
Ренан Э. Жизнь Иисуса. Апостолы. М., 1991.
Хафнер Г. Выдающиеся портреты античности. М., 1984.
Федорова Е. Императорский Рим в лицах. Ростов н/Д., 1998.
Федорова Е. Человек в истории Западной Европы. Ч. 2. Рим — вечный город. М., 2007.
Комментарии
1
Светоний. Калигула. 3.
(обратно)
2
Там же. 8 (4).
(обратно)
3
Там же. 8
(обратно)
4
Тацит. Анналы. I, 2.
(обратно)
5
Федотов Г. П. Судьба и грехи России. М., 1992. Т. 2. С. 322.
(обратно)
6
Тацит. Анналы. I, 4.
(обратно)
7
Ренан Э. История первых веков христианства. Жизнь Иисуса. Апостолы. М., 1991. С. 555.
(обратно)
8
Тацит. Анналы. I, 4.
(обратно)
9
Светоний. Тиберий.16.
(обратно)
10
Там же. 18, 19.
(обратно)
11
Там же. 20 (2).
(обратно)
12
Там же. 20 (3).
(обратно)
13
Тацит. Анналы. I, 5.
(обратно)
14
Светоний. Тиберий. 21.
(обратно)
15
Тацит. Анналы. I, 5.
(обратно)
16
Там же. I, 6.
(обратно)
17
Светоний. Тиберий. 22.
(обратно)
18
Тацит. Анналы. I, 7.
(обратно)
19
Светоний. Тиберий. 24.
(обратно)
20
Тацит. Анналы. I, 7.
(обратно)
21
Там же. 1,12.
(обратно)
22
Там же.
(обратно)
23
Там же.
(обратно)
24
Дион Кассий. Римская история. 52, 2–5.
(обратно)
25
Там же. 52,41.
(обратно)
26
Светоний. Клавдий. 1.
(обратно)
27
Тацит. Анналы. I, 33.
(обратно)
28
Светоний. Клавдий. 4.
(обратно)
29
Светоний. Тиберий. 25.
(обратно)
30
Там же. 50.
(обратно)
31
Тацит. Анналы. I, 23.
(обратно)
32
Там же. I, 16.
(обратно)
33
Там же. I, 17.
(обратно)
34
Там же.
(обратно)
35
Там же. I, 19.
(обратно)
36
Там же. I, 28.
(обратно)
37
Там же.
(обратно)
38
Там же. I, 32.
(обратно)
39
Там же.
(обратно)
40
Там же. I, 31.
(обратно)
41
Там же. I, 34.
(обратно)
42
Там же. I, 35.
(обратно)
43
Там же. I, 37.
(обратно)
44
Там же. VI, 25.
(обратно)
45
Там же. I, 41.
(обратно)
46
Там же. 1,42, 43.
(обратно)
47
Светоний. Божественный Юлий. 70.
(обратно)
48
Дион Кассий. Римская история. 51,4.
(обратно)
49
Авторы жизнеописаний Августов. Авидий Кассий. VII.
(обратно)
50
Тацит. Анналы. I, 49.
(обратно)
51
Там же.
(обратно)
52
Там же. III, 74.
(обратно)
53
Там же. I, 58.
(обратно)
54
Там же. I, 61.
(обратно)
55
Там же. I, 69.
(обратно)
56
Там же.
(обратно)
57
Светоний. Тиберий. 50–51.
(обратно)
58
Тацит. Анналы. I, 69.
(обратно)
59
Светоний. Божественный Август. 84.
(обратно)
60
Тацит. Анналы. I, 71.
(обратно)
61
Светоний. Тиберий. 19.
(обратно)
62
Тацит. Анналы. II, 6.
(обратно)
63
Там же. II, 22.
(обратно)
64
Там же. II, 23.
(обратно)
65
Светоний. Тиберий. 9 (2).
(обратно)
66
Тацит. Анналы. II, 41.
(обратно)
67
Нони Д. Калигула. Ростов н/Д., 1998. С. 38.
(обратно)
68
Тацит. Анналы. II, 41.
(обратно)
69
Тацит. Анналы. II, 2.
(обратно)
70
Там же. II, 43.
(обратно)
71
Федорова Е. В. Человек в истории Западной Европы. М., 2007. С. 40.
(обратно)
72
Тацит. Анналы. II, 43.
(обратно)
73
Там же.
(обратно)
74
Там же. II, 53.
(обратно)
75
Светоний. Божественный Август. 96 (2).
(обратно)
76
Светоний. Калигула. 23 (1).
(обратно)
77
Там же.
(обратно)
78
Светоний. Тиберий. 70 (2).
(обратно)
79
Геродот. История. II, 51.
(обратно)
80
Тацит. Анналы. II, 54.
(обратно)
81
Нони Д. Калигула. С. 51.
(обратно)
82
Светоний. Калигула. 34 (2).
(обратно)
83
Тацит. Анналы. II, 54.
(обратно)
84
Там же. II, 55.
(обратно)
85
Там же.
(обратно)
86
Тит Ливий. История Рима от основания города. XXIX. 19 (II).
(обратно)
87
Светоний. Калигула. 50 (2).
(обратно)
88
Там же. II, 69.
(обратно)
89
Там же. II, 71.
(обратно)
90
Светоний. Калигула. 5, 6.
(обратно)
91
Тацит. Анналы. II, 75.
(обратно)
92
Там же. II, 77.
(обратно)
93
Аврелий Виктор. Извлечения о жизни и нравах римских императоров. I, 29.
(обратно)
94
Тацит. Анналы. III, 2.
(обратно)
95
Там же. III, 4.
(обратно)
96
Светоний. Тиберий. 52, 3.
(обратно)
97
Тацит. Анналы. III, 12.
(обратно)
98
Там же. III, 16.
(обратно)
99
Тацит. Диалог об ораторах. 28.
(обратно)
100
Светоний. Калигула. 54, 2.
(обратно)
101
Там же. 54, 1.
(обратно)
102
Иосиф Флавий. Иудейские древности. XVIII, VI, 8.
(обратно)
103
Светоний. Калигула. 34, 2.
(обратно)
104
Там же. 53, 2.
(обратно)
105
Там же. 53, 1.
(обратно)
106
Тацит. Анналы. XIII, 3.
(обратно)
107
Светоний. Калигула. 24, 1.
(обратно)
108
Дион Кассий. Римская история. 58, 28
(обратно)
109
Тацит. Анналы. IV, 6, 7.
(обратно)
110
Светоний. Тиберий. 30, 31.
(обратно)
111
Engel J-M. L’Empire Romain. Paris, 1986. P. 225.
(обратно)
112
Светоний. Калигула. 34, 1.
(обратно)
113
Там же.
(обратно)
114
Тацит. Анналы. IV, 64.
(обратно)
115
Там же. IV, 45.
(обратно)
116
Светоний. Тиберий. 37, 1, 2.
(обратно)
117
Там же. 33.
(обратно)
118
Там же. 36.
(обратно)
119
Тит Ливий. История Рима от основания города. XXXIX 8, 7–8.
(обратно)
120
Иосиф Флавий. Иудейские древности. XVIII, III, 4.
(обратно)
121
Там же.
(обратно)
122
Светоний. Тиберий. 36
(обратно)
123
Там же.
(обратно)
124
Иосиф Флавий. Иудейские древности. XVIII, III, 5; IV, 1.
(обратно)
125
Булгаков М. А. Собрание сочинений: В 5 т. Т. 5. М., 1990. С. 30.
(обратно)
126
Цицерон. Письма к друзьям. III, 11.
(обратно)
127
Тацит. Анналы. I, 72.
(обратно)
128
Светоний. Божественный Август. 51.
(обратно)
129
Светоний. Тиберий. 28.
(обратно)
130
Тацит. Анналы. I, 72.
(обратно)
131
Дион Кассий. Римская история. 52, 41.
(обратно)
132
Там же.
(обратно)
133
Тацит. Анналы. III, 65.
(обратно)
134
Светоний. Тиберий. 59.
(обратно)
135
Федорова Е. В. Императорский Рим в лицах. Ростов н/Д.; Смоленск, 1998. С. 97–98.
(обратно)
136
Светоний. Тиберий. 61, 2–5; 62, 1–2.
(обратно)
137
Егоров А. Б. Рим на грани эпох. Л, 1985. С. 151.
(обратно)
138
Крист К. История времен римских императоров. Т. I. Ростов н/Д., 1997. С. 251.
(обратно)
139
Дион Кассий. Римская история. 57, 24.
(обратно)
140
Тацит. Анналы. IV, 34–35.
(обратно)
141
Там же. IV, 35.
(обратно)
142
Светоний. Божественный Август. 15.
(обратно)
143
Там же. 13.
(обратно)
144
Там же. 27, 4.
(обратно)
145
Тацит. Анналы. IV, 1.
(обратно)
146
Светоний. Тиберий. 68, 4.
(обратно)
147
Тацит. Анналы. III, 29.
(обратно)
148
Там же. IV, 7.
(обратно)
149
Там же. IV, 39.
(обратно)
150
Там же.
(обратно)
151
Там же. IV, 52.
(обратно)
152
Там же.
(обратно)
153
Светоний. Тиберий. 53, 1.
(обратно)
154
Тацит. Анналы. IV, 54.
(обратно)
155
Светоний. Тиберий. 53, 1.
(обратно)
156
Тацит. Анналы. IV, 57.
(обратно)
157
Светоний. Тиберий. 40.
(обратно)
158
Там же. 41.
(обратно)
159
Тацит. Анналы. IV, 63.
(обратно)
160
Веллей Патеркул. Римская история. II, 130.
(обратно)
161
Тацит. Анналы. V, 3.
(обратно)
162
Там же. V, 4.
(обратно)
163
Светоний. Тиберий. 53, 3.
(обратно)
164
Там же. 54, 2.
(обратно)
165
Тацит. Анналы. VI, 3.
(обратно)
166
Светоний. Калигула. 10, 1.
(обратно)
167
Светоний. Божественный Веспасиан. 1, 1.
(обратно)
168
Дион Кассий. Римская история. 58, 7.
(обратно)
169
Светоний. Тиберий. 65, 1.
(обратно)
170
Иосиф Флавий. Иудейские древности. XVIII, VI, 6.
(обратно)
171
Дион Кассий. Римская история. 58, 7—19.
(обратно)
172
Ювенал. Сатиры. IV, 10.
(обратно)
173
Веллей Патеркул. Римская история. 127–131.
(обратно)
174
Светоний. Тиберий. 55.
(обратно)
175
Тацит. Анналы. VI, 19.
(обратно)
176
Там же. VI, 9.
(обратно)
177
Светоний. Тиберий. 61,7.
(обратно)
178
Там же.
(обратно)
179
Светоний. Божественный Август. 72, 3.
(обратно)
180
Федорова Е. В., Лесницкая М. М. Неаполь и его окрестности. Века, люди, искусство. М., 2005. С. 41.
(обратно)
181
Там же. С. 43.
(обратно)
182
Там же. С. 49.
(обратно)
183
Тацит. Анналы. IV, 67.
(обратно)
184
Светоний. Тиберий. 42.
(обратно)
185
Гаспаров М. Л. Светоний и его книга // Гай Светоний Транквилл. Жизнь двенадцати цезарей. М., 1990. С. 226.
(обратно)
186
Светоний. Божественный Юлий. 52, 3.
(обратно)
187
Светоний. Божественный Август. 71, 1.
(обратно)
188
Светоний. Тиберий. 43; 44, 2.
(обратно)
189
Там же. 45.
(обратно)
190
Светоний. Вителлий. 3, 3.
(обратно)
191
Петроний. Сатирикон. 26.
(обратно)
192
Светоний. Тиберий. 44, 1.
(обратно)
193
Дион Хрисостом. Речи. VII. Эвбейская речь, или Охотник. 149–152.
(обратно)
194
Евтропий. Краткая история от основания города. VII, 11,1.
(обратно)
195
Аврелий Виктор. О цезарях. II, 1.
(обратно)
196
Светоний. Калигула. 10, 2.
(обратно)
197
Тацит. Анналы. VI, 20.
(обратно)
198
Аврелий Виктор. О цезарях. III, 7.
(обратно)
199
Аврелий Виктор. Извлечения о жизни и нравах римских императоров. III, 3.
(обратно)
200
Дион Кассий. Римская история. 58, 28.
(обратно)
201
Тацит. Анналы. VI, 24.
(обратно)
202
Федорова Е. В., Лесницкая М. М. Неаполь и его окрестности. С. 44.
(обратно)
203
Светоний. Калигула. II.
(обратно)
204
Иосиф Флавий. Иудейские древности. XIX, II, 5.
(обратно)
205
Тацит. Анналы. VI, 45.
(обратно)
206
Светоний. Калигула. 12, 2.
(обратно)
207
Светоний. Божественный Клавдий. 2, 2.
(обратно)
208
Светоний. Тиберий. 76.
(обратно)
209
Иосиф Флавий. Иудейские древности. XVIII, VI, 1.
(обратно)
210
Там же.
(обратно)
211
Там же.
(обратно)
212
Там же. XVIII, VI, 4.
(обратно)
213
Там же. XVIII, VI, 5.
(обратно)
214
Там же. XVIII, VI, 6.
(обратно)
215
Там же.
(обратно)
216
Там же.
(обратно)
217
Там же.
(обратно)
218
Светоний. Тиберий. 64, 3.
(обратно)
219
Светоний. Калигула. И.
(обратно)
220
Тацит. Анналы. VI, 46.
(обратно)
221
Светоний. Божественный Юлий. 77.
(обратно)
222
Светоний. Тиберий. 68, 4.
(обратно)
223
Тацит. Анналы. VI, 48.
(обратно)
224
Там же.
(обратно)
225
Светоний. Тиберий. 72, 2.
(обратно)
226
Тацит. Анналы. VI, 50.
(обратно)
227
Светоний. Калигула. 12, 2.
(обратно)
228
Там же. 12, 3.
(обратно)
229
Светоний. Тиберий. 73, 2.
(обратно)
230
Иосиф Флавий. Иудейские древности. XVIII, VI, 9.
(обратно)
231
Там же. XVIII, VI, 10.
(обратно)
232
Светоний. Тиберий. 75, 1.
(обратно)
233
Тацит. Анналы. VI, 51.
(обратно)
234
Иосиф Флавий. Иудейские древности. XVIII, VI, 8.
(обратно)
235
Светоний. Калигула. 13.
(обратно)
236
Аврелий Виктор. О цезарях. III, 4, 5.
(обратно)
237
Иосиф Флавий. Иудейские древности. XIX, II, 5.
(обратно)
238
Дион Кассий. Римская история. 59, 12.
(обратно)
239
Светоний. Калигула. 15, 1.
(обратно)
240
Там же. 12, 3.
(обратно)
241
Светоний. Божественный Клавдий. 7.
(обратно)
242
Светоний. Калигула. 15, 3.
(обратно)
243
Там же. 12, 2.
(обратно)
244
Крист К. История времен римских императоров. Т. I. С. 279–280.
(обратно)
245
Светоний. Калигула. 50, 2.
(обратно)
246
Там же. 50, 1.
(обратно)
247
Хафнер Г. Выдающиеся портреты античности. М., 1984. С. 140–141.
(обратно)
248
Тацит. Анналы. VI, 48.
(обратно)
249
Филон Александрийский. Посольство к Гаю. 8—12.
(обратно)
250
Светоний. Калигула. 14, 1.
(обратно)
251
Там же. 16, 1.
(обратно)
252
Иосиф Флавий. Иудейские древности. XVIII, VI, 10.
(обратно)
253
Светоний. Калигула. 16, 4.
(обратно)
254
Там же. 18, 2.
(обратно)
255
Светоний. Божественный Юлий. 39, 3.
(обратно)
256
Светоний. Божественный Август. 43, 1.
(обратно)
257
Светоний. Калигула. 55, 2.
(обратно)
258
Там же. 20.
(обратно)
259
Плиний Старший. Естествознание. XXXVI, 74.
(обратно)
260
Там же. XXXVI, 70.
(обратно)
261
Светоний. Божественный Август. 72, 1.
(обратно)
262
Плиний Старший. Естествознание. XXXVI, 122.
(обратно)
263
Фронтин. Об акведуках города Рима. 16.
(обратно)
264
Аврелий Виктор. Извлечения о жизни и нравах римских императоров. III, 9.
(обратно)
265
Светоний. Калигула. 19.
(обратно)
266
Светоний. Калигула. 14, 2.
(обратно)
267
Ювенал. Сатиры. II, 6.
(обратно)
268
Аврелий Виктор. О цезарях. III, 7–8.
(обратно)
269
Светоний. Калигула. 15, 4.
(обратно)
270
Дион Кассий. Римская история. 59, 25.
(обратно)
271
Светоний. Калигула. 28, 1.
(обратно)
272
Дион Кассий. Римская история. 59, 10.
(обратно)
273
Светоний. Калигула. 23, 3.
(обратно)
274
Там же. 29, 1.
(обратно)
275
Филон Александрийский. Посольство к Гаю. 69.
(обратно)
276
Светоний. Калигула. 27, 28, 29, 2; 30, 1
(обратно)
277
Аврелий Виктор. О цезарях. III, 8.
(обратно)
278
Светоний. Калигула. 29, 1.
(обратно)
279
Там же. 32, 3; 33.
(обратно)
280
Там же. 33, 1.
(обратно)
281
Там же. 35, 2–3.
(обратно)
282
Дион Кассий. Римская история. 59, 3.
(обратно)
283
Светоний. Калигула. 22, 1.
(обратно)
284
Аврелий Виктор. О цезарях. III, 12.
(обратно)
285
Котрелл Л. Во времена фараонов. М., 1982. С. 251.
(обратно)
286
Ахилл Татий. Левкиппа и Клитофонт. III.
(обратно)
287
Светоний. Калигула. 24, 1.
(обратно)
288
Там же. 25, 1.
(обратно)
289
Тит Ливий. История Рима от основания Города. I, 9, 1—16; Светоний. Божественный Август. 69, 1.
(обратно)
290
Светоний. Калигула. 24, 3.
(обратно)
291
Евтропий. Краткая история от основания города. VII, 12, 3.
(обратно)
292
Дион Кассий. Римская история. 62, 11.
(обратно)
293
Там же.
(обратно)
294
Светоний. Калигула. 24, 2.
(обратно)
295
Там же. 36, 1–2.
(обратно)
296
Геродот. История. I, 8—12.
(обратно)
297
Светоний. Калигула. 26, 2–5.
(обратно)
298
Там же. 31, 2.
(обратно)
299
Иосиф Флавий. Иудейские древности. XIX, 1,1.
(обратно)
300
Светоний. Калигула. 37, 3.
(обратно)
301
Там же. 40.
(обратно)
302
Там же. 38, 4.
(обратно)
303
Там же. 39, 2.
(обратно)
304
Иосиф Флавий. Иудейские древности. XIX, I, 1.
(обратно)
305
Плиний Старший. Естествознание. XXXV, 18.
(обратно)
306
Светоний. Калигула. 22, 2.
(обратно)
307
Иосиф Флавий. Иудейские древности. XVIII, VII, 2.
(обратно)
308
Дион Кассий. Римская история. 59, 26–28.
(обратно)
309
Светоний. Калигула. 22, 3–4.
(обратно)
310
Ренан Э. Жизнь Иисуса. Апостолы. М., 1991. С. 498.
(обратно)
311
Евсевий. Церковная история. И, 6, 4.
(обратно)
312
Филон Александрийский. Посольство к Гаю. 29.
(обратно)
313
Евсевий. Церковная история. II, 6, 2.
(обратно)
314
Филон Александрийский. Посольство к Гаю. 27.
(обратно)
315
Иосиф Флавий. Иудейские древности. XVIII, VIII, I.
(обратно)
316
Ренан Э. Жизнь Иисуса. Апостолы. С. 499.
(обратно)
317
Филон Александрийский. Посольство к Гаю. 27–44.
(обратно)
318
Евсевий. Церковная история. И, 5, 4–5.
(обратно)
319
Иосиф Флавий. Иудейские древности. XVIII, VIII, 2.
(обратно)
320
Иосиф Флавий. Иудейская война. II, X, 1.
(обратно)
321
Иосиф Флавий. Иудейские древности. XVIII, VII, 2.
(обратно)
322
Там же. XVIII, VIII, 7.
(обратно)
323
Там же. XVIII, VIII, 8.
(обратно)
324
Светоний. Калигула. 43.
(обратно)
325
Там же.
(обратно)
326
Тацит. Анналы. VI, 30.
(обратно)
327
Там же.
(обратно)
328
Светоний. Божественный Клавдий. 8.
(обратно)
329
Там же. 9, 1.
(обратно)
330
Светоний. Калигула. 44, 2; 45, 1.
(обратно)
331
Там же. 51, 2.
(обратно)
332
Там же. 46, 47.
(обратно)
333
Там же. 48, 1, 2.
(обратно)
334
Светоний. Калигула. 47.
(обратно)
335
Там же. 49, 1.
(обратно)
336
Там же.
(обратно)
337
Там же. 49, 2.
(обратно)
338
Дион Кассий. Римская история. 59, 25.
(обратно)
339
Иосиф Флавий. Иудейские древности. XIX, I, 2.
(обратно)
340
Цит. по: Крист К. История времен римских императоров. Т. I. С. 284–285.
(обратно)
341
Иосиф Флавий. Иудейские древности. XIX, I, 2.
(обратно)
342
Тацит. Анналы. XVI, 17.
(обратно)
343
Дион Кассий. Римская история. 59, 25.
(обратно)
344
Там же. 59, 26.
(обратно)
345
Светоний. Калигула. 52.
(обратно)
346
Там же. 54, 1.
(обратно)
347
Там же. 55, 3.
(обратно)
348
Иосиф Флавий. Иудейские древности. XIX, I, 2.
(обратно)
349
Веллей Патеркул. Римская история. И, 67.
(обратно)
350
Светоний. Калигула. 56, 1.
(обратно)
351
Иосиф Флавий. Иудейские древности. XIX, I, 3.
(обратно)
352
Светоний. Калигула. 56, 2.
(обратно)
353
Иосиф Флавий. Иудейские древности. XIX, I, 5.
(обратно)
354
Там же. XIX, I, 3.
(обратно)
355
Там же. XIX, I, 10.
(обратно)
356
Там же. XIX, I, 4.
(обратно)
357
Светоний. Калигула. 49, 2–3.
(обратно)
358
Там же. 58, 2–3.
(обратно)
359
Иосиф Флавий. Иудейские древности. XIX, I, 5.
(обратно)
Оглавление
Игорь Князький
КАЛИГУЛА
Глава I
«В ЛАГЕРЕ БЫЛ ОН РОЖДЕН,
ПОД ОТЦОВСКИМ ОРУЖИЕМ ВЫРОС»
Глава II
«НЕДОЛГОВЕЧНЫ И НЕСЧАСТЛИВЫ
ЛЮБИМЦЫ РИМСКОГО НАРОДА»
Глава III
«ЦЕЗАРЬ КОНЕЦ ПОЛОЖИЛ
ЗОЛОТОМУ САТУРНОВУ ВЕКУ —
НЫНЕ, ПОКУДА ОН ЖИВ,
ВЕКУ ЖЕЛЕЗНОМУ БЫТЬ»
Глава IV
«СТАРИК КОЗЕЛ ОБЛИЗЫВАЕТ КОЗОЧЕК»
Глава V
«ДА СОПУТСТВУЕТ СЧАСТЬЕ И УДАЧА ГАЮ ЦЕЗАРЮ
И ЕГО СЕСТРАМ!»
Глава VI
«ДО СИХ ПОР РЕЧЬ ШЛА О ПРАВИТЕЛЕ,
ДАЛЕЕ ПРИДЕТСЯ ГОВОРИТЬ О ЧУДОВИЩЕ»
Глава VII
«ПОЛУЧАЙ СВОЕ!»
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ ГАЯ ЦЕЗАРЯ ГЕРМАНИКА КАЛИГУЛЫ
Источники
Исследования
Комментарии
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
href=#t58>
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359

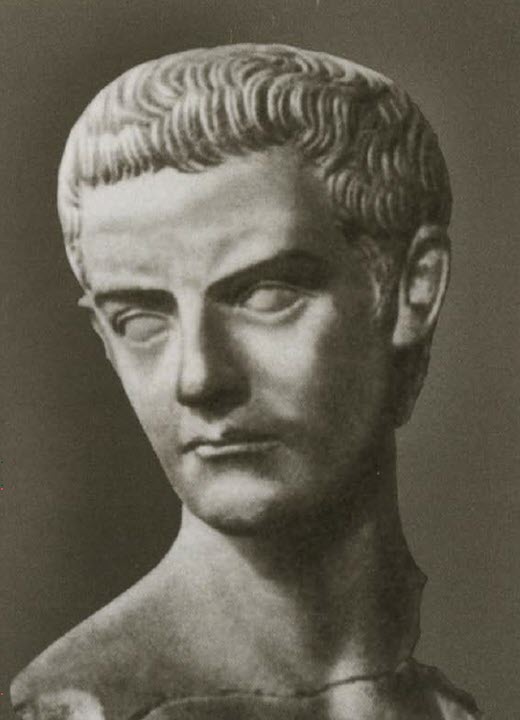
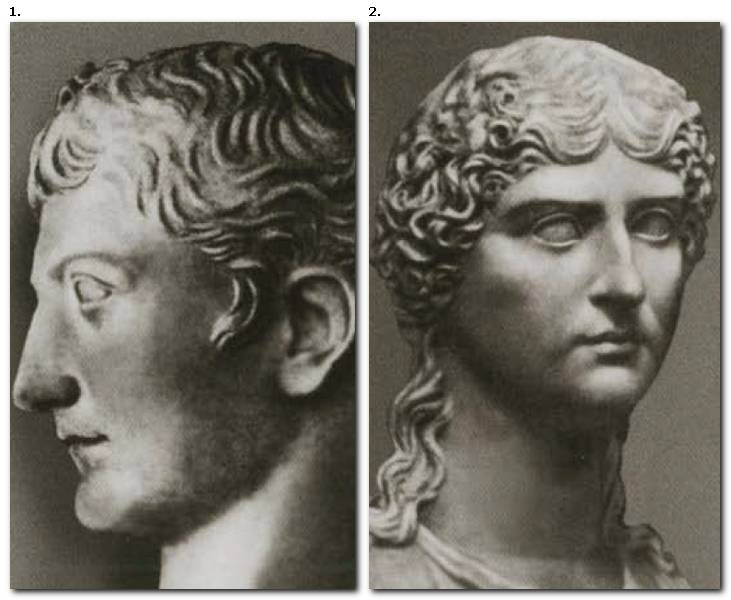












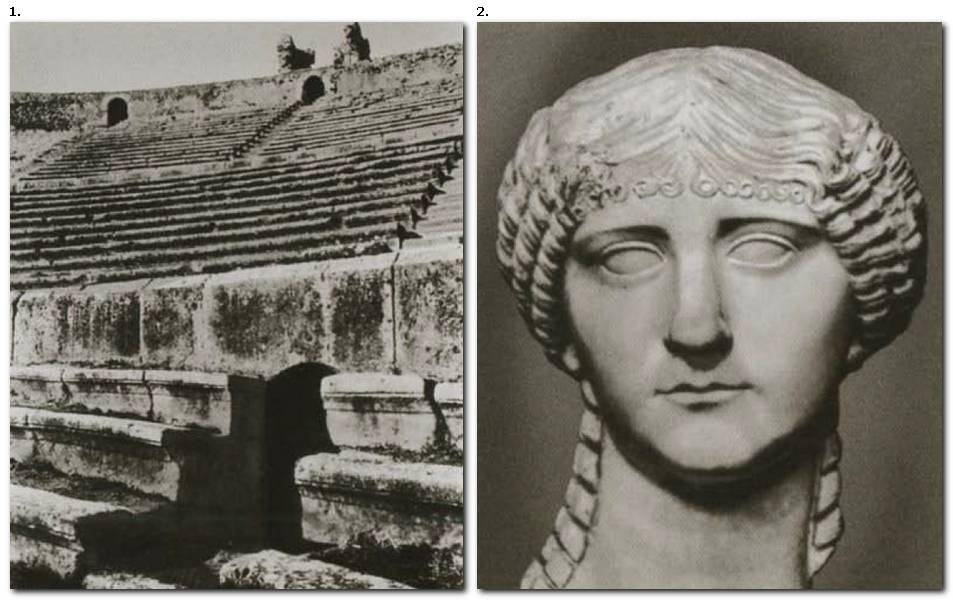


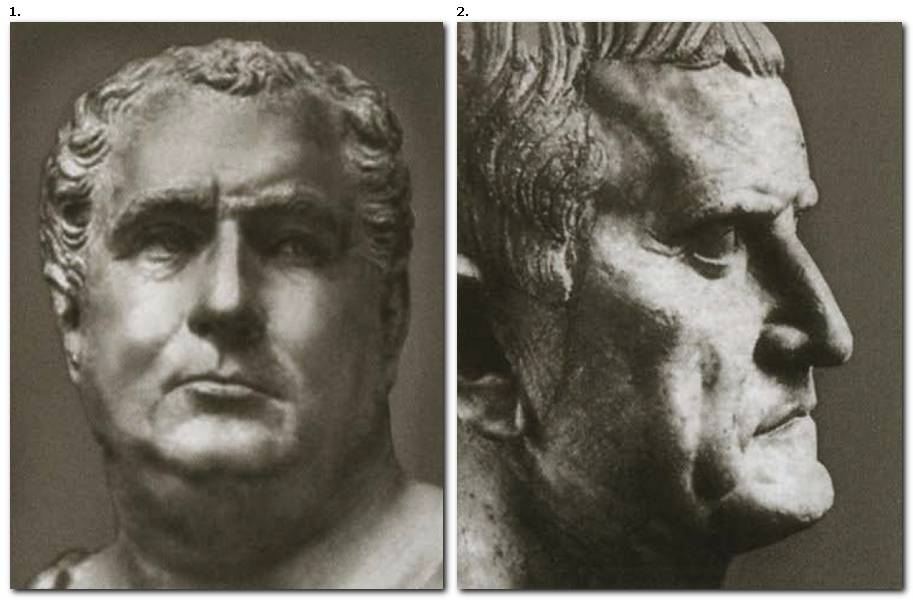





Последние комментарии
1 день 13 часов назад
1 день 18 часов назад
1 день 19 часов назад
1 день 21 часов назад
1 день 22 часов назад
1 день 23 часов назад